Геннадий Григорьевич Красухин Комментарий. Не только литературные нравы
Прошлое России было удивительно, настоящее более чем великолепно, а будущее превзойдёт всё, что может себе представить воображение самое смелое: вот с какой точки зрения должно рассматривать и писать русскую историю.
А. Х. Бенкендорф, шеф корпуса жандармов и начальник III отделения Его Императорского Величества канцелярии, генерал-адъютантНичего у нас в стране не бывает реальнее и продолжительнее, чем нелепости, освящённые властью.
Александр Нилин «Стрельцов: Человек без локтей»Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
Роберт Бёрнс (перевод С. Маршака)До того достало
По понедельникам и четвергам я получаю «Новую газету», которую, как правило, с интересом читаю. Ничто не предвещало события, когда 8 июня 2006 года, я развернул свежий номер «Новой». А оно меня ждало. И как раз там, где меньше всего можно было это предполагать, – в небольшой поэтической подборке молодых поэтов.
Молодые поэты, в изобилии печатающиеся в периодике и сети, сейчас настолько плохи, что этот газетный лист я бы равнодушно перелистнул, если б не заголовок одного стихотворения «Шекспир. Сонет 66». Не прочесть сонета, который переводили крупные, даже великие русские мастера прошлого и позапрошлого веков, я просто не мог: это как узнать, что неизвестный тебе исполнитель играет знакомую до последней ноты мелодию, – послушаешь хотя бы из простого любопытства. Допустить, что некий Сергей Шабуцкий перевёл Шекспира выразительней Пастернака, мне, разумеется, и в голову не пришло. Точнее, Пастернак не переводил Шекспиров сонет, он писал по его мотивам. Но и Шабуцкий написал по мотивам сонета 66 Шекспира. Написал, как и Пастернак, 14 строчек оригинального стихотворения.
Так что же, Шабуцкий оказался выразительнее Пастернака? Я бы так вопрос не ставил. Для меня несомненно одно: стихотворение Сергея Шабуцкого – редчайший нынче случай настоящей поэзии. Его удивительная интонация передалась мне, зазвучала во мне. И я (чего со мной уже очень давно не было) заболел им. Вытвердил его наизусть и твержу, твержу про себя:
Когда ж я сдохну! До того достало, Что бабки оседают у жлобов, Что старики аскают по вокзалам, Что «православный» значит «бей жидов». Что побратались мент и бандюган, Что колесят шестёрки в «шестисотых», Что в загс приходят по любви к деньгам, Что лёг народ с восторгом под сексотов. Что делают бестселлер из говна, Что проходимец лепит монументы, Что музыкант играет паханам, Что учит жить быдляк интеллигента. Другой бы сдох к пятнадцати годам — А я вам пережить меня не дам.Такое впечатление, что Сергей Шабуцкий подслушал мои чувства. Только вот озвучил их по-своему, на сленге своего поколения. Что, конечно, понятно: он ведь о своих, а не о моих ощущениях написал. У каждого своя жизнь. И у каждого поколения своя. И вот до того достало меня стихотворение Шабуцкого, что захотелось мне рассказать о своей жизни, отталкиваясь от каждой его строчки. Причём захотелось написать не только о прошлой моей жизни, не только о нынешней, но о сиюминутной – о том, что происходило со мной и вокруг меня прежде, теперь, сейчас. Начинаю эту рукопись 29 июня 2006 года. Заканчиваю (это я вернулся к началу, после того как поставил заключительную точку) 9 декабря 2006 года. Так что не удивляйтесь моим выпискам из прессы, ссылкам на журналистов, политиков, чиновников, общественных деятелей, церковных служителей, деятелей искусства и науки, полемике с теми, кто выступал в этот период времени по телевидению, радио, в сети. Чем жил, о том и написал – откомментировал каждую строчку стихотворения Сергея Шабуцкого на свой лад. Хочется надеяться, что поэт на меня за это не обидится.
Что бабки оседают у жлобов
«У, жлобина!» – говорили в моём детстве о том, кто никогда не даст тебе покататься на своём самокате и вообще ничем с тобой не поделится, сколько ты его не упрашивай!
Помню покойную мою матушку, которая раз в неделю доставала откуда-то из груды белья в шкафу сшитый ею мешок (он затягивался резинкой-веревкой), развязывала его и сперва пересчитывала аккуратные пачки сотенных (при Сталине), десяток (при Хрущеве). Потом вскрывала пачку и считала ее: девять банкнот, безукоризненно скреплённых посередине идеально сложенной пополам десятой. Жили мы вчетвером (был ещё младший мой брат) бедно: отец на заводе получал 1200 рублей (120 – хрущевских), мать в детском саду – 500 (50 при Хрущеве). А, скажем, телевизор КВН-49 с экраном размера теперешнего маленького персонального компьютера стоил 1250 рублей. Да ещё сколько-то (не помню) стоила линза к нему. Тем не менее, похороны Сталина я смотрел уже по этому телевизору. Питались мы плохо, постельного белья в доме почти не было: мать экономила на всём. Не для того, чтобы купить телевизор или шубу. А потому, что не любила расставаться с деньгами. Так и вижу её склонившейся над своим мешком, куда непременно раз в месяц следовали добавления. А чтобы следовали, каждый вечер мать брала лист бумаги, записывала все ежедневные расходы и заставляла меня пересчитывать: выходить за пределы определённого матушкой лимита было делом совершенно невозможным. Вот и научился отец так резать колбасу, что, приложив её кусочек к глазам, можно было видеть предметы и сквозь него (отец этим страшно гордился). А масло на хлеб намазывали таким тонким слоем (только по утрам, на завтрак), что его и вовсе не было видно.
Помню, как вечно недоедающий мой маленький, растущий брат, когда не было дома обоих родителей, отрезал себе толстенный кусок серого хлеба, намазывал его маслом, посыпал сахарным серым песком и быстро съедал. Чтобы потом всё отрицать: ничего, дескать, я не ел – ну как Осип Хлестакову. Или как отец, любящий землю и соскучившийся по работе на ней, когда мы получили садовый участок под Нарой (он и сейчас у меня там), отбил у меня навсегда охоту работать на земле. Корчевать лес, который нам выделили, вдвоём с отцом, вдвоём же рыть метровые (в глубину, длину и ширину) ямы, чтобы сажать в непаханую целину яблони, сливы, вишни, было мне, четырнадцатилетнему подростку, не под силу. В конце концов, к величайшему неудовольствию отца я объявил ему, что огородом заниматься не буду: поливать ещё куда ни шло, но копать землю – нет!
А огурцы, которые выращивались до размера приличных кабачков и солились на зиму, оказываясь непригодными даже для винегрета? А клубника, которая поначалу усыпала крупными ягодами густые кустики, а потом сникла, поскольку требовала подкормки, которую получала не слишком щедро!
Бедная моя мама! Я рад, что она не дожила даже до павловской реформы: сознание бессмысленности самоограничения во всём ради накоплений сделало бы её жизнь сплошным мучением. «Для чего же вы так бедно жили?» – спросил старший брат отца, узнав о крупной сумме, оставшейся после матери.
Конечно, понять в какой-то степени мамину экономность (чтобы не сказать скупость) можно: приличный мужской костюм стоил больше месячной отцовской зарплаты, а приличные женские туфли – больше половины материнской. Но ведь не ради костюма или туфель мы жили бедно…
«Определяйте значение слов», – цитировал Пушкин Декарта. Мне эта цитата пришла в голову на днях, когда я увидел разгневанного Лужкова, выступающего перед жителями сносимых домиков в Южном Бутове. «Жлобства мы не допустим», – гневно говорил московский мэр о матери и взрослом её сыне, отказавшихся выселяться в однокомнатную квартиру. Причём тут жлобство? – удивился я. А потом понял, слушая выступления замов мэра о том, какая многокилометровая (кажется, 180 000 семей) очередь стоит в Москве с 1982 года на получение квартир. «И это при том, – возмущались замы, – что в Москве строится столько-то (очень много!) миллионов квадратных метров жилья; из них социального (читай: плоховатого) столько-то (читай: намного меньше!) миллионов. Так какой же неблагодарностью надо обладать…» …Чтобы отказаться, добавлю от себя, двум взрослым – матери и сыну – взять однокомнатную квартиру! И кто назвал их «жлобами»? Градоначальник, который запросто, как букет цветов, вручает ключи от элитной квартиры или от иномарки какому-нибудь чемпиону мира или победительнице конкурса «Мисс Чего-нибудь». Высший чиновник, при котором вся чиновничья братья берёт взятки с любого обывателя, даже с нищего гастарбайтера! Кто заговорил о «жлобстве»? Муж единственной в России миллиардерши.
Кстати, не потому ли она миллиардерша, что его жена? Ну, сами посудите. У неё крупная строительная фирма. Наряду с другими её фирма участвует в конкурсе за право выиграть тендер, на который мэрия выставила что-либо: ну, допустим, строительство элитного жилья. Каковы шансы у жены мэра выиграть этот тендер? Смешной, скажете, вопрос? А эта жена мэра ещё владела и производством пластмассовой мебели для кафе типа «бистро», которых в Москве уйма. Чью мебель закупили такие московские кафе? Вопрос, скажете, тоже смешной? Но ведь только так и становятся миллиардерами, расчищая для себя поле, убирая конкурентов.
(Ах, думали ли мы, когда теснили и вытеснили коммунистический режим, что ему на смену придёт не просто диктатура бюрократии, но бюрократии династической! Вот очень типичная нынче ситуация. Супруги-генералы. Он был министром радиопромышленности СССР, она и сейчас председательствует в Межгосударственном авиационном комитете СНГ. Их сын – А. П. Плешаков основал известную ныне авиакомпанию «Трансаэро». А через некоторое время, оставив за собой пост председателя её директоров, уступил своей жене О. А. Плешаковой должность председателя правления и генерального директора компании!)
Имея такую жену и занимая такой пост, зачем же обзывать «жлобами» тех, кто просто хотел бы жить по-человечески? Дайте им достойную компенсацию! И без них, говорите, очередников много? Но эти-то, наверное, первоочередники!
И, кстати, как это так получилось, что не рассосалась очередь при таком гигантском количестве новостроек? Вон только вокруг моего дома в Филипповском переулке уже четыре построили. И ещё три начали. Красивые дома. Не скажу, чтобы уж очень добротные: с одного из них так и сыплется потрескавшаяся штукатурка. Но кто бы из очередников отказался туда въехать? Ах, это не для них построено? И напротив моего – длинный, огромный, выходящий фасадом на Гоголевский бульвар – тоже не для них? А для кого? Для тех, с кого можно слупить, как говорят по-нынешнему, приличные бабки: с губернаторов, с депутатов всех дум, законодательных собраний и советов трудящихся, с бизнесменов российских, с олигархов, с тусовочников-эстрадников? Но если вы строите для этих, то уж не петляйте в дебрях великого и могучего! Не оскорбляйте очередников. К тому же и Крылова неплохо освежить в памяти. Помните у него: «Чем кумушек считать, трудиться…»
А вот и свежая почта подоспела с разъяснениями: читаю в «Московском комсомольце» за сегодняшнее 3 июля 2006 года гневное обличение неких пятерых молодых пройдох, которые умудрились приобрести «у одной из жительниц сносимого пос. Бутово менее шести квадратных метров жилья» и получить в собственность кто по одной шестьдесят четвёртой части дома, кто по одной сто девяносто второй. А теперь обратились с просьбой о предоставлении им отдельных квартир. Причём обратились (цитирую) «именно сейчас, когда «бутовский конфликт» усилиями некоторых политиканов возведён в ранг народного бунта против московских властей». «Не подобные ли случаи, – спрашивает газета, – имел в виду мэр Москвы, когда говорил, что власти города не допустят жлобства?»
Не подобные! Для чего задавать бессмысленные вопросы? Какие-то прохиндеи купили, наверное, московскую прописку и теперь вылезли со своими требованиями на волне «народного бунта». Что ж у них общего со старожилами? И отвечают ли погорельцы за то, что после пожарных в их квартирах побывали мародёры?
А насчёт «некоторых политиканов» я, пожалуй, готов согласиться. Адвокат Андрей Кучерена, председатель комиссии общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов Общественной палаты РФ, вряд ли пошёл бы с рогатиной на такую крупную политическую дичь, как наш московский мэр, если б не дали ему отмашку: можно! Ведь сама по себе Общественная палата, придуманная Кремлём, – муляж. Треть её состава назначена президентом, другая треть выбрана этой президентской третью и, наконец, последняя треть – из провинции, то есть прошла через сито отбора губернаторами и местными депутатами. Она призвана создать впечатление, что гражданское общество в России не уничтожено, а напротив – функционирует и даже заставляет властные структуры с ним считаться. А чтобы создалось такое впечатление, передают Общественной палате дела беспроигрышные.
Вся страна содрогнулась, когда за гибель алтайского губернатора Михаила Евдокимова, чей водитель «Мерседеса» не просто мчался на огромной запредельной скорости, но выскочил на встречную полосу и врезался в не нарушившего никаких дорожных правил «Тойоту», ответственным назначили Олега Щербицкого – шофёра «Тойоты». И приговорили Щербицкого к лагерному сроку, вызвав массовое протестное движение. Обычно на него давно уже не обращают никакого внимания. А здесь, скорее всего, для того и пошли на явное нарушение всех юридических и человеческих норм, чтобы вмешался в дело Кучерена и внявшие ему судьи отменили неправедный приговор.
Или история с челябинским курсантом танкового училища Андреем Сычёвым, искалеченным «дедами» – старослужащими-сержантами. Сычёву ампутировали ноги, нужна пересадка внутренних органов. То есть беспомощный инвалид подвешен между жизнью и смертью. «Наследили» в этом танковом училище до такой степени, что не одного генерала-начальника надо было снимать, а всё его руководство, к тому же по многим тамошним офицерам тюрьма плачет, не только по изуверам, издевавшимся над Сычёвым.
Семье несчастного пытались всучить взятки, о которых тут же была проинформирована общественность. Разъяснили ей, и за что хотели заплатить – чтобы забрал калека своё заявление об избиении, а судебная медицина представила бы дело так, что пострадал Сычёв от какой-то врождённой болезни.
И тут снова появился бесстрашный Кучерена, заставил продолжить следствие, предложил отправить Сычёва для лечения за границу (правда, этим предложением не воспользовались).
(Вот бы истребовать председателю комиссии общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов положенное на полку судьями дело о наезде на старушку сына министра обороны Иванова. Тот, лихача, на скорости промчался по пешеходному переходу, сбил старушку и как ни в чём не бывало помчался дальше. Старушка умерла. Родственники подали в суд, который чуть не засадил за решётку зятя покойной: тот якобы ударил сына министра. А того, разумеется, оправдали: старушка сама полезла под колёса! Но для чего бы Кучерена стал ссориться с могущественным министром!)
И за спинами жильцов Южного Бутова маячат враждующие властные группировки. Лужков – фигура очень сложная. С одной стороны, я не забираю назад ничего из того, что сказал о нём до сих пор. А с другой, признаю, что объективно он сделал для москвичей (особенно для стариков) немало хорошего, демонстрирует свою относительную независимость от Кремля, иной раз и неподдельное возмущение глупостью принимаемых у нас законов. Кто-то наверху решил, очевидно, воспользоваться в своих целях справедливым мятежом жителей Южного Бутова – убрать неугодного, сморозившего очередную глупость мэра. Для того и востребован бесстрашный Кучерена.
Стал писать было дальше, но пришлось вернуться – принесли новый «Московский комсомолец», 4 июля: «Какими бы мотивами ни прикрывались защитники бутовчан, добиться они могут только одного: замедления строительства нового микрорайона, предназначенного, в том числе, для очередников». Умиляет эта проговорка: «в том числе» – понимай, что даже там, на окраине Москвы, каждый сверчок должен знать свой шесток! А я-то про Филипповский толковал, про арбатский переулок! Да в центре Москвы домов, наверное, на два Бутова понастроено. Пройдите, убедитесь, поговорите с охранниками, есть ли среди их жильцов «в том числе»?
(Коротка народная память! Забыли, как ещё при Горбачёве на съезде народных депутатов разгорелись страсти вокруг дома для партийных начальников на Сивцевом Вражке (тоже арбатский переулок). «Ничего особенного, – утверждали из управления ЦК, – дом как дом, обычный, каких много!» А когда добились-таки очередники, чтобы дом отдали им, вошли в квартиры и ахнули: всё вырвано с мясом, содрано, растоптано, разбито – и импортная сантехника, и цветной паркет, и финские рамы. Вот как разъярился аппарат на тех, кто «в том числе», кто, стало быть, вселяется не по чину! Сейчас, правда, и сама по себе победа обычных обывателей над вельможно-чиновничьей братьей выглядит легендарной!)
«В этой связи, – гнёт своё газета, – особенно неприглядно и цинично выглядят причитания некоторых из них (правозащитников. – Г. К.) по поводу того, что семье бутовчан – женщине с взрослым сыном – московские власти в качестве компенсации за 13 кв. метров в частном доме предложили «всего лишь» 39-метровую однокомнатную квартиру в современной новостройке. Могли бы и знать, что тысячи семей в Москве и миллионы по всей России десятилетиями ютятся в гораздо худших условиях и только мечтают о нормальном жилье».
Господи, да не хотят они отдавать свои 13 за ваши 39, ну и оставьте их в покое! Тем более что 13 – это, наверное, комната, а 39 – наверняка общая площадь, где жилой, может, метров на пять-семь побольше. Ну не хотят мать с сыном переезжать в однокомнатную городскую квартиру! Может, делянка какая-нибудь есть у них рядом с домом, участок, огородик. Так что невыгодно им менять 13 на 18 или 20, теряя при этом землю, которую привыкли обрабатывать. А что до того, что великое множество семей живут ещё хуже, чем эта, то кто же об этом не знает? Вот бы и озаботиться газете: почему же такое знание не подвигло московских чиновников на строительство жилья в первую очередь для семей, ютящихся в ужасных условиях? Почему массовое строительство в Москве сделало город самым дорогим по жилью в мире, почти не оставляя надежды очередникам жить по-человечески?
Впрочем, озаботилась другая связанная с московской мэрией газета – «Метро». Напечатала в своём номере от 6 июля 2006 года письмо в редакцию. Ах, как сладостно-знакомы по недавнему прошлому такие письма! И такие подписи вроде этой: семья Деминых.
«Наша семья стоит в очереди на квартиру со времён Советского Союза, с 1989 года. Ещё в то время, когда мы только оформлялись, появилось радостное известие о том, что в территорию Москвы включают новый район Бутово, где мы очень скоро получим квартиры. После более чем 15-летнего ожидания мы получили надежду с началом освоения территорий Северное и Южное Бутово. Но не тут-то было.
Оказалось, что приступить к строительству наших домов невозможно из-за того, что некоторые жители посёлка Бутово не желают освобождать землю, которая им даже не принадлежит! Подобное поведение нас, конечно, возмущает, поскольку тысячи семей остаются без положенного им по закону жилья только из-за того, что кто-то хочет урвать побольше из городской казны».
Письмо содержит ещё два абзаца. Но, как говорится, умному достаточно.
Обмельчала, что и говорить, журналистская братия! Или поглупело её начальство? У нас в «Литературке» такая туфта из отдела бы не вышла, не то чтоб на страницу: кто бы её туда пустил?
Помню, вызывает меня Кривицкий, заместитель главного редактора. «Геннадий, – говорит, – нужны письма в поддержку присуждения Исаеву ленинской премии. Набросайте три. Одно от имени студента, другое – от рабочего, а третье – вообще из какого-нибудь сибирского региона, подписанное несколькими читателями». Знал, конечно, Евгений Алексеевич, что были у нас в отделе подлинные письма о поэме Егора Исаева «Даль памяти», недоумевающие, возмущающиеся: за что выдвинули эту малограмотную поэму на ленинскую премию? Я сам их Кривицкому показывал. Усмехался в ответ Евгений Алексеевич: вот, дескать, показать бы их Егору, но не вздумайте, Геннадий, не надо! Знал Кривицкий, да и я знал, да и кто из окололитературной публики не знал, что продвигает Исаева сам Михаил Васильевич Зимянин, секретарь ЦК по идеологии. Егорушкой его называет, глазки сладко прикрывает, слушая исаевское чтение.
Три письма накануне созыва Комитета по премиям – такой заказ не оставляет сомнений: премию, стало быть, дают! «Дают! – подтверждает Кривицкий. – Действуйте!»
И что делать? – писали мы письма и за студента, и за рабочих, и за сибиряков, и за кого только не писали! Но уши всегда запрятывали, подделывались под правдоподобие.
А тут они не то что торчат – вылезли наружу! 15 лет ждём, надеемся и не ропщем, помним, что нам было обещано, но понимаем, входим в положение страны, города… Как пели в оны годы: «Была бы только Родина богатой и счастливою, а мы-то…» А мы, семья Деминых, больше всего озабочены не тем, что столько лет в нечеловеческих условиях живём, а тем, что «кто-то хочет урвать побольше из городской казны».
Месяца полтора назад одного очень старого (ему за 90) и очень известного профессора – кто только на филологическом не слушал его лекций – стали выселять из дома на Пречистенке. Негодный, говорят, дом, будем реконструировать. Если речь не о косметическом ремонте (а с чиновников станется!), то это значит: стены дореволюционные, скорее всего, оставят и нарастят на них новое жильё – элитное, конечно, которое, пока построят, аж дух захватывает, сколько будет стоить! «А вы, – сказали профессору, – подберите себе что-либо и нам сообщите». Профессор согласился переехать поближе к работе, к МГУ. Нашёл примерно такую же по площади квартиру на улице Строителей. «И отлично, – ему говорят, – покупайте: вот вам деньги за вашу квартиру». Но деньги выдают небольшие, совсем не такие, за какие продают новостройки в центре. «Мы, – объясняют, – действуем по новому Жилищному кодексу. Даём компенсацию за утраченное жилье по рыночной стоимости: дому сто лет, всё прогнило, ничего не ремонтировалось. А земля под домом вам не принадлежит: за неё не платим». Но в той квартире, которая приглянулась профессору, недавно был ремонт. Так что и требуют за неё соответственно. К полученной профессором за старую квартиру сумме нужно добавить ни много ни мало – 50 000 долларов. «Ну и что, – говорят, – доплачивайте и въезжайте». Но откуда профессору взять эти 50 000 долларов или около полутора миллионов рублей? Его месячная зарплата от силы 12 000 рублей. Взяток он отродясь не брал. Вышла недавно его книга лекций – объёмная, но гонорар и на 25 000 рублей не потянул. «Ваши проблемы, – ему говорят, – вы их и решайте, а на Пречистенке вам оставаться никак нельзя»!
Прав дедушка Крылов: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться». Жлобство – это не просто твоя личная скупость, твоя гомерическая жадность. Такое явление давно уже исследовано Гоголем и названо по его герою «плюшкинианством». Жлобство – это когда твоя непомерная жадность наносит урон обществу, которому ты мешаешь развиваться, загоняешь в стагнацию. Когда личной прибыли ради ты не даёшь осуществиться необходимым для страны и её жителей делам, проектам, преобразованиям. Так что в толковании подобного понятия Лужков прав. Но кого он в этом обвинил?
* * *
Вот уж кто не был жлобом, так это покойный мой приятель Симон Соловейчик. Я о нём рассказывал в своей мемуарной книжке «Стёжки-дорожки». Сима даже рисовался своей щедростью. Мог, как вспоминает известный журналист, дать в долг и не настаивать на его отдаче. Когда появилась его газета «Первое сентября», он наделил нас, главных редакторов её предметных приложений, правом покупать материал у авторов, – как это было прежде в дооктябрьской России: вам нравится статья, ну и купите её сразу, а напечатаете, когда сможете. Многие удивились такой немыслимой прежде практике: прибежали со статьями: «Подходит? И что? Могу получить деньги?» Сима посмеивался. И платил щедро. Всем – и сотрудникам, и авторам.
Правда, через некоторое время оплачивать принятые к печати статьи пришлось прекратить: выяснилось, что этим мы нарушаем какие-то законы. Что ж, Симон Львович подчинился: нельзя так нельзя. Но платили мы за статьи по-прежнему больше, чем другие издания.
Первое время я совмещал своё редакторство с работой в «Литгазете». «Сколько за этот материал ты платишь в «Литературке»? – спрашивал Сима. – А знают ли там, сколько за такой же ты платишь в " Литературе»?». И удовлетворённо хмыкал, услышав, что не только знают, но поражены: «Вот так-то!»
Поначалу владельцем «Первого сентября» был университет РАО (Российской академии образования) во главе со своим ректором академиком РАО Борисом Бим-Бадом. Но вот фонд Сороса («Культурная инициатива») выделил газете щедрый грант на развитие. Поскольку своего счёта у нас не было, деньги перевели университету.
На эти деньги Бим-Бад поехал в Южную Америку. Не знаю, для каких целей, но знаю, что он обещал Симе не просто отдать этот долг, а с процентами.
Увы. Денег он отдать не смог. Но человеком оказался порядочным: компенсировал потери передачей Соловейчику всего пакета акций. Плюс к этому отдал нам развалюху на Маросейке, которую арендовал, с оплаченной, кажется, ещё на какое-то время арендой.
Не знаю, каким образом выпутывался из такой ситуации Сима. Знаю только, что далось ему это тяжело. Мы остановились и не выпускали свои приложения несколько месяцев. Но зарплату при этом получали неизменно. «Работайте, – говорил всем Симон Львович, – собирайте и отбирайте материалы. Мы обязательно найдём выход. Мы будем выпускать газеты даже из подполья!»
И через некоторое время издание возобновилось! Уже как наше собственное. Как изделие фирмы Соловейчика. Боже, с каким трепетным восторгом относился он к этому своему изделию. Как он его любил! «Ты мог себе представить раньше, – спрашивал он, – что у тебя будет своя собственная газета, что ты будешь в ней печататься сколько хочешь и печатать кого хочешь? Мне, еврею, такое и в сладком сне не снилось!» Мне, разумеется, тоже.
И я создавал её, свою газету, так сказать, от логотипа до последней страницы, на которой печатал кроссворд и «Литературный календарь». Надо отдать должное составителям Сергею Дмитренко и его жене Ларисе Мезенцевой: их календарь информировал читателей не только о датах рождения или смерти. Но и о том, что такого-то числа (допустим) Толстой записал в своём дневнике такую фразу, а такого-то (к примеру) Достоевский пишет жене о том-то. Календарь привёл Симу в восторг. «Отдай его мне», – просил он. Но Мезенцева соглашалась на это только при условии, если Соловейчик зачислит её в штат «Первого сентября». Подчиняться чужим требованиям Симон Львович не любил, и невероятно популярный у наших читателей календарь остался у нас.
Все рубрики, которые я придумал, нацеливали читателей на занимательность, на отход от шаблона. «Перечитаем заново» – только новое прочтение хрестоматийного текста. «Пантеон», «Галерея» – живо написанные биографии писателей, оригинальное толкование их персонажей. Даже «Словарь» был у нас необычным: литературоведческие термины подавались в нём в игре, выводились из конкретных текстов. Да и некоторые термины, которые мы объясняли, вы больше нигде, кроме нашей газеты, не встретите. Например, «литературный донос».
Я мыслил свою газету как некий гибрид «Литературки» с «Вопросами литературы». Пригласил сотрудничать в ней тех, кто снискал себе известность на ниве занимательного литературоведения: Э. Бабаева, Ст. Расадина, Б. Сарнова, Л. Лазарева, В. Корнилова, К. Ваншенкина, Я. Хелемского, Т. Бек, М. Петровского, Ю. Манна, С. Бочарова. Печатались в ней популярные у читателей литературы Лев Аннинский и Игорь Золотусский. Связался с Ефимом Эткиндом, с которым был знаком до его высылки за границу, и получил от него карт-бланш: перепечатывать из книг, изъятых после его отъезда из библиотек. Поначалу наладились отношения с Самуилом Шварцбандом из Иерусалима, неплохим пушкинистом. Постоянно печатал статьи о русской литературе Золтана Хайнади из Дебрецена, известного далеко за пределами его Венгрии учёного. Удалось установить связь и с Ильёй Серманом, которого советские власти выслали из страны, скрыв от общественности ту огромную роль, которую он сыграл в издании тридцатитомного Достоевского. Чуть позже сотрудник редакции Сергей Дмитренко сделал нашим постоянным автором своего старшего товарища – прославленного немца-слависта Вольфганга Казака.
Словом, как с удовольствием говорил на планёрках редакторов приложений Соловейчик, «в нашей «Литературе» все лучшие на сегодняшний день авторы».
Но, разумеется, я понимал, что выпускаю всё-таки школьную газету, которая должна информировать учителей о новациях в мире образования, как информирует «Литературная газета» читателей о новостях в мире литературы. Должны мы давать читателям и какую-то методику преподавания, которая прежде меня не интересовала.
Школьным учителем я никогда не был. Лет пять совмещал работу в «Литературке» с преподаванием в Литинституте, а спустя совсем небольшое время, после того как стал редактором «Литературы», начал профессорствовать в Педуниверситете (бывшем Пединституте им. Ленина). Но, конечно, школьная проблематика и проблемы высшей школы – вещи разные.
Соловейчик дал мне две ставки школьных консультантов и предложил на одну из них взять Льва Соломоновича Айзермана. «Он очень писуч, – сказал Сима, – так что тебе придётся в этом его ограничивать». Я помнил некоторые статьи Айзермана, печатавшиеся и у нас, в «Литературке», и в «Новом мире» Твардовского. В них он неизменно представал публицистом горячего темперамента. О том, как мы работали с Айзерманом (не слишком долго, года полтора), я рассказал в «Стёжках-дорожках». Добавить к этому мне нечего.
А на вторую ставку я позвал человека редкостного дара, сочетающего в себе литературоведческий талант с талантом учителя. Что Лев Иосифович Соболев хороший литературовед, я знал по его работам. А что он один из лучших учителей Москвы – по той же «Литературной газете», чьи сотрудники стремились отдать своих детей именно в его школу, именно в его класс, и чьи дети, выходя из класса Соболева, оставались навсегда преданными литературе. На моё счастье Лев Иосифович, с которым до этого мы лично знакомы не были, согласился.
Ему я многим обязан. И авторами-учителями. И его собственными безукоризненными материалами. Он – та воплощённая порядочность, которой так не хватает великому множеству людей из тех, с кем мне приходилось сталкиваться: не помню, чтобы он хоть раз поискал повод, чтоб отказаться от моих просьб, или захотел бы его поискать, как это делали другие сотрудники, намного младше его, – он всегда отзывался, брался за дело и доводил его до конца!
Словом, совместными нашими усилиями мы быстро создали газету, популярную у словесников-учителей, чему Соловейчик поначалу искренне радовался.
Он даже сделал моей «Литературе» щедрый рекламный подарок: перепечатал из неё у себя в «Первом сентября» исключительно интересную статью о «Войне и мире».
Статью эту мне дал почитать поэт Константин Ваншенкин. Её написала его внучка – десятиклассница Катя. Прочитав, я загорелся желанием её опубликовать: феерически талантливая, не по годам умная девочка!
Но в статье полтора печатных листа. Материалы такого объёма уместны скорее на журнальных страницах. А у меня ведь даже не полноценная газета, а предметное приложение. И всё же в нарушение всех канонов я решил рискнуть печатать Катю с продолжением в двух номерах: авось, Сима не рассердится!
Он не только не рассердился, но позвонил сразу же. И долго, проникновенно говорил о статье и о Кате: «Но откуда, откуда такие знания у десятиклассницы? Ты проверял? Это всё абсолютно самостоятельно?»
– Абсолютно! – отвечал я ему. И ссылался на Эдуарда Бабаева, которому излагал концепцию Кати и который тоже ею восхитился. А Бабаев о Толстом знал всё. В том числе и все новейшие о нём работы.
Так и получилось, что мы с Симоном Львовичем совместно отпраздновали рождение нового таланта. Напечатанная в двух номерах у нас, статья Кати Ваншенкиной заняла ещё и целую газетную полосу «Первого сентября».
Как соскучились учителя литературы по живому слову, я понял, когда оказался на какой-то встрече с ними. Все хвалили газету, противопоставляли ей новые, только что появившиеся учебники. «Новое в них, – говорили они, – только обращение к запрещённым прежде произведениям. Но написаны они тем же унылым, казённым языком, что и советские учебники».
– Не всё сразу! – отвечал им я. – Должно пройти время, чтобы ушли старые авторы и пришла талантливая молодёжь. А такое время, кажется, наступает.
Кассандры из меня, как видите, не вышло!
* * *
Да и кто бы взялся предсказать тогда – через несколько месяцев после подавления коммуно-фашистского мятежа в октябре 93-го, что и двенадцати лет не пройдёт, как начнут сбываться самые смелые мечты его предводителей. Ну, жидов и демократов (бывших) на Красной площади пока что не вешают, но скорбные слова о распаде советской империи как о крупнейшей геополитической катастрофе XX века произнесены. И, кажется, всерьёз решили восстановить империю. Вернули советский гимн, передали армии большевистские пятиконечную звезду и красное знамя. Наотрез отказались предать тело Ленина земле и перенести на более подобающее им ритуальное место захоронения и урны – ликвидировать это, наверное, радовавшее сталинский глаз (вах! скольких пережил!) кладбище на Красной площади. Отменили выборность губернаторов, предоставив президенту право их назначать. По сути отменили и сами по себе выборы, создав мощнейший аналог КПСС – партию чиновников и карьеристов всех мастей «Единую Россию», которая захватила парламент да и вообще всю законодательную власть в России и проводит любые, нужные президенту и его администрации решения. Определила, например, что отныне население будет иметь возможность избирать только по партийным спискам – то есть отсекла возможность проникновения во власть независимых, самостоятельно мыслящих людей. Установила барьер для прохождения партий в Думу – 7 %: небольшие партии, от которых в других странах нередко зависит парламентское большинство, могут не беспокоиться. Выбросила из избирательного бюллетеня так раздражавшую чиновников графу «против всех», а с ней вместе и правило, согласно которому если «против всех» проголосовало большинство, выборы объявляются недействительными. Переняла священный ленинский принцип – лишила депутатского мандата того, кто захотел бы перейти в другую парламентскую фракцию, то есть вернула себе так пригодившийся советским диктаторам демократический централизм.
А блистательная безоговорочная победа властей над СМИ! Оказывается, что для победы никакие Главлиты не нужны – страх потерять место своё дело сделает. А чтоб воцариться такому страху, последовательно убрали с телевидения Сорокину, Киселёва, Парфёнова, Шустера, ещё нескольких, и дело сделано. Как в советское время «Правда» мало чем отличалась от «Известий», «Труда» и «Советской России», так и сейчас почти нет разницы в интерпретации новостей Первого канала, «России», ТВЦ и НТВ. Везде старая советская солидарность с теми, кто борется против Запада, – даже с террористами и фашистами типа иранского президента или премьера Малайзии (они, по нашей версии, пекутся о национальной независимости). Везде старые советские проклятия главному врагу России – США, которые вроде до недавнего времени были переведены в наши союзники. Но союза не вышло: всё-таки не замечать явных нарушений демократии американцы не хотят, вот и облаивают их с телевизионных экранов брилёвы, толстые, павловские и прочие пушковы и соловьёвы!
Пресса, говорите, независима? Это потому, что вы давно уже дальше Москвы не выезжали. А мне приходилось ездить в провинцию, когда работал в «Литературе». Тамошние издания, как правило, – вотчина мэра или губернатора. А московских, пока ещё независимых, я там в продаже не видел. Да если бы и увидел… Ведь это ещё при позднем Ельцине или при раннем Путине началось: помните, что сделал с «Известиями» тогдашний саратовский губернатор Аяцков? Ему не понравилась статья о нём, и он приказал в саратовском выпуске выбросить из статьи то, что ему не понравилось. Так и вышли там «Известия» с купюрами в статье об Аяцкове. И что же ему за это? Публично – ничего, а кулуарно – может, ещё и похвалили!
А что до независимых московских газет, то много ли их осталось? А главное – останутся ли они вообще в ближайшей перспективе? Конечно, прав Сергей Феклюнин, автор «Московского комсомольца» (26 июля 2006 года), вспомнивший советское время и сравнивший его с нынешним:
««Совок» ругали за то, что человек там был винтиком. Большие надежды возлагали на идею прав человека. Но она так и осталась красивым словосочетанием из «их» жизни. В итоге под речи о диктатуре закона построили систему, в которой маленький человек не может найти правды нигде: ни в выбранных им самим органах власти, ни в милиции, ни в прокуратуре, ни в суде. Остаётся только одно – писать в газету».
Но ведь и в этом могут отбить у людей охоту. Только что Дума приняла закон о борьбе с экстремизмом. Любого можно объявить экстремистом, то есть подлежащим уголовной ответственности, если он высказывается против властей («должностных лиц»). А подвести под соответствующую статью орган печати – задачка для третьеклассника! Прихлопнут за милу душу!
Не поленитесь, сходите в библиотеку. Попросите комплект «Московских новостей», скажем за 1987–1989 гг. Да поспешите: не ровен час – поместят подшивку в спецхран, как при советской власти, вообще тогда не получите без специального разрешения! Не может этого быть? Ну почему же? Моему знакомцу Игорю Золотусскому, например, в позднее горбачевское или в раннее ельцинское время выдали в архиве КГБ дела его репрессированных родителей без звука. А сейчас по этому поводу какой-то новый закон готовится.
Так вот, возьмите тот самый комплект «Московских новостей», которые тогда возглавлял Егор Яковлев, и положите рядом с ним теперешние «Московские новости». Как говорится, почувствуйте разницу!
Я и сам её очень почувствовал, когда прочитал в нынешних «Московских новостях» поразившее меня слово, которым назвал главный редактор Виталий Третьяков обычное, ничем не выделяющееся из прежних послание президента Федеральному собранию, – «гениальное!» Рубанул правду, как шварцевский министр из «Голого короля»: «Вы великий человек, государь!»
Понимаю, что, проглядывая список прежней яковлевской редколлегии, можно удивиться: дескать, как же так? Ведь Третьяков был заместителем Яковлева!
Что поделать? Не повезло шестидесятнику Егору с его более молодым заместителем, как не везло и мне с молодыми сотрудниками в бытность работы в «Литературе». Другое поколение – другое понятие о чести. Не у всех, конечно. Да и я ведь не обо всех. Но о тех, прежде всего, кто вместе с другими придаёт тяги паровозу, который давно уже даёт задний ход и везёт нас до остановки «Коммуна».
Хотя, наверное, всё-таки до коммуны не дойдёт. Да и вряд ли хотят лопающиеся от денег чиновники в Советский Союз в его первозданном виде. Не хотят они партмаксимумов, партминимумов или любых других ограничений для себя, не хотят и социальных гарантий для других. А вот в сверхдержаву – с большим удовольствием! В тоталитарную – чтобы никто внутри страны и пикнуть не смел против их власти. В вооружённую до зубов – чтобы весь мир их боялся!
Потому и принимают один за другим законы, ограничивающие права граждан, которых лично они в гробу (в прямом смысле этого слова) видели. Потому и утверждают бюджет с возрастающими каждый год астрономическими суммами на оборонные нужды. Якобы на оборонные, потому что никто вроде бы пока о своих агрессивных намерениях в отношении России не объявлял.
Словом, не вышло из меня пророка! Даже умения объективно оценивать людей у меня недостало. Подхваченный эйфорией от событий конца восьмидесятых – начала девяностых, я влюбился в Ельцина и в его команду, не замечая, что цель и смысл ельцинского существования – это борьба не за демократизацию российского общества, а за сохранение собственной власти над ним.
Сколько раз из-за Ельцина или из-за Чубайса я ругался со своим другом поэтом Владимиром Корниловым, который призывал меня опомниться и осмотреться: почему, дескать, если всё так хорошо в стране, как это я себе представляю, так унизительно плохо живут в ней учёные, врачи, учителя – интеллигенция – цвет, генофонд любой нации? Почему банковский клерк получает намного больше профессора? Почему никто не думает о стариках, чьи пенсии сравнимы только с теми, которые они получали при Сталине?
На эти вопросы ответить мне было нечего. И всё равно я не соглашался с Володей, верил, что в конце концов сделает Ельцин Россию процветающей.
Я верил в порядочность Ельцина, искренне растрогался, наблюдая по телевидению, как он прощается с народом, уходя в отставку, слушая, как он просит у народа прощения за всё, что ему не удалось сделать. И не обинуясь проголосовал за его преемника – Владимира Путина: отблеск ельцинского обаяния ложился для меня и на него.
Безмозглый осёл! Это я понял про себя не тогда, когда прознавшие про мой выбор друзья (и особенно Володя Корнилов) стали иронически благодарить меня за то, что «дал России Путина», а когда прочитал путинский указ о гарантиях Ельцину. Ельцину была выдана индульгенция на всё время его пребывания на посту президента и, кажется, до конца жизни: он и его семья освобождались от юридической ответственности за любые прегрешения. А я помнил, что сам Ельцин наотрез отказался выдать такую же Горбачёву. «Если ему есть в чём каяться, пусть это делает сейчас», – жёстко сказал он.
Теперь-то я понял и что подтолкнуло Ельцина к выбору такого преемника – история Собчака, на чей арест прокуратура уже успела выдать ордер. Путин, бывший член команды питерского губернатора, сумел в последний момент переправить его за границу на частном самолёте.
Не зная сути дела, ничего по поводу Собчака сказать не могу. А вот на Ельцина, занятого в последние годы правления поиском преем – ника, путинский поступок, очевидно, произвёл сильное впечатление: этот надёжен, этот своих не сдаёт!
Дело даже не в том, что, как написал мне по электронной почте мой бывший коллега по «Литературке», «значит, было за Ельциным и его семьёй нечто»! Я этого и сейчас не утверждаю. Помню, сколько было у Ельцина заклятых врагов! Помню, к примеру, предсказание выступавшего по телевидению Георгия Бооса, тогдашнего заместителя московского мэра, а теперь губернатора Калининградской области, что Ельцин может кончить жизнь как Чаушеску. И реализация такой угрозы в принципе существовала. Из-за того же очень попускаемого Ельциным фашизма, который при нём набирал вес и был почти неподсуден.
Ну, так вы оставили Ельцину охрану? И правильно сделали. Но зачем же от юридической ответственности его освобождать? И не только его, но и родственников?
Словом, выбор Ельцина оказался из обычной серии его расчётливых поступков. Попав в опалу, отказался якобы от привилегий, а потом наделил себя, президента, и своё окружение такими, о которых русские цари со своими придворными не могли и помыслить. Подписывал человеколюбивые указы, которые никто не выполнял не только из-за саботажа Думы, а потому прежде всего, что не было под ними экономических обоснований. Сдал Гайдара, не дав тому завершить начатое, а это всё равно, что, прервав беременность, ждать от женщины живого плода! Пошёл на поводу у силовиков, струсивших поначалу в октябре 93-го, а потом всё-таки подавивших мятеж. Но развязанная ими война в Чечне – не слишком ли щедрая плата за поддержку?
Один мой приятель, достигший очень высокого поста, по поводу ухода Гайдара сказал: «А что Ельцину оставалось делать? Реформы, конечно, хороши. Но народ у нас – говно!»
Да, с одной стороны, это так: всё-таки раба выдавливают из себя по капле, а как быть нашему рабству, которому без малого тысяча лет? Сколько литров этих капель придётся ещё выдавить? Хорошо помню оскаленные хари, выглядывающие из-под портретов Сталина. Помню бешеную злобу, которая подвигла подонка влезть в кабину грузовика, дать задний ход, чтобы задавить милиционера, а потом выпрыгнуть и раствориться в толпе.
Но с другой стороны, помню и многотысячные шествия в поддержку демократии. Какие одухотворённые лица!
А посмотрите по телевизору (пока ещё иногда показывают), как выглядели защитники Белого дома в 1991-м. С каждым хочется побрататься! Каждого обнять!
Что-то подобное напомнил мне Майдан в Киеве, когда оскорбился народ явной подтасовкой голосов на выборах, потребовал пересчёта и добился своего: президентом объявили не нашего ставленника, бывшего уголовника (социально-близкого?) Януковича, а человека, от ненависти к которому хрипли все кремлёвские политологи – Виктора Ющенко, женатого на американской украинке (это подчёркивалось особо и подносилось как невероятное предательство родины!).
Правда, памятуя, как развивались события в России после 91-го и 93-го, я понял, что недолго музыка играла в пользу «оранжевых», когда Ющенко сместил (скорее всего, из ревности, как это делал Ельцин) очень популярную на Украине Юлию Тимошенко и назначил премьером Еханурова. Поэтому и не удивился той наглости, с которой ведут себя сейчас так называемые «голубые» (цвет флага пророссийской коалиции), купившие бывшего коммуниста Александра Мороза и его соцпартию и выдвинувшие в премьеры Януковича: не мытьём, так катаньем!
Я и в 96-м был всецело на стороне Ельцина, понимал, что победа Зюганова не просто потащит страну назад, но накроет её не сдерживаемой никакими законами ксенофобией: Зюганов был не только генсеком коммунистов, но и лидером национал-патриотического фронта. И всё же мне оцарапала душу циничная сделка с генералом Лебедем, «бронзовым призёром» выборов, как он себя назвал. Перед решающим вторым туром в обмен на полученные Лебедем голоса Ельцин поделился с ним частью своих властных полномочий, назначил советником, секретарём Совета безопасности, принял все его кадровые перестановки в Министерстве обороны и в армии, а вновь став президентом, преспокойно всё это у Лебедя отобрал, а его самого прогнал.
Говорят, что значительную часть своего второго президентского срока Ельцин провёл на больничной койке. Понимаю и сочувствую. Но кто в это время правил страной? Черномырдин – отец нынешнего «Газпрома» и двух сыновей, которые именно там и работают? Киреенко, не остановивший махинации с бумагами по так называемым государственным казначейским обязательствам (ГКО) и ввергнув – ший страну в пучину такого оглушительного дефолта, который выбил почву из-под ног только-только начавшегося оформляться «среднего класса», то есть людей, успешно начавших свой небольшой – «малый» бизнес и оказавшихся разорёнными? Что Примаков (последнее место работы – внешняя разведка) стал премьером, это, конечно, уступка Ельцина прокоммунистической думе. Но после него два премьера, и оба бывшие председатели ФСБ – Степашин и Путин: явные поиски преемника в среде чекистов!
Мой приятель и бывший коллега по «Литгазете» Олег Мороз написал весьма ценную по объективной информации книгу о выборах 1996 года и о том, как Зюганов не стал президентом. Повторяю, я рад, что Зюганов им не стал, но не могу понять Чубайса, который на вопрос газеты «Аргументы и факты» (№ 26 от 28 июня – 4 июля 2006 года): «Мог ли Зюганов одолеть Ельцина и как бы тогда развивались события?» – ответил: «Без победы Ельцина не было бы ни президента Путина, ни нынешнего экономического подъёма».
Окститесь, Анатолий Борисович! О чьём экономическом подъёме вы говорите? Неужто России? И в чём же он выражается? В нещадной эксплуатации её природных недр, которые не могут быть неисчерпаемыми? В брошенной крестьянами и повсеместно уничтожаемой прекрасной пахотной земле? В постоянно растущих таможенных пошлинах на импорт, позволяющих директорскому корпусу задирать цены на никчемную отечественную продукцию и, не боясь конкуренции, не заботиться о модернизации устарелого оборудования? Да, согласен, всё это кого-то обогащает: цены на газ и нефть на рынке высоки как никогда, запредельны цены и на землю, которая гектарами скупается под усадьбы, и, допустим, какой-нибудь захудалый «жигулёнок» вполне сопоставим по ценам с автомобилями в других странах и другого класса. Но экономический подъём предполагает, наверное, не просто обогащения небольшой группы людей. Оглянитесь окрест себя (не своего окружения): много вы видите сытых и довольных?
А что до того, что без победы Ельцина в 96-м «не было бы президента Путина», то это мне напоминает «Песню о Сталине» моего хорошего знакомца Юза Алешковского, которую мы во всё горло распевали (дома, конечно) в мрачные 70—80-е. Помните: «Сижу я нынче в Туруханском крае, / Где при царе сидели в ссылке Вы»?
А что там дальше, помните?
То дождь, то снег, то мошкара над нами, А мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры разжигали пламя, Спасибо Вам, я греюсь у костра.«Спасибо тебе за Путина», – иронически говорили мне друзья. Я сполна оценил их иронию. Что ж, я её заслужил: доверился тому, кому понапрасну верил много лет.
Но вы-то, Анатолий Борисович, в отличие от меня, Ельцина знали не по газетам и не по портретам. А уж о Путине говорить не приходится: были с ним в одной собчаковской команде тех самых питерцев, которые обсели сейчас все властные структуры в России. Знали, стало быть, и об убеждениях Путина, о его тоске по развалившейся империи, о его сдержанно проявляемой симпатии к Сталину, о его удивительном умении говорить одно, а делать совсем другое!
Не знали? Ну так узнали позже. Оценили, наверное, как, отвечая однажды по телемосту на вопрос о возможном переименовании Волгограда в Сталинград, он очень многозначительно сказал, что в Париже есть площадь Сталинграда, а почему она там есть, это вопрос не к нему, Путину. Но мы-то с вами, Анатолий Борисович, знаем, что в Париже есть и площадь Севастополя, и можем ответить, почему там оказались две эти площади: обе названы в честь известных сражений – одна в Крымской войне, вторая – во Второй мировой. В честь Сталина, на что прозрачно намекал тогда Путин, Западная Европа своих улиц не называла. Это в Цхинвали (Южная Осетия), который сейчас в связи с нашим конфликтом с Грузией всё время показывают по телевидению, недавно грохнуло взрывное устройство на улице Сталина – главной улице города. Да где-то у нас, в районе вечной мерзлоты, очень удобном для проживания (вымирания) там узников сталинского ГУЛАГа, благодарные чекисты установили то ли бюст, то ли памятник Сталину. И где-то ещё у нас и на постсоветском пространстве собираются устанавливать памятники людоеду и называть улицы в его честь. А в таком контексте переименование куба на Красной площади с названием города-героя Волгограда в Сталинград выражает не совсем то же самое, что название парижской площади.
А читали ли вы, Анатолий Борисович, беседу Путина, кажется, со скандинавскими (точно не помню!) журналистами, где он в полном соответствии с советской исторической наукой назначил Запад – Англию и Францию – ответственным за сговор Гитлера со Стали – ным: всё, дескать, началось, с Мюнхена. Вот не отдали бы Чемберлен с Даладье Судеты Гитлеру в обмен на честное слово фашиста этим удовольствоваться – это я уже сам логику Путина, следующего за советскими историками, развиваю, – глядишь, и миролюбивый Сталин не высунулся бы со своими территориальными претензиями. Да он, как пишут в прессе и показывают по ТВ, с ними и не высовывался, ведь сговора-то с Гитлером не было – читали об этом? И уж, конечно, не было никаких секретных протоколов – это перестроечная провокация, читали? А что не топили сталинские маршалы врага в крови своих солдат? Что цифры погибших в Великую Отечественную, которую называли при Горбачёве, не соответствуют действительности: генерал Гареев точно установил, что обе стороны понесли одинаковые потери – от 7 до 9 миллионов каждая? А про 37-й год, что был он не годом Большого Террора, а сталинским возмездием тем, кто измывался над русским народом в 17—21-м? Такая трактовка событий настолько понравилась Кремлю, что её одно время даже на президентском сайте kremlin.ru вывесили. Я написал туда возмущённое письмо. Возможно, не только я, если через некоторое время убрали…
А видели ли вы, Анатолий Борисович, передачу по телевидению о южнокорейском пассажирском самолёте, Бог знает почему пересёкшем нашу границу и сбитом советской ПВО по приказу ещё одного любимого путинского диктатора Андропова? Весь мир тогда, в 1983-м, содрогнулся от ужаса: погибло больше двухсот человек! Даже при Андропове, утверждая, что пассажирский самолёт уклонился от курса со шпионскими целями по заданию американской разведки, мы не рискнули врать, что людей в самолёте не было, что его вёл какой-то камикадзе. И понятно: такое враньё взорвало бы людей, только что так страшно и нелепо потерявших своих близких! А сейчас смотрю: сидит бывший командующий ВВС, генерал и свидетельствует: водолазы со дна извлекли только мёртвые тела экипажа и огромное количество детских башмачков, какими для маскировки, очевидно, самолёт и набили. На какие только хитрости не пускаются ради шпионажа!
Подчёркиваю: всё это появилось в СМИ при правлении президента Путина. И вдалбливается в головы новому комсомолу – путинюгенду, как его называют, – «Идущим вместе», «Нашим», «Молодой гвардии» и другим в этом же роде, с кем президент охотно общается.
А вот – тоже не слишком давнее: «Московский комсомолец» за 13 июля 2006 года. В преддверии саммита «восьмёрки» в Петербурге американская, канадская и французская телекомпании спрашивают Путина: «Многие говорят, что в России не настоящая демократия, она не представляет идеалы саммита «восьмёрки». Что вы скажете о демократических ценностях в РФ?» Путин отвечает. Точнее – начинает отвечать так: «Я бы спросил этих людей: «Что они вообще понимают под демократией?» Это философский вопрос, и однозначного ответа на него нет…» Вам это ничего не напоминает? А мне доклад товарища Сталина «О проекте Конституции Союза ССР»: «Говорят о демократии. Но что такое демократия?» Тот же, как видите, раздумчивый зачин. Та же жгучая потребность в осмыслении этого, как выразился господин Путин, «философского вопроса». И те же доказательства преимущества демократии режима, который ты установил, перед демократией «в капиталистических странах» (Сталин), «некоторых стран Запада» (Путин). И те же противопоставления: «Демократия в капиталистических странах, где имеются антагонистические классы, есть в последнем счёте демократия для сильных, демократия для имущего меньшинства. Демократия в СССР, наоборот, есть демократия для трудящихся, т. е. демократия для всех. Но из этого следует, что основы демократизма нарушаются не проектом Конституции СССР, а буржуазными конституциями» (Сталин), «Мы категорически будем возражать против использования всевозможных рычагов, в том числе и использования тезиса о необходимости демократизации нашего общества для вмешательства в наши внутренние дела» (Путин).
Что же до другого вопроса, который задали Путину по поводу его отношения к высказыванию вице-президента США Чейни о том, что в России «ограничиваются права людей и действия Правительства России контрпродуктивны», то Путин, ответив: «Я думаю, что высказывания подобного рода вашего вице-президента – это всё равно что неудачный выстрел на охоте», – спародировал шаржированного Сталина из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Там Сталин так и комментирует действия Ворошилова, от полноты чувств выстрелившего в потолок: «Попал пальцем в небо!»
Так что ироническое «спасибо за Путина» моих приятелей, Анатолий Борисович, я готов переадресовать и вам.
«А всё-таки жаль», – как пел Булат Окуджава. Рассказывают, что и вы, Анатолий Борисович, были с ним знакомы. Что он хорошо к вам относился. Ну так тем более жаль. Вспомните, что он писал в одном из последних своих стихотворений: «Совесть, благородство и достоинство – / Вот оно, святое наше воинство». «Наше» – то есть его прежде всего и его друзей.
* * *
Возвращаюсь к своей газете.
Уже года через два не было, кажется, в России такого региона, где бы её не знали. Письма в неё шли отовсюду. Я вскрывал их с ликованием, читал с особым вниманием материалы из стопроцентной российской глубинки, по возможности доводил их до кондиции и печатал, заранее предвкушая, с какой радостью они будут прочитаны односельчанами автора или жителями того провинциального городка, откуда он родом. Я печатал незатейливые литературные игры со школьниками, записи уроков рядом с занимательным литературоведением.
Никому не известные прежде авторы выступали рядом с очень известными.
Позвонил Симон Львович:
– Ты читал вчерашнюю «Учительскую газету»?
– Нет, а что там?
– Почитай!
И положил трубку.
Легко сказать: «почитай»! К интернету наши компьютеры ещё подключены не были, а в киосках «Учительская» уже распродана. Позвонил одному своему приятелю, о котором я знал: он читает всё.
– Да, – подтвердил он, – я читал вчера «Учительскую». Поздравляю!
– С чем?
– Ты не видел? Так сходи в библиотеку, посмотри. Она напечатала результаты опроса учителей. Их спрашивали: какое современное периодическое педагогическое издание вам кажется наиболее интересным? Что-то в этом роде.
– Ну и какое же?
– Разумеется, самой интересной они назвали «Учительскую газету». А иначе для чего бы она опубликовала данные опроса?
– Но я-то тут при чём?
– А ты со своей «Литературой» где-то вверху этой спортивной таблицы. Да ты сходи в библиотеку, посмотри.
Пошёл. Да, речь идёт не о московских, а обо всех российских изданиях. На втором месте – «Первое сентября», на третьем – сейчас уже не помню кто, а на четвёртом – «Литература». За мной довольно большой список других.
Поехал к Симе. Он хмур: «Прочитал?»
– Что же, – говорю бодро, – твоё второе место – потрясающий успех для нового издания. А, может, на самом деле оно не второе, а первое. Ведь для чего «Учительская» напечатала этот опрос? Чтобы себя прорекламировать!
– А твоё четвёртое? – Соловейчик по-прежнему угрюм.
– Но ведь ты же всё время подчёркиваешь: мы все в одной лодке. Рассматривай и это как твой успех. Мы же – приложение к твоей газете!
– Но почему-то других приложений в списке нет?
– За них, – говорю, – я не отвечаю. И не я же проводил опрос. Я к этому списку отношения не имею.
– Понятно, – сказал Сима. И добавил: – Может, ты перебарщиваешь, приглашая знаменитостей? Всё-таки у тебя не газета, а предметное приложение для учителей школы!
– Вот они и засвидетельствовали в «Учительской», насколько им это интересно.
– Знаешь, – сказал Сима, – о чём я мечтаю? О том, чтобы утром в среду (мы выходили по средам) учитель, идя на урок, вытащил бы твоё приложение из ящика, развернул и обрадовался: урок по «Горе от ума» – как раз то, что ему сегодня нужно. Он приходит в класс, открывает газету и ведёт урок, сверяясь с тем, который напечатал ты. Вот это была бы ему настоящая помощь!
– Но ведь это совершенно бессмысленно, – сказал кто-то из моих консультантов (не помню, Соболев или Айзерман), которому я рассказал о мечте Соловейчика. – Нормальный учитель ведёт урок, не сверяясь с чужим сценарием, а реализуя свой. К тому же он должен чувствовать атмосферу в классе, должен учитывать психологию своих учеников. Хотя сама по себе идея, чтобы газета поспевала по времени за темами, которые именно сейчас изучают в школе, не лишена смысла!
И Лев Соломонович Айзерман (именно он, это-то я помню точно) принёс мне школьную программу, полностью расписанную им по месяцам: когда и что преподают в том или ином классе. Я писал в «Стёжках-дорожках», что помощником мне Айзерман был отменным.
Увы, из этой идеи почти ничего не вышло. К кому обращаться за нужными мне позарез уроками? Далеко не каждый учитель умеет их записывать. Постепенно я обрастал авторским активом из учителей. Многие уроки выуживал из редакционной почты. Но нужные следовало, конечно, заказывать, причём жёстко требовать, чтобы рукопись была представлена строго к такому-то сроку. А учителя ведь не литераторы. Они писать не привыкли. Тем более – быстро писать да ещё и на совершенно определённую тему. Кое-какие материалы, впрочем, печатались в «Литературе» действительно в срок. Но это было редкостью.
И здесь появился сын Симона Львовича Артём. Он приехал из Америки, где что-то окончил, а потом читал какие-то лекции и был теперь назначен нашим куратором – главным редактором всех приложений. В помощники Артёму дали Нану Дмитриевну Козлову, его тёщу, с которой мы подружились и которая через небольшое время сделалась главным редактором «Физики», и Марию Юрьевну Дремач, ставшую потом ответственным секретарём приложений.
Уже после смерти Симона Львовича, когда я в 2000-м году праздновал в редакции своё шестидесятилетие, Нана Дмитриевна спросила меня:
– Геннадий Григорьевич, в каких отношениях вы были с Симоном Львовичем?
– В дружеских, – ответил я.
– А вы знаете, какую инструкцию он дал мне, когда брал на работу? Я должна была найти материалы, которые позволили бы уволить физика и вас. На физика я нашла…
Главный редактор «Физики» действительно был человеком ленивым и мало профессиональным журналистом.
– …а по поводу вас как-то само собой рассосалось!
Увы, не «само собой»! Первый же мой разговор с Артёмом свидетельствует об этом.
– Я внимательно прочитал вашу газету, – сказал Артём, – и пришёл к выводу, что она должна измениться. Я представил себе, что я – учитель, и что в таком случае полезного для себя я нахожу в вашей газете? Очень мало!
– Школа сейчас реформируется, – ответил я. – В программы включили немало новых произведений. Учебников много, и учителя в них теряются. Я пытаюсь дать им материалы для самообразования. Полезные, по-моему, материалы.
– Нет, – не согласился со мной Артём. – Учителя ищут в наших приложениях ответа на вопрос не «что?», а «как?» Как им практически использовать эти ваши материалы для самообразования? Вот что их интересует. И вот на что вы не отвечаете.
– Хорошо, – сказал я. – Я готовлю сейчас следующий номер, целиком посвящённый Тютчеву. Я отвечу в нём на эти вопросы.
– Что ж, попробуйте, – ответил Артём. – Я подожду этого вашего номера.
Что я сделал? Да то же самое, что сделал бы обычный газетчик. Представил себе, редактируя один материал, что сам являюсь учителем. В этом случае я сделал бы то-то, а здесь обязательно подчеркнул бы то-то, а здесь обратил бы внимание учеников на то-то. Другой материал я попросту прошил всякими «учитель, конечно, сделает так-то», «ученики усвоят, что», «особенно важно, – обратит внимание детей учитель, – что», ну и т. д.
Словом, прочитавший номер Артём оттаял. «Геннадий Григорьевич, – сказал он мне с чувством, – мне очень понравился этот номер. Работайте так дальше».
Нет худа без добра. По-моему, как раз после общения с Артёмом уроки, которые я помещал среди других под придуманной мной рубрикой «Школа в школе», пошли под специально для них выделенной «Я иду на урок».
Артём-то оттаял, а Симон Львович не спешил. Пришли мы с общим его и моим приятелем звать Симу на вечер «Литературы» в ЦДЛ. Я тогда входил в бюро секции критиков и литературоведов Союза писателей и добился расширенного заседания бюро с обсуждением моей «Литературы».
– А для чего мне туда идти? – спросил нас Соловейчик. – Красухин рекламирует свою «Литературу», а мне было бы интересно, что думает народ по поводу газеты «Первое сентября».
Опять – двадцать пять! Будто «Литература» не связана капиллярными сосудами с «Первым сентября»!
– Ну давай, – предлагаю, – устроим обсуждение и того и того.
– То есть, – саркастически уточняет Сима, – газеты и одного её приложения?
Господи, сколько его знал, никогда не предполагал в нём такой завистливой ядовитости! А главное – с кем он соперничает? Ведь это то же самое, что соперничать с частью своего собственного организма!
Но слава Богу, появилась в «Литературке» информация об обсуждении, и Сима сменил гнев на милость. О нём в информации было всё сказано: и о том, что он – основатель, что он талантливый публицист, и что его «Первое сентября» известнейшая газета. Да и были на обсуждении Артём, Нана Дмитриевна и Мария. Рассказал кто-нибудь из них Симону Львовичу, что его имя и его газета были на устах почти у всех выступавших.
Я писал в «Стёжках-дорожках», что был Соловейчик вспыльчивым, но отходчивым. Однажды на летучке газеты «Первое сентября» он в ярости выкрикнул:
– Всё! Вы все уволены! Все до одного! Подавайте заявление об уходе!
Сотрудники подали заявления. Сима их подписал. Начал набирать новых. Набрал. И вдруг через неделю чуть ли не у каждого из уволенных звонок: Симон Львович извиняется за свою выходку, просит простить его и вернуться. Многие вернулись. Так и продолжали работать в уже увеличенном составе.
Истерик? Может быть. Но при этом был Сима добр. А когда ему что-то сделанное тобой нравилось, он тебя обожал. Носился с тобой как с писаной торбой: всем-всем рассказывал о твоих заслугах, всех призывал тобой восхищаться. Так что я не кривил душой, когда назвал в «Стёжках-дорожках» встречу с Симой Соловейчиком огромным везением в своей жизни.
Был он бескорыстен. Очень долго извинялся перед нами, когда приобрёл «жигулёнка», говорил, что считает эту машину общей, что если кому-то из коллектива понадобится ехать в больницу или по каким-то важным личным нуждам, пусть знает, что машина для этого у него есть.
И самое главное – Соловейчик любил своё дело, великолепно знал школьную проблематику и не боялся идти на обострение отношений с каким-нибудь чиновником. «А ты по нему вдарь, – отвечал он на моё возмущение каким-нибудь ведомственным хамом, – у тебя же для этого есть газета!» И я бил, «вдарял», часто с Симиного благословения. Но и без его благословения тоже: он знал, что ни с того ни с сего я не взорвусь!
Увы, его не стало…
Ни у кого в редакции и сомнения не возникло в праве Артёма наследовать отцу. Правда, я удивился: для чего Артёму нужно было оставлять «Первое сентября» в его первозданном виде? Ведь Симон Львович делал эту газету исключительно под себя. И был главным и постоянным её автором. Собственно, в этом и была её настоящая ценность. Колонки же Артёма, которые он после смерти Симы поначалу писал в каждый номер, ценности не представляли: слогом он не владел, писал шаблонно и скучновато. И вообще современная эта мода – колонки главного редактора – кажется мне издевательством над здравым смыслом журналистики. Образ главного редактора выражает возглавляемая им газета, а колумнист – это комментатор определённых проблем. Так что зря брался Артём за колонки. К тому же не было у него отцовского авторитета, не было отцовского знания школы.
Думаю, что было бы больше пользы и для него, и для нас, если б он переделал «Первое сентября» в газету бесплатной информации для учителей типа «Из рук в руки». В конце концов, всё нужное ему по своей специальности учитель получает в предметном приложении, а здесь он покупал бы сведения о вакансиях, о новых учебных заведениях, новых пособиях, вообще о любых новациях.
Но советовать Артёму я ничего не стал: не в таких близких отношениях мы находились. К тому же он не вмешивался в дела «Литературы», предоставил мне полную свободу, зачем же мне лезть к нему со своими непрошенными советами?
А вот создание издательского дома я горячо одобрил: Артём собрался издавать книги! Это же замечательно! Сколько, в самом деле, накопилось прекрасных материалов, напечатанных хотя бы в «Литературе»! Но газета, что называется, однодневка. А материал, перепечатанный из неё в книге, – это тот случай, когда, говоря словами Пастернака, «дольше века длится день».
Начали с серии «Я иду на урок». В нашей газете она называлась «Я иду на урок литературы». Книги были адресованы разным школьникам – 6-го класса, 7-го, 8-го и т. д.
Я попросил составлять их молодого своего сотрудника Серёжу Волкова. Московский учитель знаменитой 57-й школы, закончивший филфак МГУ, он был ослепительно талантлив во всём: искромётный стиль, безупречный вкус, углублённое знание школы, психологии детей, учителей. Он начал у меня печататься прежде, чем пришёл ко мне работать. А пришёл он сразу после того самого вечера в ЦДЛ, где обсуждали «Литературу». Прослушав выступления маститых литераторов, он встал, осмотрел зал и попросил поднять руки тех, кто работает в школе. Рук поднялось совсем немного. Тогда и произнёс он краткую речь о том, какой, по его, учителя литературы, мнению, должна быть газета. Я немедленно пригласил его стать нашим сотрудником.
Мы с ним часто вспоминали это его выступление и всегда смеялись.
– Да, Серёжа! – говорил я. – Попросить поднять руки тех, кто работает в школе, находясь на расширенном заседании секции критиков и литературоведов, – это, конечно, попасть в самую точку!
– Да я только потом понял, где нахожусь! – улыбался Волков. Я ни разу не пожалел, что доверил ему составление книг: он это делал мастерски и профессионально, это была его тематика. Поэтому удивлялся недоумению своих коллег – главных редакторов других приложений: почему, дескать, я сам не берусь за составление. А для чего бы я, литературовед, стал заниматься не своим делом? За составление платили деньги? Что ж, Волков получал их по заслугам.
Я и в будущем делал то же самое. Когда был создан Педагогический университет «Первое сентября» – для учителей, для повышения их квалификации, каждую газету объявили его факультетом. Деканом стать я отказался. Назначил на эту должность сперва Тамару Эйдельман, потом Серёжу Волкова, потом Татьяну Алексеевну Калганову. Деканы менялись по их собственной просьбе, но всё это – сотрудники, связанные с той проблематикой, по какой в университете читались (печатались) лекции.
Я сказал тогдашнему главному редактору издательского дома Дине Кондахсазовой, что не одобряю её решения сделать составителем очередной книги «Я иду на урок в одиннадцатом классе» (по современной литературе) Сергея Дмитренко. Они с Дмитренко долго работали вместе в Литинституте, а до прихода к нам Дина была главным редактором издательства «Олимп», где дала Сергею возможность составить немало книг в серии «Школа классики». «Да, – согласился я, – библиография, биографические данные – этим он владеет. Но ведь у нас речь идёт об уроках. А их никто кроме Волкова лучше не отберёт». «Да ну! – ответила Дина. – Дмитренко, можно сказать, профессиональный составитель. Он столько книг по разным проблемам в разных издательствах составил! Составит и эту!»
С этой книги и начался у меня конфликт с моей заместительницей Машей Сетюковой.
Я поощрял желание Маши писать о новейшей литературе. Ни критиком, ни литературоведом она не была. Её статьи в основном о журнальных новинках были лишены проблемности или рецензионной основательности. Скорее, это была эмоциональная информация, очень похожая на сочинения отличниц моей школьной поры: вступление, основная часть (пересказ, оценки), заключение. Была у меня в газете рубрика «Новое в школьных программах». Под ней я и печатал Машину информацию: разные программы предполагали хотя бы факультативные знания того, что нынче печатается, за что дают премии и т. п. В газете статьи об этом были более чем уместны: даже московские учителя давно уже не выписывали периодики. А в школьных библиотеках российской глубинки книги новейших писателей появлялись только благодаря фонду Сороса, его программе «Пушкинская библиотека». Сейчас этот фонд с российской территории изгнали, все его программы закрыли, но и в то (недавнее ещё!) время обеспечить все школьные библиотеки страны книгами и журналами фонд, естественно, не мог!
В газете, повторяю, статьи Сетюковой были не только уместны, но и полезны учителям. А в книге, которая называется «Я иду на урок», они, конечно, выглядели бы нелепо: какое отношение они имеют к урокам?
Тем не менее, они в ней оказались. И не одна, не две, а все статьи (кажется, больше десятка), которые Маша напечатала в нашей газете.
Увы, для Серёжи Дмитренко она была заместителем главного редактора, то есть начальством, спорить с которым он не осмеливался, наоборот, обычно подтверждал начальственную правоту.
Книгу он вообще, на мой взгляд, составил безобразно: в основном из статей своих друзей и знакомых. И – начальства: он предложил Маше перепечатать какие-нибудь её статьи, не предполагая, конечно, размеров её аппетита: ей захотелось выступить с полным собранием своих сочинений.
Я попросил Серёжу Волкова посмотреть вёрстку и сказать, что он думает о такой книге. Конфликтовать с кем-либо Волков тоже не любил. Но вёрстку всё же посмотрел и пришёл в ужас.
Но Маша его и слушать не стала.
– Если у меня тронут хотя бы запятую, – сказала она надменно, – я сниму всё!
– Снимай! – сказал я ей, узнав от Волкова об их разговоре. – Ты что, воображаешь себя золотым пером редакции?
Маша сникла.
– Но мы, Геннадий Григорьевич, уже обо всём договорились, – миролюбиво начал Дмитренко.
– О чём, обо всём? Для чего вы взяли все эти статьи работника редакции? Стыдно быть до такой степени сервильным! – вырвалось у меня.
Маша запомнила слово «сервильный». В моё отсутствие взяла словарь и показала Дмитренко, что оно означает. Серёжа оскорбился.
– Ты должен перед ним извиниться, – сказала мне прознавшая об этом жена. – В любом случае нельзя унижать человека.
Я нашёл способ извиниться. Хотя мнения своего о Дмитренко не изменил.
Несмотря на мои протесты, книга вышла. Препятствовать этому я был бессилен: судьбу книг решает главный редактор не газеты, а издательства или его директор. Единственно чего я добился, – настоял на том, чтобы в сообщении «Общая редакция подсерии «Литература»» стояла не фамилия главного редактора газеты (моя), как это было в других книгах серии, а фамилия её составителя.
Создание Артёмом издательского дома способствовало перераспределению «родственных» отношений: мы перестали считаться дочками «Первого сентября», встали с ним на равных. Приложения Артём возвёл в ранг газет, так сказать, сестёр «Первого сентября». В логотипах каждой появилось: «Еженедельная газета издательского дома «Первое сентября»».
А книги «Я иду на урок» начали своё победное шествие. Их допечатывали и допечатывали.
А потом прекратили. Оказалось, что где-то за Уралом (или на Урале) наладили издание пиратских копий наших книг. И рынок оказался насыщенным.
Другие издательские серии раскручивались очень вяло. Ближе к моему уходу из газеты издательский дом сосредоточился в основном на выпуске небольших брошюр. Но это произошло уже в то время, когда все наши газеты сильно ужались в объёме.
Начинали мы с восьмистраничных приложений размером, говоря профессиональным языком, А-3 (то есть как «Литературная Россия», «Экстра-М», «Метро» и многие другие). Но ещё при Симоне Львовиче расширились до 16 страниц (полос, как говорят журналисты). Стали в точности размером с «Литературную Россию».
Воспользовавшись расширением, я придумал делать «газету в газете», которую назвал «Семинарием», он располагался в середине. Я придумывал для него эпиграфы, которые менял иногда с какого-нибудь новогоднего номера, но держал фразу, которую вынес в эпиграф довольно долго, в надежде на то, что она отложится в сознании учителя и он приобщится, быть может, к открывающейся ему истине.
Например: «Нравственная цель сочинения не в торжестве добродетели и не в наказании порока. Пусть художник заставит меня завидовать угнетённой добродетели и презирать торжествующий порок» (В. Ф. Одоевский). Или в другие годы – пушкинское: «…Цель художества есть идеал, а не нравоучение». Или перед тем, как мы перешли на другой формат: «Венера, возбуждающая похоть, плоха. Она должна только петь красоту в мраморе» (Фет – Л. Толстому). Очень важным я считал раскрыть учителю цель и смысл искусства вообще и литературы в частности. Особенно учитывая, что большинство педагогов преподавали в советское время, присвоившее себе опровергнутую всей великой русской литературой XIX века максиму классицизма: «Литература – это учебник жизни».
Предшественник нынешних, шесть раз в год выходящих брошюр, еженедельный «Семинарий» стал мощным обучающим средством. Я имел возможность публиковать в нём солидные работы, посвящённые творчеству одного писателя или одному произведению. Мы вернули в филологию и в педагогическую науку массу забытого, затерянного в старых журналах материала (в основном благодаря Л. И. Соболеву и Б. А. Ларину, большому знатоку истории преподавания литературы в России). Весь семинарий отдавали под уроки какого-нибудь учителя, вчера ещё мало кому известного, а сегодня, так сказать, проснувшегося знаменитым в педагогическом мире. Я знакомил учителей с работами их коллег из других регионов, так и называя семинарий «Уроки учителей Пензенской области» (или Пермской, или Смоленской, или Башкортостана и т. п.). Иногда наш семинарий шёл под рубрикой «Учимся у учеников», где мы печатали порой восхитительные работы школьников. Был я как-то по делам в командировке в Челябинске и Озёрске – городе физиков, расположенном в Челябинской области. Привёз массу интересных материалов. Напечатали и уроки озёрских учителей и сочинения и рефераты озёрских учеников. Они особенно пришлись по душе рецензенту журнала «Новый мир», написавшему, что, очевидно, настала пора всерьёз говорить об «озёрской школе».
Надо! Надо говорить всерьёз! И не только об «озёрской», но и о «сургутской школе» – например, о гимназии-лаборатории В. М. Салахова, её кафедре русского языка и литературы, которую возглавляет Ольга Александровна Ткаченко. Дважды удалось побывать мне в сургутских классах. С таким удовольствием, которое испытывали дети на уроках от бесед со своими педагогами, я сталкивался редко.
И не только о «сургутской» школе надо говорить всерьёз, но и… Ладно. Перечислять не стану, боюсь кого-нибудь забыть, обидеть. Скажу только, что за двенадцать лет в «Литературе» мне доводилось много раз наслаждаться работами талантливых учителей, одарённых учеников.
Читал ли наши материалы Артём? Не уверен. Никак не отозвался на известие, что Вольфганг Казак написал о «Литературе» в популярном среди славистов европейском журнале. О нас писал не только Казак. Мы вывешивали ксерокопии статей на всеобщее обозрение. Артём не произнёс ни об одной из них ни слова.
* * *
Но и не мешал. Точнее – ни во что не вмешивался. И я был благодарен ему за это.
Однако грянул дефолт. Некоторое (недолгое) время мы выходили в укороченном виде (на 8 полосах), а потом вернулись к прежнему объёму. Не сразу, но стало обнаруживаться, что в отличие от покой – ного Симона Львовича, ощущавшего себя прежде всего нашим коллегой, Артем чувствует себя хозяином фирмы и ведёт себя соответственно своему чувству. Я не люблю считать в чужом кармане, но иномарки, на которые пересело ближайшее окружение Артёма, его яхта, его собственные роскошные автомобили показывали, по-моему, что финансовые дела фирмы были очень не плохи. Тем не менее, если верить Артёму, они всё более и более становились ужасными: он связывал это с падением суммарного тиража газет.
Он приказал поменять их формат на А-4. Это размер обычного листа бумаги для ксерокса или для принтера. Объём, правда, остаётся тот же. Будем выходить на 64 полосах. Тот же, стало быть, да не совсем. Теряем за счёт укороченности страниц примерно до пятой части текста. Но не только это побудило меня идти объясняться с Артёмом.
– Артём, – сказал я ему. – Человек по своей природе консервативен. Привычка, как вы знаете, – вторая натура. Нормальные газеты, учитывая это, не меняют свой облик десятилетиями и даже столетиями. Только на изменении формата мы можем потерять значительное количество подписчиков.
– Из-за этого, – отмахнулся он, – не потеряем.
– И для чего нам такая цветная обложка? – продолжил я. В демонстрационном варианте она была представлена такой, какой сейчас вы её можете видеть: сзади обложка была размером с газету, а спереди – в половину газетного листа. – Я недавно вернулся из Парижа, – говорю, – в подобных обложках издания, как правило, бесплатные, рекламные, валяются в мусорных баках.
– Мы ведь живём с рекламы, – ответил Артём. – А рекламодатели требуют цвета. С одной стороны обложки я возьму… (он назвал очень крупную сумму).
– А передняя торчащая половинка для чего?
– На её внутренней стороне я тоже помещу рекламу. И вам будет от этого хорошо, и мне.
Но никому хорошо от этого не стало. Задняя обложка действительно нередко рекламировала книги «Просвещения» или «Дрофы». Но другая её сторона и та внутренняя, укороченная, содержали информацию о нашем издательском доме или о нашем университете. Ясно было, что Артём просчитался.
Признавать собственных ошибок он не любил. А вот взыскивать за них с других обожал.
Конечно, от изменения формата мы все потеряли в тираже. Но моя газета потеряла не только из-за этого.
Сколько лет мы вели войну с Министерством образования, которое усиленно пропихивало в школы так называемый единый государственный экзамен (ЕГЭ) – тестовые испытания детей. На всех совещаниях учителей-словесников одна и та же резолюция принималась либо единогласно, либо подавляющим большинством: тестовая проверка по литературе погубит этот школьный предмет. Спрашивать ребёнка: «Кто главный герой «Отцов и детей»?», предоставляя ему выбирать из вариантов ответов: «а) Евгений Онегин, б) Митрофан Простаков, в) Евгений Базаров», – никому не нужное издевательство и над классиком, и над его книгой, и над её читателями.
Я выступал по этому поводу не только у себя в газете. Писал и в «Учительскую газету», и в журнал «Народное образование», и в сетевой «Русский журнал». Больше того. Написал письмо, которые согласились подписать председатель русского Пен-клуба Андрей Битов и его генеральный секретарь Александр Ткаченко (его напечатала «Новая газета»). Я прочитал недавно о том, что вокруг ЕГЭ велись якобы яростные споры. Свидетельствую: никаких споров не было. Не было спорящих сторон, а были противоборствующие: педагогическая общественность (учительская масса) против чиновников от образования (представителей власти). И хотя абсолютное большинство боролось с ничтожным меньшинством, победа меньшинства была предопределена правилом, которое установил ранний путинский режим: общественности предоставлена широкая свобода высказываться, а властям – делать своё дело, не обращая на эти высказывания никакого внимания.
Особенно настойчив и назойлив был заместитель министра Виктор Александрович Болотов. Сейчас он возглавляет Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Этот железной рукой вёл школу к ЕГЭ от совещания к совещанию, то есть от победы к победе. Потому что на каждом совещании цифры школ-сторонников ЕГЭ, которые называли министры российских регионов, возрастали многократно. До нынешнего года сопротивлялась Москва. Но и она в этом году капитулировала. Из всех вузов, не согласных зачислять абитуриентов в студенты по результатам ЕГЭ, остался один МГУ. Но недаром пошли из Кремля слухи о готовящемся законе: кроме ректора в вузе будет ещё и президент, причём кандидатуры того и другого вузовский персонал будет избирать из тех, кого ему предложат чиновники от образования – федеральные или местные. Из своей среды без согласования с начальством выбрать ректора (и для чего-то ещё президента) у вузовского коллектива не получится! Этого нет нигде в мире? Ну так будет в России – в стране управляемой демократии! (И Российскую академию наук собираются захапать – подчинить её правительству, тому же Министерству образования и науки, лишить академиков права самим решать, кто будет её президентом, – за них это сделает ни больше ни меньше, как сам президент России!)
Нет, пока что какие-то предметы разрешено сдавать в формате и ЕГЭ, и обычных экзаменов. Но историю уже нет. Болотов плотно закрыл уши, чтобы не слышать возмущённого рёва, и самолично подписал приказ: экзамен по истории отныне может быть только в форме тестов.
«Где происходила встреча наших и союзных войск? – 1) на Калке, 2) на Березине, 3) на Эльбе».
Бред? Таких тестов не может быть? Ну почему же! Предложили ведь в позапрошлом, 2004 году, на экзамене по истории такой проверочный текст: «Запрет генетики в СССР был связан с именем академика: 1) Т. Д. Лысенко; 2) А. Д. Сахарова; 3) Л. Д. Ландау; 4) И. В. Курчатова». Чем он лучше или хуже того, который я придумал? Правда, сейчас больше уповают на какие-нибудь мини-изложения, мини-исследования.
Почему не выдержал Болотов и стукнул кулаком по столу по поводу истории? Сам он объясняет свои действия заботой об «историческом мышлении» ребёнка: «Для меня главное в преподавании истории – научить размышлять»: «Например, что было бы, если б в Октябрьской революции победили не большевики, а левые эсеры? Или Октябрьская революция не состоялась, а взяли бы власть кадеты?» Призывает Болотов преподавателей истории «в старшей школе учить рассуждать: давайте посмотрим на это событие с разных позиций, представим, что было бы без монгольского нашествия. Как развивались бы события?»
«Действительно, – иронизирует по этому поводу Анатолий Шикман, учитель московской гимназии № 45, – что было бы, если бы Виктор Александрович Болотов родился не мальчиком, а девочкой, если бы он занимался не математикой, а вышиванием, если бы он в годы оны не вступил в КПСС, а затем, в другие годы, из неё не вышел, смог ли он сделать блистательную административную карьеру?»
Ибо «даже толковому школьнику известно, – пишет дальше в «Новой газете» (10.08–13.08.2006 г.) Анатолий Шикман, – что история ценна именно тем, что позволяет понять, каким образом мы стали такими, какие есть, а не фантазиями на будто бы историческом материале, ценность которых лишь в том, что их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть».
Для того я и позволил себе эту позднюю вставку, что она наглядно показывает удручающий непрофессионализм тех, кто стоит у руля российского образования. Каких, в частности, профессиональных суждений можно ждать от математика, управляющего историей?
На самом же деле Болотов стукнул по столу, потому что прежде него по своему столу стукнул кулаком кремлёвский сановник. Помните вельможный гнев кого-то из небожителей, прочитавшего новый учебник истории для школы: «Кого мы воспитываем? Что это ещё за пораженчество (это по поводу реальных фактов)? Почему в учебнике отсутствует патриотический пафос (это по поводу советских легенд о героизме)»?
Да и Владимир Владимирович Путин, как сам недавно сказал журналистам, озаботился историей, занялся самообразованием: на юридическом и в чекистских школах нет в программах Карамзина с его «Историей государства Российского». Вот и читает, нет – слушает он по пути на работу карамзинскую историю, записанную на диске, – аудиокнигу.
Ох, как ошалели от такой информации чиновники от образования: «Гениально! Аудиокнига! Вот что нужно школе!» И пошли штамповать русскую классику на дисках. А что? Очень удобно! Сидит ребёнок в метро, покачивается, а из наушников ему: «Она любила Ричардсона / Не потому, чтобы прочла…» Огромная, говорят, от этого польза: всё же не Валерия какая-нибудь и не Дима Билан – Пушкин!»
Вот и Александр Исаевич Солженицын так воодушевился телесериалом по «Идиоту» Достоевского, что дал режиссёру и исполнителю главной роли премию своего имени (кстати, кого вы знаете из тех, кто при жизни учредил бы премию своего имени? Ну да, Сталина. Наверное, Туркменбаши. А ещё кого?). Понять Александра Исаевича можно: не «Менты» на экране и не «Дом-2» с Ксенией Собчак, а Достоевский!
Понять-то можно, да радоваться этому не хочется. Ездил я, и не один раз, на всероссийские олимпиады по литературе. Читал работы лауреатов. И за голову хватался: инфинитив, как правило, без мягкого знака, и наоборот – глаголы 3 лица совершенного времени с мягким; разницы между местоимением и существительным с предлогом лауреаты не ощущают – в одном месте пишут: «Поехал ей на встречу», в другом: «Навстречу с ним она прийти не захотела». «Что же это такое? – спрашиваю у постоянного председателя жюри Льва Всеволодовича Тодорова. – Как же можно с такой грамотностью объявлять человека лауреатом?» «А мы, – слышу, – олимпиада по литературе, а не по русскому языку. Это там оценивают грамотность. А мы – литературные знания, эрудицию».
С легендарных времён первых гимназий в России ученики писали сочинения, которые их учителя оценивали двумя отметками – за грамотность и за литературные знания. Так и в моём школьном детстве было, и в школьном детстве моего сына. «Тема-то раскрыта, – объясняли, – молодец. За это тебе пятёрка. Но вот забыл поставить запятую после вводного слова, потому по русскому и четвёрка». И ничего против этого не возразишь: обязательно надо отделять запятой вводное…
* * *
Сейчас низкая грамотность людей стала настолько удручающей, что создали специальный совет по русскому языку. Его то ли почётным, то ли просто председателем стала жена президента. Вот, скорее всего, по рекомендации этого совета и разделили русский язык и литературу. Объявили русский язык государственным предметом. А это значит, что во всех вузах, независимо от их профиля, будут приёмные экзамены по русскому языку, а не по литературе, как прежде.
В моё время изучение русского заканчивалось в неполной средней школе. И в семидесятые – в школьные годы сына – тоже. Да и несколько лет назад ещё так было. А нынче литературу потеснили, можно даже сказать: вытеснили. Или если уж совсем точно – урезали. Постепенно, внедряя ЕГЭ, перераспределяли часы на изучение того или иного предмета. Оставили литературе жалкие крохи времени. А теперь и от этой кучки отгребли. На русский язык, который появился в старших классах.
Для чего он там нужен? Для повторения пройденного в младших классах? Ведь это всё равно, что старшеклассников вернуть к арифметике, урезая часы, допустим, на тригонометрию.
Министерство никаким разумным доводам не внимает. Делает своё дело – уничтожает школьный предмет, ни на кого не оглядываясь.
Не бескорыстно, конечно. Недаром поначалу горячо взялись заменять выпускное сочинение изложением. «Надоели претензии родителей к проверяющим сочинения учителям, – объясняла Лидия Макаровна Рыбченкова, заместитель начальника Департамента образования Москвы. – Слишком порой субъективны их оценки. И основания для субъективности сочинения дают!»
Дважды я писал – у себя в газете и в сетевом «Русском Журнале» – об этой горячей стороннице изложения. Она добилась, чтобы изложение писали на выпуске из неполной средней школы – девятиклассники. И узаконила учебное пособие, из которого следует учителям брать материалы для экзамена. Представьте себе, каким тиражом оно напечатано и постоянно допечатывается: ведь оно обязательно для всей России! У этого пособия два автора. Один – заведующая редакцией издательства «Дрофа», выпустившего пособие. Второй… Рыбченкова, ставшая не так давно начальником отдела Департамента общего и дошкольного образования Минобразования России!
Некогда очень крупный чиновник министерства рассказывал мне, почему Болотов и компания уничтожают национальную нашу систему образования с помощью этого пресловутого ЕГЭ. Оказывается, тестовая экзаменационная система есть во многих странах Запада. Наши документы, подтверждающие полученные знания, – аттестаты, дипломы, там, в этих странах, как бы не полноценны: нужно проходить какую-то дополнительную проверку. Существует Международный банк реконструкции и развития (если я правильно его называю), который даёт деньги, и немалые, на нивелировку, на выравнивание. Услугами этого банка пользуются обычно слаборазвитые страны Азии или Африки, у которых, как правило, своих сложившихся форм управления хозяйством или своей системы образования нет. Банк предложил очень хорошие деньги и нам. Возвращают их в том случае, если банк обнаружит, что реформы проведены не были.
«Мне редкостно везло в жизни, – признавался академик Борис Викторович Раушенбах. – Повезло и в науке, и в преподавательской деятельности. Тем более в России, где система образования много выше, чем в других странах, на несколько голов выше…» Основоположник нового направления в космических исследованиях, работавший с Королёвым и Келдышем, профессор знаменитого Физтеха в подмосковном Долгопрудном, он читал там лекции не только по своей специальности, но и курс под названием «Иконы», написал десятки специальных книг по космическим направлениям в физике и книги о Троице, о теории художественной перспективы. Так что его слова о том, что в России система образования «на несколько голов выше», чем в других странах, – это не похвальба кулика своим болотом. Раушенбах знает, о чём говорит:
«В XX веке появилось много «умных» людей, – я, разумеется, не считаю их умными, поэтому беру это слово в кавычки, – которые любили разглагольствовать, проповедуя идею свободного, без принуждения, развития ребёнка. В результате эта тенденция привела к резкому ухудшению образования на Западе. Ребёнок не будет учить что-то сам, зачем ему это надо, тем более если перед ним сложные, недоступные его уму вещи! Идея современной западной педагогики о естественном ненасильственном пути, может быть, и прекрасна, но достигает мизерного результата. Таково моё впечатление, основанное на фактах.
В своё время моя внучка училась в Германии, и мне было интересно узнавать от неё, что же происходит в немецкой школе, в нормальном учебном заведении, где она занималась в течение целого месяца. Поскольку внучка свободно владеет языком, ей оказалось нетрудно вписаться в процесс, и я имел возможность наблюдать его со стороны и изнутри. Оказалось, что более убогого учреждения, чем немецкая школа, представить себе невозможно, внучка была в ужасе, говорила, что одноклассники – тупицы, ничего не знают! И учитель считал, что она несравнимо переросла тот класс, в который попала соответственно своему возрасту, и говорил ей: «Тебе надо бы перейти в старший класс, там могут быть ученики на твоём уровне»».
А вот взгляд Раушенбаха на сегодняшнюю систему образования в России, увы, уже устарел: «Должен отметить, что система образования XIX века сохранилась у нас то ли по недосмотру наших начальников, то ли ещё по какой причине, но, к счастью, сохранилась! И не дай Бог, какой-нибудь начальник очнётся и примется перестраивать её на американский лад, тем более что в начальники, как уже неоднократно говорилось, идут в основном пустозвоны».
Очнулись, Борис Викторович! И оказались не просто пустозвонами, но жлобами! Деньги у банка хапнули. И началось выкручивание рук и затыкание ртов. Особенно это касалось учителей литературы. Она ведь меньше всего поддаётся тестированию, которое может обнаружить только то, что человек читал книгу. Но что он в ней вычитал, обнаружить не в состоянии. Отменив сочинение, корыстолюбивые чиновники отменили и главную миссию учителя, ради которой он пришёл в школу: приучить ученика любить книгу, вникать в её текст, в его особенности. А кроме того сочинение давало полное представление о грамотности ребёнка.
Какая, однако, трогательная забота о наших согражданах, призванных властями встать в одну шеренгу с Западом. Ни в чём другом власти своим гражданам сравняться с западными не позволяют: как можно? – у России свой особый путь, Запад ей не указ! А разрушить традиционную систему образования – да ради Бога: платите только денежки!
Оказывается, что и государство платить собирается! Ради такой сногсшибательной новости делаю в эту главу вставку – выписываю из «Новой газеты» (7.08—9.08.2006 г.) информацию о том, как будет Министерство образования раздавать регионам субсидии из федерального бюджета: «Ещё в июле, на первых порах обсуждения субсидий в Министерстве образования, стало ясно, что деньги будут давать тем регионам, которые проводят в свет инновационную политику министерства. Тем же, кто до сих пор упрямится, придётся стать более сговорчивыми. Или жить на собственные средства».
Как говорили ещё со сталинских времён: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим!»
Аудиокниги или видеокниги (телесериалы) – следствие всё того же эксперимента, который отучает людей читать. А ведь, как писал Пушкин, «чтение – вот лучшее учение». И действительно лучшее: ещё до того, как разъяснят ребёнку правила правописания, он, приученный читать, непременно зафиксирует, что то-то и то-то, оказывается, пишется так-то и так-то. В этом и состоит суть так называемой «врождённой грамотности». А без чтения заучивание грамматических правил превращается в скучнейшую зубрёжку, которой не излечишь недуга, даже если введёшь уроки русского языка во всех вузах на всех курсах!
Всё это я ещё и к тому, что унижение литературы в школе не могло не сказаться и на тираже моей «Литературы», которая, впрочем, мужественно держалась сперва возле отметки 15 000, потом возле 10.
Артём и его команда вникать в такие тонкости не хотели. «Вот Марк Сартан, – говорил мне Артём. – Он по профессии не психолог. Однако видите, каким тиражом выходит его «Школьный психолог»?» «Но много ли у него конкурентов? – спрашивал я. – Много ли выходит изданий по школьной психологии? А ведь это новация. Прежде в школе психологами не интересовались».
– Ну почему же нет конкурентов, – говорил мне позже Марк Сартан, назначенный Артёмом завом рекламного отдела, главным редактором газеты «Искусство» и куратором брошюр того блока газет, куда попала наша. – В Питере было издание по школьной психологии. – А по поводу проблем с литературой, низведённой Министерством до уровня рисования или пения, сказал: – Думаете, только у вас проблемы? Все жалуются: и химики, и биологи. Однако, вот… – и он демонстрировал на своём ноутбуке графики, показывающие, что химия за последние годы потеряла в тираже меньше, биология – тоже, а вот литература! – Вот так, Геннадий Григорьевич! – сожалеюще говорил Марк.
Марк потому и наполучал столько должностей, что входил в артёмовскую административную команду. Человеком он был неплохим и не то что не ощущал своей некомпетентности, но прикрывал её некой надменностью в разговоре с другими. Главной его козырной картой был, конечно, тираж газеты «Школьный психолог», которую он передал другому, чтобы возглавить «Искусство» взамен единственного, кроме меня, остававшегося в редакции профессионального газетчика Нелли Измаиловой. Она много лет проработала в «Известиях» и была знакома со всеми деятелями культуры в России, которых легко привлекала к сотрудничеству. «Искусство» было красивой газетой: она (увы, только она!) печаталась в цвете. Учителей нового предмета МХК (мировой художественной культуры) в школе намного меньше, чем учителей других специальностей. Поэтому 3000 (тираж «Искусства») удивлять не должны. Тем не менее, именно потому, что предмет этот новый, его преподаватели должны были быть рады любому помогающему им материалу. Нелли Измаилова это понимала. А вот сменивший её Марк Сартан вряд ли.
Помню, прислали мне из провинции объёмную работу, посвящённую живописным портретам русских писателей. У каждого живописца – своя концепция, это понятно. Но провинциальный автор весьма интересно показывал, как по-разному видят живописцы одного и того же писателя, и убедительно доказывал, что по-своему прав каждый портретист, ибо опирается на определённое произведение автора, на определённую его черту. По своим размерам работа тянула на брошюру, и я предложил её Марку Сартану, убеждённый, что он с радостью ухватится за такой материал. Увы, он объяснил мне, что не видит смысла в том, чтобы образовывать учителей МХК (а через них и учеников). Потому и ушла Нелли Измаилова сразу и со всей своей командой, что не согласилась с концепцией Артёма, которую он развил на очередном совещании главных редакторов: побольше методики, а в идеале – одна только методика!
– Вот и тебе стоит подать заявление об уходе, – сказала мне жена.
– Подожду, – ответил я. – Может, как-нибудь выкручусь! Зря я к ней тогда не прислушался! Надо было уйти! Что со всей командой не получится, это я понимал, хорошо зная обоих Сергеев – Дмитренко и Волкова. Захотят остаться – ради Бога!
И всё-таки я сообщил Дмитренко, что подумываю об уходе. «Мы уйдём вместе, Геннадий Григорьевич!» – горячо сказал он. А через некоторое время получаю послание от Соболева: что происходит в редакции? Дмитренко написал, что, дескать, могут быть какие-то кадровые изменения и что он, Дмитренко, останется в редакции только в том случае, если главным назначат его, Льва Иосифовича Соболева.
Что фамилия Соболева Артёму и в голову не придёт, а если и придёт, то Лев Иосифович никогда не согласится заниматься не своим делом, Дмитренко понимал. Но, как мне стало ясно, заметался в поисках вариантов.
Понял я, что рассчитывает он стать главным редактором в случае моего ухода. Его мало смущало (скорее всего, он этого и не ощущал) отсутствие навыков газетчика: так он совершенно всерьёз предлагал мне упразднить только что открытую нами новую рубрику: «Ну какая разница? Читатели этого даже не заметят!» Редактировал он материалы по-школярски, не принимая в расчёт индивидуальности авторского стиля. Но, как прежде Маша Сетюкова, занимался техническими вопросами, избавляя меня от постоянных контактов с корректорами, с наборщицей, с верстальщицей, – так что я недаром называл его в выходных данных не просто своим заместителем, но ещё и ответственным секретарём.
С ним я чувствовал себя намного уютней, чем с Сетюковой, хотя, в отличие от неё, за Серёжей следовало присматривать. Не прочитаешь календарь, развернёшь газету – и ахнешь: восторженная заметка о Паламарчуке (помните этого православного националиста?), панегирик Михаилу Лобанову, пострадавшему якобы за правду: напечатал в журнале «Волга» в 1982 году статью, за которую сняли главного редактора журнала, а самого Лобанова чуть не выгнали из Литинститута. И ни звука о взглядах Лобанова, который был одним из активнейших русских националистов, что и выразила его статья (а к националистам в советском руководстве далеко не все относились благосклонно). Ни слова о том, что Лобанов на голубом глазу утверждал, что не «Новый мир» Твардовского подрывал коммунистический режим, а нацистская «Молодая гвардия» Никонова, которого именно за нацизм и сняли, но влиятельные приятели из ЦК перевели его главным редактором в журнал «Вокруг света». А почти ежегодное упоминание в календаре Пименова, бывшего борца с космополитами в театральной среде при Сталине, позже полуграмотного ректора Литинститута!
Для чего Дмитренко нужны были эти ставшие ритуальными упоминания? Он рассказывал мне, что многим обязан Пименову, тот взял его, окончившего Литинститут, в аспирантуру, зачислил после неё в штат преподавателем, а главное – пробил ему, жившему в Орджоникидзе (теперь Владикавказ), московскую прописку на площадь строящегося кооператива в Конькове.
Понимаю его благодарность этому человеку. Ну так и звони в день его рождения или смерти его родственникам: давай им понять, что не забыл добра. А читатели «Литературы» причём?
Особенно возмутила меня его заметка о Сталине, появившаяся накануне номера, полностью посвящённого 50-летию со дня смерти узурпатора. «Уникальный номер, – сказал мой старший товарищ Лазарь Лазарев, прочитав его. – Во всех газетах читаю: да, диктатор, да, людоед, но… А у тебя – никаких " но»».
Ах, если бы прочитал Лазарь календарь предыдущего номера: Сталин, конечно, диктатор, но разве его можно сравнить с Лениным, который…
– Понимаете ли вы, – спросил я Дмитренко, – что обелили Сталина: диктатор, дескать, но не чета Ленину?
Перечить начальству Серёжа не любил:
– Учту, Геннадий Григорьевич, на будущее.
Нет, иногда он взрывался, мог накричать на меня, но по пустяковым поводам, когда понимал, что скандал ничем ему не грозит.
В жуткую и утомительную борьбу с ним вылились открытые нами рубрики «Книжная полка» и «Стенд». Сколько я вылавливал и снимал его рецензий на книги, не имеющие никакого отношения к нашей проблематике. Он писал их сам, заказывал друзьям, делал обозрения альманахов или журналов, которые вряд ли читают даже московские так называемые «продвинутые» учителя и уж точно не читают учителя российской глубинки.
– Мы ведь так можем потерять последних подписчиков, – говорил я.
Он соглашался, божился, что больше этого в газете не будет. Но стоило мне только полностью положиться на него, всё повторялось.
Зачем я доверялся Дмитренко? Это не совсем так. Я ему не слишком доверялся.
Особенно после того, как, в очередной раз захотев подать заявление об уходе и сказав ему об этом, я поддался уговорам друзей не уходить, чтобы не оставлять газету неизвестно кому, о чём я тоже сказал Сергею.
Реакция его была яростной:
– А вот я, – сказал он, – не раздумывая, подал заявление об уходе из Литинститута.
– Не раздумывая? – удивился я. – Для чего же тогда нужно было идти на заседание кафедры?
Новый ректор Литинститута Есин очищал, так сказать, его ряды. Заведовать кафедрой русской литературы XIX века, где работал Дмитренко, он поставил человека мелочного и злобного – Юрия Минералова, который (сужу по опубликованному «Дневнику ректора») Есина обожал: хвалил в лицо, посвящал ему стихи и пр. А остальных не терпел. В том числе и Дмитренко.
На заседание кафедры, где Дмитренко должен был отчитаться о своей работе, явился Есин со свеженазначенным проректором Скворцовым, о котором вы можете прочитать в дневнике К. И. Чуковского от 26 июня 1968 года. Корней Иванович пишет там о Н. И. Ильиной, которая ему «рассказывала о гнусном поведении Скворцова». А Наталья Иосифовна Ильина в книге «Дороги и судьбы» написала, что «бездоказательная и демагогическая» рецензия Скворцова на повесть И. Грековой «На испытаниях», напечатанная в научном журнале, настолько возмутила Чуковского, что тот явился в Институт русского языка, где Скворцов работал, на обсуждение этого учёного журнала и насмешливо отхлестал рецензента Грековой, поразив и смутив его. «В те годы, – заканчивает Ильина, – смутить С.(кворцова) ещё было можно». Понимай, что в те годы, когда Есин взял Скворцова проректором, того уже смутить ничем было нельзя! Да мне и Людмила Александровна Гончар, главный редактор газеты «Русский язык», коллега моя по «Первому сентябрю», неоднократно подтверждала: ничем не смутишь! Лев Иванович Скворцов сейчас бессменный председатель Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, и Гончар хорошо изучила его пристрастия и повадки.
Словом, в присутствии высокого начальства Дмитренко подвергся жесточайшей критике, его отчёт признали провальным, после чего тот и подал заявление об уходе.
Потом-то Есин даже жалел, что сгоряча его прогнал, звал назад.
Нынешнее его настроение от меня не укрылось. Ясно было, что он ждёт моего заявления об уходе. И понятно, почему ждёт.
Так что не так уж я ему и доверялся.
Отдал бы я прежде Дмитренко на редактуру хоть один материал, зная, что из этого выйдет? Нет, конечно. А здесь стала наваливаться на меня какая-то апатия. Я приносил номер газеты домой, читал его от корки до корки и поражался, сколько в нём напечатано бредятины! Не из-за Дмитренко. А из-за того облика, который неуклонно придавали газете Артём и его команда.
Только однажды Артём разошёлся со своими соратниками – когда объявил, что газеты будут выходить не четыре, а два раза в месяц. Он так и сказал об этом на совещании главных редакторов: «Здесь я остался в полном одиночестве. Меня никто не поддержал. Но думаю, что я прав!»
А через некоторое время ещё раз обрадовал подписчиков: сократил объём газет. Вместо шестидесяти четырёх они стали выходить на сорока восьми страницах. Удивительно ли, что тираж продолжал падать?
Однако удивляет другое: у «Литературы» он оставался по-прежнему ощутимо выше, чем у «Русского языка». Ведь русский стал государственным предметом: не спешили, стало быть, читатели изменять своим пристрастиям.
Но подобные резоны Артём во внимание не принимал. Его команда взяла какой-то из последних девяностых годов за точку отсчёта: был тогда у газеты такой-то тираж, вот и будем исходить из него, считая, сколько процентов вы потеряли или приобрели.
Симон Львович тоже вёл дело жёсткой рукой. Но он благоволил к людям, заботился о них. Мы жили при галопирующей инфляции в стране и почти её не ощущали: Сима следил за тем, чтобы наши зарплаты если и не опережали инфляцию, то хотя бы поспевали за ней.
После дефолта Артём поднял наши оклады. Не слишком, конечно, высоко, но всё-таки. А потом как бы забыл о нас. На инфляцию он не обращал никакого внимания, делал вид, что не понимает, что деньги, которые он платит сотрудникам, теряют в своём весе.
Мало того. Он ещё и уменьшил гонорарный фонд редакции. Симон Львович с радостью выплачивал солидные гонорары, гордился, что мог их выплачивать. При Артёме мы платили ничуть не больше, чем «Учительская газета», меньше журнала «Литература в школе» и даже меньше такого малотиражного «толстяка», как «Знамя», которое сбивалось с ног в поисках спонсора, а найдя его, авторам платило достойно.
Но себя Артём ни в чём не ограничивал. А главное, не считал нужным скрывать свою любовь к комфорту и к роскоши перед сотрудниками. Полная противоположность Симону Львовичу!
В 2002 году фирме исполнилось десять лет. Артём объявил, что десятилетний стаж сотрудника на фирме отныне считается ветеранским и что ветераны получат прибавку к окладу.
– Вот увидите, – возбуждённо говорила мне ныне, увы, покойная сестра Симона Львовича Иосефа Львовна, главный редактор «Математики», – Артём установит надбавку в тысячу долларов.
– Вы – романтик, Иосефа Львовна, – отвечал я. – Хорошо, если прибавит тысячу рублей.
Тысячу рублей он и прибавил.
Он постоянно жаловался на отсутствие денег на фирме и обвинял в этом нас, главных редакторов газет.
– И вы ему верили? – удивился один из хорошо знающих издательский бизнес человек, которому я это рассказывал, когда ушёл из газеты. – Только на одном университете «Первое сентября» он зарабатывает уйму денег. Это такой же прибыльный проект, каким был в своё время проект предметных приложений.
– Да я ему и не верил, – ответил я. – Я написал Артёму, что газеты, такие как наши, как правило, убыточны.
Да, я написал Артёму письмо. После очередного совещания главных редакторов, где он объявил о том, что зарплатный фонд каждой газеты будет привязан к тиражу. Каждый потерянный его процент автоматически уменьшает фонд заработной платы твоей газеты. Но заставило написать меня письмо не это.
– Вы висите гирями у меня на ногах, – говорил он нам на том совещании. – В конце концов, я здесь хозяин и я решил…
Его «хозяин» меня взбесило. Далеко же он ушёл в таком осознании нашего сотрудничества от своего отца.
– Да, – сокрушённо написал мне мой старший товарищ, бывший коллега по «Литературной газете» Павел Волин, с которым мы переписываемся по электронной почте, – просто не верится. Я знал Лёву и Симу – оба были добры и интеллигентны. Видимо, на Артёме природа решила отдохнуть.
Лёва – это дед Артёма, отец Симы, Лев Соловейчик, работавший ещё в легендарной «Красной Звезде» Давида Ортенберга.
Не только Павел Волин так относился к покойным Соловейчикам. Мне и Лазарь Лазарев, знавший их, говорил, что Артём ничего не имеет общего с отцом и дедом.
Письмо ему я писал, тщательно обдумывая, редактируя фразы, стараясь, чтобы оно не выглядело обвинительным заключением. Я делился своим видением политики Издательского дома, который, как я уже говорил, бездействовал, хирел на глазах. «Думаю, – писал я, – что если б главных редакторов призвали помочь Издательскому дому в выпуске занимательных книг по разным предметам, его финансовое положение было бы иным». Мне хотелось донести до Артёма мысль о необходимости доверять профессионализму и профессионалам, уважать их. «Моё отношение к Вам и Вашей семье как к родственникам дорогого мне Симона Львовича не изменится и в случае, если Вы решите со мной расстаться, – заканчивал я. – В таком случае, буду рад, если моё письмо пригодится Вам в осуществлении издательской политики».
Но довести письмо до кондиции не успел. Пришла секретарша Артёма и сказала, что он хотел бы со мной встретиться.
Пришлось выводить письмо таким, каким оно лежало в моём компьютере. Войдя к Артёму, я протянул ему письмо и попросил: «Сперва прочтите это».
Он читал медленно и внимательно. А, закончив, сказал:
– И всё-таки это не меняет моего решения избавиться от главных редакторов газет с самым большим процентом падения тиража. Лисичкина («Математика») мы уже уволили. Остаётесь вы и «Начальная школа».
Главным редактором «Начальной школы» была его жена Маша, очень симпатичный человек. Неужели он и её уволит?
Забегая вперёд, скажу: нет, не уволил! Наверное, передо мной и перед Виктором Тимофеевичем Лисичкиным, – а он мне рассказывал о таком же его разговоре с Артёмом, – тот играл в объективность.
– Знаете, – сказал Артём мне оживлённо, – ведь мы ещё даже не определились с кандидатурой главного редактора «Литературы».
Мы назначим туда менеджера, шеф-редактора. Мне пришлось долго уговаривать Марка Сартана, чтобы он согласился.
Я вспомнил, как совсем ещё недавно давал читать Марку свою газету с напечатанной в ней статьёй Андрея Битова «Пушкин и Чехов». Сокращённый вариант этой статьи я прочитал в «Новой газете», позвонил Андрею и с очень большим трудом уговорил его отдать мне полный вариант. Успех этой статьи у читателей превзошёл все мои ожидания. Сколько звонков, сколько поздравлений! Как горячо благодарили меня за Битова, рассказывали, что многие эту статью ксерокопировали. Но Марк такую публикацию воспринял холодно:
– Да, продвинутые учителя это оценят. Но много ли их у вас среди подписчиков? А для остальных такая статья бесполезна.
Я пожал плечами в ответ на сообщение Артёма, что ему пришлось долго уговаривать Марка возглавить «Литературу».
– Понятно, что долго, – сказал я. – Ведь он не специалист в этой области.
– Он и в психологии не был специалистом, – возразил мне Артём. – Однако…
Начиналась сказка про белого бычка. Дослушивать её у меня не было охоты. Я вежливо откланялся.
Нет, у меня всё-таки изменилось отношение к Артёму. Именно из-за его славной, так сказать, династической фамилии, которую он замарал.
Симон Львович делал великое дело, образовывал учителей, помогал им противостоять мощному ведомственному напору, давал в руки пособия, которые облегчали работу в классе.
Сына ничего, кроме извлечения из всего этого прибыли, не интересовало. Он не продолжил дело отца. Он его губил.
«Какую газету испоганили!» – сказал мне недавно с горечью Сергей Бочаров. И узнав от меня, что Дмитренко пытается что-то делать: вот, только что провел с благословения Марка совещание, на котором присутствовали уважаемые нами авторы, с нажимом спросил: «Кому ты оставил газету?»
Кому? Хозяину! Хозяйчику!
Что старики аскают по вокзалам
Я не силён в нынешнем сленге. Спросил у своего лингвиста-сына, что означает слово «аскают». Он сказал, что это неологизм от английского ask «просить, спрашивать». То есть «аскают» – «попрошайничают».
Я сел за этот «Комментарий» чуть ли не в тот же день, когда закончил новую свою книгу на пушкинскую тему: «Путеводитель по «Евгению Онегину»». Сколько галлицизмов находят комментаторы в этом романе в стихах! Не удивительно: тогда образованные люди говорили и читали в основном по-французски. Сейчас от программистов до фирмачей требуется прежде всего знание английского. «Аскают», стало быть, примета нынешнего времени.
Побирающихся, просящих подаяния, я много видел в послевоенном детстве. Юрий Нагибин ещё при советской власти рассказал о том, как года через три-четыре после войны калеки исчезли из Москвы. Их убрали, свезли в Соловки: с глаз долой, из сердца вон! Я хорошо помню этих калек. Безногих – на дощечках с колёсиками: возвышался над землёй только торс, который золотился и серебрился от фронтовых наград. Слепые, одноногие на костылях, безрукие, с изуродованными лицами – и неизменно все с медалями и орденами. Они располагались у Даниловского рынка, у входа в магазин на углу Шаболовки и нашего Хавско-Шаболовского переулка (теперь это улица Лестева) и с другой стороны этого магазина – у чёрного входа, где сразу после отмены карточек в определённые дни выстраивались огромные очереди за мукой. Позвякивающие своими наградами калеки-старики (а в семь-восемь лет стариками кажутся очень многие взрослые) сидели и стояли у Донской (действующей) церкви, располагались по периметру полукруглого здания «поросёнка» – как звали этот магазин на Тульской местные жители. Встречал я нищих и у входа на оба кладбища, куда мы часто ходили с ребятами, – Даниловское и Донское.
А уж в глухой деревне Смоленской области, где я жил в семье тёти – сестры отца, нищие часто ходили по избам, рады были чему угодно – куску хлеба или кружке кваса. Подавали им неохотно: крестьяне (колхозники) голодали сами; с большой опаской открывали им двери. Открывали, как правило, с винтовкой или с пистолетом в руках: вокруг глухой лес. «Не волков, а людей надо бояться, когда идёшь в лес», – назидательно говорили мне соседи моих родственников.
Дядя Гриша, муж тётки, был человеком могучего телосложения и богатырской силы. Он никого не боялся, впускал нищего или нищенку в дом, кормил, иногда давал денег. Но нас, меня и его детей, моих двоюродных братьев, без оружия в лес не пускал. А были у него в доме и немецкие, и советские револьверы из богатого арсенала, оставленного войной в смоленских лесах, и даже два дамских браунинга. Дядя Гриша стрелял навскидку и нас учил, но у меня получалось плохо. Метко стрелять я так и не выучился, хотя, отправляясь за грибами или за малиной, клал в карман по настоянию взрослых дамский браунинг.
Кстати, об арсенале. Несколько ребят моего возраста или чуть постарше подорвались на минах. Напротив нашего дома стояла полуразрушенная церковь, за которой тянулось кладбище – единственное на довольно большую округу. Сюда приезжали хоронить из дальних деревень. Видел я и похороны моих ровесников, погибших от мин. Однажды привезли шесть гробов сразу: на лесной поляне развели костёр, пекли картошку, сворованную на колхозном поле, подбрасывали в костёр наломанные ветки и хворост и не разглядели в охапке, которую швырнули в огонь, гранату – не все погибли, ещё несколько ребят остались покалеченными на всю жизнь.
Нищих неохотно впускали в избы ещё и потому что подозревали в них наводчиков, подосланных бандитами, о жестокости которых рассказывали легенды: ограбят, убьют, изрубят топором, сожгут в собственном доме. Тем более что на защиту от них не надеялись. Хотя сельсовет находился именно в нашей деревне, точнее в селе (церковь-то, хоть и разрушенная, но имелась) Коскине, хотя одну сельсоветовскую комнатку занимал участковый дядя Витя, что он мог один? Отделение милиции находилось в Касне – в посёлке, расположенном в пятнадцати километрах от нас при станции, откуда люди ездили на паровиках в Вязьму. Но дозвониться по телефону из Коскина в Касню было очень трудно: дядя Витя часами безуспешно накручивал ручку телефонного аппарата. В хорошую погоду он ещё мог легко проехать туда по бездорожью на своём мотоцикле, а в ненастье запрягали лошадь, и она еле тащилась по брюхо в грязи.
Так что случись чего, кто бы приехал к нам из Касни? А дядивитин пистолет никого не ободрял: все были вооружены не хуже.
Помню подписку на очередной заём. Вместе с председателем колхоза мы, несколько его добровольных помощников, ходили по избам. И не только небольшого нашего Коскина, но и огромной – домов на сто – деревни в двух километрах от нас. Нищета была свистящей: кислый квас в сенях в кадке, на которой стояла кружка. Пустые крапивные щи на столе, если кто-то, не обращая на нас внимания, продолжал есть («исть», как говорили все на местном диалекте). Латанные-перелатанные простыни на верёвках во дворе и самодельные, сшитые из разных лоскутов одеяла. Ходили по двору куры, но яйца колхозники, как правило, везли в Касню на продажу. Некоторые держали корову, козу или свинью. Мясо возили на рынок в Вязьму. А молоко продавали здесь же, своим. Часть выручки уходило на налог за скотину. Избы были покосившиеся, а внутри – закопчённые. Встречали нас проклятиями, криками и воем женщин и детей. Мужики за топоры хватались: шутка ли, каждый колхозник должен был подписаться на облигации в размере не меньше, чем полумесячная выработка своих трудодней! И хотя на трудодни давно никаких денег не давали, а отоваривали их дровами, сеном, кормовой свёклой – турнепсом, условно всё это измерялось в деньгах. Подписаться на заём – значит согласиться, чтобы тебе уменьшили и без того малое, смириться с тем, что целых полмесяца в году ты будешь работать бесплатно. В такие дни и милиция приезжала из Касни дяде Вите на подмогу скручивать особенно буйных.
Случалось, что перепадало и нищим. В основном по праздникам. 19 августа – Спас яблочный – вся деревня гуляет. Все пьяны: мужики и бабы, столы со свежими и солёными огурцами, с капустой квашеной, грибами, даже с варёными яйцами стоят во дворах. Вот за них частенько и сажают пришлых людей, наливают им, угощают. Правда, без пьяных драк не обходится. Но тут уж и нищие помогают разнимать дерущихся, не только свои, деревенские.
В паровиках, везущих в Вязьму, я нищих встречал постоянно. Пискляво на одной ноте выводящих: «Подайте, люди добрые!» Растягивающих меха баяна и поющих блатные песни. Или веселящих публику частушками под балалайку. А в поезда, следующие из Вязьмы в Москву, нищих не пускали: проводники за этим следили строго.
И сами нищие, и всеобщая бедность в стране сопутствовали мне, сопровождали меня всю жизнь. И всё-таки социальный, так сказать, статус сегодняшних стариков представляется мне особенно ужасным.
Да, я помню, что колхозники, не считавшиеся при Сталине государственными служащими, вообще не получали никаких пенсий. А гегемон-пролетариат получал при нём настолько смехотворные, что одинокий старик долго на этом свете не задерживался. Как говорит народ, голод и волка из лесу гонит, а уж человека из жизни тем более! Правда, В. И. Даль приводит и такую поговорку: «На Руси никто с голоду не помирал (не умирывал)». Но она сложилась задолго до ленинско-сталинских большевиков. Опровергнуть её Сталину труда не составило: загоняя крестьян в колхозное рабство, он за год-полтора уморил голодом несколько миллионов. И не только стариков, как известно, а самую трудоспособную и активную часть крестьянства – целыми семьями, со стариками и младенцами.
Согласен с Александром Нилиным, автором чудесной биографии футболиста Эдуарда Стрельцова, вышедшей в ЖЗЛ: Хрущёв во многом унаследовал сталинские диктаторские замашки. Сталинский сатрап, он многому выучился в школе Хозяина. На совести Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров изуродованная судьба величайшего, быть может, самого великого из русских футболистов Стрельцова и противоправная смертная казнь так называемых валютчиков Я. Рокотова и В. Файбышенко. Противоправная – потому что указ о подобной высшей мере для валютчиков появился уже после ареста этих людей, и следовательно, они были расстреляны вопреки закону, который, как известно, обратной силы не имеет. На совести Хрущёва – гибель Пастернака, которого затравили за присуждённую ему Нобелевскую премию, и арест уже после смерти поэта его подруги и музы – Ольги Ивинской с дочерью. А ведь не мог не знать Хрущёв, что Ивинская в 49-м хлебнула лагерной баланды и что сталинский пятилетний срок для неё привёл Пастернака к тяжёлому инфаркту. Писал Хрущёву и отец Рокотова, что сын был юношей репрессирован, угодил в лагерь в 45-м, а в 54-м вышел полностью реабилитированным. А посещение художественной выставки в Манеже мало что понимающего в искусстве Хрущёва в 1962-м? А тяжёлые артиллерийские удары по искусству, по литературе после осмотра этой выставки!
И всё-таки, несмотря на эти ничем не оправданные зверства, общественный климат при Хрущёве менялся: оттепель порой уступала место студёным ветрам, но и стужа не могла уже оковать страну своим непробиваемым панцирем, как это было при Сталине. Хрущев вошёл в историю не только тем, что вернул невинных из ГУЛАГа и что начал расселять многокомнатные коммуналки, предоставляя семьям отдельные квартиры пусть и в нелепых пятиэтажных блочных домах без лифта. Эти квартиры так и называли «хрущобы» (не знающий такого слова мой компьютер предложил вполне резонную замену: «трущобы», возвращая к первооснове, от которой народ и образовал новый «градостроительный термин», выражающий уровень комфорта в новых домах. Хотя от чего танцевать? Если от нынешних просторных квартир, хрущёвские представятся трущобами. А по сравнению с тем, что имело большинство при Сталине, – хоромами!). При Хрущёве урезали до семичасового рабочий день, постепенно перешли на пятидневную рабочую неделю, а колхозникам стали платить пенсии. И в городах её очень существенно повысили, соответственно понизив планку возраста, когда можно на неё выйти. Сейчас даже начали сокрушаться: не занижена ли планка? Всё-таки женщинам с 55-ти, а мужчинам с 60-ти не рано ли на пенсию, учитывая среднюю продолжительность жизни? Чью, спрошу я, среднюю продолжительность жизни мы возьмём за точку отсчёта? В Японии или в Сан-Марино она переваливает за 80 лет, а в России, если верить официальной статистике, равна 59-ти годам, а если независимым экспертам, то и вовсе 56-ти. И очень легко может в ближайшее время понизиться, учитывая нынешние цены на лекарства, стоимость бесплатной якобы нашей медицины и размеры пенсий, на которые в Москве (спасибо мэру! – говорю это без иронии) ещё хоть как-то (плохо, конечно!) можно существовать, а на периферии – ноги протянешь, вот и протягивают старики руки – «аскают по вокзалам»!
Да только ли по вокзалам? Везде «аскают»! Мусорные баки перерывают в поисках пищи. Ходят чёрные – от грязи, конечно, но и от голода и холода (из собственных квартир их – кого хитростью бессовестной, а кого за неуплату – выгнали на улицу), в потрёпанных одежонках. Кто-то ещё надеется на добрые души, а у кого-то в глазах – пустота и безысходность: ни на что не надеются! Знают, в какой низкой цене сейчас милосердие в России.
Незадолго до смерти писатель Георгий Владимов, которого вышвырнули при советской власти из страны, приехав в Россию, поразился большим стаям бездомных собак, то здесь, то там шныряющих по Москве. Старый собачник, автор «Верного Руслана», сумевший изнутри, так сказать, передать в своей книге психологию пса, он поделился с читателями «Московских новостей» (ещё не сервильных, какими они стали при В. Третьякове) любопытными наблюдениями над этой разорванной тысячелетней связью собаки и человека. Бездомная собака отвыкает от человека, замыкается в себе. Потому и не машет благодарно хвостом, когда ей бросают куски, берёт их, как некую дань, без эмоций. И, не проявляя к тебе интереса, уходит.
То же происходит сейчас с бомжами, с беспризорными. Это отдельный народ, почти утративший связи с остальным человечеством. И – убивайте меня за это! – такого страшного положения со стари – ками, как сегодня, я не припомню за весь послесталинский советский период.
Помню, как гордились мы в «Литературной газете» собственной смелостью: не личной, конечно, а тем, что не побоялась опубликовать «Литературка» статью о взяточничестве чиновника, или о бездушном отношении конкретного Ивана Ивановича к людям, к тем же стари – кам, или о дефиците лекарств, о хамоватости больничного персонала. И читатели радовались, когда появлялись такие статьи, поддерживали газету. Но напечатай мы в то время статью о том, как какая-нибудь Марья Ивановна или какой-нибудь Василий Андреевич с голодухи обшаривают мусорные баки, что пенсий им катастрофически не хватает и что это – не единичный случай, но массовое явление, думаю, что восторга такая публикация ни у кого бы не вызвала: её бы восприняли как шизофренический бред.
Два месяца назад хоронили мы Виталия Александровича Сырокомского, бывшего первого зама главного редактора «Литературки», стоявшего у истоков её обновленного шестнадцатистраничного облика (очень, кстати, хорошо написал о нём Андрей Яхонтов в «Московском комсомольце», и Александру Борину удалось пробить в «Новую газету» небольшой некролог, который я тоже подписал; и это всё – абсолютное большинство СМИ равнодушно отнеслось к известию о кончине выдающегося издателя XX века, никак не меньшего, чем Краевский или Суворин в XIX-м!). Месяц назад – новые похороны: умер один из тех сотрудников старой «Литгазеты», с которым я был особенно дружен, – Лёва Токарев. Разные люди, в разные годы работавшие в газете, были на тех или других похоронах. Многие узнавали друг друга, окликали друг друга: «Ну как ты?», «Ну где ты?»
Где? Большинство на пенсии. «Как же ты живёшь?» Один: «У нас с женой, слава Богу, есть ещё одна квартира. Сдаю!» Другой: «Мне повезло. Дочь на фирму устроилась. Помогает нам с женой». – «Замуж вышла?» – «Да, за сотрудника той же фирмы. Детей пока нет. Он знает, что дочь нам даёт деньги, и не против!» Третья: «В церкви подрабатываю». – «В какой? И что ты там делаешь?» – «Это недалеко от Мясницкой. Что делаю? Убираюсь: полы мою, пыль вытираю». – «И как платят за это?» – «Не много, конечно! Но с голода не мру!»
Кто-то доволен: издательство даёт ему на редактуру модные сейчас дамские романы или детективы. Правда, сырые больно рукописи, приходится переписывать, но ведь платят! И сразу несколько человек к нему: «слушай, а нельзя ли?..» «Узнаю, – обещает, – позвоните мне или напишите по электронной почте. Вот моя визитка!»
Преподают, как я, немногие. «Ты, – говорит мне бывший коллега, – профессор! Тысяч 12, небось, получаешь?» «Это, – отвечаю, – в МГУ так платят. А у нас меньше: тысяч 7, иногда 9». «Ну вот, – кивает коллега, – а я доцент. Моя ставка 4200. Но всё-таки ощутимая прибавка к пенсии, правда».
Правда, конечно, правда! И очень горькая эта правда! Ведь всё это были ведущие сотрудники газеты: завы отделов, обозреватели. Свои 120 непременно бы получили при советской власти. А учитывая десятипроцентную надбавку за стаж, их пенсия была бы 132 рубля.
Не густо? Конечно, на такие деньги в то время никто бы шиковать не стал. Но более-менее достойно прожить было можно: не голодать, лечиться.
Понимаю и признаю: в провинции было намного хуже. Там мясо за 2 рубля в магазине не лежало. На рынке 4–5 рублей за килограмм. И знаменитая колбаса за 2—20 была в основном в заказах, как финский сервелат в Москве. Товарный голод под конец стал лютым.
Так я и не воспеваю советскую власть, извратившую все экономические законы. Не восхищаюсь партийно-государственным аппаратом, рассудившим, что поскольку на всех всё равно не хватит, сделаем всё, чтобы хватило на нас, работников аппарата. Помню смешные цены в обкомовских буфетах или в кремлёвском (приходилось бывать на съездах писателей). Помню изобилие экзотических блюд по этим смешным ценам: какие-нибудь волованчики с икрой или розанчики с печенью куропатки.
С обслуживанием этих господ-товарищей я столкнулся очень рано. Кажется, в год смерти Сталина и ареста Берии или чуть позже мы ездили с дворовым моим приятелем Васьком Головачёвым на улицу Грановского (теперь Романов переулок) в столовую старых большевиков, где Васёк забирал продукты для своего заслуженного деда. Васёк отоваривался, а я стоял у стены и читал прейскурант. Уже тогда поражали цены и удивляли названия.
Словом, не к тому я всё это, что при советской власти жилось хорошо. Погано жилось! Я о другом.
Под самый новый 1992 год 30 декабря очутился я в больнице на улице Дурова с инфарктом. Больницу выбирал не я, привезла «скорая». Месяц пролежал. Жена приходила, рассказывала, как лютует в Москве товарный голод. Купить нечего. Есть нечего. Я делился с ней своим ужином. А нас, больных, кормили хорошо. Все нужные врачу лекарства были у него под рукой. Действовала, очевидно, ещё какая-то разумная система снабжения больниц. Лечили внимательно. В палатах чисто. Медсёстры и нянечки приветливы. И не деньгами благодарили больные своих целителей, а конфетами и вином.
Лет через восемь на нас с Геной Калашниковым, с которым мы когда-то работали в «Литгазете», напала шпана в подземном переходе у Речного вокзала. Гена отбил нож, который должен был попасть ему в печень, но вонзился под сухожилие в руку у большого пальца. «Скорая» привезла его в 1-ю Градскую. Кормят отвратительно: все стараются есть только то, что несут им из дома. Нянечки грубы. Сёстры за любую процедуру, назначенную врачом, требуют денег. Укол, например, 20 рублей. Нет денег? Не будет тебе укола. Пришлось Ире, Гениной жене, перевозить мужа к знакомым врачам в институт Склифосовского.
А на днях выпишут из больницы моего друга. Он лежит на Большой Серпуховской в институте Вишневского. Ему, старому диабетику, года четыре назад уже ампутировали палец ноги. На этот раз отрезали половину между ступнёй и коленом. Лежал он почти полгода. Лекарства нужно было покупать в аптеках. И платить за кровь от донора. Для операции требуется крови минимум на 7000 рублей. И лекарства недёшевы: от 300 рублей до 2000 за раз – для капельницы, для приёма внутрь.
Как кормят? Бедно кормят. Конечно, больных подкармливают домашние. Но если человек одинок, от голода он не умрёт. А вот если он беден, если не на что ему купить лекарства, больница не поможет: у неё на это нет средств.
Друг мой очень известный критик. В его судьбе посильно принимают участие многие. То газета примет на себя какие-нибудь его расходы, то какой-нибудь театр.
А не будь этого, не знаю, как бы он выкручивался. Пенсия у него как у всех. Нищенская инвалидная пенсия. Депутатом он не был – трёх четвертей депутатского оклада не имеет. Не был он и героем соц-труда или кавалером брежневских орденов Трудовой Славы всех трёх степеней. А их – таких героев и кавалеров Дума недавно приравняла к героям войны и кавалерам солдатских орденов Славы. Пенсия у них намного выше, чем у простых граждан. Ну а кто при советской власти получал к юбилею героя соцтруда – смешно спрашивать. Так же, как невозможно даже предположить, чтобы наградные листы на Трудовую Славу шли мимо обкомов. Так что к героям войны Дума приравняла бывшую советскую номенклатуру, что, наверное, резонно: номенклатура к бедности не привыкла.
* * *
Кажется, ещё до того, как Александр Лебедь стал губернатором Красноярского края, на мой электронный адрес в «Литературе» стали приходить письма с вложением: новости из Красноярска типа ИТАР-ТАСС. Почему они приходили именно в «Литературу», я не знаю. Но приходили долго – несколько лет. Причём с поздравлениями по случаю, допустим, Нового года, Первого мая, дня Победы и т. п. Я с любопытством читал городские новости: о работе губернатора и вице-губернаторов, о заседаниях Законодательного собрания, которое возглавлял депутат по фамилии, как мне запомнилось, Усс, прочитал, среди прочего, о том, как одобрили красноярские депутаты инициативу своих волгоградских коллег – переименовать Волгоград в Сталинград: вот когда ещё носились с этой идеей сталинисты, решившие, очевидно, организовать инициативу с мест, которая заставила бы действовать в нужном им направлении центральные власти! Читал я и о новостях культуры, тем более что жив был Виктор Петрович Астафьев, и его упоминали часто.
Так вот из этих новостей я однажды узнал, что почётным гражданином Красноярска стал Павел Стефанович Федирко, бывший всевластный диктатор края, первый секретарь Красноярского обкома, немало в своё время попортивший крови «Литературной газете» и персонально сотруднику отдела «Человек и экономика» Павлу Волину.
Волин написал об этом главу «Красноярская история» в своей мемуарной книге «Человек-антилегенда и другие». Она издана в Израиле в 1999 году. Достать её у нас и прочитать практически невозможно. Но статью Волина «Укрощение строптивого», напечатанную в «Литературке», думаю, многие запомнили.
Речь в ней шла о том, как по приказу Федирко сняли с работы начальника краевой инспекции архитектурно-строительного контроля. За то, что тот запретил принимать в эксплуатацию недостроенные или построенные с чудовищными недоделками здания. То есть поставил заслон для очковтирательства и победных реляций в Москву, лишая премий и наград халтурщиков и бракоделов.
«Передо мной, – вспоминает о командировке в Красноярск в своей книге Паша, – открылась ужасающая картина. Прямые подлоги, многомиллионные афёры, бесстыдные подкупы. Объёмы произведённых работ завышались во много раз. Новые здания обрушивались (иногда с человеческими жертвами), «готовые» – годами нельзя было использовать из-за бесконечных переделок, исправлений. Строительные материалы беззастенчиво разворовывались, взятки раздавались направо и налево.
Тогда в стране ещё не были широко известны понятия «коррупция», «мафия», а там эти явления уже разлились широко, пустили глубокие корни».
Очевидно, запуганные могущественным Федирко красноярцы не верили в то, что «Литературная газета» сможет напечатать статью об этом. С 1972 года (Федирко тогда было сорок лет) он правил Красноярским краем. Правил, всецело поддерживаемый другим знатным красноярцем, кандидатом в члены политбюро, Владимиром Ивановичем Долгих (сейчас председатель совета ветеранов войны и труда и совета директоров какой-то прибыльной компании), который именно Федирко и передал свой пост первого секретаря крайкома, уйдя в секретари ЦК. Но когда статья появилась, красноярцы осмелели. В редакцию валом пошли письма, которые проливали дополнительный свет на «чудовищную строительную панаму в Красноярском крае» (П. Волин).
Больше того! По этой статье и материалам, положенным в её основу, красноярский драматург Роман Солнцев написал пьесу «Статья», которую поставил Центральный Театр Советской армии в Москве. Так совпало, что в Москве находился и тот самый бескомпромиссный начальник контроля за строительством, который мешал Федирко и которого тот снял. Вместе с ним Волин отправился в театр. Что началось, когда в конце спектакля объявили, что в зале находится прототип героя пьесы! Прототипа вызвали на сцену. Он долго говорил с публикой, а потом их беседа продолжилась и за стенами театра на улице.
Вдохновлённый всем этим Волин напечатал в «Литературке» рецензию на спектакль, где рассказал и о стихийном митинге. И здесь нервы у Федирко не выдержали. Он потребовал сатисфакции, то есть, переводя это иностранное слово на бюрократический язык, – принять меры против зарвавшейся газеты и её автора. В Красноярск отправился сам Лукьянов, в то время заведующий главным – административным отделом ЦК, будущий Председатель Верховного Совета СССР и гэкачепист.
Эпоха на дворе стояла раннегорбачёвская, для аппарата неопределённая. Опровергнуть факты, приведённые Волиным, Лукьянов не решился, но и подтверждать их не захотел: посоветовал газете не связываться больше с Федирко.
Но через какое-то время Волин всё-таки сумел ещё раз выступить в «Литературке» против блефующего хозяина Красноярска. Воспользовался тем, что о «кухне» текущего номера газеты снимали телевизионный фильм, который должны были показать телезрителям как раз накануне выхода номера. Для такого случая уговорили вести планёрку самого Чаковского. Тот куража ради сказал: «Мне кажется, что номер недостаточно острый. Нет ли у отделов материалов поострее?» А Волин возьми да ответь: «Есть. По Красноярску». Чаковский, помнящий совет Лукьянова, поморщился: «Опять Красноярск, ну, сколько можно об этом?» «Александр Борисович, – настаивал Волин, – оттуда идут разящие письма!» Вступать в перепалку с сотрудником на глазах у телезрителей Чаковский не стал: «Ну, хорошо. Покажите материал ведущему редактору. Пусть он решает».
Номер вёл Удальцов, который отпустил Волина домой, чтобы ничто не мешало ему обработать письма. Паша привёз их в конце дня. Их заверстали.
А накануне выхода газеты телевидение показало фильм «Завтрашний номер «ЛГ»». Волин ликовал, увидев эпизод своего разговора с Чаковским. Это означало: письма выйдут! И они вышли.
«Почему же Чаковский допустил это?» – спросил он меня в электронном письме. И продолжил: «Конечно, можно было заставить телевизионщиков вырезать эпизод, и дело с концом. Но слух почти неизбежно пошел бы по Москве, а Александр Борисович числился в " больших демократах» и всегда помнил о своём престиже».
Думаю, что не только поэтому. Чаковский и в самом деле был демократом, – редкость для человека, занимающего такой пост. К нему можно было входить без доклада, не записываясь у секретаря. «Кто у него?» – спрашивали Фриду, исполнявшую секретарские обязанности главного. «Никого. Заходи!» И ты шёл, зная, что ради дела он оторвётся от чего угодно, выслушает тебя, даст совет, охотно, если это в его компетенции, поможет. Я писал в «Стёжках-дорожках», что он был незлобив, отходчив, относился к сотрудникам ровно, уважительно. Хотя покричать, если ему это разрешали, любил. Но быстро успокаивался. На моей памяти только один случай, когда он откровенно выживал сотрудника из редакции, – Юрия Буртина: не мог простить ему «новомировской» рецензии на свою книгу, которую Юра написал ещё до прихода в газету. Прочитавшие «Стёжки-дорожки» коллеги указали на ошибку моей памяти: не Изюмов выгнал заведующего клубом «12 стульев» Витю Веселовского, а Чаковский. Но Витя в последние годы своей работы в газете так пил, что часто не вязал лыка. Чаковский терпел это долго. И, наконец, настоял на его увольнении. Заведующим сделали Андрея Яхонтова.
«Он был сталинистом», – отозвался на эту мою характеристику Чаковского Олег Мороз. Я и с этим не соглашусь. Сталинистом он был в той же степени, что хрущевистом или брежневистом. Чаковский был конформистом, таким же, как Катаев, но без катаевского писательского дара. Он служил тому, кого не любил. Как Лепорелло Дон Гуану в «Каменном Госте» Пушкина. Это не значит, конечно, что Чаковский желал падения советской власти. И Катаев этого не желал. Да и, как выяснилось, не желал этого даже Евтушенко. Тот до сих пор упрямо называет себя советским поэтом. Но так же, как они, Чаковский не любил советскую власть. И рад был укусить того, кого не любил, когда понимал, что ничего ему за это не будет. Я думаю, что таких как Федирко, уже незащищённых, он бил с особым сладострастием. А то, что никто за Федирко заступаться не будет, и показала ему поездка Лукьянова. Хорошо осведомлённый о положении дел в верхах, он наверняка потому и позволил себе пренебречь советом Лукьянова, что не почувствовал желания заведующего цэковским отделом восстанавливать реноме секретаря Красноярского крайкома. И чутьё его не подвело.
Недели через две газеты сообщили, что Павел Стефанович Федирко назначен председателем правления Центросоюза, то есть в переводе с официального языка на обычный – снят со своего вельможного поста.
Конечно, едва ли основную роль в этом сыграли статьи Волина. Горбачёв избавлялся от команды Гришина, которого после смерти Черненко прочили на пост Генерального секретаря. А Гришин в этом случае, по слухам, хотел назначить главой правительства В. И. Долгих. Вот и затрещали у холопов чубы, когда вышло не по-гришински. Но роль катализатора процесса в изгнании Федирко статьи Волина в «Литературной газете» безусловно сыграли.
И вот через много лет узнаю о присвоении Федирко звания почётного гражданина Красноярска. Я написал возмущённое письмо губернатору (кажется, им уже был Хлопонин), но ответа на своё возмущение, как обычно, не получил.
Как обычно! Я уже привык к тому, что писал в пустоту, но писал, чтобы не создавалось у властей впечатления, что всё им сойдёт с рук.
Иногда, правда, они отзывались. Написали мы в доме коллективное письмо по поводу некой фирмы, скупившей в нашем подъезде первый и второй этажи, а потом отхватившей четверть дворового газона, отгородившей её металлическим забором под стоянку для своих машин. Из управы «Арбат» ответили, что, конечно, это безобразие и что фирме предложено к такому-то числу снести забор и восстановить газон в его первозданности. И телефон ответственного за восстановление указали. Помню, что ответственной была назначена некая Галина Григорьевна.
Срок прошёл. Звоню. Галина Григорьевна возмущена не меньше меня: как же так! Дано указание! Она разберётся!
Может, и разбиралась, но мы этого не заметили. Забор по-прежнему стоял. Снова звоню.
«Как? Неужели ещё не снесли?» «Не снесли, – отвечаю, – да вы бы зашли и разобрались на месте». «Зайду», – пообещала.
Утомлять дальнейшим пересказом не буду. Скажу только, что забор стоит до сих пор. Работает ли Галина Григорьевна в управе, я не знаю. Соседи сказали, что фирма, лишившая нас части газона, связана с Управлением делами Президента. Но скорее всего, это она про себя такие слухи распускает, цену себе набивает. А что она не обращает внимание на распоряжение управы, то, может, и не было ей никакого распоряжения. Скорее всего, с ведома управы она и хозяйничает, с ведома той же Галины Григорьевны.
И ещё один случай, когда пришёл ответ на моё письмо. Ответил Михаил Иванович Москвин-Тарханов, депутат Мосгордумы, с которым завязалась у нас интенсивная переписка. Объяснил он, почему вышел из СПС: разонравилось руководство. Я и сам не был в восторге от большой любительницы тусовок Ирины Хакамады, удивившей меня тем, что однажды в передаче «Кто хочет стать миллионером?» она обнаружила полнейшее незнание того, где в Москве находится Третьяковская галерея. Неприятно поразил и Немцов – не тем, что подарил уменьшенную копию снесённого во время августовских событий 1991-го памятника Дзержинскому аграрию-чекисту Николаю Харитонову на его день рождения, а тем, что при этом обнял и сердечно расцеловал именинника, с подачи которого и подняла Дума вопрос о возвращении Дзержинского на Лубянку. Нелепый, скажут об этом поведении Немцова, жест? Неуместное прекраснодушие? А мне кажется, что подобные вещи очень характерны и для других руководителей СПС, которые рисковать личным своим благополучием не станут. Потому и согласился я с Михаилом Ивановичем: для чего состоять в их партии! Но перед новыми выборами в Мосгордуму оказался Москвин-Тарханов во фракции «Единой России», и расхотелось мне продолжать с ним это заочное знакомство. Особенно после его беседы по «Эху Москвы» с Евгенией Альбац. Не потому ли, спрашивала его Альбац, он к «Единой России» примкнул, что хочет сохранить депутатство? «Не потому, – отвечает. – Московский список «Единой России» возглавляет Лужков, а мэр для Москвы и москвичей много хорошего сделал». (Это правда! Для пенсионеров, например, мэр сделал очень много хорошего!) «А не из-за депутатства?» – не унимается Альбац. «Да я, – горячится, – вполне способен найти работу поприбыльней и поспокойней, чем в Мосгордуме». (Через какое-то время после этой беседы оказалось, что внесла его «Единая Россия» в свой партийный список, и депутатом он стал. Не захотел, видно, искать места поспокойней!) «Поприбыльней? – удивляется Альбац. – Сколько же вы получаете как депутат?» «Со всеми выплатами шестьдесят, – говорит, – тысяч рублей». – «И всё?» – «А что же ещё?» – «А привилегии? Больница ЦКБ-2, бесплатная для городской Думы?» «Обычная, – недоумевает, – больница!» (Видел ли он нынешние, обычные?)
Решил было после этого написать ему горькое письмо, да махнул рукой: не проймёт! Бесполезно!
Я ведь и в Минобразования много раз писал, и о его работниках, где только мог, высказывался: у себя в газете, на сайте kreml.org, в других органах сетевой и бумажной печати. О том же Болотове неоднократно – как рушит он уникальную школу в России. Подозреваю, что Артём Соловейчик не сам захотел от меня избавиться, а по подсказке из Министерства или из московского департамента образования. Полной уверенности в этом у меня нет, но не удивлюсь, если окажется, что это так. Что, кроме удовлетворения, могут испытать чиновники от образования, узнав, что я больше не возглавляю оппозиционную им газету? Да и перестала она после моего ухода быть им оппозиционной. А пожалуй, что перестала быть вообще газетой – стала методологическим листком. Если к этому стремились Артём с Марком, они своего достигли. Как, однако, легко оказалось погубить дело жизни выдающегося журналиста Симона Соловейчика, который за пять лет, что пробыл издателем, показал незаурядные способности и в этом качестве! Нынче издательство «Первое сентября» выпускает не книги, а брошюры. Газеты подменены методологическими шпаргалками! И во имя чего? Ведь чудотворца из Марка Сартана, как я и предвидел, не вышло. Затормозить падение тиража той же «Литературы» удалось благодаря Артёму, прекратившему экспериментировать с формой и объемом, и угодливому шагу навстречу не слишком хорошо владеющим своей профессией читателям, – для них пишут редакторы материалы под очень красноречивым заглавием «Задание со звёздочкой*», от которого отдаёт «Пионерской правдой» моего детства!
(В скобках отмечу, как удивило меня одно из первых же этих звёздочкиных «заданий». Оно написано в духе тех полуграмотно составленных тестов по ЕГЭ, против которых я неоднократно выступал в печати. «Как-то раз в одной телевизионной викторине участнику был задан вопрос: «В какой комедии Пушкина есть герой по имени Маржерет?» Игрок не сумел дать никакого ответа (думается, потому, что он, как и многие телезрители, за одну минуту так и не смог припомнить ни одной комедии Пушкина). Каково же было его изумление, когда ведущий объявил, что речь идёт о… О каком же произведении идёт речь? И в чём здесь подвох? Известны ли вам ещё похожие примеры?» Авторы телевизионной викторины, как говорят о подобных случаях, слышали звон, да не знают… Но оба-то Сергея – Волков и Дмитренко – должны знать, что комедией Пушкин называл «Бориса Годунова» лишь в черновом – допечатном варианте. И что только там – в пушкинском черновике – мы можем обнаружить жанровые признаки комедии. А в обнародованном Пушкиным варианте их нет. Так что не поддержи – вать следовало бы редакторам занимательную ахинею не слишком грамотных телевизионщиков, а предложить читателям её высмеять! Забавно, что этот материал появился в номере, в котором редакция возвестила о коренном обновлении газеты.)
Вряд ли забыли красноярцы о махинациях партийного и государственного аппарата при Федирко, о вранье и коррупции при его правлении. Но об этом помнили и члены Законодательного собрания края, не случайно поддержавшие волгоградских депутатов в их любви к Сталину. Думаю, что как раз за былые очковтирательство, воровство, коррупцию и другие такие же выдающиеся заслуги, которые, очевидно, по сердцу многим красноярским депутатам, и стал Федирко почётным гражданином.
«Мы – партия исторического реванша», – довольно откровенно определил «Единую Россию» один из её руководителей вице-спикер Госдумы Олег Морозов. Реванш, по его мнению, очень хорошее начало, очень сильно двигающее чувство («Московский комсомолец» от 25 июля 2006 года). Да уж: что есть – то есть! Сильно двигающее, продвигающее. Не зря перешли в «Единую Россию» прежние коммунистические бонзы: губернатор Тулеев, например, или курский губернатор Михайлов. Да и не только они – практически весь бывший аппарат: больше 60-ти губернаторов, почти все мэры и городские главы, а уж депутатов всех уровней в этой партии – немерено. Возможно, что и Федирко загорелся историческим реваншем. Ему было что терять, и есть что возвращать. Вот и согрели его сердце на старости лет.
Не убеждён, что до этого звания жил Федирко на обычную пенсию, но, получив почётного гражданина, сможет жить на существенно увеличенную и с такими льготами, которыми бесстыдно пользуются высокие чиновники.
Я уже рассказывал о больном своем друге, известном критике. Его болезнь развивалась параллельно с другим несчастьем: страшные боли испытывала больная раком жена. Чтобы облегчить страдания, решили положить её в ЦКБ – Центральную кремлёвскую больницу. Не в ту, где лечатся депутаты Мосгордумы, о которой Михаил Иванович Москвин-Тарханов сказал журналистке, что она обычная. Там как раз Лёва Токарев умер. Больших денег стоила его семье эта больница. А жену друга положили в Кунцеве – на территории бывшей так называемой «ближней» сталинской дачи. Десять дней перед смертью лежала жена в больнице. К врачам претензий нет: они снимали боли умирающей в её последние дни. Нет претензий и к сиделке, которая очень добросовестно отнеслась к своим обязанностям. Но цены! 4500 рублей в день и ещё полторы тысячи за сиделку!
Понимаю, что для какого-нибудь фирмача-миллионера или поп-звезды это не проблема. Но они хотя бы будут платить такие деньги. А депутатов Госдумы, высших чиновников и почётных, как Федирко, граждан лечат бесплатно. И лекарства им покупать не надо: дадут безвозмездно, сколько бы тысяч они ни стоили. А почему? А за что? Нищенствуют они, что ли? Аскают по вокзалам?
Недавно то ли саратовские, то ли самарские депутаты даже в Конституционный суд обратились за разъяснением: в чём, дескать, дело? Разве они нарушили Конституцию, установив себе оклады выше, чем у федеральных депутатов? Не знаю, что решит (или решил?) Конституционный суд. В Конституции вроде ничего про размеры окладов должностных лиц не сказано. Но само по себе возмущение местных депутатов, которым хотят отказать в праве сделать ещё более сказочной и без того их роскошную жизнь, очень показательно.
И это притом, что только по официальным данным 40 % российского населения живут за чертой бедности! Что разрыв в доходах между бедными и богатыми в стране достиг какого-то запредельного уровня! Конечно, некая олимпийская чемпионка может на вопрос «Комсомольской правды» (19 июля 2006 года): «Справедливо ли, что начальники в России получают так много?» ответить: «Почему бы и нет. Не зря же они – все люди образованные». Ей, частой гостье тусовок VIP-персон и поп-звёзд, привычно отвечать с бездумной лёгкостью. Но «образованные» начальники могли бы, наверное, призадумавшись, урезать аппетиты? Не премировать самих себя многократными окладами ежемесячно. Не доплачивать себе бешеные деньги за некую секретность, за работу с государственными бумагами и за прочую маловразумительную муть. Не выдавать себе немыслимых командировочных, позволяющих летать бизнес-классом, жить в пятизвёздочных отелях и звонить по телефону из любой точки мира в любую его точку.
Убрав своего политического врага Михаила Ходорковского, раздав своим друзьям по жирному куску от процветающей компании ЮКОС, любит Владимир Путин ловко, как ему кажется, «срезать» западных журналистов, которые возмущаются «делом Ходорковского», надолго упрятанного в краснокаменский лагерь под Читой: «А вы можете припомнить случай, чтобы человек за четыре года заработал миллиард?» Крыть журналистам нечем: они действительно такого не припомнят. Но наш-то президент знает, конечно, что по числу миллиардеров Россия находится на одном из ведущих мест в мире! А уж миллионеров в одной только Москве не перечесть: поезжайте за кольцевую автодорогу по любому шоссе, посмотрите, сколько выросло в Подмосковье коттеджных посёлков, а за коттедж никто меньше миллиона долларов не запросит! Что же не цепляется Путин и его администрация ко всем этим в мгновенье нажившим своё состояние богачам? Не потому ли, что и он сам, и его окружение живут не хуже? Ну да, большинство из них – директора каких-нибудь крупнейших компаний с миллиоными годовыми окладами. То есть не так уж и сильно отличаются от какого-нибудь магната. Но ведь у путинского окружения ещё и власть. А это значит, что любого конкурента могут убрать, с любым поступить, как с Ходорковским, прикажут – прокуратура возьмёт под козырёк, независимые судьи подведут под статью, честные следователи найдут нужные вещдоки.
* * *
Помню, как испугался один из технических директоров фирмы «Первое сентября» неожиданного, как я уже рассказывал, требования Симона Соловейчика подать заявление об уходе всему коллективу его газеты. «Вот так, Геннадий Григорьевич, – возбуждённо говорил он мне, – под Богом ходим! Случись что – жаловаться-то некому!» И это совершенная правда – некому!
А Фёдор Аркадьевич Чапчахов, который до нервных колик боялся потерять должность члена редколлегии «Литературной газеты» и потому заранее был согласен с любым решением его руководства? «И правильно сделал!» – одобрял он свои действия. Однажды несогласный со своим замом Кривицким Александр Борисович Чаковский при мне спросил его, обговаривал ли тот свою позицию с Чапчаховым, и, услышав, что Чапчахов всегда солидарен с тем, кто выше чином, попросил вызвать его и захохотал, убедившись, что так оно и есть! «А что же он думал, – сказал Чапчахов, которому разъяснили, почему веселился Чаковский, – что я с Кривицким буду соглашаться, когда он с ним спорит? Я не враг себе!»
Вот и нынешние магнаты – не враги себе. Случай с Ходорковским напугал их смертельно. Тот, помимо прочего, сделал свой бизнес прозрачным, то есть открытым для налоговой полиции. Согласился с предложением академика Жореса Алфёрова учредить «русскую Нобелевку» за выдающиеся открытия в науке: выделял на это полмиллиона долларов (на другие полмиллиона Алфёров, кажется, заставил раскошелиться государство); оборудовал компьютерными классами многие сельские школы; открыл дом для сирот, которых содержали и обучали; наконец, давал деньги на литературную премию «Букер» и на содержание её аппарата. (Другое дело, что нобелевский лауреат Алфёров пальцем не шевельнул в защиту оклеветанного и осуждённого Ходорковского, а работники аппарата «Букера» тут же открестились от сотрудничества со «Свободной Россией», заключив соглашение о спонсорстве с фирмой, угодной Кремлю. Но это уже – к вопросу о благодарности тому, кто неугоден и ненавистен верховной власти, от которой зависит твоё собственное благополучие!) «Подумаешь! – сказал о Ходорковском Путин. – Нажил миллиарды, а тратит миллионы!» Словом, все, кому надо, поняли: прозрачным делать бизнес смертельно опасно, заниматься благотворительностью можно только под контролем президента и его команды. А члены команды и сами не прочь предстать благотворителями перед другими. Президент дарит олимпийским чемпионам дорогие иномарки. Мэр – квартиры в Москве. И тоже иномарку. Так что у иных чемпионов оказалось по две машины. Вот только – за чей счёт? Не бином Ньютона, как говорил булгаковский герой: богатеям, приближённым к власти, было приказано скинуться!
«Образованные люди!» – восхитилась начальством олимпийская чемпионка. Да уж! Как когда-то Брежнев и его аппарат. Те тоже вносили свой вклад в теорию. Социализм, говорите, у нас какой-то странный, не по Марксу? Так у нас его особая стадия, которая Марксу и не снилась, – развитой социализм! Вручал, помнится, «Литературной газете» Подгорный орден Ленина. (Кстати, хочу исправить ошибку, которую допустил в «Стёжках-дорожках»: газета получила этот орден не к пятидесятилетию, а к сорокалетию. Удальцова тогда в редакции ещё не было. А эпизод с его участием, о котором я рассказывал, когда он, молодой заместитель главного редактора, указал нам, нескольким сотрудникам редакции, заблудившимся за сценой Колонного зала, на то, что территория, на которую мы вышли, нам не по чину, произошёл через десять лет, когда орден Дружбы Народов вручал газете Зимянин.) Читает Подгорный речь по бумажке, доходит до ритуального славословия Брежневу, поднимает голову, снимает очки и уже от себя:
– Да, – говорит, – а как образован-то, каким учёным человеком оказался наш Леонид Ильич! Громадный вклад в теорию внёс. Читали, небось, о наставничестве, ну, о движении таком? Когда старые рабочие должны брать шефство над молодыми? Учить их. Профессию чтобы осваивали. Так это Леонид Ильич лично придумал! Сам, своим умом дошёл!
Вот и нынешние – той же школы образования. «Исторический реванш», который представляет собой партия «Единая Россия», – это, конечно, движение вспять к утраченным привилегиям, но и к возможности их многократно увеличивать, потому и сказал партийный деятель Морозов, что реванш – это «очень сильно двигающее чувство». Настолько сильно двигающее, что некоторых приходится осаждать, устраивать время от времени показательные порки: то «оборотней в погонах» – силовиков-взяточников арестуют, то какого-нибудь проворовавшегося мэра. Правда, куда чаще приходится защищать: еле, к примеру, спасли министра Адамова от американской тюрьмы: многолетняя отсидка грозила! Согласились со швейцарцами, задержавшими его по рекомендации Интерпола, и с Интерполом согласились: да – жулик, да – хапнул! Но попросили всё-таки отдать его нам, а не американцам: у нас, дескать, тюрьмы не хуже и законы не менее суровы. Посидел Адамов в Матросской Тишине и отпущен домой под подписку о невыезде. Особая, надо сказать, благосклонность оказана. Светлане Бахминой, сотруднице Ходорковского, матери малолетних детей, отказывали в этом категорически – как можно! – непременно сбежит! Ну а раз отнеслись к Адамову благосклонно, глядишь, и дело его развалят – а для чего бы нашей свирепой прокуратуре в таком не свойственном ей облике выступать! А вот губернатора, пойманного на разных тёмных сделках, Путин недавно от должности отстранил. Правильно, конечно, сделал, но формулировка! Умри, Владимир, лучше не придумаешь: «За утрату доверия президента»! И никого это не удивило. Все знают, кто в стране главный, кто в ней хозяин.
Монархия? Но-но-но! Конституцию у нас никто не отменял и никто её пересматривать пока не собирается. А по ней мы живём в светской и демократической стране. Выходит, у нас демократия? Да, но той же пробы, что и социализм в СССР, который, чтобы не путали с тем, каким он виделся буржуазным партиям, входящим в Социалистический интернационал, сперва называли «первой стадией коммунизма», а потом при Брежневе, как я уже говорил, – «развитой». И наша демократия совсем не та, к какой привыкли в других странах. Во-первых, она у нас управляемая, а во-вторых, суверенная. В этом и состоит вклад в теорию «образованных людей» – нынешних начальников.
Понятие демократия, как известно, значит власть народа. Но управляемая вовсе не обозначает, что кремлёвский аппарат выступает в роли неких нанятых народом менеджеров. На языке президента и его окружения управляемая – это власть народа, подмятая ими под себя, власть, которую они сумели оседлать.
Но в таком контексте причём тут демократия как власть народа? А она в роли дымовой шашки, как в СССР. Там ведь тоже правящий режим называл себя демократией, но социалистической, чтобы не путали с обычной, знакомой человечеству. Ту обозвали буржуазной и пугали ею население, перенося на неё собственные родимые пятна: рабский труд, нищенские зарплаты, выборы без выборов, чудовищные полицейские репрессии в отношении инакомыслящих. Те, кто верил, пугался: если там ещё хуже, чем у нас, то это значит, что там люди живут в аду!
А суверенная демократия, провозглашённая путинскими идеологами, – это нечто вроде советского железного занавеса. Лет двадцать назад, когда жил я в писательском доме в Астраханском переулке, разбудил меня часов в семь утра телефонный звонок. Звонил Ваня Сидоров, художник из «Литературной России», добряк, алкаш, известный всей издающейся братии. Завтракал ли я? – осведомился Ваня. Я отвечал ему сердито, жалея, что не выдернул аппарат из розетки: снова засыпать я не умел. Но Ваня словно не замечал моего тона. Он звал меня в соседний подъезд к Эдику Эльяшеву, который тоже работал в «ЛитРоссии» и у которого Ваня заночевал. В стране вовсю бушевала горбачёвско-лигачёвская антиалкогольная кампания, и Ваня сказал просяще: «Старичок, у нас закуски – полный холодильник, а с выпивоном – напряг. Как раз для тебя и осталось на донышке. Так что если принесёшь – родным отцом будешь!»
Плюнул я на всё, умылся, оделся, достал две бутылки водки из своего запаса и отправился к ним.
Оказалось, что художник Ваня Сидоров говорил со мной художественной, то есть метафорической речью. Полный холодильник закуски оказался наглой гиперболой: недоеденная яичница с колбасой, несколько соленых огурцов, початые банки болгарского лечо и венгерского зелёного горошка. А жидкость на донышке – даже сверхгиперболой. «Сорок семь капель!» – торжественно объявил Ваня, держа пустую бутылку над пустым стаканом. Капель собралось меньше из всех четырёх выпитых накануне бутылок, стоявших на столе. Я от этого угощения отказался, и Ваня Сидоров жадно припал к стакану.
И тут появился ещё один гость, ради которого я и вспоминаю это раннее застолье. Он ночевал у Эдика, так что четыре бутылки они выпили втроём. Значительно моложе нас, с правильными, но неброскими чертами лица, с которого не сходило, пока мы выпивали, какое-то грустное, даже затравленное выражение. Пил он меньше нас – недопивал, так что ему не наливали, а доливали. А когда они с Ваней ушли в магазин, который размещался в нашем доме, но не во дворе, а со стороны переулка, рассказал мне Эдик, что это то ли его, то ли его жены двоюродный племянник, что паренёк он неплохой, начитанный, до армии был живым, весёлым, а вот вернулся после службы будто мешком ушибленный: на всё реагирует вяло, без интереса.
– Ты кем служил в армии? – спросил я его, когда мы вдвоём стояли на балконе и курили.
Он посмотрел на меня тем же затравленным взглядом и нехотя обронил:
– Пограничником.
– О! – сказал я, стараясь растормошить его своим преувеличенно оживлённым тоном. – Ну и как граница?
– А что граница? – не понял он.
– Всё время была на замке? – спросил я.
Он посмотрел на меня сожалеюще, как на больного:
– От кого на замке, вы знаете?
«А ты, брат, оказывается, очень неглуп!» – подумал я и ответил:
– Не от шпионов же!
– Не от шпионов! – он прикурил новую сигарету от своего окурка. – За всё время с той стороны никого не было, зато с нашей…
– И ты их брал?
– Но я ведь не один в наряде. И не гонялся я ни за кем, делал вид, что гоняюсь. Но другие гонялись по-настоящему, зверели, стреляли.
– Убивали?
– Стреляли в основном по ногам.
– А ты?
– А я «мазал». Не вверх, конечно, стрелял. Но так, чтобы никого не задеть.
«Прямо как Юрий Живаго», – мелькнуло в голове о персонаже давно уже прочитанного запретного когда-то у нас романа. Там герой, оказавшись у красных, вступивших в бой с белыми, которые ему симпатичны, тоже стрелял для вида. Впрочем, роман Пастернака сейчас даже школьникам вменено читать.
– И не задел?
Он вдавил окурок в жестяную коробку, исполнявшую роль пепельницы, и сказал – сперва почти безучастно: «Задел однажды», а потом, возбуждаясь всё больше и больше:
– Это же юг! Горы! Лес! Кто за валунами прячется, кто в кустах. Засекли старика. По нему и стреляли. А я, как всегда, мимо. И вдруг в кустах крик. Побежал – женщина. Я ей в плечо попал. Потом перед строем мне благодарность вынесли. Особую, – усмехнулся, – благодарность: организатора побега обезвредил! Она с двумя детьми и отцом бежать из страны собралась. План побега разработала. Да не учла, что границу охраняет такая скотина, как я!
И уже после за столом, выпив и глядя на меня:
– В каких я войсках служил? В тюремных. Границу от своего народа охранял! От тех, кому дома жить стало невмоготу!
Вот о подобной «суверенной» демократии и толкуют кремлёвские политологи. Суверенная демократия – это свой особый российский путь, уставленный частоколом, чтобы не извне, не изнутри никто на него покуситься не мог. Потому и приняли закон о неправительственных организациях, которые во всём мире существуют на гранты западных фондов в поддержку демократии. Всем можно – а нашим правозащитникам нельзя. И кого смущает, что многие из этих правозащитников отведали при советском режиме гулаговской баланды? Мало ли что было при советском режиме! А вот при нынешнем, если верить заявлению информационного агентства БАШИНФОРМ от 8 февраля 2006 года, «между правозащитной деятельностью в России и иностранной разведкой можно поставить жирный знак равенства». «Мошенники, – разъясняет агентство БАШИНФОРМ, – под правозащитной личиной просто оптом и в розницу продают Родину». «Оптом и в розницу», – так и писали, скажем, о Солженицыне, о Сахарове, о Марченко, о Щаранском с подачи печально знаменитого пятого управления по работе с инакомыслящими в андроповском КГБ. Многие его сотрудники, особенно из бывшего Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, при Путине востребованы к руководству. К примеру, Виктор Черкесов, очень памятная фигура для ленинградских правозащитников. При Ельцине стал начальником Управления ФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Путин сперва сделал его своим полпредом по Северо-Западному федеральному округу, а потом директором Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Так что живут курилки и процветают! И не только оборот наркотиков контролируют, но такие агентства, как БАШИНФОРМ. «Дезой» это раньше на их языке называлось, то есть дезинформацией.
Однажды Путин отозвался о нынешнем грузинском премьере и его правительстве в том духе, что все они продались Западу, живут на деньги фонда Сороса. Тоже с советских времён идёт эта ненависть к Западу, особенно к Америке и к её фондам. Повыветрились из начальственных голов такие понятия, как соросовский лауреат, соросовский профессор, соросовский студент. А я думаю, что до сих пор одни благодарны Соросу за то, что помог выжить, пока учились: стипендии были смехотворными; другие – за то, что дал возможность хоть какое-то время заниматься любимым делом, не отвлекаясь на жизненную необходимость подработать где-то ещё, потому что на ставку профессора можно было только что не умереть с голоду!
А участие в зарубежных научных конференциях или в наших иногородних? А само по себе проведение у нас научных конференций? Мог оплатить вам это родной вуз или академический институт? Нет, конечно. Откуда бы он взял на это деньги? А фонд Сороса оплачивал – предоставлял гранты.
А научные и культурные обмены? А выпуск учебников нового поколения? А покупка книг для сельских библиотек, о которой я здесь уже рассказывал?
Впрочем, всё это ещё со сталинских времён велось: калачом заманить иностранцев в страну, чтобы с их помощью, с помощью их денег строить заводы, прокладывать новые трассы, как было во времена первых пятилеток, а потом вытолкать да ещё дать им понять, что дёшево отделались. Представьте себе, что в первые годы войны не пришли бы нам на помощь союзники со своим продовольствием, одеждой, боевой техникой.
«Кровью своих солдат я не торгую», – с удовольствием цитировал нам, сотрудникам отдела русской литературы «Литгазеты», Фёдор Аркадьевич Чапчахов ответ Сталина американцам, напомнившим диктатору, что СССР не оплатил оговоренной суммы за поставки во время войны по так называемому «ленд-лизу». Восхищался Чапчахов Сталиным: во дал, во врезал! А разговор о том, сколько этот «отец народов» зря и бездарно пролил крови своих солдат, Чапчахов не поддерживал. Зато, как все сталинисты, поддерживал миф, созданный его кумиром, – ничтожной была помощь, оказанная нам союзниками! Смеялся, рассказывая, как на вопрос Черчилля: «Знает ли маршал Сталин, что такое благодарность?» – вождь ответил: «Конечно, знаю! Это такая собачья болезнь». Что ж, бациллы этой «собачьей болезни» Сталина действительно не зацепили. А ведь даже по свидетельству сталинского маршала Г. К. Жукова, «…нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью». «Теперь легко говорить, что ленд-лиз ничего не значил, – вторит Жукову один из ближайших сталинских соратников А. И. Микоян… – Но осенью 1941 года мы всё потеряли, и если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие, тёплые вещи для армии и другое снабжение, ещё вопрос, как обернулось бы дело».
(Впрочем, многих нынешних военных историков подобные свидетельства не убеждают. Им больше по душе сталинская мысль: победили бы и без союзников! Поэтому и морочат голову современной молодёжи достоверной якобы цифирью: помощь союзников во время войны составляла 5 % от необходимого нашей стране. И добиваются, судя по разного рода сетевым форумам, своего: молодёжь им верит!)
А как мы повели себя после войны? Отказались от плана Маршалла, позволившего разорённой Европе встать на ноги. Как же: у советских собственная гордость! И где очутились со своей гордостью? Превратились в сверхдержаву. Ах, сколько гордости в таком осознании: своя атомная бомба, своя водородная бомба, первый в мире спутник, первый человек в космосе! Военно-промышленный комплекс с закрытыми, секретными городами от Московской области до Волги, до Урала, до Сибири. Какие-нибудь таинственные Арзамас-16, Красноярск-7, Челябинск-65, окружённые широкой песчаной полосой за колючей проволокой, чтобы мышь, проскочившую по следам, опознать. Был я в музее славы одного такого городка – курчатовского КБ. Портреты: доктор, профессор, член-корреспондент, действительный член. И под каждым даты рождения и смерти. Сердце сжалось: сколько умерло в районе сорока! Музей как колумбарий! Из этого, кстати, города лет пятьдесят назад выплыло ядовитое облако – до сих пор не рекомендуют рыбу в местных озёрах ловить и лесными плодами питаться: опасно для жизни! Не говорю уж о том, сколько людей тогда сразу это смертоносное облако накрыло. Не меньше, чем чернобыльское.
Хрущёв тоже когда-то над Тито смеялся, как Путин сейчас над Саакашвили: дескать, собрался на американской пшенице идти по своему особому югославскому пути к социализму. А потом и сам пошёл по своему, закупая пшеницу на Западе. А уж его преемники подсели на иноземный хлеб, как наркоман на иглу. Своего ленинско-сталинский социализм во всех, в том числе и в югославском, вариантах вырастить не смог. Да и не старался. «Дать советской армии всё необходимое, – говорил Брежнев, – священная наша задача».
* * *
С одной стороны, военно-промышленный комплекс у нас никогда не нищенствовал. А с другой, «всё необходимое» подчас оказывалось пропагандистской риторикой. И военные чиновники, и партийная верхушка жаждали получить «необходимое», как говорил герой Грибоедова, «числом поболее, ценою подешевле».
Я не встречал специалистов в области самолётостроения и создания ракетной техники, которые не знали бы, чем занимался мой тесть – Михаил Макарович Бондарюк. Ещё до войны он оценил перспективность для авиации прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД), придававших ощутимое ускорение тяжёлым транспортным самолётам. Во время войны, когда истребительная авиация переживала явный кризис – все самолёты достигли, казалось, максимальной скорости, М. М. Бондарюк разработал двигатель, который значительно повысил скорость истребителя, сконструированного С. А. Лавочкиным, – Ла-5. Ну а после войны, когда потребовались сверхзвуковые скорости, был разработан сверхдальний бомбардировщик, на котором поставили ПВРД Бондарюка и который, по поздней горькой оценке специалистов, вполне мог стать конкурентом знаменитому впоследствии американскому «Боингу В-52». Мог бы, да не стал. По приказу Хрущёва работу над ним прекратили: устройство потребляло слишком много, по мнению партийного главы, горючего.
Любопытно, что когда уже после смерти Бондарюка обнаружили севший на нашей территории из-за выработки топлива последний писк авиационный моды – американский беспилотный высотный самолет-разведчик фирмы «Локхид», оказалось, что мы могли иметь такой же намного раньше, потому что работал американский на двигателе, похожем на тот, который давно уже был создан в Особом конструкторском бюро (ОКБ) под руководством главного конструктора Бондарюка и который тоже не вышел в серийное производство.
А Королёв, поначалу склонявшийся к тому, чтобы установить на крылатых ракетах двигатель Бондарюка? Расчёты показывали, что, набрав высоту в 20 километров, ракета обретёт нужную дальность и точность. Но одно дело технические расчёты, и совсем другое – финансовые!
А Келдыш, горячо поддерживающий Бондарюка и вынужденный отказаться от поддержки под нажимом Фрола Козлова, второго секретаря ЦК, убеждённого, как и Хрущёв, что двигатель должен обходиться дешевле?
Хрущёва сняли, а новое руководство не спешило вкладывать деньги в перспективные проекты. Министр авиационной промышленности П. В. Дементьев добился, чтобы доставлявшее ему столько хлопот ОКБ Бондарюка было переведено под крышу Министерства среднего машиностроения, которое курировал завотделом оборонной промышленности ЦК И. Д. Сербин, невзлюбивший Бондарюка за его независимый характер. К тому же в биографии Бондарюка было, с точки зрения партийного функционера, «пятно» – брат Михаила Макаровича, Георгий, военный лётчик, комбриг, с двумя орденами Красного Знамени за гражданскую войну, командовавший перед самым арестом авиационным корпусом, был расстрелян в 1938-м (в 56-м реабилитирован). И хотя в последние годы жизни Бондарюк одержал, казалось бы, самую убедительную победу: под его руководством была разработана ядерная энергетическая установка – источник электропитания спутников, которая по своим характеристикам превзошла американскую и оказалась намного надёжней её, Сербин всё делал, чтобы принизить значение этих работ.
А после смерти Михаила Макаровича открылась и личная корысть Сербина: главным конструктором бондарюковского ОКБ назначили его сына, который полностью погубил перспективное дело.
Вот так жадность руководства, интриги чиновников привели нашу оборонную промышленность к отставанию от США. А ведь поначалу мы были в лидерах!
Подлинную цену мощи нашей армии показал Афганистан. Десять лет в горах топталась, страну завоёвывала. Ничего не вышло. Да и не могло. Рекрутчина давно себя изжила – только офицерам выгодна: солдат в рабство хозяйчикам продавать или у себя держать в бесплатной прислуге: полы в доме помыть, что-нибудь там починить, баньку построить. Удивительно помогает это солдату набраться боеспособности, освоить сложнейшую технику, в которую не личные же офицерские или генеральские деньги вбухали!
О сегодняшней дедовщине, калечащей и убивающей солдат, о той обязательной дани, которую новички платят «дедам», те делятся с офицерами, а эти с генералами, которым те же новички-солдаты строят коттеджи стоимостью в многолетнюю генеральскую зарплату, говорят настолько часто, что рассказы об этом стали обыденной повседневностью. Но генералы негодуют. «Один генерал из Генштаба после очередной публикации о гибели солдата в Российской армии из-за дедовщины, – пишет в «Новой газете» (27.07. – 30.07.2006 г.) её военный обозреватель Вячеслав Измайлов, – сказал мне с раздражением: «Вы и ваша газета муссируете жареные факты. Какие вы патриоты! Вы армию уничтожаете, Россию на колени перед НАТО и террористами ставите»». Вот – генеральская логика, сравнимая разве только с логикой Городничего из гоголевского «Ревизора»: об уничтожении армии свидетельствуют не погибшие по вине офицеров (тех же генералов) солдаты, а предание гласности фактов их гибели. Вот так же и Городничий уверял Хлестакова: «Унтер-офицерша налгала вам, будто я её высек; она врёт, ей-Богу врёт. Она сама себя высекла».
А насчёт того, что выносить сор из избы не патриотично, что рассказывать правду о так называемых неуставных отношениях в армии – значит ставить страну на колени перед НАТО, то это старый пропагандистский советский штамп. Мы ещё лет тридцать назад смеялись в «Литературке», прочитывая заголовки газет. «Мирный атом», «Вдохновенный труд», «Счастливое детство», с одной стороны, и – «Ложь на длинных ногах», «В царстве тьмы», «Без права на жизнь», с другой. Угадайте с трёх раз, какие материалы были о нас и какие о них.
Новое в рассуждениях генштабовца здесь – это «жирный знак равенства» между НАТО и террористами. Добавилось, оказывается, врагов у Российской армии: старый, заклятый, с кем чуть ли не сразу же после войны воевать готовимся, – и новый, не очень, правда, внятный, поскольку блок НАТО заодно с террористами действовать вроде не собирается! А журналисты, вместо того чтобы мобилизовать избиваемых и калечимых солдат на ратные подвиги, накинулись на «жареные факты» этих избиений и убиений. Есть отчего гневаться генералу!
Как нарочно, только что (30 июля 2006 год) вышел из метро «Арбатская» и, пойдя мимо Генштаба, остановился у светофора, а за мной солдат. «Вы не могли бы, – спрашивает, – дать мне немного денег?». Прежде я солдатам не давал, полагал, что они собирают на наркотики, на водку. Но после публикации о самоубийстве Кирилла Григорьева, служившего в том же Генштабе и не выдержавшего издевательств «дедов», обложивших его данью, из-за которой он просил денег у родителей, у прохожих, – после жуткой этой истории полез в карман за кошельком.
– Что, – спрашиваю, – «деды» достали?
– Да, – говорит стеснительно, – на себя-то мне бы хватило. Лицо хорошее, интеллигентное, ладная фигурка.
– Откуда? – спрашиваю.
– Из Королёва, – отвечает.
– Школу кончил?
– Поступал в Физтех, не прошёл.
– И определили служить в Генштаб? Усмехается:
– Родители у меня на оборонном предприятии работают. Там и вышли на нужного человека, через которого я попал в Генштаб.
– И чем ты там занимаешься?
– Обещают в лабораторию устроить. Я физику люблю. Буду работать в лаборатории, – здраво рассуждает, – не забуду всего, что знал. А пока тяжело: даже читать некогда.
– Так загружен?
– «Деды» не дают.
– Кирилла Григорьева знал?
– Слышал о нём, – говорит. – Самоубийством кончил. Не удивляюсь.
Вот и Юлия Калинина, автор статьи о самоубийстве прикомандированного к Генштабу военнослужащего срочной службы Кирилла Григорьева («Московский комсомолец» от 27 июля 2006 года), тоже не удивляется. Кирилл выбросился с балкона девятого этажа дома на Новом Арбате. Оставил предсмертную записку, где поимённо назвал всех своих истязателей и вымогателей – «дедов» и офицеров. Но записка ведь не документ. Она должна быть подтверждена показаниями свидетелей – сослуживцев Кирилла. А их сразу же перевели в другую часть. И до смерти запугали. Так что похоже, что никого за эту гибель не осудят. Матери погибшего сына в военкомате выдали бумажку: «Умер при падении с девятого этажа». «Лучше бы они написали: «Умер при падении в ад»», – заканчивает свою статью, названную именно этой фразой, журналистка «Московского комсомольца». И она права: служба в армии сейчас подобна адовому пеклу, сродни тюремному, а то и пострашнее. Что же удивляться самоубийствам тех, кто не выдерживает этого болевого порога!
А убийствам? Тому, что «в одной из подмосковных частей железнодорожных войск Минобороны» капитан Вячеслав Никифоров («его вес 160 кг»), празднуя День железнодорожника (6 августа), «до смерти забил 20-летнего рядового Дмитрия Пантелеева». «Он выбил Дмитрию глаз, пробил голову и сломал ребро». «Удары были такой силы, – это я цитирую «Московский комсомолец» от 12 августа 2006 года, – что произошло смещение всех костей челюсти и черепа». Тех, кто привык к сообщениям о неуставных отношениях в армии, вряд ли удивит и это.
А генерал из Генштаба, выходит, удивляется: чего, дескать, на подобные вещи внимание обращать! Нет, что ли, у прессы других дел, как смаковать «жареные факты»!
«Я не стал ему говорить, – пишет в «Новой газете» В. Измайлов, – что у меня как офицера и Афганистан за плечами, и Чечня, и Закавказье, и Дальний Восток, и Прибалтика, и Германия. А как журналист я устал от этих «жареных фактов», которые готовятся на кухне сегодняшней Российской армии в многократно большем количестве, чем за многие годы моей службы строевым офицером в войсках».
Кстати, по поводу убийства Дмитрия Пантелеева: «Представители военной прокуратуры подтвердили «МК», что Пантелеев был трезв, а избивший его командир – пьян. Доподлинно известно, что рядовой Пантелеев в роковой день не был в самоволке». И ещё: «Основываясь на показаниях матери погибшего, следственные органы рассматривают версию о вымогательстве. Женщина утверждает, что, пока сын служил в части, Никифоров требовал принести ему «оброк». Для этого на некоего гражданина был открыт счёт в банке, куда мать и посылала деньги».
Военная прокуратура, стало быть, работает! Пока да. Но выписываю из более раннего сообщения «Московского комсомольца» (3 августа 2006 год): «В среде юристов ходят упорные слухи, что в недрах Госдумы зреет законопроект, который снимет погоны с военных прокуроров и судей уже 1 января 2007 года». За разъяснением газета обратилась к председателю Московского окружного военного суда генералу Александру Сергеевичу Безнасюку. Тот поясняет: «Я убеждён, что причина здесь одна: недовольство Минобороны нашей работой. Мы ведь удовлетворяем 80 % жалоб и обращений военнослужащих. Естественно, что решения принимаются не в пользу Минобороны и прочих силовых ведомств, а в пользу человека в погонах. То есть мы защищаем простых солдат и офицеров от их руководства. К тому же мы признаём незаконными и отменяем большой процент приказов, вплоть до приказов руководителей силовых ведомств, а руководству это не нравится».
Натурально, какому же руководству это понравится!
Генерал-лейтенант Безнасюк продолжает: «К тому же преступность в армии растёт, в том числе и среди офицеров – мы об этом говорим открыто, кому-то это не нравится. 1998 офицеров были осуждены в прошлом году среди всех силовых структур, из них более тысячи – в Вооруженных силах. Это же очень много».
Немало, конечно. Но корреспондентка газеты Елена Павлова обращает внимание генерала на то, что «за шесть месяцев этого года в военные суды МВО обратились 6053 человека, из них солдат – чуть больше сотни…» «Это значит, – пожимает плечами Безнасюк, – что у призывного контингента нет доступа к правосудию. А если суды ликвидируют, то и эти 120 солдат не смогут добиться справедливости – стена с колючей проволокой станет ещё толще».
Стена с колючей проволокой, ограждающая патриотические сердца от «жареных фактов», – вот рецепт чиновников в погонах по возрождению боевого духа армии. А ведь возводили уже такую стену, и что? Стала армия боеспособней?
Набило оскомину банальнейшее удивление: почему побеждённые Германия или Япония в конце концов стали жить намного лучше победителя России (Советского Союза)? Потому что включились в мировую экономику, стали жить по рыночным законам, дали им полностью проявить себя, а не оборвали, как несмышлёные дети, и не затоптали, как свирепые бизоны, слабые рыночные ростки.
К тому же побеждённые страны и те, кто оказался разорёнными войной, перестали лгать своим народам в пропагандистских целях, превращая Америку из охотно помогающей всему миру державы, отзывающейся на боль других, восстанавливающей чужое пришедшее в негодность хозяйство, в некоего вселенского монстра, который мечтает о мировом господстве.
Помню, как откликнулся Вадим Кожинов в 1968 году на сообщение о том, что Сергей Михайлович Бонди одобрил нашу интервенцию в Чехословакию: «Он что, на старости лет с ума сошёл?»
– Но Бонди ссылается на Пушкина, на его «домашний спор славян между собой», – сказали ему.
– Так «домашний» же, – возразил Кожинов, который, как я писал в «Стёжках-дорожках», в то время ещё не обрёл ту репутацию, какой стал известен позже. – Польша входила в Российскую империю. А Чехословакия советской республикой не является.
Ложь о мечтающей о мировом господстве Америке живёт и поныне. Как некогда пушкинист Сергей Михайлович Бонди, так и теперь многие заглатывают её не слишком свежую приманку.
– А почему, Геннадий Григорьевич, его жена сохраняет американское гражданство? – возразил мне мой заместитель в газете «Литература», когда я удивился, что его украинские родственники не стали голосовать за Ющенко, а проголосовали, как он мне сказал, «против всех».
– Ну что, дадим Украине газ? – спросил меня бывший приятель, которого я взял к себе на работу в «Литературную газету», потом долгое время его не видел: он переехал, и новый его телефон у меня оказался не скоро, но когда оказался, я обрадовано позвонил ему аккурат под Новый год.
– А почему бы нам ей его и не дать? – весело сказал я, убеждённый, что говорю с единомышленником.
– А по мне, – сказал бывший приятель, – пусть ей хозяин газ даёт.
– Какой хозяин.
– Америка! Какой же ещё?
– Господи, неужели ты веришь этой пропагандистской дребедени? – ужаснулся я.
– Я верю собственным глазам…
– Ушам, – уточнил я.
– Глазам, – зло продолжил он. – Америка тянет Украину в НАТО. И та, попрошайка, идёт. Дадут ей немного денег ради американских баз в Крыму и войск НАТО на наших границах.
Больше я уже ему не звонил…
Каждому по делам его. Это в Евангелии сказано. Запад потому и не подыскивает уточняющих определений к своей демократии, что она у него самая обычная: общество граждан, чьи жизнь, достоинство и благополучие защищены законом, охраняются государством. И по тому, как защищены, по тому, как охраняются, граждане судят о своих властях, которым могут продлить полномочия на свободных выборах, а могут на тех же выборах отдать предпочтения их оппонентам. У нас – компрадорский режим типа латиноамериканского в семидесятых годах прошлого века: отдельных граждан защищают только их деньги, которые они нажили на посредничестве между иностранным капиталом и собственным рынком: продавая оружие, богатства недр… Что ещё? А больше продавать нечего, потому что больше ничего никто и не производит. Коммуникации ветшают, техника устаревает, крестьяне как жили сотни лет без водопровода и газа, так и сейчас живут. И всю властную вертикаль в стране это не волнует: благополучие чиновников, их пребывание во власти от тех же крестьян или обнищавших горожан не зависит. Предупреждает же Путин Запад: не лезьте к нам с вашими рекомендациями. Вряд ли сознаёт при этом наш президент, что уподобляется известному сатирическому персонажу – людоедке Эллочке Щукиной, в чьём скудном лексиконе фраза «Не учите меня жить» призвана была, очевидно, запечатлеть суверенную независимость отчаянной модницы. Конечно, Путин этого не сознаёт! Он чётко выговаривает Западу: у нас своё понятие о демократии! Очень удобное, надо сказать, для правящего режима понятие: граждане не выбирают себе начальство, оно назначает себя само.
«По мнению нижегородского губернатора, – сообщает «Московский комсомолец» от 31 июля 2006 года, – народ не всегда делает правильный выбор (к президенту это не относится). Поэтому отказ от прямых выборов в России вполне оправдан». Да, так и сказал бывший член руководства полозковско-зюгановской компартии, оставивший, разумеется, её ради «Единой России» Валерий Шанцев, ставший вице-мэром Москвы, а потом и губернатором Нижегородской области: «Если народ избрал президента, и президент на свои плечи взял ответственность за страну, то президент вправе решать всё в этой стране». Оправдал доверие, оказанное ему президентом!
«Сколько же вы получаете?» – спросил я учительницу одного провинциального центра. «Ну, – ответила, – я ведь ещё и завуч. У меня 2500. У других вообще по две». «И всё?» – спросил я. «Это не Москва, – сказала, – подработать тут негде: школ не так уж много».
«Сколько вам платят в месяц? – в этот же вечер на банкете спрашиваю чиновника областного министерства. – Тысячи две имеете?» «Ну что вы, – изумлённо, – от силы одну-полторы». «Ну и льготы, – говорю, – больница, путёвки, переезды». «Это есть, – соглашается он. – Но это же есть и у всех!» «В смысле?» – не понимаю. «У всех в министерстве», – разъясняет.
Что-что? Чиновник от образования получал меньше учительницы? Могло ли такое быть? Нет, конечно. Та называла сумму в рублях, а этот – в долларах. И стоил доллар тогда 30 или даже несколько больше рублей.
Однажды на планёрке главный редактор «Литгазеты» Александр Борисович Чаковский поделился с нами свежим, теперь давно уже бородатым анекдотом о том, как спрашивают вождя горемычных людей России: «А вы их дустом не пробовали?»
Чаковский любил анекдоты, любил рассказывать их сотрудникам, неизменно извлекая из очередного антисоветского анекдота совершенно неожиданную, верноподданническую истину. По-моему, это его забавляло. Вот и здесь:
– Это я к тому, – сказал он, – что только подобный сверхтерпеливый народ достоин грандиозного будущего.
Как говорится, нашему теляти… Такое ощущение, что нынче дуст летит со всех сторон, плотно оседая на стариках. И это при том, что страна сейчас богата, как никогда. Золотовалютного резерва, подобного нынешнему, Россия не имела даже в царские времена! Её копилка – Стабфонд пополняется и пополняется за счёт нефтедолларового дождя. Но она не для тех, кто аскает. Она, как объяснил президент, для наших детей и внуков. Зазвучала старая советская песня о грандиозном будущем.
Что «православный» значит «бей жидов»
Уж не знаю, из чего её делали, но хорошо помню, что эта варёная колбаса стоила 7 рублей. Продавалась она почему-то только в одном деревянном ларьке, обычно торгующим пивом или квасом в розлив. Ларёк располагался у дома коммуны на Хавско-Шаболовском – через дорогу от наших домов. Разумеется, такая колбаса появлялась там не часто, но, когда появлялась, весть об этом мгновенно облетала окрестность, и мать гнала меня с деньгами в эту палатку.
Стоять приходилось долго. Никто тебе не писал химическим карандашом на ладошке номер, как в очереди за мукой, поэтому отлучиться было опасно: назад могли не пустить, не узнать. Вот и стоял я часами, иногда читая взятую с собой книжку, иногда прислушиваясь к разговорам взрослых.
Было мне тогда двенадцать лет, и взрослые разговоры о семье, о детях меня не интересовали, а вот какие-нибудь истории из криминальной, так сказать, жизни я подслушивал с большим интересом.
Помню тётку в суконном пальто с меховым воротником и в пуховом платке на голове. Она рассказывала, что в Сиротском переулке на чердаке дома поймали еврея, который конфетой заманил русского мальчика, взрезал ему горло и подставил под него бидончик, куда стекала кровь.
– Она ему для мацы была нужна. Это такой особый еврейский хлеб, который на русской детской крови запекают, – объясняла тётка очереди. Многие ахали от ужаса. – На прошлой неделе его поймали, – говорила тётка неверящим. – Жалко, что нет знакомых, – она оглядывалась, всматривалась, оживлялась и подзывала к себе мальчишку чуть старше меня, который, узнав в чём дело, подтверждал тёткин рассказ: так всё и было!
– Вот сволочь! – сказала мать не о еврее, а о тётке, когда я передал ей этот рассказ. – А ты книгу читай, когда стоишь в очереди. Не слушай этих идиотских разговоров!
Но я ещё раз услышал тот же рассказ от той же тётки, когда стоял за той же колбасой. Теперь она сообщала, что еврея поймали на чердаке дома на Мытной улице.
– Вы же говорили, что его поймали в Сиротском, – сказал я.
– Это другого: месяц уже прошёл, – уточнила она, – а на Мытной – на той неделе, – и, как тогда покрутив головой, подозвала к себе того же мальчишку.
– Да, – сказал он. – В прошлый вторник и поймали.
В школе, которая располагалась как раз между Сиротским переулком и Мытной улицей, никто ничего об этих случаях мне не говорил. Да и сам я не спешил делиться с кем-нибудь такой новостью: я в неё не поверил. Сказал об этом только моему другу Марику Быховскому, который отозвался о той тётке так же, как и моя мать: «Вот сволочь!» Тем более что Марик жил как раз в Сиротском переулке, и ему ли не знать, было ли в их домах что-либо подобное!
Не помню, как звали нашу учительницу биологии. Но её саму помню хорошо: крупная, полная, с глубокими глазными впадинами, откуда высверкивали небольшие глаза. Она была парторгом школы и поэтому присутствовала вместе с директором на всех наших торжественных линейках. Помимо биологии любила на своих уроках заряжать нас, так сказать, гражданским самосознанием – сообщала нечто вроде политинформации. От неё мы и услышали:
– У нас великая дружба народов! Но одному немногочисленному народу не по душе такая дружба! Особенно не по душе, что сплотились друзья вокруг великого русского народа. Вы поняли, о ком я говорю?
И поскольку никто не отозвался, после паузы:
– Я говорю о евреях. Не обо всех, конечно. Есть и среди них достойные люди. Но об абсолютном их большинстве. Можно только удивляться: за что они так ненавидят русский народ? Ведь если б не русские, немцы бы их уничтожили. Всех! Поголовно! Если б не Красная армия, абсолютное большинство которой составляли русские. Вместе с русскими братьями воевали и другие народы нашей страны. Но вот что удивительно! Казалось бы, над тобой, над евреем, нависла смертельная опасность: тебя в первую очередь Гитлер уничтожит. И много вы знаете евреев, которые пошли на фронт? Единицы! Большинство эвакуировалось вместе с военными заводами, добившись брони, то есть освобождения от воинской службы!
Много лет спустя, читая у Солженицына о том, какими храбрыми солдатами оказались евреи у себя на исторической родине, вовсе не такими, какими они были в Великую Отечественную, на которой устраивались врачами в эшелонах, пролезали в замполиты, чтобы не попасть на передовую, – впрочем, лично он, Солженицын, «видел евреев на фронте. Знал среди них бесстрашных. Не хоронил ни одного», – читая эту антисемитскую бредятину, я вспоминал 1952 год и политинформации нашей биологини.
Наша 545-я мужская школа называлась экспериментально-базовой Академии педагогических наук РСФСР. Немногие вводимые тогда в школы новации предварительно обкатывались на нас. Учителя были высокой квалификации и людьми, как правило, неплохими: мы к ним хорошо относились. Но биологиню-парторга, по-моему, не любил никто. Во всяком случае, когда по случаю смерти Сталина мы стояли строем на траурной линейке и давились от хохота, тщательно это маскируя, прячась друг за друга, то ещё и потому, что смешили нас красное зарёванное кабанье лицо и рыдающие, похожие на икание, интонации: «величайший (ик!) человек (ик!) гений (ик!)».
Потом уже за свою долгую жизнь я встречал немало антисемитов, что, конечно, неудивительно: вся сталинская политика после войны была ориентирована на разжигание ненависти к евреям, а взращённые на этих кормах последователи Сталина несли факел ненависти вечно неугасимым. Но замечал я, что самыми яростными антисемитами были не кадровики (у них работа была такая – следить, чтоб не нарушалась процентная норма, чтоб, не приведи Господи, не проскочил в учреждение лишний еврей), а именно парторги. Эти ненавидели не за страх, а за совесть. Или за идею? Да, наверное, это будет ближе к истине, которую я бы сформулировал так: антисемитизм – это идеология парторгов.
Первый год моей работы в «Литературной газете» оказался последним годом пребывания на посту парторга газеты Николая Алексеевича Фёдорова, директора библиотеки, бывшего чекиста, который работал в газете ещё вместе с Булатом Окуджавой. О Булате я вспомнил в связи с тем, что он мне о Фёдорове рассказывал, как тот кому-то отозвался о нём: «А я люблю работать с такими, как Окуджава». «Почему?» – спросили его. «У него жилка надорвана: родителей посадили, слегка потянешь за жилку, и он сам тебе в руки падает!» Знал бы Фёдоров, какими канатными были жилы у Булата! «Жуткий антисемит!» – говорил мне о Фёдорове Окуджава.
Но уже на другой год парторгом «Литгазеты» стал заведующий международным отделом Олег Николаевич Прудков. И оставался на этом посту до роспуска компартии.
Мой старший товарищ Бенедикт Сарнов, работавший в «Литгазете» в одно время с Окуджавой, вспоминает в своей мемуарной книге «Скуки не было», как морщился Олег Николаевич, который был тогда ответственным секретарём редакции, узнав, что в газету взяли очередного еврея. А мне запомнился перепуганный Фёдор Аркадьевич Чапчахов, говорящий по телефону с Прудковым. Тот осведомился у нашего начальника, члена редколлегии, как так получилось, что в дискуссию, которую вёл отдел, проскочила статья Владимира Соловьёва. Чапчахов ответил, что Соловьёв даже в «Правде» не так давно напечатал статью о Шукшине и вообще, кто же знал…
Ну, положим, о том, что отчество Соловьёва Исаакович, Чапчахов был осведомлён. Но кто же знал, что он подаст документы на выезд в Израиль? Даже «Правда» об этом не знала!
Однако завершающий дискуссию академик Лихачёв нашёл необходимым привести цитату из Соловьёва, чтобы её опровергнуть. Вышли из положения, заменив фамилию Соловьёва на «один из участников нашей дискуссии». С того момента, как ты подавал на выезд, ты становился анонимом: твои книги изымались из библиотек и отправлялись в спецхран, куда проникнуть можно было только по особому разрешению.
Парторг – это какая-никакая, но номенклатура райкома. А уж антисемитизм работника партийного аппарата – его, можно сказать, визитная карточка.
В 1970-м, кажется, году летел я из Москвы в Армению на Всесоюзный семинар молодых поэтов. Долго не мог улететь: рейс всё откладывали и откладывали. В Ереван прилетел ночью. Взял такси и решил ехать в ЦК комсомола: там, думаю, скажут, где остановились участники, а может, помогут добраться до этой гостиницы.
Но таксист что-то напутал, и в результате я оказался в горкоме партии. Дежурный долго не мог понять, чего мне надо, вертел моё редакционное удостоверение, смотрел командировочное направление, а потом открыл дверь какого-то кабинета, положил на стол мои документы и сказал (акцент я опускаю): «Ладно, ложитесь пока вот на тот диван, утром придёт хозяин и всё вам сделает». Утомлённый бестолковым днём, проведённым в основном в аэропорту, я заснул.
А проснувшись, услышал (акцент опускаю):
– Ну что это за жидовские штучки, а? Ну что ты, как пархатый, а? Я ж тебя как человека прошу: сделай, друг будешь, а? Да? Ну спасибо, дорогой.
Крупный армянин заулыбался, увидев, что я проснулся:
– Доброе утро, Геннадий Григорьевич! Рад приветствовать вас в солнечной Армении. Умывайтесь. Сейчас позавтракаем, и за вами приедут.
– С кем это вы? – спросил я его.
– А, – он пренебрежительно махнул рукой, – второй секретарь (не помню чего). Недавно прислали. Коньяк три дня назад пили вместе. Русский. Обещал одно дело сделать. И повёл себя, как еврейчик. «Не помню, – говорит, – пьяный был». Ну я ему и напомнил.
К антисемитизму русского аппарата, как и к его мату, я привык. А вот в то, что аппаратчик-армянин антисемит, признаться, не очень поверил. Может, он говорит на сленге, на каком все эти «еврейчик», «жидовский», «пархатый» безобидны? Говорили же крестьяне в Смоленской области, где, как рассказывал, я жил в детстве: «не жиди», то есть «не жадничай»! Да и дети весело скакали под бессмысленную, на их разумение, дразнилочку: «Жид, жид, жид, по верёвочке бежит!».
Но, поездив по стране, побывав не только в европейской её части, но и в азиатской, и в среднеазиатской, я убедился, что аппарат везде одинаков, что сталинская его выучка принесла щедрые плоды. И на днях ещё раз удостоверился в этом, купив книгу Николая Митрохина «Русская партия. Движение русских националистов в СССР 1953–1985». Она издана в 2003 году и почти тотчас исчезла с книжных прилавков. Долго я за ней охотился. И очень обрадовался, когда в одном небольшом магазинчике мне вынесли последний, как сказали, имевшийся у них экземпляр.
Обратите внимание на дату зарождения этой «Русской партии» – 1953-й, сразу после смерти Сталина. Для продолжения – теперь это можно сказать с уверенностью – его ксенофобской политики.
Пересказывать книгу бессмысленно: её надо внимательно читать. Речь в ней о самых разных кружках и объединениях – и тех, что были связаны с ЦК КПСС и с ЦК ВЛКСМ, и тех, кто ненавидел большевизм, противопоставляя ему национализм, и был упрятан за это в лагерь. Имена называются громкие – писателей, учёных, министров, секретарей ЦК, членов политбюро. И залогом того, что всё, рассказанное в книге, правда, служит её научный аппарат: автор во многом опирается на материалы доступных ещё недавно архивов, на свидетельства правозащитников и их некогда подпольные издания, на различные воспоминания и интервью, которые охотно раздают сейчас журналистам осмелевшие при Путине националисты.
С другой стороны, воспоминания и интервью последних делают правду неполной. К примеру, вспоминает Станислав Куняев о том, как пьяный поэт Владимир Соколов обращался за столиком в доме литераторов к критику Евгению Юрьевичу Сидорову: «Евгений Абрамович», поскольку тот был женат на еврейке. И забывает сообщить, что Соколов резко порвал любые отношения со всей их националистической группой, даже с Кожиновым, с которым долгое время дружил, именно и прежде всего потому, что был чужд антисемитизму. А в тот раз, не красящий его, спьяну (а пил Соколов зверски) подыгрывал тем, кого пока ещё считал друзьями.
Или уже о Кожинове, который «на слова Е. Евтушенко о себе как о «великом русском поэте» ответил: " Да какой ты русский поэт, ты всего лишь лакей мирового еврейства», точно зная, что присутствующая тут же его жена-англичанка является еврейкой по этническому происхождению».
Во-первых, Евтушенко не был настолько глупо амбициозен, чтобы рекомендоваться «великим» своему недоброжелателю! А во-вторых, кто же из наших общих знакомых не знал, да и Кожинов не скрывал того, что в обеих его дочках течёт и еврейская кровь?
Не поверил я поначалу Куняеву и когда он записал в «русскую партию» Ярослава Смелякова, отождествив его с теми, кто полностью принял коммунистические идеи, но сохранил националистические взгляды. Тем более что Куняев отнёс к ученикам Смелякова таких, не имеющих никакого отношения к Ярославу Васильевичу поэтов, как Анатолий Передреев, Владимир Соколов и Игорь Шкляревский, группировавшихся вокруг него, Куняева, когда он работал в журнале «Знамя».
Я ведь помнил самого Станислава Куняева и его ранние стихи ещё по литературному объединению «Магистраль», которое вёл Григорий Михайлович Левин. Помнил, что Куняев и Передреев считались тогда (да и были!) учениками Бориса Слуцкого, писали в стиле своего учителя. Владимир Соколов раньше Смелякова обратился к традициям русской классической поэзии. А Игорь Шкляревский, приехавший в то время в Москву из Белоруссии, пока что осматривался. Ничьим учеником он себя не объявлял, а от Куняева и его единомышленников отошёл довольно быстро.
Был Смеляков не националистом, а государственником в советском стиле. Любил свою комсомольскую молодость, о которой писал с такой же нежностью, как Михаил Светлов. Писал Смеляков и стихи, которые меня лично коробили: оправдывающие Петра, посылающего на казнь своего сына, царевича Алексея. Или «Кресло» – о том, как ходил он по Кремлю в сопровождении бывшего кремлёвского курсанта писателя Владимира Солоухина, попал в опочивальню Ивана Грозного, где стояло кресло царя, и…
И я тогда, как все поэты, мгновенно, безрассудно смел, по хулиганству в кресло это, как бы играючи, присел, —и был за это мгновенно наказан:
Но тут же из него сухая, как туча, пыль времён пошла. И молния веков, блистая, меня презрительно прожгла.«Как словно сдуру прикоснулся / к высоковольтным проводам», – по-другому комментирует это Смеляков. И вот вывод:
Урока мне хватало с лишком, не описать, не объяснить. Куда ты вздумал лезть, мальчишка? Над кем решился подшутить?Конечно, коробит это холопское отношение к канонизированному советскими историками по приказу подражавшего ему Сталина царю Ивану IV, которого современники называли не Грозным, а Мучителем. А с другой стороны, какую ещё трактовку истории, кроме советской, мог признавать человек, трижды сидевший в сталинских лагерях и несмотря на это упорно цеплявшийся за идеалы своей комсомольской юности! Господи, о ком он только ни писал, кого он только ни приветствовал – и Егора Исаева, и Владимира Цыбина, и Владимира Фирсова, и Феликса Чуева! Но и Марка Лисянского, Григория Поженяна, Дмитрия Сухарева, Евгения Евтушенко, Римму Казакову, Беллу Ахмадулину, даже (с оговорками) Андрея Вознесенского! Всеядность? Может быть. Но ещё и отсутствие партийности, то есть нежелание примыкать к какой-либо литературной партии, в том числе и к «русской». Вот почему я не поверил поначалу Куняеву.
Но, поразмыслив, я, кажется, понял, почему он к ней отнёс Смелякова. Тот действительно давал для этого основания. Не зря ведь его фамилия мелькает среди тех, кого поддерживала «группа Павлова», первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Она, как передаёт Митрохин, стремилась «поощрять писателей из «прорусской» фракции Союза писателей – М. Шолохова, М. Алексеева, Л. Леонова, Л. Соболева, Я. Смелякова, В. Фирсова и других». Или в связи с тем мы находим фамилию Смелякова, что возглавляемое активистом «группы Павлова» Ю. Мелентьевым издательство «Молодая гвардия» «завязало и укрепило связи с рядом влиятельнейших писателей, поддерживавших идеи русского национализма, – М. Шолоховым, Л. Леоновым, Я. Смеляковым, В. Солоухиным». Была в «русской партии» и «группа Шелепина». Она всех этих писателей тоже поддерживала.
В странной, конечно, компании оказывается Смеляков. В компании друзей?
Однажды он подошёл ко мне в ЦДЛ и стал распекать меня за небольшую статейку о его стихотворении «Мальчики, пришедшие в апреле», напечатанную в московском ежегоднике «День поэзии». «Ты приписываешь мне свои мысли, – сказал он. – Ни о чём подобном, что ты написал, я и не думал». «Бывает, – ответил я. – Ещё Белинский заметил, что если б сказали Лермонтову, о чём он написал, он мог бы удивиться и даже этому не поверить». «Ну, ты не Белинский, – сказал Смеляков. – Мне твои «левые» мысли не нужны». «Почему «левые»?» – удивился я. «А ты что, считаешь себя «правым»?» – «Ну какой же я «правый»!» «Вот-вот, – подхватил Смеляков. – Чего вы, «левые», лезете ко мне? Читал, небось, книжку, которая недавно обо мне вышла? Тоже одного «левого»! – И, распаляясь: – Да оставьте вы меня в покое! Пишите о других!»
«Левые» и «правые» в то время обозначали абсолютно противоположное теперешнему явление. «Правыми» назывались литераторы, поддерживающие коммунистический режим и, коль скоро я пишу сейчас об этом, его националистические идеи.
А книга, о которой говорил Смеляков, принадлежала Станиславу Рассадину. Недавно я пересказал ему тот забытый было за давностью лет разговор. В ответ он сослался на Александра Межирова, который будто бы видел, как Смеляков полистал книгу Рассадина, бросил её на стол и заплакал: «Он ненавидит моё поколение!»
– Правда, Саша мог и приврать! – сказал Стасик.
Да уж, за Межировым ходила эта слава – неистощимого фантазёра!
Стасик задумался и сказал:
– Слушай, а ведь твой рассказ многое в Смелякове объясняет. Ты читал книгу Данина «Бремя суда»?
И Рассадин показал мне то место в книге Даниила Данина, где он вспоминает о своей рецензии на «Кремлёвские ели» – первую книгу Смелякова, выпущенную им после очередной отсидки. Шёл 1949 год. Рецензию обмыли. Смеляков ей очень радовался. Но через некоторое время выступил Фадеев, назвал её «эстетским захваливанием». И редакции, приветившие было Смелякова, перестали его печатать. Разъярённый Смеляков обрушился на Данина: «Зачем ты написал эту статью?» «Ты с ума сошёл?» – спросил тот. «Я-то не сошёл, но вот ты о моей судьбе подумал? Теперь меня снова не будут печатать. Мне надо было жить в незаметности, а что делать после твоей сволочной статьи?»
Страх дважды отсидевшего до этого в лагере Смелякова был очень понятен. И кто знает, не сыграла ли свою роль «сволочная статья» Данина в том, что Смеляков снова был посажен? Наверняка этого утверждать, конечно, нельзя, как нельзя согласиться с испугавшимся Смеляковым в том, что его спасением было жить в незаметности. В преддверии нового Большого Террора, который готовил Сталин после войны для своих подданных, было приказано вновь арестовывать уже отсидевших. Так что долго жить в незаметности у Смелякова, скорее всего, не получилось бы!
Но какое это имеет отношение к тому, что он оказался в той компании, которую привечала антисемитская комсомольская, а потом и партийная аппаратная группа? Самое прямое. Наученный жизнью, он и не собирался опровергать её мнения о собственной причастности к этой компании. Его одаривали: дали государственную и комсомольскую премии. Он стал литературным метром, занял фадеевскую дачу в Переделкине, сидел в президиумах всевозможных пленумов, съездов и совещаний.
И только иные его стихи, которые он писал, показывали, что компания, к которой его пристегнули, состояла не из друзей его, а из нужных ему людей. Но в стихи надо было углубляться, надо было их разбирать, извлекать из них мысли, отличные от мировоззрения всей компании. Потому и злился он на «левых», что те замечали, предавали гласности то, что он старался упрятать, сохранить в незаметности!
А как же его всеядность в похвалах самым разным поэтам? Вряд ли «русская» компания её одобряла?
Вряд ли. Но она могла относиться к этому как к чудачеству своего товарища. Морщилась, конечно: для чего было Смелякову хвалить Евтушенко, но и радовалась: прав Ярослав – Фирсов – поэт от Бога!
Не зря я охотился за книгой Николая Митрохина. Она убеди – тельно показывает, что советский режим был загримированным нацизмом. Тех, кто пробовал выступить без грима, порой тоже преследовали, тоже, как я уже говорил, арестовывали, – такова судьба иных националистов. К примеру, членов Всероссийского социал-христианского союза освобождения народов (ВСХСОН), которых покарали очень жестоко. Лидер – выпускник восточного факультета Ленинградского университета И. В. Огурцов получил максимальный срок 15 лет лагеря, другой основатель союза лингвист М. Ю. Садо – 13. В будущем судьбы их разойдутся: Огурцов свяжет себя с «народно-патриотической» оппозицией, Садо войдёт в правление петербургского «Мемориала», несовместимого с ксенофобией. Ещё два основателя союза филолог Е. А. Вагин и юрист Б. А. Аверичкин будут осуждены на 8 лет, а выйдя на свободу, станут активистами радикальных националистических группировок. То есть союз был сообществом идейно разнородных людей, но всё-таки большинство его членов тянулись или потянулись по выходе на свободу к национализму, как, к примеру, известный писатель Леонид Бородин, ныне главный редактор православно-ксенофобского журнала «Москва».
Конечно, как и пишет Митрохин, мы «должны помнить о героизме, с которым они выдержали свои сроки в нечеловеческих условиях». И всё же нельзя не согласиться с Митрохиным в том, что «эти люди сидели не затем, чтобы проведшие весь их срок в тепле и покое члены «русской партии» после крушения коммунистического режима рассказывали об ужасных гонениях ведомства Ю. Андропова против " патриотов», приводя в пример их имена».
Добавлю к этому, что само это карательное ведомство состояло из такого количества штатных и нештатных «патриотов», что странно было бы, если б оно устроило на них ужасные гонения! Как вспоминает один из лидеров «русской партии» С. Семанов, он консультировал и снабжал необходимой патриотической литературой пятерых помощников членов политбюро и среди них И. Синицына – помощника Андропова.
* * *
Однажды в газету «Литература» принесла запись своего урока московская учительница. Я стал читать и без труда расслышал, что говорит она с детьми голосом, каким, по выражению Маяковского, «заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло». Да и со мной она говорила тихо и очень благостно. Сообщила, что пришла к вере недавно, что в храме, куда она постоянно ходит, очень симпатичный ей настоятель, которому она многим обязана.
– И вот этому рассказу? – спросил я, показывая ей страницу из принесённой записи её урока. Она рассказывала детям о судьбе православной церкви при советской власти, о том, как убивали священников и разрушали храмы большевики и как всю эту вакханалию насилия остановил во время войны Сталин. Некому монаху, читал я, было видение. Точнее, явление Богородицы, которая в самые тяжёлые для СССР военные дни послала его к Сталину с наказом восстановить в России патриаршество и ни в коем случае не оставлять немцам два города – Ленинград и Сталинград! Монах отправился в путь, преодолел его без труда. Был принят и внимательно выслушан Сталиным, который немедленно связался с патриаршим местоблюстителем, митрополитом Московским и Коломенским Сергием и ещё с несколькими церковными иерархами, приказал созвать Архиерейский собор, чтобы выбрала Русская православная церковь патриарха, упразднённого было ещё в начале двадцатых после ареста Тихона, канонизированного ныне святого. Сергий и стал новым патриархом. А что до Ленинграда и Сталинграда, то как ни морили гитлеровцы ленинградцев голодом, как ни дрались за каждый сталинградский дом, оставив от города руины, захватить ни тот ни другой им не удалось. Все наказы Богородицы Сталин исполнил. И был вознаграждён – увенчан как победитель, как величайший в истории полководец.
– Вы от батюшки об этом слышали? – спросил я. Она посмотрела на меня и ответила вопросом на вопрос:
– А вы сами – верующий?
– Это к делу не относится, – сказал я. – Но я никогда не был в партии и с партией.
Она удивлённо взглянула на меня:
– А я была. И даже была парторгом школы. Но какое это имеет отношение к делу?
– Самое прямое! – ответил я. – Эпизод, о котором вы рассказывали детям, очень легко вписывается в «Краткий курс истории ВКП(б)». Это стилистика того же большевизма, того же сталинизма. Приправленных религиозностью.
– То есть вы не верующий! – подытожила она.
– Не верящий, – уточнил я, – басням об угодных Богу Ленине и Сталине. С чего бы это Богородицу стали волновать города, названные их именами? Ленин ненавидел религию, убивал священников, отнимал церковные ценности, разрушал храмы. А ему за это благодать Божья? Сталин с большим размахом продолжил это ленинское дело!
– О здравии Сталина, – услышал я, – православные люди молились до самой его кончины.
– В тюрьмах и лагерях, – отвечаю, – они о его здравии не молились.
– И этим, – в её голосе зазвучали обличительные нотки, – они нарушали волю патриарха!
Дальше пересказывать разговор с этой истовой верующей не буду. Да и привёл я его для того, чтобы показать, как нуждались бывшие парторги и многие рядовые коммунисты в новой идеологии после развенчания старой. И с какой ревностной готовностью бросились обслуживать новую.
Сегодня 2 августа – Ильин день. И одновременно праздник Воздушно-десантных войск, учреждённый, возможно, ещё в Советском Союзе. Какое, однако, блистательное совпадение. Как не объявить пророка Илию небесным покровителем десантников! Случайно ли именно в Ильин день установили праздник десантников светские власти или намеренно, теперь уже точно не ответишь. Но не объявлять же случайностью то, что шествия десантников возглавляют церковные иерархи, что освящают священники места сборищ этих солдат! Признают, стало быть, Илию небесным покровителем десантников – верный знак примирения нынешнего православного духовенства с язычеством безбожных властей, красноречивый признак готовности подчинить православие язычеству.
С детства помню: Ильин день – это Илия-Громоносный. «Илья пророк разъезжает по небу на огненной колеснице», – говорили крестьяне о частых грозах в этот праздник. Приметливый народ засекал смену времён года («Илья лето кончает, жито зачинает»), и соответственно погоды («Придёт Илья, принесёт гнилья», то есть дождей), но скажи в моём детстве кто-нибудь тем же крестьянам в Смоленской области, что Илья – покровитель воздушных десантников, не убеждён, что он сумел бы выстоять под градом насмешек, которые на него бы обрушились!
Каким именно воздушным десантникам покровительствует Илия? Только ли православным? Но тогда чем обусловлен его выбор? Ведь и Магомет в Коране возносит особую похвалу пророку Илии. А уж для иудеев ветхозаветный пророк Илия – посредник между Небом и землёй, который является благочестивым раввинам и мужам, чтобы сообщить им откровения Божии. И вообще что это за помесь христианства с греческой мифологией? Ведь если Илия, сумевший изобличить идолопоклонников, обратить погибающий от засухи народ к Богу и низвести тем самым на землю грозовые дожди, покровительствует воздушным десантникам, то пророк Иона, ослушавшийся Бога и уговоривший напуганных разыгравшейся из-за этого ослушания страшной бурей мореплавателей выбросить его за борт, где был проглочен китом, – этот пророк, три дня и три ночи неустанно молившийся в китовом чреве Богу и вызволенный Им оттуда, должен быть объявлен покровителем подводников! Странно, что этого ещё нет!
Мне это напоминает казус, случившийся с моим университетским преподавателем, с которым мы впоследствии подружились, покойным ныне Владимиром Николаевичем Турбиным. Разбирая пушкинскую «Капитанскую дочку», он задумался о церковном грехе самозванца Емельяна Пугачёва, объявившего себя императором Петром Фёдоровичем:
«Непонятно, что должны были делать ангелы и святые в случае с Пугачевым, положим: святой Емилиан должен был хранить Емельяна; но исчез Емельян, и выходит, что теперь уже надо оберегать Петра? Но Петрами ведает Петр, апостол. (…) Емельян не должен был превращаться в Петра и, бежав от покровительства одного святого, произвольно перекидываться к другому…»
Комизм этого рассуждения в том, что земные наши представления в нём серьёзным образом проецируются на Небо, и выходит, что апостолы – не только ученики Христа, избранные Им для проповеди Его учения, а святые не только канонизированы церковью за подвиги во имя веры, – они ещё заведуют некими отделами тёзок в небесной канцелярии!
Ничего кроме неловкости и раздражения не вызывали во мне телевизионные трансляции из современного клона взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя.
Храм в своё время большевики не зря объявили твердыней мракобесия: именно здесь после октябрьского переворота патриарх Тихон всенародно предал советскую власть анафеме. В начале 30-х первым секретарём Московского горкома партии был Каганович. Ему и досталось руководить сносом. Возможно, он делал это с удовольствием. И всё же перекладывать только на одного Кагановича ответственность за взрыв этого храма – историческая ложь, замешанная на антисемитизме. Как и все остальные малые вожди, Каганович был подневолен, подчинён советскому диктатору. Без сталинского благословения он бы действовать не посмел: потерял бы голову!
Вот так же и Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе» призывает «выложить на откосах канала шесть фамилий – главных подручных у Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков Беломора, шестерых наёмных убийц, записав за каждым тысяч по сорок жизней: Семён Фирин. – Матвей Берман. – Нафталий Френкель. – Лазарь Коган. – Яков Раппопорт. – Сергей Жук». Люди эти, конечно, страшные, да и не люди они – нелюди. И всё-таки неужели не нашлось среди сталинских палачей, задумавших Беломоро-Балтийский канал, спроектировавших его, отдавших строительство в руки пламенных чекистов, людей со славянскими фамилиями? Стоило ли Александру Исаевичу патетически восклицать о том же Нафталии Френкеле: «Мне представляется, что он ненавидел эту страну»? Если б ненавидел, нашёл бы способ из неё удрать! Да и с чего бы ему было ненавидеть страну, в которой удалось так хорошо устроиться?
Что говорить? В кровожадных чекистах ходило немало евреев, поляков, прибалтов. Помимо русских, украинцев и людей других национальностей, конечно. Особенно много было там евреев в первые десять-пятнадцать лет существования советской власти, когда малые народы уравняли в правах с народом большим. Но вот передо мной книга-справочник «Лубянка. Органы ВЧК—ОГПУ—НКВД– НКГБ—МГБ—МВД—КГБ. 1917–1991». Большого формата книга. 750 страниц. Вышла в Москве в 2003 году. Полистайте роспись структуры карательных органов при Ежове, Берии, Круглове, Дудорове, Меркулове, Абакумове, Игнатьеве (это только сталинские наркомы и министры). Много вы найдёте там еврейских фамилий? О послесталинских органах и говорить нечего: там евреев почти нет. Куда же они подевались? Неужели, возненавидев страну, уехали, наконец, в вожделенную свою Палестину (Израиль)? Не уехали.
«Не так давно, – пишут в сетевом «Ежедневном журнале» (5 августа 2006 года) Андрей Солдатов и Ирина Бороган, – были опубликованы выдержки из инструкции № 00134/13 «Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР» (приказ № 00310 от 21 декабря 1938 г.). Инструкция содержит перечень основных признаков дегенерации, наличие которых необходимо проверять у кандидатов – от еврейской крови до косоглазия, причём документ ссылается на опыт Торквемады: «В средневековье, к примеру, органы инквизиции только по одному из вышеуказанных признаков (имеется в виду косоглазие) сжигали на кострах. А русский царь Пётр Великий издал указ, запрещающий рыжим, косым, горбатым давать свидетельские показания в судах. Эти исторические аксиомы необходимо применять в повседневной практике органов НКВД»». Вот так! В день рождения тирана он преподносит себе подарок: объединяет людей еврейской крови с косоглазыми и горбунами, как недочеловеками, которым работать в карательных органах запрещено.
И что же? Легче стало русскому народу? Поутихли карательные? Как бы не так! По-прежнему хватали людей и по доносам, и по разнарядкам, отлавливали мнимых шпионов, выселяли целые народы, сажали вернувшихся из плена или угнанных немцами в Германию. Работа кипела. В том числе и по разрушению церковных храмов, которые сейчас восстанавливают с меньшей помпой, чем тогда, когда возводили железобетонную копию храма Христа Спасителя, откуда повели благостные репортажи праздничных церковных служб, которые лично у меня, повторяю, ничего кроме неловкости и раздражения не вызывали.
Ельцин и Черномырдин со свечками в руках притягивали к себе камеры операторов. Порой казалось, что ради них и их окружения затеяна церковная служба, что сам патриарх нет-нет, да и отвлечётся от неё, бросая украдкой взгляды на сановных гостей. Особенно это впечатление усилилось, когда стали показывать Путина. До него хотя бы никто не крестил лба, никто не кланялся благолепно, а при нём в подражание ему вся кремлёвская челядь пошла осенять себя крестным знамением.
На вопросы журналистов он неизменно отвечал, что крещён с детства и будто бы чуть ли не с детства нёс в себе веру в Бога. То, что в детстве его могла крестить бабушка, сомнений не вызывает. Так без малейшего их желания да и просто понятия о том, что происходит, были крещены многие младенцы. Скорее всего, бабушка, пожелавшая крестить новорожденного Путина, не была женой того его дедушки, который работал поваром чуть ли не у самого Сталина. Всё-таки Путин родился в 1952-м – почти за полгода до смерти тирана, за кремлёвской обслугой следили в оба глаза: крещение детей не приветствовалось властями, и эта бабушка вряд ли взялась бы за опасное для мужа дело. Другая бабушка могла, конечно, принести в церковь новорожденного внука, стараясь, как все бабушки, скрыть это от властей. Удавалось такое далеко не всегда: священник, совершавший церковный обряд, обязан был сообщать в компетентные органы данные не только родителей, крестивших своих детей, но и сведения о тех, кто сочетался церковным браком или выразил желание похоронить родственника по христианскому обряду. Редко, но бывало, что священник совершал обряд тайно, в доме того, кого крестил, – я сам так крещён, правда, не в детском возрасте. Но это было уже церковным диссидентством, и шли на него немногие, не страшащиеся проблем, которые могли возникнуть у них в отношениях с КГБ. Они и возникали. Ещё до того, как крестил меня молодой, чудесный, лучащийся добротой священник отец Дионисий, служивший в сельском храме Владимирской области, его избили на улице, а позже – в начале 80-х – избили так, что он слёг и уже не встал. Могли, стало быть, надеть крест на Путина-ребёнка. А то, что он не снял его с себя хотя бы в школьном возрасте, что он нёс или несёт в себе веру в Бога, маловероятно. Его же собственные рассказы и рассказы его биографов заставляют в этом усомниться.
Конечно, его увлечение в детстве романом Вадима Кожевникова «Щит и меч», его детское восхищение героем этого романа говорит только о том, что Бог обделил Путина художественным вкусом. Ничего особенно обидного для него в этом нет. Легко объяснимо возрастом и желание подростка стать разведчиком, с которым он явился в компетентные органы, где ему посоветовали прийти, когда повзрослеет. Но, вербуя иностранцев (в случае с Путиным – восточных немцев), совращая чужие души, можно убеждать себя, что действуешь из патриотизма, однако совместить эти действия с исповедуемыми якобы тобою христианскими заповедями совершенно невозможно.
Да и не в том же показатель веры, что крестит лоб Путин в храме Христа Спасителя или в других храмах и монастырях, куда заходит, когда ездит по стране. Хотя, уж если говорить о внешней обрядности, то в храме положено не только лоб крестить, но целовать руку благословляющего тебя священника, а не пожимать её, как Путин патриарху, или троекратно лобызаться с ним. Патриарх, понятно, никогда ему об этом не скажет: побоится, постесняется. Алексий II – бывший полковник КГБ, как утверждал священник Глеб Якунин, которого пустили при позднем Горбачёве в архив этого ведомства и который не стал делать тайны из тесного сотрудничества органов и церковных иерархов, за что был последними отлучён от церкви. (Быть может, учитывая подобные вещи, недавно («Московский комсомолец» от 23 сентября 2006 года) установили новые правила доступа к материалам уголовных дел жертв политических репрессий. Они или их прямые родственники могут узнать, за что пострадали сами или их отцы, деды. А вот историки, журналисты и даже непрямые родственники познакомятся с делом только с письменного согласия реабилитированного или его прямых наследников. Не согласятся – доступ в архив для историка закрыт! К тому же представьте, сколько нужно будет собрать справок правнукам, чтобы убедить чиновников, что перед ними прямые наследники. Не удивительно, что новый приказ о порядке доступа к архивам подписан министром внутренних дел и директором ФСБ. Удивителен третий подписант – министр культуры! Тоже, стало быть, озабочен тем, чтобы по возможности затуманить прошлое госбезопасности!) Так вот, связанный, скорее всего, не по собственной воле с КГБ патриарх, так сказать, расстался со своим прошлым. И вовсе не хочет назад. Тем более что перспективы для православной церкви открылись нынче сияющие, сказочные. Сколько возвращено ей храмов, монастырей, драгоценной утвари! А сколько гектаров ценных угодий она просит отдать ей, считать их монастырскими. А какой фантастической поживой для иерархов оказалось предоставленное было церкви право беспошлинной торговли, беспошлинного ввоза товаров из-за границы. О владыке Гундяеве – митрополите Смоленском и Калининградском Кирилле, председателе отдела внешних церковных сношений – давно уверенно говорят чуть ли не как о миллиардере, и никто этого не опровергает. А главное, конечно, – это то свято место, какое освободилось в России с распадом компартии и какое претендует занять теперь православная церковь. Так что современные иерархи демонстрируют обычную в России сервильность перед сильными мира сего.
Другое дело, что прихожане знают, как подобает вести себя в храме, в частности, что в ответ на благословение надлежит целовать руку священника. А вот Путин, выходит, об этом не знает. С трудом поэтому верится в его религиозность. Заходил ли он в церковь не по службе, а по душевной потребности?
Показательно, как ответил он в телемосте на чей-то вопрос: легко ли он прощает людей? «С трудом!» – сказал он, а похолодевшие при этом его глаза просигналили: не прощает вообще, не может простить!
А ведь, как писал выдающийся православный богослов протоиерей Александр Шмеман, «прощение есть таинственный акт, которым восстанавливается утраченная целостность и воцаряется добро; прощение есть акт не законный, а нравственный. (…) Если мы прощаем друг друга, то и Бог прощает нас, и только в этой взаимной связности прощения нашего и прощения свыше очищается совесть и воцаряется свет, которого на глубине и ищет, и жаждет человек».
Верующий человек не просто наслышан о молитве, которую дал миру Христос, человек верующий наизусть знает эту Христову молитву. Каждый день наедине с собой ли или вслед за священником он повторяет: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим» – просит, по слову о. Александра Шмемана, «о нравственном очищении и возрождении, без которого не поможет в этом мире никакая законность».
«Может быть, – заключает Александр Шмеман, – страшная трагедия нашей эпохи, тех обществ, в которых мы живём, как раз в том, что они много говорят о законности и справедливости, много цитируют всевозможные тексты, но при этом в них почти совсем утрачена сила и нравственная красота прощения. Поэтому прошение молитвы Господней о прощении грехов тех, кто совершил против нас, нами и наших – Богом составляет, возможно, центр того нравственного возрождения, перед которым мы стоим в эту эпоху».
Хочу, чтоб меня правильно поняли: я не уличаю и не обличаю Путина. Неумение или нежелание прощать свойственно многим. Но неумение главы государства прощать приводит его (главу) к личной мстительности, к озлобленности, к науськиванию карательных органов на несогласных с ним. А, находясь под его защитой, карательные органы могут превысить любые свои полномочия ради нужного главе результата.
У меня нет никаких оснований не верить известному и уважаемому адвокату Борису Аврамовичу Кузнецову в том, что В. В. Путин «в деле «Курска» вёл себя в высшей степени достойно». Да, Кузнецов не скрывает, что на вопрос корреспондента американского телевидения: «Что же всё-таки случилось с атомной подводной лодкой «Курск»?», – ответ российского президента прозвучал как «не очень удачный»: «Она утонула…»». Но, пишет Кузнецов, «видел его глаза на встрече с родственниками погибших моряков, он едва сдерживал слёзы. Поверил я президенту и тогда, когда все до единого обещания были им выполнены. Скорее всего, Устинов его обманул».
Дело, однако, не в том, что эта вошедшая в историю полуироническая фраза: «Она утонула…» неудачна. Она выразила реакцию президента на гибель вместе с подводной лодкой 118 членов её экипажа. Не буду вторить тем, кто считал, что президент должен был прервать свой отпуск в Сочи и направиться к месту трагедии. Но напомню, что на этом месте оперативно оказался Александр Руцкой, в то время губернатор Курской области. Скорее всего, с его стороны этот шаг был пиаром: он готовился к переизбранию. Поверить в истинное благородство его поступков после событий октября 93 года, когда генерал показал себя истериком и предателем, – довольно трудно. Однако не потому ли местная избирательная комиссия исключила Руцкого из списков претендентов чуть ли не за день до выборов губернатора, что тот опередил промедлившего с милосердием президента? А президент таких вещей не прощает.
Да, свидетельствует Б. А. Кузнецов, «катастрофа «Курска» и гибель моряков стала для президента, по его словам, личной трагедией». Эти слова Путин и в самом деле произнёс. И уволил через 15 месяцев после катастрофы 12 высших офицеров Северного флота. Правда, не за гибель «Курска» и его экипажа. Официально – «за упущения в организации повседневной и учебно-боевой деятельности флота». Среди уволенных – два адмирала: командующий Северным флотом Вячеслав Попов и начальник штаба флота Михаил Моцак. Восторжествовала справедливость? Сомневаюсь, что в этом убеждён и сам Борис Аврамович. Ему ли, опытному адвокату, не знать правил аппаратных игр номенклатуры? Попов стал сенатором – представителем в Совете Федерации от Мурманской области, а Моцака тот же Путин назначил первым заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
Вот так: по одному и тому же эпизоду одних, непосредственно ответственных за гибель людей во время учений, которыми они руководили, пересадили в новые руководящие кресла, а другой – из Курска, немедленно прибывший на место трагедии подлодки «Курск», передавший родственникам погибшего экипажа соболезнования от курян, лишился губернаторского места.
Снимать кандидатуру за день до выборов – это верный шанс перекрыть кислород претенденту. Руцкой и среагировать толком не успел, как не имевший до этого никаких надежд на избрание коммунист Михайлов стал губернатором. Да ещё пнул предшественника: дескать, мы с Владимиром Владимировичем Путиным – люди русские, не как некоторые, у которых матери носят отчество Иосифовна. Намекнул, стало быть, что мать у бывшего губернатора, как выражается Куняев, «является еврейкой по этническому происхождению».
Не знаю, как отнёсся к такому интригующему сообщению Путин, но его доверия Михайлов не утратил. Что Путин и подтвердил, когда отменил выборность губернаторов. Посадил на Курск того же Михайлова. Правда, пришлось губернатору менять партийность, порывать с коммунистами, вступать в «Единую Россию». Но, как писал классик, «чтоб чины добыть, есть разные каналы». А этот при нынешнем президенте наиболее надёжен: Путин и не скрывает, какой партии благоволит.
Я уже говорил, что президент утвердил новый избирательный закон, принятый Думой, – отныне голосовать только за партийные списки. Поскольку партий как таковых в России нет, а есть только какие-то верхушечные, непонятные простому обывателю группы, то ясно, что тем самым узаконено всевластие «Единой России», которой, глядишь, и премьер-министра будет разрешено выдвигать как правящей партии (подобно коммунистической в бывших странах так называемой народной демократии, где другие в союзе с ней были, как выражаются сейчас, виртуальными; Путин, служивший разведчиком в покойной Германской Демократической Республике, хорошо осведомлён о подобном союзе). А премьер-министром после окончания второго президентского срока Путина он, глядишь, и станет (об этом говорят довольно громко), взяв себе большинство полномочий президента, чтобы потом их ему вернуть, пропустив четыре года и снова будучи избран президентом. И волки (вся президентская рать) сыты, и овцы (все нынешние служивые) целы, и конституционные нормы вроде соблюдены: не надо, как о том умоляют Путина иные губернаторы, президенты республик и многие депутаты разных уровней, уподобляться ему белорусскому «батьке» и другим уже неевропейским диктаторам.
Но закон этот начинает действовать со следующих выборов, а пока имеются ещё в Думе независимые депутаты, избранные по одномандатным округам. Что делать, если они выбывают по каким-либо причинам (умирают, сдают мандат для исполнения другой должности)? Выбирать по старым правилам, что же ещё! Вот так и получилось, что среди других кандидатов в депутаты в Москве по одному округу подал на регистрацию подследственный Михаил Ходорковский, а по другому подследственный Владимир Квачков.
О Ходорковском я здесь уже писал. К нему, сделавшему свой бизнес прозрачным, путинская администрация вместе с президентом особенно непримиримы. Били по нему из всех возможных идеологических орудий. Даже советский опыт дискредитации диссидента – Сахарова, например, или Солженицына переняли: опубликовали в подконтрольной Кремлю печати открытое письмо «Вор должен сидеть в тюрьме», подписанное известными актёрами, врачами, спортсменами (в награду большинство подписантов получило место в созданной наспех Общественной палате). Однако против права подследственного избираться в депутаты и в качестве такового выходить на свободу защищённым депутатской неприкосновенностью возразить нечего. Есть у подследственного такое право. (Так в своё время вышел на свободу Сергей Мавроди, обокравший много тысяч людей на много миллионов долларов.) Но зато нет такого права у заключённого. Ходорковский и по нынешним опросам один из популярных людей в России. Так что рисковать не стали. Тянули, тянули прежде с его осуждением, а здесь – мгновенно: суд, срок, тюрьма, лагерь.
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков организовал покушение на Чубайса. Взрыв прогремел, Чубайс уцелел, а Квачков с подельниками отправились в камеры предварительного следствия. Предъявленное обвинение – организация террористического акта. Борьба с терроризмом – любимый, кажется, конёк президента. Вон даже Антитеррористический комитет создали во главе с председателем ФСБ Патрушевым!
Но в данном случае препятствовать Квачкову не стали: пусть баллотируется! Не воспрепятствовали и публикации его предвыборной программы в газете «Завтра». Программу отличает звериная злоба ко всем инородцам вообще и евреям в частности. Это ли обстоятельство или то, что Квачков хотел убить ненавистного многим ещё со старых времён Чубайса, подвигло избирательную комиссию 199 Преображенского округа Москвы единогласно зарегистрировать Квачкова кандидатом в депутаты. Депутатом он не стал, но получил такое количество голосов, что потребовал пересчёта: настолько мизерным показался ему объявленный отрыв от него победителя.
Пересчитывать не стали, но на ус относительно ксенофобских настроений большой части населения намотали. Точнее, продолжают наматывать.
Вот, наконец, появился на президентском сайте закон № 148-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»». Президент подписал его 27 июля 2006 года.
* * *
Итак, отныне государство будет реагировать на «публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации, при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединённую с обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке».
По правде сказать, пришлось долго всматриваться и вдумываться в текст, чтобы понять что он значит. Мешает мне слово «замещающего». Или это описка? Надо «занимающего»? Но ведь не где-нибудь, а на президентском сайте текст закона вывешен: я перенёс его оттуда к себе, не изменив в нём ни буквы! И, Господи, как он изложен: публичная клевета в отношении лица, соединённая с обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в статье… Это сколько же людей трудились над умерщвлением языка: Комитет по законодательству Госдумы во главе с бывшим министром юстиции Павлом Крашенинниковым плюс Комитет по конституционному законодательству в Совете Федерации во главе с бывшим депутатом Мосгордумы, ныне представителем Эвенкии в СФ Юрием Шарандиным плюс аппарат обоих комитетов плюс аппарат соответствующего отдела в администрации президента плюс помощники президента. Не помню, кто из сталинских монстров – Жданов или Маленков говорил, что им нужны современные Гоголи и Щедрины. Но он-то, скорее всего, имел в виду сатирическую манеру писателей. А вышло, как видим, что востребованным оказался стиль какого-нибудь циркуляра канцелярии щедринского градоначальника.
Впрочем, Бог с ним, с языком. Не прислушался Путин к мнению международной, а не только отечественной общественности, подписал закон, приравнявший клевету на действия госслужащего к экстремистской деятельности «при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке».
Суды у нас нынче независимые. Ни от мэров, ни от губернаторов, ни от другого какого начальства. Судьи, конечно, легко отличат критику от клеветы, за которую станут сажать. Так что поздравим друг друга с новым приобретением «суверенной демократии».
А экстремистскими материалами закон отныне считает «труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы».
Спохватились! Да за пятнадцать последних лет только тираж гитлеровской «Моей борьбы» («Mein Kampf») наверняка сравнялся с тиражами Ленина в советские годы. Кто только не продавал этой книги? На лотках у всех станций московского метро, на вокзалах, у православных храмов.
Куда она исчезла? Лежит, разумеется, у читателей, которым отравляет душу нацистским ядом. А уж антисемитскими книгами какого-нибудь Иванова или какого-то Климова рынок был завален выше крыши: как и гитлеровскую, видел я эти книги не только в Москве, но в Смоленске, в Челябинске, в Пензе, в Череповце, в Твери. Покупали охотно.
А кипящие от ненависти к инородцам книги митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна и его последователей? Их и сейчас вы можете купить во многих церковных лавках: всё-таки труды священства!
Что же удивляться почти каждодневному нападению на инородцев в России? Вот – последнее, о котором сообщает «Московский комсомолец» (7 августа 2006 года):
«Как стало известно «МК», вечером в субботу 24-летний Рустам Инусилаев и 23-летний Арслан Барагунов возвращались на электричке в Москву из Сергиева Посада. Примерно в 20.15 на перегоне перед станцией Лосиноостровская в вагон ворвались пятеро крепких молодых людей. Один из них был одет в камуфляжную форму и обрит налысо. Мужчины подбежали к сидевшим на скамейке дагестанцам, зажали их в кольцо, повалили на пол и принялись избивать. Выходцы с Кавказа пытались оказать сопротивление, но соотношение сил было явно не в их пользу. Несчастных били ногами, обутыми в тяжёлые армейские ботинки, потом в ход пошли ножи. Озверевшие молодчики несколько раз ударили молодых людей клинками, после чего выскочили на станции Лосиноостровская и скрылись». «В субботу» – это, стало быть, 5 августа, через несколько дней после того как закон о противодействии экстремистской деятельности не только был подписан президентом, но и появился на его сайте.
А вот – по поводу потрясшего общественность зверского убийства скинхедами в Санкт-Петербурге 30 марта 2006 года маленькой таджикской девочки Хуршеды Султоновой. Вслед за убийством оглушил и приговор суда семерым подонкам – от полутора до пяти с половиной лет. Присяжные из-за бездарно проведённого следствия посчитали вину семерых недоказанной. Прокуратура и родители погибшей подали кассацию: речь ведь даже не об избиении – об убийстве! Тем более что закон о противодействии экстремизму начал действовать! Конечно, законы обратной силы не имеют, но убийства на расовой почве и прежде, очевидно, оценивались не такими смехотворными сроками? Да нет, приговор суров и справедлив, считает Верховный суд, отклонивший кассацию. «Теперь, – пишет «Московский комсомолец» (13 августа 2006 года), – правота петербургского суда признана на самом высоком уровне». Осталась, однако, для родственников и прокуратуры одна спасительная возможность требовать начала нового расследования. От Верховного суда РФ она не зависит: «Уже после вынесения приговора, – сообщает в той же заметке газета, – вину за убийство Хуршеды на себя взяла совсем другая питерская группировка скинхедов, главарь которой был убит при задержании».
В июне 1980-го я находился в ялтинском доме творчества писателей и покаянное письмо отца Димитрия Дудко прочитал в местной «Курортной газете». Этого священника очень любили слушать верующие: его проповеди зажигали сердца. Арест Дудко органами КГБ многие переживали как личную трагедию. Моя крёстная и после письма отца Димитрия долго не могла поверить, что ему не продиктовали текста в тюрьме. А я, когда прочитал в письме проклятия Западу, с мнением которого у отца Димитрия Дудко никогда не было желания считаться, понял, что это он пишет от себя.
«Его сломали в тюрьме», – вздыхала крёстная, когда отец Димитрий стал духовником газет «День» и «Завтра» и обращался с их страниц к Богу: «Господи, верни России коммунизм! Не дай проникнуть в неё капитализму!» (Крёстная моя, Софья Александровна, Сонечка умерла – Царствие ей Небесное! – совсем недавно, дожив до 90 лет.) А я думаю, что не был Дудко перевёртышем, как, допустим, Гамсахурдиа или Павловский, предавшие те самые идеалы свободы, за которые их посадили.
В своих проповедях отец Димитрий не скрывал монархических убеждений. А коммунизм (в его советском варианте) не так уж далеко и расходится с монархизмом. Недаром в написанном А. М. Ивановым (Скуратовым) и согласованном, в частности, с отцом Димитрием «Слове к нации» сказано, что «для нас не столько важна победа демократии над диктатурой, сколько идейная переориентация диктатуры, своего рода идеологическая революция». Диктатуру мыслили переориентировать на создание «мощного национального государства»: «Когда мы говорим: «Русский народ», – мы имеем в виду действительно русских людей, по крови и духу. Беспорядочной гибридизации должен быть положен конец». А ведь датировано скуратовское «Слово», одобренное Дудко, 31 декабрём 1970-го. Вот когда уже о. Димитрий поддерживал идеи чистоты крови и вреда смешанных браков («беспорядочной гибридизации»).
«Антисемитский душок, – сказал моему приятелю Александру Зорину отец Александр Мень, – неотъемлем от монархизма, которому не на что опереться…» Он сказал это, рассуждая о позднем монархизме в России: «Царь – помазанник Божий. Он – центр – сдерживает центробежные силы. Но он центр для православных, а для инославных – мусульман, буддистов, католиков, протестантов и т. д. – кто он? (…) Если бы Россия оставалась в границах XIV–XV веков, она могла бы считаться православной и тогда царь (монарх) мог бы оставаться незыблемым центром. Но, завоёвывая народы, монархия изнутри разрушала авторитет богопоставленной власти».
Потому и перешли многие из общины о. Александра Меня в общину о. Димитрия Дудко, что были недовольны отсутствием всякой ксенофобии у отца Александра и его приверженностью экуменизму. Отец Александр Мень не разделял ксенофобских настроений не потому, что был «евреем по этническому происхождению», а потому что следовал Священному Писанию, по которому для христиан «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Был отец Александр экуменистом, потому что уважал, а не проклинал свободный выбор человека в пользу той или иной конфессии, потому что служил Богу, Который есть Любовь!
Электричка, где, как рассказал «Московский комсомолец», зверски избили молодых дагестанцев, вышла из Сергиева Посада. Это совсем недалеко от Семхоза, где жил отец Александр Мень и где он был зарублен по дороге на станцию, куда направлялся, чтобы ехать к себе на службу в Новую Деревню, в храм Сретенье Господне. Убийц, как повелось у нас, не нашли. Александр Зорин в своей книге «Ангел-чернорабочий» пишет о сведениях, поступивших от ясновидцев (экстрасенсов, говоря по-современному). Западные криминалисты внимательно прислушиваются к экстрасенсам, с чьей помощью раскрыто немало преступлений. Что же увидели экстрасенсы в связи с гибелью Александра Меня?
«Убийц двое. Один вдохновитель, другой исполнитель. Исполнитель психически нездоров. Они различаются внешне, напоминая пару Дон Кихот – Санчо Панса. Какие-то люди передали им после совершённого злодейства толстую пачку купюр. Толщина пачки – 5 или 6 см. Сколько это тысяч? Не менее 20».
Но экстрасенсы, конечно, ничего не знали о тех, кто жил по соседству с отцом Александром, о так называемом «Радонежье» – окружении известного своим зоологическим антисемитизмом писателя Ивана Шевцова, «вокруг дачи которого в подмосковном посёлке Семхоз в течение 1960-х годов сложилось поселение писателей – русских националистов». Я процитировал Николая Митрохина, который пишет дальше: «И. Шевцов купил дачу в Семхозе в 1964 г., в 1965-м там же поселился его друг В. Фирсов, а затем такие известные русские националисты, как И. Кобзев, Г. Серебряков, Ф. Чуев, В. Сорокин, И. Акулов, В. Чалмаев, С. Высоцкий, Н. Камбилов, а также Б. Орлов, С. Поделков, В. Осинин – сведений о причастности которых к движению русских националистов у нас нет, но И. Шевцов упоминает их как своих единомышленников. Южнее Семхоза, в посёлке Абрамцево, купил себе дачу А. Иванов (главный редактор журнала «Молодая гвардия»), севернее Сергиева Посада – С. Куняев и В. Шугаев. «Радонежцы» имели стабильную «кормушку» в виде Общественного совета при Главном управлении внутренних дел Московской области, который регулярно организовывал им «творческие вечера» в районных отделах милиции. Председателем этого совета более десяти лет был сам И. Шевцов, а его заместителями были В. Сорокин и Ф. Чуев, членами совета были И. Акулов, Г. Серебряков, С. Куняев». Нет, разумеется, ничего категорического по этому поводу я утверждать не стану, но скажу, что каждый из названных Н. Митрохиным писателей вряд ли испытывал симпатию к православному священнику – «еврею по этническому происхождению». Так что можно представить, каким заражённым злобными миазмами воздухом приходилось дышать отцу Александру. Да и распропагандированная националистами милиция повела себя в день его гибели соответственно. «Женщина, встретившая окровавленного батюшку, – рассказывает Алик Зорин, – спешила к поезду и на платформе наткнулась на милиционеров. «Там священника избили, он истекает кровью», – сказала она им. Там – это в двух шагах, подняться по лестнице. А они ей ответили: «Мы здесь по другому делу», – и с места не сдвинулись». А «поднимись они по зову женщины тотчас же, могли бы и убийцу увидеть, мелькающего в кустах…» – резонно заключает Зорин. Вот именно: «могли бы»! Но не захотели!
Я смотрел фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы» и удивлялся требованию еврейской общины на Западе не показывать этой картины: дескать, она разжигает ненависть к евреям, выведенным якобы в ней христопродавцами. Папа Римский не согласился с этим требованием, сказав: «Всё именно так и было». Фильм, по-моему, очень сильный. Но недавно я узнал, что Гибсон из антисемитской семьи. Его отец считает Холокост «еврейской сказкой» («Московский комсомолец» от 5 августа 2006 года). Да и сам Гибсон, сидевший пьяным за рулём и превысивший скорость, обрушился с антисемитской бранью на остановившего его полицейского, в котором распознал еврея. Правда, протрезвев, извинился: на Западе за подобные штучки можно схлопотать куда больше неприятностей, чем у нас. (А точнее, там за такое по головке не поглядят, а у нас вряд ли вообще обратят на это внимание. Вот на превышение скорости и на то, что ты пьяным сел за руль, – да, обратят.)
Я читал книгу композитора Георгия Свиридова «Музыка как судьба», в которой собраны его дневниковые записи. Такая, к примеру: «Привилегированные учебные заведения – Институт Философии и Литературы (говорили, что это возрождение Пушкинского Лицея), студенты состояли, в значительной степени, из определённых лиц. Господствовал дух Утёсова, Дунаевского, Хенкина и других в более «интеллигентной» разновидности. Ленинград был (а теперь стал ещё более) поражён этим духом. Руководство Ленинградского Союза Композиторов: председатель – Фингерт, ответственный секретарь – Иохельсон, 2-й секретарь – Кессельман, организационный секретарь – Круц. То же было всюду. Слова: Россия, Русский, Русские не существовали. Впервые я услышал это слово в названии пьесы Симонова «Русские люди» уже во время войны, когда потребовалась (и обильно!) кровь». Или: «Большой театр должен быть театром по-настоящему большого масштаба… Театр перестал быть театром прежде всего национальной оперы… Чего стоят некоторые оперы или балеты, в которых великие, глубочайшие произведения русской и зарубежной литературы обращены в рыночную дешёвку? Кто же пойдет работать в этот еврейский лабаз? Тот, кому недорога жизнь… Там запросто убьют и тут же ошельмуют после убийства, и опозорят навеки».
(Можете себе представить мое возмущённое удивление, когда месяца через три после того, как ушёл из «Литературы», я обнаружил в ней, что некий литературовед, откликаясь на просьбу редакции порекомендовать учителям и школьникам по пять книг для чтения, нашёл, что учителям необходимо прочесть именно книгу Свиридова! А через месяц другой литературовед со своим рекомендательным списком, в котором снова книга Свиридова. И не она одна, но с весомым довеском – читателям газеты предложено новое душеполезное чтение: не так давно переизданные дневники архиепископа Никона (Рождественского) за 1910–1917 годы. Очень известным ксенофобом был этот православный батюшка. На дух не переносил «еретиков» – католиков или протестантов. А уж про иудеев или буддистов говорить нечего: «У них общий вождь – враг Бога и людей. Это он подготовляет путь своему ставленнику – антихристу». «В десятку!» – восторженно отзывается на подобные рекомендации редакция. Будет ли удовлетворён нормальный читатель объяснением, что газета пропагандирует ксенофобские издания потому, что возглавляющий её Марк Сартан не специалист по литературе, не знает, кто в ней есть кто, и не представляет себе позиции авторов, советующих учителю и школьнику обязательно прочесть ту или иную книгу?)
Ну что же! Искусство часто выше личности своего создателя. Судя по работе В. В. Розанова «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», не только он сам, но и разносторонний богослов Павел Флоренский верили в подлинность «дела Бейлиса», сфабрикованного царской охранкой – о ритуальным убийстве евреем русского мальчика. Люди со своими взглядами умирают, созданное ими искусство остаётся. И если оно настоящее, часто работает против воззрений его творца. Такова судьба многих произведений Розанова и Флоренского. Такая судьба уготована, мне кажется, и фильму Мэла Гибсона.
Другое дело, как относиться к антисемитским пассажам в произведениях того же В. В. Розанова? Как относиться к «Дневнику писателя» Ф. М. Достоевского? Ну с Достоевским, из «Дневника» которого ксенофобия бьёт ключом, проще: на мой взгляд, он даже близко не стоит по ценности рядом с его художественными произведениями. Розанов талантлив и там, где позволяет себе обругать евреев. И всё-таки нужно понимать, что все эти вещи созданы до Холокоста, независимо от того, верит или не верит в него отец Гибсона.
(А книга Свиридова? Но духовной ценности она не представляет, художественных открытий в себе не несёт. То, что во все времена существуют люди, подверженные ксенофобии, ненавидящие инородцев, известно и без Свиридова. А больше ничего примечательного в его книге нет. Свиридов не Розанов. Словом он не владеет. Да и не слово его прославило!)
Не стану утверждать, что Холокост был первым массовым истреблением народа в мире, но в цивилизованном мире он был первым. Двоюродная сестра моей матери, «еврейка по этническому происхождению», из-за грудного ребёнка не успела эвакуироваться с Украины до прихода немцев. Она пряталась недолго: местные жители её выдали. На неё не стали тратить пули, её не погнали в гетто, не сожгли в газовой печи. Фашист приказал ей взять ребёнка на руки, поставил у деревянного забора и одним ударом штыка пришпилил обоих. Наколол, как бабочек.
Понимаю, что нынешнего молодого человека, наблюдающего за изуродованными трупами, которые почти постоянно показывают по телевидению, за отрезанием голов (последнее такое шоу продемонстрировали иракские террористы, отрезавшие головы российским дипломатам, за что Дума немедленно возложила ответственность на США как на «оккупирующую сторону»), такие факты могут и не удивить. Не то что заставить проникнуться сочувствием: он привык к подобным вещам. Но Холокост в своё время был экзотической, быть может, для иных, ужасающей для большинства новинкой.
Первое массовое уничтожение евреев немцы осуществили в Бабьем Яру, на окраине Киева. Сталин и его преемники отказывались признавать, что там расстреливали именно евреев. Кажется, только при Брежневе поставили на этом месте памятный обелиск. Да и тот сообщал, что не евреи здесь лежат, а некие «советские граждане». Были, конечно, евреи советскими гражданами, но расстреляли их, как сказал Виктор Некрасов, не за то, что они советские, а именно за то, что евреи. Много сохранилось рассказов очевидцев этих событий. Рассказывают, что сбрасывали в ров и трупы, и недостреленных, и не задетых пулей. Что немудрено: ведь речь шла о десятках тысяч! Зато завалили землёй всех. Долго ещё шевелилась земля во рву: недобитые, заваленные трупами, пытались выбраться из ямы.
Все прихотливые изуверские фантазии шли в дело! На шести миллионах уничтоженных евреях опробовали всё: и вырывание золотых зубов без наркоза, и скальпирование волосяного покрова для париков, и аккуратное, как кожуру с огурца, снятие с человека кожи для изготовления модных перчаток, модной обуви, и захоронение живьём, причём особую пикантность зрелищности придавало то, что людей, намеченных к уничтожению, заставляли самим рыть себе могилы.
Не впечатляет? А вот Достоевского или Розанова это, надеюсь, впечатлило бы. Всё-таки до нашей степени одичания души они ещё не дошли. Отец Павел Флоренский удостоился оказаться в большевистском ГУЛАГе. Но впечатлений о нём не оставил: он оттуда не вышел. А Мёртвый дом, в который угодил Достоевский, ещё Солженицын сопоставил с советским концентрационным лагерем и дивился: курорт да и только был для каторжан при царе!
Да и о чём говорить, если Николай II выступал в его время с примечательной инициативой: обратился к лидерам других стран с призывом наложить запрет на применение оружия массового уничтожения. Какого же? Пулемёта!
Удалось бы царской охранке после Холокоста сфабриковать дело Бейлиса или «Протоколы сионских мудрецов»? Сомневаюсь. Следствие вытекает из причин, а не причины из следствия. Холокост и стал следствием: «Протоколы сионских мудрецов», изготовленные по указанию главы зарубежного отделения русской охранки в Париже Петра Ивановича Рачковского и опубликованные «выдающимся духовным писателем», как его называют теперешние «патриоты», Сергеем Александровичем Нилусом в своей книге, сделались гитлеровским символом веры, обязательным нацистским чтением, как у нас в своё время «Краткий курс истории ВКП(б)».
Гитлера не интересовала подлинность «Протоколов», не заинтересовал и доказанный плагиат: большая часть их попросту списана из «Диалогов в аду», книги французского сатирика Мориса Жоли, который измыслил в ней диалог между Монтескье и Макиавелли. Гитлер принял эту фальшивку как руководство к действию. Ну а после гитлеровских действий изготовить нечто подобное «Протоколам» царской охранке было бы не легко.
Правда, ничего наверняка утверждать здесь нельзя. Ведь это уже после войны с фашистами я стоял в очереди за колбасой, где слушал тётку, которая пересказывала похеренное вроде временем, опровергнутое фактами дело Бейлиса. И многие – я видел это – ей верили! Не зря, стало быть, сталинское тайное ведомство извлекло из архивов своего предшественника ценный документ и «пыль веков от хартий отряхнув» пустило в ход.
А что до «Протоколов сионских мудрецов», то их очень любил цитировать в своих проповедях и работах митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Отмахивался от фактов их авторства: «…Важно не то, кем они составлены, а то, что вся история XX века с пугающей точностью соответствует амбициям, заданным в этом документе». Утверждал, что «мировая история, словно повинуясь приказу невидимого диктатора, покорно прокладывала своё прихотливое русло в удивительном, детальном соответствии с планом, изложенном на их страницах».
И вот вывод ныне покойного владыки: «Что касается утверждения о том, будто «Протоколы» стали основанием для уничтожения фашистами миллионов невинных людей, то оно для меня ново. Этот аргумент рассчитан на эмоциональное, а не рациональное разумное восприятие и не имеет под собой достаточных оснований. Разве что предположить, что массовый геноцид, развязанный нацистами против народов России, являлся одним из элементов осуществления плана, описанного «Протоколами», – там ведь предсказаны разрушительные мировые войны».
И не смутило церковного иерарха, что логика его рассуждений отдаёт беспардонными низкими подтасовками, точно схваченными в эпиграмме на известного антисемита поэта Сергея Васильевича Смирнова, горбуна от рождения:
Поэт горбат… Стихи его горбаты… Кто виноват? Евреи виноваты!А также – в знаменитом ироническом афоризме, гулявшем по всей стране:
Если в кране нет воды, Воду выпили жиды!Логика та же. И в том же «прихотливом русле». И всё-таки царской охранке сфабриковать все эти фальшивки после Холокоста наверняка бы не удалось. Другое дело – сталинской.
Сталин не зря сетовал после войны, что не удалось ему объединиться с Гитлером, удержать союз с ним. В Западной Германии даже рядовые члены фашистской партии чувствовали себя неуютно: союзная администрация не подпускала их к любой административной должности! А советская в Восточной привечала и руководящих её членов.
Гитлеру нравился Сталин, Сталину нравился Гитлер. Чувствовали оба диктатора родственность друг другу. Но оба были подозрительны и вероломны. И потому один из них должен был пасть от руки другого. Пал Гитлер.
Но дело его Сталин продолжил. Окончательным решением еврейского вопроса, которое не успел претворить в жизнь германский людоед, занялся советский.
Очистил от евреев партийный и государственный аппарат, изгнал их почти со всех значимых руководящих должностей, арестовал и расстрелял Еврейский антифашистский комитет, который во время войны особенно поспособствовал передаче нам щедрой американской помощи, наконец, объявил о деле врачей-убийц, вызвав антисемитскую истерию и панику: советский обыватель не захотел не только лечиться у еврея, но и просто знаться с ним. Начались массовые гонения. Готовились погромы, казни и высылка всего еврейского народа России в таёжное гетто.
«Но ах! ничто не вечно…»«И Сталин царь умре!» – позволю я себе спародировать продолжение этого стиха у Алексея Константиновича Толстого в его «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Да, как и Грозный у А. К. Толстого, советский диктатор, сколько ни пыжился, не смог обойти законы человеческого бытия, уравнявшие его с любым безвластным его подданным.
Умер Сталин в самый, казалось бы, обнадёживающий всех антисемитов момент своего правления.
Что это историческое гитлеровско-сталинское дело будет продолжено, я понял в тот день, когда прочитал в «Известиях» о невиновности врачей и лишении ордена Ленина Лидии Тимашук, той, которая выразила сомнение в правильности лечения, назначенного вельможному больному академиком с мировым именем.
На кухне я встретил дядю Мотю, нашего соседа, трамвайного вагоновожатого, который сутки работал, а сутки пил. Дыхнув на меня крепким перегаром, он сказал:
– Откупились!
– Кто? – не понял я.
– Врачи. Жиды!
Дядя Мотя не был партийным, но как распропагандированное сталинской номенклатурой население, выражал её чаяния и её дух.
Я уже писал здесь о двух адмиралах, отставленных от флота после трагедии подлодки «Курск» и пересевших в новые руководящие кресла.
Помните эпилог романа Булгакова «Мастер и Маргарита»? «Стёпе Лиходееву больше не приходится разговаривать по телефону в Варьете. Немедленно после выхода из клиники, в которой Стёпа провёл восемь дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. (…) Уволившись из Варьете, финдиректор поступил в театр детских кукол в Замоскворечье. В этом театре ему уже не пришлось сталкиваться по делам акустики с почтеннейшим Аркадием Аполлоновичем Семплеяровым. Того в два счёта перебросили в Брянск и назначили заведующим грибнозаготовочным пунктом».
Номенклатура непотопляема. И легко приспосабливается к новым обстоятельствам.
Прежде все были коммунистами. Теперь стали «единороссами». Прежде – атеистами. Теперь – православными. Прежде – работниками карательных органов. Теперь – … Теперь они восседают во многих структурах. Особенно питерские.
Вот, например, Борис Сапунов. Он стал доктором исторических наук, главным научным сотрудником русского отдела Эрмитажа. И сумел в феврале 2005 года сделать, как пишут в цитированной здесь статье из «Ежедневного журнала» Андрей Солдатов и Ирина Бороган, «открытие – Иисус не был евреем. Более двадцати лет проработав в МВД, он привлёк к исследованиям коллег из милиции и ФСБ. Действовали методом «теории свидетельских показаний», которые Сапунов «снял» в текстах евангелистов и других древних писателей, видевших Христа. Криминалисты составили и изучили " фоторобот» и сделали заключение: " семитских черт в его облике нет»».
«Фоторобот» изучали, конечно, используя бесценный опыт созданного специально для этих целей ведомства гитлеровца Розенберга: линейкой, наверное, измеряли лоб, обращали, скорее всего, внимание на мочки ушей: прижаты или нет, и уж наверняка придирчиво осматривали нос, оценивая не только его величину или прямоту, но и разворот крыльев ноздрей.
И только после такой скрупулёзной проверки Борис Сапунов с коллегами из милиции и ФСБ определили, что сын еврейки евреем не является! Совершили потрясающее генетическое открытие!
Но человеческая память, хранящая на своих этажах множество самых разных фактов и документальных историй, – штука коварная. Она подсказывает, что не открытие совершили Сапунов с компанией, а плагиат. Из рейхсмаршала Геринга, который так и ответил гестаповцам, доносившим, что близкий его сотрудник – еврей: «Я сам определяю, кто у меня еврей, а кто – нет».
Отделяя нужного ему сотрудника от его племени, Геринг преследовал чисто прагматическую цель. А против общей задачи, поставленной фюрером, – искоренить ненавистное Гитлеру племя на корню, он, разумеется, ничего не имел.
Геринг не был религиозен. Сапунов с коллегами, должно быть, по примеру своих старших по чину и должностям питерских товарищей объявляют себя православными. Отделив Христа от его племени, они посылают единоверцам многозначительный сигнал: с этим племенем церемониться нечего! Как говорил о подобных вещах уставленный на всех шоссейных дорогах, смотрящий на вас с фасадов многих домов советской страны плакатный Ленин в кепке, с красным бантом в петлице и с ласковым прищуром глаз, на уровне которых держал полусогнутой ладошку: «Правильной дорогой идёте, товарищи!»
Что побратались мент и бандюган
Хавско-Шаболовский переулок, дом 11, корпус 8 – это почтовый адрес дома, где я провёл моё московское детство. Главное для того, кто стал бы его искать: держать в памяти номер корпуса. Потому что дом 11 на самом деле было огромное поселение из 15 пятиэтажных и одного трехэтажного дома, который мы называли 16-м корпусом. Все они выросли в самом начале тридцатых годов, в которые разворачивались стройки нового генерального плана реконструкции Москвы. Некоторые из корпусов стояли, как наш 8-й, буквой «г», по два подъезда на каждой стороне буквы и один угловой, где обе стороны сходились. Угловой имел шесть этажей и вожделенную для дворовых ребят приманку – лифт! В пятиэтажках его не было. А здесь он бесшумно двигался по забранной в металлическую решётку четырёхугольной шахте. Нечего говорить о том, кто постоянно бегал в этот подъезд, чтобы хотя бы несколько раз прокатиться. Кончилось это тем, что посадили в такие подъезды лифтёрш, которые гнали нашего брата в шею, если он не мог точно сказать, к кому идёт.
Занимали все эти корпуса одного дома площадь намного большую, чем смоленское село Коскино, – целый квартал: от Хавско-Шаболовского до Серпуховского вала вглубь, а по прямой от Шаболовки до Хавской метров 300–350, чуть ли не с весь Гоголевский бульвар, рядом с которым я сейчас живу.
Домоуправление находилось совсем недалеко от нашего дома – в пятом корпусе. Отсюда шли с мётлами или лопатами для снега дворники, сюда приходили вызывать водопроводчиков, электриков и других специалистов в случае какой-нибудь поломки. А библиотека была подальше – в 11 корпусе, который отличался от других своей окраской: наши дома были из красного кирпича, а этот почему-то из жёлтого. Я очень рано научился читать и немедленно записался в библиотеку: своих книг у нас в семье было мало. Тётя, сидевшая на выдаче, сначала не хотела меня записывать: заставляла читать газетный текст, книжный с разными размерами шрифтов, и записала только после этой долгой проверки, которая нисколько меня не обидела, но наоборот – настолько воодушевила оказанным доверием, что когда через несколько лет у меня родился брат, я тут же опрометью бросился сообщать об этом библиотекарше. Помнил, что формуляр требовал сведений о родственниках. В библиотеке меня поздравили с братиком, но попросили прийти, когда я уже буду знать, как его назвали.
Здесь, в 11-м корпусе, подвал и первый этаж были нежилыми. В доме было два подъезда. В одном, на первом этаже, – та самая библиотека, в другом первый этаж занимал большой актовый зал, где взрослые собирались на какие-нибудь собрания, а для нас иногда устраивали утренники с выступлениями чтецов или артистов-кукольников. Сюда же в зимние каникулы мы ходили на ёлку. Билет на неё был недорогим, но и подарок, который я получал от Деда Мороза, был менее увесист, чем на ёлке в районном Дворце пионеров или в Колонном зале Дома Союзов.
Весь подвал 11-го корпуса был отдан милиции. Здесь находились и участковый, и две тётки в милицейской форме из детской комнаты, и ещё какие-то службы.
Недалеко от меня, между 7-м и 9-м корпусами, расстилалась огромная площадка с дощатой эстрадой под открытым небом. Зимой площадку заливали под каток. У меня были «гаги», но хорошо кататься я так и не научился. А летом на эстраде выступали те, кто в зимние праздники развлекал публику в помещении 11-го корпуса. Народу на площадке было много, немало было и дежуривших милиционеров. Хотя, несмотря на их присутствие, рассказывали о драках с ножами, об ограблениях, особенно много – о кражах из карманов и сумочек. Карманники вообще были бичом послевоенной Москвы. Где они только не работали: в переполненных трамваях, на рынке между торговыми рядами, в магазинных очередях, в людских толпах, подобных той, которая собиралась на нашей площадке поглядеть на артистов или потанцевать. Заходили сюда и цыгане, которых сторонились и которые знали, что соприкасаться с ними опасаются. Поэтому взрослые цыгане стояли на краю площадки или сидели на разостланных на земле платках. А цыганята – что с них возьмёшь! – продирались к сцене сквозь толпу. Помню крики, возню, погоню – особенно за карманниками. Я видел, как ловко выскользнул мальчишка, которого милиционер волок за шиворот, из своей курточки и задал стрекача. А когда ловили цыганят, шли в 11-й корпус вместе с ними и милиционерами взрослые цыгане. Поначалу я не верил рассказам, что цыгане выкупали пойманных. Но однажды увидел цыганёнка, которого очень хорошо запомнил: недели три назад его в сопровождении цыган вели милиционеры.
Участкового – капитана дядю Васю знали все. Высокий, мощный, с кобурой на боку, он нагонял страху на подростковую дворовую шпану: завидев его, она разбегалась. Вечером в наших дворах, как и во всей сталинской Москве, было темновато: одна лампочка на довольно большую площадь между двумя домами. Поэтому, выходя из библиотеки, я сперва увидел тёмные фигуры, а различил лица только, когда они оказались освещёнными окном.
– Смотри, Василий! – зловеще говорил дяде Васе худощавый дядька, стриженный «полубоксом» с небольшой чёлкой надо лбом. – Ты меня знаешь. Ещё раз такое повторится – и ты не жилец.
– Да я, Петенька, всем чем хочешь… – слезливо лепетал дядя Вася.
– Кому Петенька, а кому Пётр Васильевич, – объяснил Петенька. – А пока подставляй жопу, заслужил.
И ударил по оттопыренному дядивасиному заду сапогом с такой силой, что дядя Вася рухнул на колени.
Этого Петра Васильевича я потом увидел в нашей квартире. Он вошёл в комнату дяди Моти и тёти Лены вместе с Юркой, их сыном. У Юрки были две сестры. Старшая Валя – воровка-форточница, появлялась в Москве редко. Казалось, только для того, чтобы кого-нибудь ограбить и получить новый срок. Средняя Ира работала в штабе МВО ВВС у Василия Сталина. Чаще всего она приходила домой, когда у них никого не было. Как правило, с каким-нибудь офицером-лётчиком. Дядя Мотя в такие дни работал, а тётя Лена, очевидно, предупреждённая дочерью, исчезала. Юрка был шофёром междугородного автобуса и мог не появляться неделями.
В тот раз гостей принимал именно он. Никого из его родни не было. Пётр Васильевич с ним и пришёл. А потом в дверь звонили и звонили. В комнате Юрки шла пьянка. Любопытная и боязливая моя матушка выскакивала на каждый звонок, оглядывая вошедшего, и успокоилась, сообщив мне, что в Юркиной компании находятся два милиционера. Мама работала воспитательницей детского сада. В этот день она пришла после первой смены, вставать рано завтра ей было не нужно: на вторую смену она уходила часа в два. Так что сидела она под нашей дверью, стараясь подслушать и понять, что происходит в Юркиной комнате, но там дверь закрывали плотно.
А я, узнав про милиционеров, удивился: неужели Пётр Васильевич и над ними имеет такую же власть, как над дядей Васей? Кто же он, этот Пётр Васильевич? В тот раз, когда он ударил сапогом дядю Васю, мне он показался бандитом.
– Что это у тебя за милиционеры? – спросил я Юрку, когда тот вышел на кухню.
– Друзья, – ответил он и пьяно мне подмигнул: – Выпить хочешь?
– Ещё чего придумал? – открыла дверь нашей комнаты мать. – Ты соображаешь, кому говоришь?
– Да я пошутил, – добро улыбнулся Юрка и, взяв чего-то с их семейного стола на кухне, ушёл к себе.
Юрка вообще был добр и, как я убедился в этом позже, безволен. А убедился я в этом, когда он вышел из тюрьмы, отсидев половину определённого ему срока. Дали ему 20 лет и то, расследовав, что сам он никого не убивал, что в банде он выступал в той же роли, что и в жизни, – шофёром.
* * *
Как его арестовывали, я помню. Тётя Лена была дома, но она сидела в кухне, в комнате кроме троих милиционеров и Юрки находились ещё двое понятых – двое незнакомых мне мужчин, которые смотрели, как идёт обыск. В раскрытую дверь смотрела и тётя Нюра, другая наша соседка, смотрел и я. Милиционеры пошвыряли немало вещей на пол, потом один из них попросил у меня ручку и чернильницу и долго чего-то записывал на бумаге. Написав, подвинул её понятым, они расписались. На Юрку надели наручники и увели. А тётя Лена тут же бросилась звонить Ире, умоляя её просить заступиться за брата самого Василия Сталина.
Но Василий Сталин здесь бы не помог. Дело было очень серьёзным и очень страшным.
Целый год рассказывали в Москве о какой-то таинственной банде «Чёрная кошка», названной так по рисункам, которые бандиты оставляли на месте преступления. Грабили сберкассы, квартиры, врывались в театры, сметая с вешалки дорогие пальто и шубы. Рассказывали, что в Измайловском парке трубы большого диаметра и длины (для чего они там лежали, не говорили) оказались набитыми спрятанными этой бандой трупами.
Позже писатели-детективщики братья Вайнеры напишут роман «Эра милосердия», а режиссёр Станислав Говорухин, тогда ещё не вступавший в близкие отношения с властями и не растерявший своего дарования, поставит телевизионный сериал «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким, Владимиром Конкиным, Александром Белявским, Сергеем Юрским и другими популярными актёрами и с актёрами, которые стали популярными, благодаря этому фильму. Роман значительно уступает фильму по своим достоинствам, но я его читал не ради развлечения, меня интересовала его документальная основа.
Аркадий Вайнер, который жил в Астраханском переулке в одном доме со мной, говорил мне, что, конечно, они многое переиначили, что сами по себе материалы по «Чёрной кошке», с которыми им дали ознакомиться, обрисовывали типичных бандитов, жестоких и кровавых, а такого, как Левченко, которого в фильме Говорухина играет Виктор Павлов, в банде не было.
– А ты Юрия Федосеева не помнишь? – спросил я его.
– А кто это? – недоумённо поднял бровь Аркадий.
– Шофёр банды, – пояснил я.
– Ну, дорогой, – сказал Аркадий. – У них был не один шофёр. Как я их могу помнить?
Юрка вернулся, когда мне было девятнадцать лет. Тётя Лена пришла ко мне и позвала к ним в комнату отпраздновать возвращение. Дядя Мотя к тому времени умер, тётя Нюра уехала из квартиры, поменявшись комнатами с тётей Катей, которая въехала к нам со своим сыном Витькой, лет на пять постарше меня. С ним, с Юркой, с его сестрой Ирой, которая побывала замужем, родила дочку, отдала её на воспитание свекрови, развелась, и с очередным Ириным поклонником-капитаном мы сидели за столом в их большой двадцатиметровой комнате. Пили много. Витька работал на заводе малолитражных автомобилей. «Давай к нам, – говорил он Юрке. – Это ж твоё – автомобили». В то время оформлялся Витька в командировку от завода – в Египет, на строительство Асуанской плотины. «Видишь, какие у нас возможности!» – соблазнял он Юрку. «А что ты там будешь делать, на плотине? Автомобили собирать?» – удивлялся Юрка. «Решим, чем мне там заняться, – самодовольно темнил Витька, – без работы не останусь! За красивые глазки туда не пошлют!» А я побуждал Юрку к воспоминаниям, но он вспоминал неохотно, удивился, о каких милиционерах я ему толкую.
– Ну как же ты не помнишь? – сказал я. – Они с тобой, с Петром Васильевичем и ещё с кем-то здесь же выпивали! Они проходили по делу?
– Ну ты даёшь, – сказал мне Ирин капитан. – Кто будет связываться с милицией?
– По делу никто из милиции не проходил, – ответил мне Юрка. – Не помню, о ком ты говоришь, но вообще мусоров у нас было много. Им платили, чтобы они держали нас в курсе.
– А возглавлял вас Пётр Васильевич? – не унимался я.
– Чёрная кошка возглавляла, – насмешливо сказал Юрка. – Петенька был в законе. Царствие ему Небесное! Зарезали его в Воркуте. Вот так, друг-сосед! – он сделал отмашку рукой. – И хватит об этом. Не хочу вспоминать! Тошно!
Наверное, ему действительно было тошно вспоминать о бандитской юности. Он отошёл от воров. К Витьке не прислушался: на завод малолитражных автомобилей не пошёл. Да и вряд ли его туда бы взяли. У него была судимость. А на этот завод направляли чуть ли не по путёвкам райкомов комсомола. Опять устроился шофёром автобуса. Женился ещё при мне. А вот ребёнок у него родился, когда я, тоже женившись, уехал из нашей квартиры, из крошечной родительской комнаты.
От матери я узнал о его ранней смерти. Он погиб, заснув за рулём. К счастью, он только выезжал из парка за пассажирами, так что никого в автобусе не было.
Но его «им платили, чтобы они держали нас в курсе» мне приходилось вспоминать очень часто.
К примеру, когда мы с младшим моим братом Аликом договаривались поужинать в ресторане ЦДЛ. «Ты не будешь возражать, – говорил мне иногда Алик, – если я позову Андрея?» «Зови», – пожимал плечами я, нисколько не обрадованный таким известием. Алика я любил: был его нянькой в детстве – водил в детский сад, пел ему обожаемого мною Вертинского, читал любимые стихи. Детская память более губчатая, чем взрослая. Алька сохранил на всю свою короткую жизнь любовь к Вертинскому, знал Блока, Есенина, Гумилёва, баллады Киплинга. Мы с ним были брошенными детьми: отец уходил на завод рано, а приходя, утыкался в газету, которая нередко выпадала из рук, – его голова склонялась на грудь и вместе с ней мерно вздымалась и опускалась. Просыпался отец, когда приходила со второй смены из детского сада мать. Мы ужинали, а потом отец смотрел телевизор, который смаривал его ещё быстрее, чем газета. А мать до того, как всем нам лечь спать, болтала на кухне с соседками. Да она не тревожила дремлющего отца и когда работала в первую смену, – чутко вслушиваясь, она оживлённо комментировала происходящее в квартире нам, слабослышащим, – этот недуг, как родовое проклятие, преследует всю нашу семью по мужской линии.
Привыкшая жить чужой жизнью, она долго не находила себе места, когда наконец-то им троим дали небольшую отдельную квартиру на Донской улице. Как я теперь понимаю, её оглушила тишина собственной жизни. Она очень оживлялась, когда звонил телефон, подолгу по нему разговаривала. Я не могу сказать, что её не интересовала наша жизнь – жизнь её детей. Очень интересовала. Но раскрываться перед ней не хотелось: она ничего не удерживала в себе, всегда делилась с другими всем, что узнавала, в том числе и о твоей жизни.
Так и получилось, что главным семейным авторитетом для Алика был я – его старший брат. Он и взрослым радовался каждой нашей встрече, каждой возможности встретиться – у меня, у него, в ЦДЛ, в других ресторанах, где его знали, привечали как своего. Мать, родившаяся в 1920-м, была из купеческого рода. Точнее, купцами были мать и отец её матери – моей бабушки, очень рано ушедшей из жизни – в 34 года – в 1934 году. После чего мой дедушка, на руках которого осталось трое детей, решил облегчить им и себе жизнь – послал девочку-маму в Москву к тетё Лизе, младшей сестре её умершей матери.
Именно по тёте Лизе я понял, что такое настоящая купеческая кровь. Родственники тёти Лизы, мамины двоюродные, а мои соответственно троюродные, работали в торговле – кто в рыбном, кто в хозяйственном, а кто и в комиссионном магазинах. Тётя Лиза была гостеприимна и хлебосольна: я шёл к ней в гости, как на праздник: вкусно за столом, красиво в доме, захватывающие рассказы гостей о ревизорах, которых удалось обвести вокруг пальца.
В Алике рано проснулись купеческие гены. Уже в двадцать лет он был арестован за какие-то спекулятивные махинации. Не помню, почему так получилось, что аттестат об окончании десятилетки ему выдали в колонии, где он просидел около двух лет. Освободили его условно-досрочно с обязательной отработкой до конца срока в том месте и на том предприятии, куда его направят. Так оказался он в Находке, где женился, приобрёл несколько строительных профессий, но в будущем они ему не пригодились, потому что, снова прописавшись после целой серии отказов в Москве, он пошёл работать в торговлю.
В штате, правда, он проработал недолго, продавцом и вовсе несколько месяцев. Стал барменом. На этой работе он делил ставку со своим сменщиком-напарником-приятелем. Ставка была смехотворной – 90 рублей. По 45 на брата. Социалистическое государство подталкивало своих граждан, работников торговли, к осуществлению ими двух неукоснительных принципов: «хочешь жить – умей вертеться!» и «не пойман – не вор!».
Сейчас любят крутить по телевизору старые ленты. Среди них «За витриной универмага» – сладчайший фильм о нравах советской торговли. О безукоризненной честности продавцов, не только не поверивших, что любимый их руководитель может совершить растрату, но всё сделавших для того, чтобы найти затесавшегося в их среду подонка, благодаря воровству которого и возникло дело о растрате. А как выглядят в фильме милиционеры! Не менее достойно честнейших продавцов. Недаром в финале и те и другие сливаются в экстатическом чувстве бескорыстия, помогают друг другу изловить расхитителей общественной собственности!
Несколько лет назад Клара Лучко, вспоминая лукулловы пиры станичников и ломящиеся от всевозможных товаров прилавки магазинов на районной ярмарке в фильме «Кубанские казаки», который её, Лучко, прославил, свидетельствовала: «Всё так и было!» Я-то впервые смотрел этот фильм в смоленской деревне, в сельском клубе, где не было электричества, и поэтому на улице во время показа ленты работал специальный движок, подключённый к аккумулятору грузовика, на котором привезли картину. Фильм показывали с перерывом: каждую часть отдельно. Я уже описывал жизнь этих смоленских крестьян в те годы. Воспринимали они фильм, как дети волшебную сказку, ничего общего не имеющую с их реальностью. Восхищались невероятно богатыми станичниками, не только не отождествляя себя с ними, но вообще не ощущая, что эта картина об их современниках.
Потом уже я прочитал в книге Г. Б. Марьямова «Сталин смотрит кино», что режиссёр фильма Иван Пырьев и не думал создавать произведение о реальной жизни в то время. Он снимал музыкальный водевиль, зная, что этот жанр очень любит Сталин. Фильм назвали «Весёлой ярмаркой», а «Кубанские казаки» – это уже личное творчество вождя, который не только любил отдельные жанры кино, но ценил великие возможности киноискусства блефовать и дурачить зрителей.
Светлана Дружинина, дебютировавшая в фильме «За витриной универмага», но прославившаяся не благодаря ему, а благодаря действительно незаурядной своей игре в фильме «Дело было в Пенькове», не утверждает, как Клара Лучко о «Кубанских казаках», что «За витриной универмага» отразил советскую быль. Но, участвуя в телевизионном обсуждении ранней путинской новинки – возвращения России сталинского гимна, она ещё тогда заявила, что этим своим шагом президент не подорвал кредита её доверия к нему. И судя по её дальнейшим выступлениям, кредит доверия актрисы и кинорежиссёра Дружининой к Путину растёт, как бамбук. Одобряя возвращение сталинского гимна, она не могла не понимать, что он знаменует собой движение вспять – в советское прошлое. А раз понимала, то одобряет, стало быть, и воскрешение этого прошлого в назойливом показе на телевидении прежних, заказанных сначала Сталиным, а потом его преемниками кинолент.
А ведь подобное мельтешение старых фильмов на телевидении не так уж и безобидно. Что могут вынести нынешние молодые из, допустим, такого фильма, как «Падение Берлина»? То, что Сталин прилетал в Берлин в самый момент его взятия нашей армией, чтобы, в частности, по-отцовски напутствовать колонны возвращающихся на родину советских граждан, угнанных в Германию или попавших в немецкий плен. Откуда им знать, что всё это – от начала и до конца – враньё? Что Сталин никогда не летал в самолётах (боялся), что, однажды попытавшись выехать на фронт, он вернулся с полдороги назад из-за острейшего приступа охватившей его медвежьей болезни и что велел он считать изменниками родины не только пленных, но и угнанных немцами в Германию? Им и не надо этого знать? Помните, я приводил уже здесь мнение руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Виктора Болотова о том, что не исторические факты нужно обсуждать с молодёжью, а «рукотворность истории», разные варианты развития событий: «что было бы, если бы»? Что ж. В такую схему фильм «Падение Берлина», как и любая другая ложь, укладывается. Но история мстительна. Незнание её трагических фактов может обернуться трагедией.
Только что арестовали в Дагестане Олега Крикунова, жителя Железноводска Ставропольского края, студента пятого курса Пятигорского государственного лингвистического института. Весной 2004 года он принял ислам и взял себе новое имя Али. Но арестовали его, конечно, не за это. Он вступил в банду, которая должна была переправить его в Чечню.
«– В Чечню зачем собрался?
– Воевать. Чтоб там одни мусульмане жили. И никакого закона, кроме шариата».
Это из протокола допроса, который цитирует Вадим Речкалов в «Московском комсомольце» (11 августа 2006 года).
Любил Олег, рассказывает В. Речкалов, вспоминать, что говорили ему единоверцы в мечети. О Басаеве, например. «Как он в Грозном с тремя тысячами моджахедов попал в окружение. И была только одна дорога через поле. И та заминированная. Тогда Шамиль Басаев пошёл прямо по минному полю. И мины не взрывались. И все моджахеды вышли за ним. Все три тысячи».
«Ну прямо Христос, идущий по водам», – иронизирует по этому поводу Речкалов. И обращается к несостоявшемуся моджахеду: «От твоего Железноводска до Будённовска 150 километров. Историю о том, как Басаев роддом захватил, ты не слышал?» «Я тогда маленький был, – говорит Олег. – 10 лет всего».
Вот к чему приводят игры с историей. Точнее – с её искажением. С утаиванием от современной молодёжи подлинных исторических фактов. Ведь знай Олег толком, как вёл себя Басаев в Будённовске, как руководимая им банда гонялась на машинах за уличными прохожими-мужчинами, давила их, безоружных, колёсами, как выставила в окнах живой щит из медсестёр и рожениц для отражения штурма больницы, и не облёкся бы, возможно, для него Басаев во флёр бесстрашия или робингудства!
* * *
История, по горькому слову Гегеля, учит тому, что ничему не учит. Этот афоризм не является истиной в её окончательном выражении. Но похоже, что именно его взяли на вооружение те, кто пытается вернуть нас в прошлое.
С фильмом «За витриной универмага» у них этого наверняка не получится. Равнодушный, не заинтересованный в покупателе хам-продавец, обязанный своим рождением советской власти, пережил эту власть, живёт и сейчас, не очень отличаясь от себя тогдашнего. На рынках по-прежнему врут весы, в супермаркетах надо смотреть в оба и за тем, сколько берёшь, и за тем, сколько платишь. А то возьмёшь картонную упаковку с десятком яиц, принесёшь домой, а там девять или даже восемь. Рассмотришь как следует чек и ахнешь: ты же дважды заплатил за одно и то же! Или обратишься в магазине к продавцу, а он на тебя ноль внимания. Или рявкнет раздражённо: «Я занят, не видите, что ли?» Встречаются, конечно, и добросовестные продавцы. Ну так они и при советской власти встречались. Были паршивыми овцами, портящими своей совестливостью всё бесстыжее стадо.
Мы с Аликом заходили иногда в магазины к его женщинам. Я забыл сказать, что, пожив некоторое время в Москве с женой, он с ней развёлся. Но в отношениях остались хороших. Алька попросту не умел их ни с кем портить. Заходим в овощной. Брату улыбается Ляля или Лена. В грязном халате, в грязных перчатках, так отрезанных, чтобы высовывались из них пальцы. Вокруг всё пропахло гнилью. Алик договаривается с ней встретиться сегодня в ЦДЛ. Приходит. Чистая, пахнущая дорогими духами, в роскошном платье, увешанная золотыми цепочками, с перстнями чуть ли не на каждом пальце.
Посвящённый в их торговые махинации, я-то знал, откуда чего берётся. Знал, что овощные магазины дают хорошие взятки базам, чтобы везли им побольше гнилья. Гнильё взвешивали, составляли акт о его уничтожении. Но, разумеется, не уничтожали, а подкладывали в пакеты с хорошей картошкой или засовывали в сетку с хорошими овощами. Набегала круглая, нигде не оприходованная сумма.
Конечно, разоблачить подобные вещи было нетрудно, но для того и существовала милиция, чтобы упреждать ревизию. Для того и существовал, допустим, Андрей, который являлся в ЦДЛ в цивильном, а не в милицейском облачении. Приходил, как правило, со своей любовницей, работавшей в таможне, или с приятелем, другим милиционером. Алик и вообще был щедр. А здесь гулял с размахом. «Что там у вас, раки? – спрашивал он официантов, которые его знали и любили. – Принесите большое блюдо!» «Куда столько? – ахали милиционеры, указывая на полный стол, уставленный деликатесами, в том числе и рыбными. – Ведь ещё горячее заказано! Не съедим!» – «А не съедим – завернём с собой!»
Андрей существовал, разумеется, не для того, чтобы прикрывать Алькиных любовниц. Он был нужен прежде всего самому Алику, который ушёл из барменов и занялся очень опасным бизнесом: ему доверяли продавать из-под полы ювелирные изделия.
В СССР официально не работать было нельзя: за тунеядство сажали. Алик устроился литературным секретарём к поэту Анисиму Кронгаузу. Без моего участия – через своего приятеля, который и сам устроился на ту же должность к кому-то из членов Союза писателей. Алькины обязанности меня смешили: дважды в неделю он должен был приносить сильно пьющему Кронгаузу по четыре бутылки водки. В этом и состояло его литературное секретарство.
А милиционер Андрей довольствовался не только хождением в рестораны. «Он у меня на зарплате», – говорил Алик и объяснял, что платит на случай, если в милиции им заинтересуются. Андрей должен был, во-первых, его об этом немедленно предупредить, а во-вторых, попытаться устранить опасность.
В годы перестройки Алик легализовался, стал кооператором, открыл вместе с приятелем несколько торговых точек. Женился на очень преуспевающей на ниве торговли женщине из Малаховки, родил, наконец, ребёнка – сына. А потом от торговли отошёл: его влекла профессия ювелира.
Надо сказать, что в ней он достиг значительных высот: легко отличал подлинник от подделки. К нему приезжали советоваться очень состоятельные люди. И очень крепкие, зажиточные оставляли ему изделия для продажи: Алик получал за это какой-то процент.
Вот так и вышло, что в его квартиру рядом с метро «Университет» вечером завезли драгоценностей больше чем на 100 000 долларов. Алик уехал ночевать к жене в Малаховку, рассчитывая вернуться назавтра к 12-ти. В квартире оставался только глухой 87-летний отец, для которого дверной звонок соединили со световым сигналом. Отец открыл дверь в 11 часов утра, ворвались люди в масках. Отца связали, привязали к табурету, включили электрический утюг, и, не дожидаясь начала истязаний, отец указал бандитам на всё, что их интересовало. Приехав к 12-ти, Алик застал опустошённую квартиру и читающего газету сумевшего освободиться от верёвок отца. Но отцовское спокойствие оказалось чисто внешним. Через день его увезла «скорая» с очередным инфарктом, а ещё через несколько дней мы его похоронили.
Аликины доверители пожали плечами и объявили, что ставят его на счётчик в случае невыплаты всей суммы к такому-то (очень небольшому) сроку. За каждый просроченный день будут начисляться проценты. Продать брату было нечего: налётчики забрали всё ценное в доме. А квартира – нынешняя драгоценность, в 1995 году ещё не стоила так дорого. К тому же, въезжая в неё, Алик доверил оформить документы отцу, который вписал в ордер себя, и теперь, чтобы продать квартиру, нужно было ждать положенные по закону полгода после смерти её совладельца. А за эти полгода её цена не только не выросла, но ещё и упала.
Чтобы платить проценты, брат должен был искать какую-то работу. Но ничего кроме работы у собственной жены он не нашёл. Правда, в Малаховке, рядом с домом жены, Алик построил особнячок в своём вкусе, – в то время, когда ещё работал в кооперативе. Однако распоряжаться им он теперь не мог. Туда жена вселила старшего своего сына с семьёй. Алик ездил в Москву, мечтал о работе в частном ювелирном магазине, но предлагать такую работу его знакомые не спешили. А здесь ещё начались хлопоты по продаже квартиры: все проценты брат выплатить был не в состоянии, и размер его долга существенно вырос.
Когда же всё, наконец, утряслось: и квартира была продана, и долг погашен, брат почувствовал сильные сердечные боли. Врачи определили ишемическую болезнь сердца. Я советовал ему немедленно ложиться в больницу. Он не захотел.
И не должен был он через неделю после того, как ему поставили этот диагноз, сидеть за столом, отмечая день рождения пасынка. А он сидел и пил. А после лёг в постель, заснул и умер во сне. Было это в конце марта 1997 года. И, стало быть, до 49 лет он не дожил. Потому что родился, как и я, в мае. Мы ещё шутили, что я старше его всего на восемь лет, зато он меня – на целых восемь дней…
Однажды после очередного застолья в ЦДЛ мы с ним распрощались, каждый сел в такси и поехал к себе домой. Вечер был морозным, и захотелось мне пройтись хотя бы по Безбожному (ныне Протопоповскому), проветриться, продышаться. Наш Астраханский переулок, где я жил, пересекал Безбожный в пяти-семиминутной ходьбе по нему от метро «Проспект Мира». И я попросил водителя высадить меня у метро.
Но расплатившись и очутившись на улице, был немедленно остановлен двумя милиционерами, которые приказали мне сесть в кузов их небольшого крытого грузовичка с решёткой, и поскольку я запротестовал, скрутили и впихнули туда насильно. В кузове уже сидело несколько человек, потом прибавилось ещё несколько. Машина тронулась, и только после этого до меня дошло, что рядом со мной сидят в основном крепко выпившие люди.
Привезли нас, как выяснилось утром, на Троицкую улицу, в медвытрезвитель, где с меня грубо сорвали дублёнку и шапку, отобрали портфель, велели раздеться до трусов, снять носки и, несмотря на все мои протесты, в таком виде заперли в огромной казарменного вида комнате с множеством лежанок, покрытых дырявыми простынями, и с небольшими у потолка квадратами окошечек, темневших сквозь железные решётки. Лампы на потолке горели всю ночь, в течение которой я раза три принимался стучать в закрытую дверь, слушал, как гремит в ней ключ, требовал у появлявшегося милиционера выпустить меня и оставил это занятие после того, как у милиционера лопнуло терпение и он пригрозил надеть на меня наручники и запереть в холодном карцере.
Впрочем, уже в шесть утра меня вызвали.
– За что меня забрали? – спросил я старшего лейтенанта, сидевшего напротив меня по другую сторону барьера.
– Где работаешь? – не обращая внимания на мой вопрос, спросил он.
– Вы мне не ответили, – сказал я.
– Ты что? Права собрался качать? – удивился он.
– Собрался, – ответил я. – По-моему, имею на это право. На каком основании вы меня забрали?
– А на том, что ты был пьян в стельку, лыка не вязал! – заорал старлей.
– Но это же чудовищная неправда! – возмутился я. – Я не валялся на улице и не шатался, когда вышел из машины.
– Из какой машины? – спросил милиционер. – Из «воронка»?
– Нет, из такси, которое я отпустил недалеко от своего дома.
– Ладно, – сказал старший лейтенант, – поговорили и хватит. Где работаешь?
– А что вы мне тычете? – спросил я. – Мы с вами на брудершафт не пили.
– Ещё не хватало мне с пьяницами пить! – проворчал милиционер, но наглости поубавил. Чувствовалось, что он по-своему истолковывает моё возмущение: кто меня знает, почему я так себя веду! Вдруг за мной стоит какая-то сила! – Нам с вами акт составлять надо, – примирительно сказал он, – поэтому прошу отвечать на мои вопросы. А все претензии после. Где вы работаете?
Тогда я работал в «Литературной газете», был заместителем председателя месткома по социально-бытовым вопросам и знал, чем грозит появление акта из вытрезвителя сотруднику. Пойди, доказывай, что тебя забрали ни за что ни про что! Партийным я, слава Богу, не был, выговор мне не грозил. А вот схлопотать на несколько месяцев перевод на нижеоплачиваемую ставку мог вполне.
В тот раз у меня никаких документов, кроме членского билета Союза писателей, не было. После этого другие документы я брал с собой только в случае острейшей необходимости. Писательский билет меня и спас.
– Дома, – ответил я. – Пишу.
– А что пишете? – вдруг заинтересовался старший лейтенант.
Я понял, как продолжать держать его в напряжении.
– В частности, – начал врать я, – детективные романы. Имею грамоту МВД и благодарность Щёлокова.
Такую грамоту и благодарность тогдашнего министра устроил нашему члену редколлегии Чапчахову Аркадий Адамов после того, как Чапчахов напечатал рецензию на его роман.
– Не читал, – признался милиционер. Он подвинул ко мне заполненный акт. – Напишите вот здесь, – показал, – «претензий не имею».
– С какой стати? – спросил я. – У меня к вам немало претензий.
– Ко мне лично, – сказал он, – у вас претензий быть не может, потому что я только заступил на службу. Вчера меня здесь не было.
– Тогда с чего же вы решили, что я был пьян в стельку?
– А вот, – протянул он мне другую бумагу, – врачебный акт освидетельствования.
«Поступил в состоянии средней тяжести опьянения», – прочитал я.
– А мог бы я поговорить с врачом, чтобы узнать, на каком основании написана такая бумага? Мог бы я хотя бы посмотреть на этого врача? Ведь никто меня не осматривал.
– Врач ушла, – сказал милиционер. – Так вы отказываетесь писать, что не имеете претензий?
– Я их имею, – ответил я. – И готов написать, в чём они заключаются.
– Этого не надо, – сказал старший лейтенант. – В акте этого писать не полагается. Распишитесь. – И после того как я, прочитав вполне безобидный акт, расписался, протянул мне какую-то квитанцию: – Оформите и принесите нам.
Квитанция оказалась бланком в сберкассу. Я должен был заплатить, кажется, рублей пятнадцать «за услуги медвытрезвителя».
– Это за какие же услуги? – спросил я. – Прокатили на «воронке» и дали полежать на дырявой простыне.
Отвечать он не стал. Отдал портфель. И после того как я оделся, бумажник. Я раскрыл его: в бумажнике лежал грязный рубль.
– Так меня ещё и ограбили! – возмутился я. – Где мои деньги?
– Я их не брал, – сказал мне милиционер. – Смена, принимавшая вас, ушла. У меня зафиксировано, что при вас было ценностей один рубль.
Так я впервые столкнулся с бандитизмом милиции.
Потом, завидев «воронки», я наблюдал, как ведут себя милиционеры. Вот вышел пьяный, плохо одетый, грязный. Едва на ногах держится. Да и не держится – упал. Видят его милиционеры? Несомненно. Тормошат его, поднимают, волокут в «воронок»? Нет. Такой в «услугах медвытрезвителя» не нуждается. Зато вот – идёт человек почище. Одет прилично. Ступает аккуратно, как бы пробуя ступнёй землю, как в реке воду: ясно, что пытается держаться прямо. И ясно, что это у него неплохо получается: выпил, конечно, но до дома дойдёт. А вот этого милиционеры ему не позволят, этого не допустят. Этого не упустят. В точности, как те, кто вышел на разбой.
– Вытрезвитель – это форма поощрения милиции, – сказал мне милицейский полковник Артамонов, редактировавший журнал для заключённых в лагере, называвшийся, кажется, «За свободную жизнь». Журнал находился на Садовом кольце как раз напротив ресторана «Нарва», располагавшегося на углу пересечения кольца с Цветным бульваром. Если переходите Садовое в этом месте, то сворачивайте направо: стояли там (может, и сейчас стоят) три двухэтажных особняка. Средний и был редакцией милицейского журнала.
А редакция «Литературной газеты» располагалась почти рядом с «Нарвой», на Цветном. Очень удобно для полковника Артамонова, который писал стихи.
О нём я узнал, когда доверительно рассказал нескольким сотрудникам о том, как побывал в вытрезвителе.
– Эх! – огорчённо сказал мне Валя Проталин, работавший в отделе публикаций и ведавший в нём стихами. – Надо было мне тебя с Артамоновым познакомить. Он стольких наших из вытрезвителей вызволил.
И позвонил ему при мне и обо мне. Сказал, что в «Литгазете» я занимаюсь публикацией материалов по современной поэзии. На что получил ответ, что литературный критик Геннадий Красухин поэту Артамонову очень хорошо известен. Удовлетворённый таким началом разговора Валя стал выяснять, что можно сделать, чтобы вернули мне мои деньги и не брали с меня штрафа. Оказалось, что ничего уже сделать нельзя. Поздно. Кто теперь признается в ограблении? А оформленный акт требует официального завершения.
В тот же день и познакомился я с поэтом, полковником милиции. Он достал из портфеля бутылку коньяка:
– От имени милиции, – сказал он, чокаясь со мной, – приношу вам свои извинения. – Тем более, – сказал он, чокаясь со мной новой рюмкой (точнее, гранёным стаканом, рюмок в редакции не держали, вином наполняли весь стакан, а водкой или коньяком половину), – что я с интересом читаю ваши статьи и являюсь вашим поклонником.
В переводе с лестного языка на прагматический это означало, что Артамонову очень хотелось бы получить от меня рецензию на свою книжечку, вышедшую в библиотечке то ли журнала «Красный воин», то ли журнала «Советская милиция» (точно не помню). Газета такие книжечки не рецензировала, о чём я тут же сказал автору. Это его не смутило:
– Да мне главное, чтобы ты её вообще прочитал. – И спохватился: – Ой, я поторопился! Хотя на брудершафт, – достал он из портфеля новую бутылку коньяка, – нам выпить самая пора.
Я не возражал. И, распивая с нами (кроме меня и Вали был ещё Лёва Токарев, о котором я здесь уже писал), рассказывал много поучительных и поучающих историй о милиции и о том, как надо вести себя с ней.
– Ты пьёшь крепко, – сказал он мне. – Вижу, что можешь выпить много.
– У него кость полая, – вставил Лёва любимую свою шутку, придуманную им в ответ на удивление сотрудников моим умением много пить, почти не пьянея: куда, дескать, всё это вмещается при моём небольшом росте и не слишком мощном сложении.
– Это как? – не понял Артамонов.
– Полая, пустая кость, – объяснил Лёва. – Туда всё и вливается.
– А, – заулыбался Артамонов, – шутишь. – И посерьёзнел: – Но у ребят из вытрезвителя глаз намётанный: вот у тебя лицо стало краснеть…
– Это от коньяка, – объяснил я. – От водки оно у меня бледнеет.
– Ну вот, – подхватил Артамонов, – а ребята знают, что значит такая бледность или такая краснота. Ты не шатаешься, не падаешь, но прошёл пару шагов, и они уже точно определили, выпил ты или просто нездоров. Нельзя появляться выпимши, особенно у метро или в самом метро: загребут за милу душу!
– Но ведь я никому не мешаю и ничего не нарушаю!
– Вообще-то по инструкции, – объяснил полковник-поэт, – появление нетрезвого человека в общественном месте уже есть нарушение порядка. С этой стороны к ребятам не придерёшься…
– Но почему-то настоящих пьяных, валяющихся чуть ли не в луже на улице, они не забирают!
– Вот! – поднял палец Артамонов. – Правильно мыслишь: не возьмут! На что им такой пьяный нужен. Он машину заблюёт. И потом возись с ним, отмывай, а медицинскому персоналу – приводи его в чувство, ставь на ноги.
– Так ведь он так и называется: медицинский вытрезвитель!
– У нас его зовут трезвяк. Так и говорят: послужишь в трезвяке! Особую форму доверия оказывают! Не только себе в карман будешь собирать, но и сколько-то отстёгивать вышестоящему начальству. Соображаешь?
Понимаю, что теперешних молодых подобным рассказом не удивишь. Они ведь не слепые, чтобы не видеть, что творится вокруг, и не так уж глупы, чтобы не понимать, что именно творится. Вот – привычная бытовая картинка в метро: стоят двое с автоматами. Вот они остановили человека явно неславянской внешности. Вот человек им показывает какую-то бумажку. Вот они берут эту бумажку, разглядывают, а потом снова разговаривают с человеком, не похожим на славянина. Тот достаёт из кармана денежные купюры – протягивает им. Они не торопясь пересчитывают деньги. Один прячет их в карман, а другой отдаёт неславянину его бумажку. Тот исчезает. А эти уже заприметили в толпе лицо, как нынче говорится, кавказской национальности. Направляются к нему.
Знакомо и не удивляет, правда? Не удивляет даже то, что деньги берут открыто. А чего им не брать? Кого стесняться? Вы ведь не подойдёте к ним, не станете у них допытываться, что, мол, это за деньги. И они уверены, что вы не подойдёте. Попробуйте только! Каждый из них ведь не просто бандит, но, как выражалась героиня рассказа Зощенко, «кавалер и у власти»!
Видел я, как один из таких кавалеров, подполковник милиции, не спеша, по-хозяйски прогуливался по Дорогомиловскому рынку. Не по бывшему колхозному – крытому, а по торговым рядам перед ним. Шёл он с огромной сумкой, останавливался перед самыми разными киосками – мясными, рыбными, овощными, отдавал сумку продавцам, получал её назад и шагал дальше. Не посмотреть же он свою сумку предлагал торгующим. Ясно, что вышел из своего логова, как пушкинская пчёлка «из кельи восковой». Пчела у Пушкина летит «за данью полевой». Вот и этот вышел за данью.
В полном негодующем бессилии что-либо предпринять я всё-таки упорно шёл за ним. Подполковник заметил след и прибавил шагу. А потом остановил какого-то шатающегося по рынку милиционера, что-то стал ему говорить. Тут уже прибавил шагу я. Понимал, что теперешняя милиция может вытворить со мной что угодно.
Много её вы можете встретить на вещевых «вьетнамских» рынках, недорогих, торгующих в основном китайскими товарами. Вьетнамцы улыбчивы, тихи, легко соглашаются снизить цены и, как рассказывает Владимир Никулин (газета «Метро» за 24 августа 2006 года), очень законопослушны. Единственное, что они себе позволяют – это нарушить правила регистрации. Они бы рады их не нарушать, но, по словам В. Никулина, «чтобы получить регистрацию в Москве на год, необходимо заплатить тысячу долларов. Однако эти деньги получает не государство, а посредник, именуемый вьетнамцами «услуги»».
«Вьетнамцы, – продолжает корреспондент «Метро», – делят россиян на две «национальности»: хорошие и плохие. Москвичи – хоросьо, а люди в форме… Когда узнали, что я хочу написать статью, окружили плотным кольцом, начали жаловаться. Я понял: самое безобидное действие блюстителей порядка – вымогательство небольших сумм. Вечером выходящего с рынка останавливают, мрачно изучают документы. Затем объявляют о подозрительности и просят проехать. Вьетнамец боится, говорит, что не хочет. Тогда ему предлагают заплатить штраф на месте, без протокола. Обычно просят от 300 до 500 рэ.
Сумма для вьетнамцев большая. И, как истинные торговцы, они решили удовлетворить аппетиты вымогателей оптом: группируясь в конце рабочего дня по 10–20 человек, скидываются по 50 рублей с носа. И волки сыты, и овцы целы».
А вот – об откровенной мерзости подонков в форме – «кавалеров и у власти»: «Больше всего вьетнамцев беспокоит то, что их землячек склоняют к сексу, если у них нет денег, чтобы откупиться».
Правда, изредка среди этих властных кавалеров проводят, так сказать, санитарную чистку. К примеру, как сообщает «Московский комсомолец» от 21 августа 2006 года, два сотрудника Мытищинского УВД подкинули в «Тойоту» одного обеспеченного гражданина наркотики и гранату и пообещали не возбуждать уголовного дела за 6000 долларов. А у гражданина при себе было только 22 тысячи рублей. Поехали к его матери. Взяли у неё всё, что было – 100 долларов и 27 тысяч рублей. Ну что это за сумма для двух бравых оперативников: на один… то есть на два зуба! Обидно, право! Стали требовать с гражданина хотя бы ещё 1600 долларов – по 800 на брата.
Не так уж и много для владельца иномарки! А много, так продай машину и заплати! А тот возьми и заяви на них в прокуратуру.
Словом, «Мытищинский городской суд приговорил Ложкина к двум, а Сабанина к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии». Немного, конечно, получили бандиты Сабанин с Ложкиным, но ведь не срок важен, а важно, что вывели их, голубчиков, на чистую воду, не так ли?
В том-то и дело, что не так. Вывели их в редакции под чужими фамилиями. Не узнаю в принципе небоязливую газету. Изумляюсь, читая: «сотрудник группы уголовного розыска 3-го горотдела Сергей Сабанин и стажёр Дмитрий Ложкин (фамилии изменены)». Для чего изменены? Обычно фамилии меняют в интересах следствия, чтобы до суда не оговаривать невиновных. Но следствие ведь закончено, раз оглашён приговор! А в том контексте, что так называемых «оборотней» увозят в наручниках, не сняв с них масок, удивительно мягкий приговор ничего кроме недоумения вызвать не может. И подозрения: почему к ним отнеслись так снисходительно?
Я процитировал недавний «Московский комсомолец». Так что посмотрим, как в дальнейшем будет вести себя эта газета. Не скажу, что я постоянно ею восхищаюсь: вижу её почти раболепное отношение к московскому правительству, не понимаю её небрезгливости, с какой она печатает статьи депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Хинштейна, давно уже презрительно прозванного «сливным бачком» за тот нужный властям компромат на кого-либо, который сливают ему для озвучивания соответствующие органы. А уж от её «желтизны» в освещении всяческих тусовок, от её упоённого пересказывания, кто чей бойфренд, кто чья гёрлфренд, на каком месяце беременности находится какая-нибудь звезда или жена звезды, что пьют звёзды, что едят, во что одеты и т. д. и т. п. – от всей этой пошлости, по правде сказать, подташнивает.
Но с другой стороны, именно в том же номере газеты от 21 августа опубликована статья Бориса Сопельняка «Дети и вурдалак. Две истории изуверства». Страшная статья, основанная на документах.
Стихотворение шестнадцатилетней Анны Храбровой по стилевой манере очень напоминает те, что печатал Михаил Зощенко в своей книге «Письма к писателю». «Здесь, так сказать, дыхание нашей жизни», – отзывается о них Зощенко. И соотносит с ним свой стиль: «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица». «А как говорит и думает улица… – объясняет он, – видно из этой моей книги, из этих писем, которые я ежедневно получаю». Можно представить себе, с каким жадным интересом прочитал бы Михаил Михайлович стихи Ани. Но что он не смог бы их напечатать, сомневаться не приходится.
Любопытно, что стихотворение девочки названо «Вождям нашего Союза». Почти как «Письмо вождям Советского Союза» Солженицына. Но в отличие от Александра Исаевича Анна Храброва не высказывает предположения, что вы (вожди) «не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы – не безнациональны». Подобными вещами девочка не обольщается:
Весело в Союзе нашем Хорошо живется всем. На словах мы все так красим Всех измучили совсем. У деревню заезжая, Сердце ноет и болит, Еще жизни всей не зная, Голова уже трещит. А зайдешь в какую хатку — Только жалоба да стон: Хлеба нет! Взяли лошадку! Хоть собой корми ворон. А налоги, боже милый, Заживо во гроб кладут, Потому народ все хилый Последний скот у них возьмут. На словах товарищ Сталин Красит жизнь, что хоть куда, Но на самом деле Каин Не годится никуда. Я не боюсь вашей угрозы, Тюрьма меня не устрашит, В пути моей уж были грозы Теперь лишь дождик покропит. Хоть мало я жила на свете, Но что за сердце у меня, Оно сболело все на свете, Мои прекрасные года. Товарищ Сталин, что же дальше? Вам хорошо, что вам до всех. Пускай мужик умрет на пашне, Пускай же кровь сойдет со всех. Вы пьете кровь всего народа, Когда ж напьетесь вы ее? Когда же выяснет погода? Когда ж просветит луч весне? Пойду навстречу я народу, С народом мыслю умереть, Всегда готова я к походу И следа вам уж не стереть.Это стихотворение, которое я воспроизвёл, сохранив, как и Борис Сопельняк, его грамматические особенности, Аня послала по адресу: «Москва, Центральный Комитет СССР, тов. Сталину». Неизвестно, читал ли его лично тов. Сталин, но в Центральном Комитете СССР, сиречь в Наркомате внутренних дел, его прочитали очень внимательно. Арестовали Анну Андреевну Храброву 23 февраля 1936 года, и уже 10 апреля Особое совещание осудило её «за контрреволюционную деятельность». О дальнейшей судьбе этой девочки, оказавшейся полной тёзкой Анны Андреевны Ахматовой, ничего не известно.
Зато хорошо известно, как сложилась судьба Володи Мороза, у которого арестовали отца, мать, старшего брата, а самого накануне его пятнадцатилетия отправили в детский дом в Куйбышевской области. Володя вёл дневник в форме неотправленных писем, прочитав которые, пионервожатая, воспитательница и директор передали их органам. Уже тем, кто арестовал мальчика, нужно было идти на подлог: прибавить ему год – несовершеннолетние в то время аресту не подлежали. Но как было не арестовать ребёнка, читая такие его инвективы:
«Поразительно! Кучка сытых, наглых людей правит государством. Девяносто процентов населения – несчастные люди. Молчалинство, хлестаковщина и лицемерие процветают. Под видом общего прогресса скрывается упадок моразизма в нашей стране. Очень хочется воскликнуть:
Долго ль русский народ Будет рухлядью господ? И людьми, как скотами, Долго ль будут торговать?»А как было его не посадить? Но для этого уже требовалась санкция самого Прокурора СССР. Прокурор закрыл глаза на несовершеннолетие антисоветчика, и Володя Мороз отправился в лагерь.
В марте 1940 года, сообщает Б. Сопельняк, мать Володи просила пересмотреть его дело. Разумеется, дело пересматривать не стали. Сам замнаркома внутренних дел В. Н. Меркулов (был он в это время, уточню Б. Сопельняка, не просто замом, а вторым после Берии человеком в НКВД, его единственным первым замом) наложил резолюцию: «Отказать ввиду озлобленной враждебности к руководителям ВКП(б) и Советского правительства».
Конечно, резолюция известнейшего изверга не удивляет. Но Сопельняк не зря называет её «изуверской». Потому что наверняка доложили этому сталинскому палачу, что Володя Мороз умер от туберкулёза в лагере за два года до ходатайства матери, которой не удосужились (много чести!) сообщить о смерти малолетнего врага народа.
«Такие тогда были времена. Такие нравы. И такие люди сидели в кабинетах с высокими потолками», – заканчивает свою статью Борис Сопельняк. И я, читатель, благодарен Павлу Гусеву, главному редактору «Московского комсомольца», не устрашившемуся её напечатать. И тем более недоумеваю, для чего газете понадобился этот маскарад с упрятыванием корыстных морд милицейских бандитов.
Ведь совсем ещё недавно, 9 августа 2006 года, газета не побоялась рассказать не о каком-нибудь стажёре, не о каком-нибудь оперуполномоченном (или эти должности тоже маски?), но о милицейском руководстве обширного Юго-Западного округа Москвы:
«Как стало известно «МК», недавно сотрудники внутренней полиции проводили проверку в здании МОТОТРЭР ОГИБДД УВД Юго-Западного округа. В ходе рейда стражи порядка открыли для себя много нового. Например, в кабинете № 324 работали почему-то гражданские лица. Причём «работа» эта заключалась в изготовлении талонов гостехосмотра и прочих документов. Двух сотрудниц и копировальные машины охранял на входе некий мужчина. «Особисты» подсчитали, что только за один день прибыль этого миницеха составляет около 60 тысяч рублей. Сотрудники УСБ уже стали составлять акт о неутешительных результатах проверки, как в дело вмешались руководители УВД ЮЗАО, полковник Геннадий Сидоров и подполковник Олег Мамаев. Офицеры предложили «особистам» вознаграждение в размере 5 тысяч долларов. Для передачи денег все сотрудники милиции собрались в кафе «Встреча», расположенном недалеко от МОТОТРЭРа. В беседе с сотрудниками УСБ Сидоров стал торговаться: полковнику показалось, что сумма крупновата и надо бы её уменьшить на пару тысяч долларов. В итоге «оборотней» задержали».
Что называется, жадность фраера сгубила! 60 тысяч рублей в день – больше двух тысяч долларов – это, если давать трудягам из миницеха отдыхать хотя бы по воскресеньям, около 60 тысяч долларов в месяц. Понятно, что заместителю начальника УВД по тылу Геннадию Сидорову и начальнику отдела по материальному, техническому и хозяйственному обеспечению Олегу Мамаеву вся сумма не шла: приходилось делиться и с двумя изобличёнными сотрудницами, и с их охраной, и ещё с кем-то, кто, быть может, сумел не попасться на глаза проверяющим «особистам». Но понятно и то, что полковник и подполковник вряд ли благоденствовали за счёт одного только миницеха. А хоть бы и за счёт только его. Ведь что такое 5 тысяч долларов? – два дня его работы! Обеднели бы начальники? Пошли бы по миру? Нет, показалось много! Было от чего оскорбляться «особистам»!
Когда в 1966 году главный редактор журнала «РТ-программы» Борис Ильич Войтехов, о котором я рассказывал в «Стёжках-дорожках», затеял перестройку в том самом особняке на Никитском (тогда Суворовском) бульваре, где сжёг «Мертвые души» Гоголь и где он скончался, зачастили к нам в гости всякие комиссии – и от архитекторов, и от пожарных, и милиция вниманием не обходила, – всех обихаживал Борис Ильич. Был он щедр и с удовольствием выпивал у себя даже с участковым. Хотя за его спиной стояли очень влиятельные люди (пользуюсь случаем указать, что точное название их с Ленчем пьесы, понравившейся Сталину, «Павел Греков»; Павел, а не Борис, как я ошибочно написал в «Стёжках-дорожках»). Он не был боязлив, но хорошо понимал, как действует механизм тогдашней властной вертикали, и не мелочился.
А в «Литературную газету», которую бывшие наши сотрудники, ставшие первыми нашими эмигрантами, Виктор Перельман и Илья Суслов, назвали «самой еврейской газетой», любил захаживать участковый майор, которого звали Яков Менелаевич, еврей! Да, судьба словно взялась подшутить, поддразнить антисемитов. Якову Менелаевичу особенно нравилось бывать в «Клубе 12 стульев», где частенько собирались записные остряки. Но острили обычно не всухую, а Яков Менелаевич на предложение налить всегда отрицательно мотал головой. «При исполнении!» – объяснял. Выпивал Яков Менелаевич на наших праздничных вечерах, куда его, как и других, нужных руководству людей, приглашали. Помню тост «за доблестную нашу милицию», который произнёс Чаковский, глядя на Якова Менелаевича, и неожиданный ответный тост участкового: «За героев, которыми гордится вся страна!» Переждав минуту недоумения, воцарившегося за столом: кто эти герои? – Яков Менелаевич добавил: «Я счастлив, что нахожусь за этим столом с одним из таких героев – с героем социалистического труда Александром Борисовичем Чаковским!» На что ироничный Александр Борисович немедленно среагировал: «Счастлив сделать вас счастливым!» Словом, как говорится, стороны демонстрировали друг другу приязненность и уважение.
Входил ли участковый, майор милиции, в номенклатуру если не Дзержинского райкома партии, то хотя бы Дзержинского райисполкома, на территории которого располагалась наша газета? Не знаю. Не уверен. А главный редактор «Литературки» входил в номенклатуру секретариата ЦК партии, но замечал и привечал не слишком знатного милиционера, в обязанности которого входило присматривать за порядком в «Литературной газете». Денежных взяток Якову Менелаевичу наверняка у нас никто не давал, но ведь хорошее, дружеское к нему отношение, внимание со стороны руководства газеты, со стороны такого человека, как герой соцтруда Чаковский, и было в то время родом взятки, особенной, подслащивающей самолюбие.
И Яков Менелаевич это воспринимал с благодарностью. Беспокоился на наших вечерах о крепко выпивших сотрудниках: доберутся ли до дома? Организовал однажды милицейскую машину, которая не в вытрезвитель повезла особо пьяных, а развезла их по домам. Причём по точным адресам, которые Яков Менелаевич не просто записал со слов более трезвых, но сунул каждому пьяному в карман, чтобы шофёр не ошибся!
* * *
Да, как писал поэт, были люди в наше время! Нынешнее племя участковых ведёт себя по-другому. Впрочем, не станем обобщать. Но и не пройдём мимо небольшой информационной заметки «Московского комсомольца» от 24 августа 2006 года:
«Как сообщили «МК» в Кузьминском суде, весной 2001 года старший участковый уполномоченный ОВД «Выхино» узнал, что в двухкомнатной квартире в доме по Самаркандскому бульвару живёт смертельно больной одинокий гражданин. Мужчина уже месяц не вставал с постели и мог умереть со дня на день. Милиционер решил завладеть его жилплощадью и придумал для этого хитрую схему».
Углубляться в эту схему не будем, скажем только, что ещё при жизни этого одинокого гражданина была совершена многоходовая сделка, в результате которой больной, если б он выжил, лишился квартиры. Но «мужчина скончался, даже не узнав о том, что его квартирой уже успели распорядиться мошенники». В конечном счёте «милиционер стал полноправным владельцем жилья». А в конце ноября 2005 года вместе с другими участниками придуманной им афёры был признан виновным в мошенничестве. На какой срок он осуждён, газета не сообщает. Сообщает только, что помогавший ему частный нотариус получил два года лишения свободы.
Увы, на этот раз газета не только не уведомила своих читателей о размере наказания для милиционера, она не назвала и его имя. «Старший участковый уполномоченный ОВД «Выхино»» – вот всё, что нам о нём известно. Неужто всё-таки газета стала побаиваться связываться с милицией?
А с другой стороны, только ли «Московский комсомолец» побаивается? Вот что пишет, например, корреспондент «Комсомольской правды» Олег Шевцов о соотечественнике из Новороссийска, отдыхающем на Лазурном берегу: «Спрашиваю, почему решил податься отдыхать на Лазурный берег, разве родного моря мало? Ответ потряс. Новороссиец показал свои часы: «Видите, я здесь спокойно могу надеть «Ролекс» и золотую цепь. Как все. А там я ношу дешёвые " Сейко» и боюсь высунуть нос с дачи – всё снимут либо налоговая, либо местные бандюганы. И пикнуть не успеешь!»» («Комсомольская правда» от 22 августа 2006 года).
Это «либо – либо» о тех, кто обирает бизнесмена, весьма красноречиво. По свидетельству очень осведомлённого Вячеслава Костикова, бывшего ельцинского пресс-секретаря, работающего нынче в «Аргументах и фактах» и постоянно там выступающего, «в регионах хорошо известны тарифы: сколько стоит откупиться от обвинения в хулиганстве, в грабеже, насилии, даже в убийстве. Посредниками нередко выступают работники МВД, связанные с криминальным миром». Правда, дальше в той же статье, опубликованной в 32-м номере газеты от 9 – 15 августа 2006 года, В. Костиков ссылается на первого вице-спикера Госдумы Любовь Слиску, по словам которой, «в стране в открытую идёт «торговля властью», а «при принятии решений приоритет отдаётся не государственным, а узкокорыстным интересам»».
Обеспокоенность Любови Константиновны подобными вещами понять можно. Труднее понять её решение принять пакет акций ОАО «Трансмаш» из города Энгельса. Весит этот пакет от 50 до 60 миллионов долларов. Передан он Слиске безвозмездно – в дар. За что вообще-то положено заплатить больше 6-ти миллионов долларов налога. Но Любовь Константиновна, объяснив, что «платить за акции я бы не стала, у меня сроду таких денег не было», добавила, как пишет саратовский корреспондент «Новой газеты» (№ 63 от 21.08. – 23.08. 2006 г.) Надежда Андреева, что «сразу передала ценные бумаги в доверительное управление, а дивидендами " никогда не интересовалась»».
Началась эта история с письма 23-х депутатов саратовской Думы президенту, которого известили о том, «что Любовь Константиновна выстроила коттедж и асфальтовую дорогу для своей матери, а также приобрела акции энгельского ОАО «Трансмаш»». Слиска это письмо посчитала клеветой и обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура вроде с ней согласилась и по слухам возбудила дела против саратовского гордумца, соратника другого вице-спикера Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина, родом, как и Любовь Константиновна, из саратовской глубинки.
Углубляться в конфликт между двумя руководителями Госдумы и «Единой России» у меня нет охоты. Скажу только, что решив, как она сама об этом сказала, принять пакет акций, Л. К. Слиска вряд ли в данном случае озаботилась государственными интересами. А что до денег, то действительно, откуда у Слиски могут быть такие деньги? Её базовый оклад – 18 тысяч рублей. В месяц с учётом всех компенсаций и вознаграждений она получает около 110 тысяч.
И Володин получает ровно столько же – около 110 тысяч рублей в месяц. Поэтому понятно недоумение депутатов Госдумы, узнавших из февральского номера журнала «Финансы» за этот год, что состояние Вячеслава Викторовича оценивается в 2,7 миллиарда рублей. Особо недоумевающие – из фракций «Родина» и КПРФ обратились за разъяснениями в Генпрокуратуру. Она ответила, что не усмотрела в действиях Володина нарушения закона. Вопрос, по мнению Леонида Горяинова, руководителя информационного управления ЦИК «Единой России», исчерпан: «Генпрокуратура никаких причин возбуждать какое-либо уголовное расследование в отношении Володина не нашла. Так что и говорить не о чем». А по мнению Валерия Рашкина, депутата Госдумы из фракции КПРФ, «нужно пригласить представителя Генпрокуратуры в Думу и поинтересоваться, каким же образом за четыре года, не имея ничего, кроме депутатской зарплаты, можно приумножить свои капиталы с 9 миллионов рублей до 2,7 миллиарда? Как Володину это удалось?» (Все приведённые мной цитаты – из того же номера «Новой газеты».)
Когда я преподавал в Литинституте, то часто, выходя от него дворами к улице Алексея Толстого (теперь – Спиридоновка), проходил мимо дома с мемориальной доской в честь жившего в нём выдающегося советского государственного деятеля Михаила Порфирьевича Георгадзе. Доска и по сей день там висит. Я и сейчас, читая надпись, её мысленно редактирую: не «выдающийся», а «прославленный». Слава Георгадзе далеко пережила его самого, оставшись в анекдотической единице взятки: «один георгадзе», «два георгадзе». Да и мы в «Литературке» после смерти (в 1982-м) этого бывшего секретаря Президиума Верховного Совета СССР, когда узнали, какие сокровища от него остались – деньги, бриллианты, золото, фарфор, шедевры, как говорится, мастеров русской и зарубежной живописи и много чего ещё, поменяли привычное приглашение скинуться: «Богат и знатен Кочубей?» на «Ну что? Я сегодня – Георгадзе. А ты?»
Но, конечно, единица взятки: один, два, три, пять, десять «георгадзе» звучит смешнее. И более соответствует деяниям этого государственного мужа. С 1957 года – двадцать пять лет! – пробыл он на своей хлопотливой должности. Ещё при Ворошилове пришёл. Может, по его протекции? А потом, пересидев этого председателя Президиума Верховного Совета, работал с другими – с Брежневым, с Микояном, с Подгорным, снова с Брежневым. И умер, что называется, на своём рабочем месте. Трудяга!
А непосильный его труд, которым заработал он своё небедное состояние, заключался в том, что от него, как от секретаря Президиума, во многом зависело помилование приговорённых да и приговор по делу осуждённых, который утверждался последней инстанцией – Верховным судом СССР, чей председатель не мог, конечно, не откликнуться на просьбу секретаря Президиума Верховного Совета. Члены Президиума – какой-нибудь знатный рабочий, какая-нибудь доярка, какой-нибудь космонавт, поэт Расул Гамзатов, несколько секретарей обкомов и даже ЦК в дела не вникали. Тем более не влезали во все подробности осуждения людей председатели Президиума. Насчёт того, приходилось ли делиться с ними Михаилу Порфирьевичу, утверждают разное. Точнее – категорически отвергают всякие подозрения в сообщничестве Георгадзе и, допустим, Микояна. Но далеко не так категоричны, когда встаёт вопрос о том, были ли повязаны одной верёвочкой секретарь Президиума Георгадзе с председателем Президиума Подгорным. Про Подгорного рассказывают, что он очень любил свою синекуру. Приезжал на работу, вызывал помощников, которые, зная привычку хозяина, уже держали наготове свежие анекдоты. Очень они его смешили, особенно про это, особен – но с матюшком. После обеда любил Подгорный поспать, а на закуску посплетничать со своими помощниками. Так и день проходил. Мог, конечно, в принципе брать и Брежнев. Но не деньгами. Помните гоголевского Аммоса Фёдоровича: «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело». Брежнев читать не любил: заставлял это делать помощников, но быстро уставал и слушать, спрашивал: что предлагаешь? Вполне можно было приложить к тому, что предлагаешь, очередного борзого щенка – то есть какое-нибудь ювелирное подношение, – подобные вещи Леонид Ильич обожал и не считал их взятками – подарок!
Конечно, по должности в Президиум Верховного Совета СССР входили и председатели Президиумов Верховных Советов всех советских республик, у которых могли быть свои интересы. Разумеется, Георгадзе их учитывал. Особенно интересы Ядгар Садыковны Насриддиновой, которая после избрания в 1959 году председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР уже на следующий год стала не простым членом Президиума Верховного Совета СССР, но заместителем его председателя. И пробыла на двух этих должностях до 1970 года. А потом ещё четыре года работала председателем одной из палат Верховного Совета СССР – Совета национальностей.
Ну а дальше Ядгар Садыковна исчезла с политической сцены. Говорили, что из-за конфликта с всесильным Шарафом Рашидовым, который её и продвигал. Из-за чего случился конфликт, я не знаю, знаю только, что конфликтовать с Рашидовым было смертельно опасно: его спецслужбы тщательно собирали компромат как на его врагов, так и на друзей. А уж на Насриддинову столько всего было собрано – столько преступников с её (небескорыстной, скорее всего) помощью было помиловано, столько чиновников (за хорошую, вероятно, мзду) получили повышения по службе, что завести на неё уголовное дело труда не составило. И не спасли её ни четыре ордена Ленина, ни орден Октябрьской революции, ни четыре других менее значительных. Ядгар Садыковну арестовали. Вышла ли она из тюрьмы при Рашидове или после его смерти, я не знаю.
Но Михаил Порфирьевич Георгадзе, повторяю, умер на своём рабочем месте. Хотя брал за помилование, наверное, не меньше, чем Насриддинова. Президиум Верховного Совета СССР был единственной инстанцией, которая могла помиловать любого, даже совершившего чудовищное преступление и приговорённого за него к смертной казни.
Смертная казнь в СССР широко практиковалась. Судьи приговаривали к ней охотно. Верховный суд отклонял апелляции осуждённых и подтверждал приговор, а дальше всё зависело от вникавшего в дело Георгадзе: как он предложит, так и будет!
А варящий мёд, по чудно-насмешливому выражению моего приятеля, писателя Фазиля Искандера, хоть палец да облизнёт! Похоже, что Георгадзе облизывал не только ладонь, но и всю руку по локоть!
Сперва я удивлялся: ведь многим известны художества этого государственного товарища! Почему же не снимают с дома, в котором он жил, мемориальную доску? А потом понял: а для чего бы её взялись снимать? Что плохого, с точки зрения нынешних властей, совершил Георгадзе? Конечно, ничего! Тем более что разработанная Михаилом Порфирьевичем схема получения взяток, пожалуй, покажется наивной государственным чиновникам, которые давно уже усовершенствовали систему извлечения «левого» дохода.
«По теневым каналам, – пишет в «Аргументах и фактах» в уже цитированной мною статье В. Костиков, – ходят бешеные, чаще всего криминальные миллиарды. Они разлагают государственный аппарат, депутатов, плодят коррупцию, искажают законы, развращают суды. Один из читателей «АиФ» недавно назвал наше государство " контрафактным». Резко? Несправедливо? А как иначе назвать государство, в котором руководство МВД знает все организованные преступные группировки, их лидеров, а власть употребить не может?».
Может, конечно! Но не хочет.
«На мой взгляд, – объяснил корреспонденту «Московского комсомольца» (25 августа 2006 года) председатель Национального Антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, – Путин прекрасно понимает, что вертикаль власти, долго выстраиваемая в нашей стране, не работает. А во-вторых, президент РФ не может не знать, что чиновники фактически превратились в крупных бизнесменов. Многие государственные функционеры и работают только ради своего благосостояния. Схемы для этого применяются разные, вплоть до покупки государственных должностей за огромные деньги».
И ещё он же и там же: «По моим данным, около 80 % государственного аппарата составляют коррумпированные чиновники. И речь идёт не только о взятках, ведь коррупция – это некая система взаимоотношений. А остальные 20 % – это либо те, которые работают честно, либо те, которым взяток не дают».
Так есть, стало быть, у нас в стране и честные чиновники? Есть и честные милиционеры? Есть, подтверждает Кирилл Кабанов: «Например, в Следственном Комитете при МВД РФ есть управление по раскрытию организованной преступной деятельности в сфере экономики. В этом управлении есть отдел по борьбе с коррупцией. Этот орган примечателен тем, что, что там подобрана команда профессионалов, которая раскрыла много известных преступлений».
Здорово, правда? Не спешите радоваться. «Недавно, – продолжает Кабанов, – ко мне поступила информация, что именно в Управлении по расследованию организованной преступности в сфере экономики начались какие-то странные проверки. Как правило, это делается для того, чтобы поменять руководство. Ну а новый руководитель обычно приходит на новое место вместе со своей командой. Получается, что по каким-то неведомым причинам просто разгоняют весьма эффективно работающий орган. Видимо, кому-то очень нужно взять это политически важное управление под контроль».
Отдаю должное благородству человека, предупреждающего людей о подстерегающей их опасности! Единственное, в чём не могу с ним согласиться, – это, что неведомы причины, по которым не нужны милиции честные люди. Разве не раскрывает эти причины то процентное соотношение 80-ти коррумпированных к 20-ти не берущих взятки, о котором он сам и говорил? Разве оно не свидетельствует о том, что мент с бандюганом не только побратались, но срослись, как сиамские близнецы? Которых безумно трудно теперь отделить друг от друга!
Что колесят шестёрки в «шестисотых»
Завод, на который я устроился работать, был очень небольшим. Один токарный цех, один слесарный, от которого мы, радиомонтажники, были отделены стеклянной перегородкой с фанерной дверью. Так сказать, друг у друга на виду. Да и удобно: видишь, что свободен сверлильный станок, и идёшь к нему, если есть необходимость установить на твоём блоке какую-нибудь панель с помощью винта и гайки. А для внутренней резьбы – иди к фрезерному, как только он освободится.
Была ещё небольшая котельная. Впритык к ней находился кузнечный цех, где за пол-литра тебе могли выковать очень симпатичную «финку», правда, без ручки, а с торчащим на её месте металлическим штырём. Нужна ручка – наборная, плексигласовая, цветная, – обратись к ребятам из института.
Нет, не из учебного текстильного, который находился в полукилометре от нас, а из нашего же НИИ полиграфического машиностроения, чьи экспериментальные разработки и воплощал в жизнь маленький завод «Полиграфмаш».
Располагался и он, и НИИ в тихом Малом Калужском переулке напротив высокого (как ни прыгай, ничего не увидишь!) каменного забора огромного по площади завода «Красный пролетарий», который славился своей, вынесенной за его территорию двухэтажной столовой: на первом этаже обедали наспех, стоя, а на втором – два зала: один – диетический, другой – простой, но в обоих столики, чистые скатерти и официантки (их называли подавальщицами).
Приносить с собой спиртное в эту известную на всю округу столовую, которую все называли «Кыр-Пыр» (от «Красный Пролетарий»), не то чтобы запрещалось, но достать свою бутылку можно было не раньше, чем закажешь спиртное там. В принципе многие так и делали. Наценки в ту пору были небольшие: и в ресторанах, и в столовых на 10 % выше, чем в магазинах, но мы, радиомонтажники, больше любили ходить в пивнушку, расположенную совсем уж близко от проходной (приходящие туда «краснопролетарцы» нам завидовали), где пиво было не дороже бутылочного, а за тем, что ты принёс с собой, никто не следил.
Совсем другая история о том, что дважды в месяц, в день получки около проходной или пивной собирались жёны или родственники победившего в стране пролетариата, тех его отдельных представителей, кто не смог преодолеть в себе буржуазных предрассудков, в частности, пьянства, и родственники брали на себя нелёгкую обязанность дотащить зарплату до дома целой. Но обычно в таких случаях, даже если отдавали люди свою зарплату жёнам, то занимали под следующую у других, так что пивная на углу Малого Калужского и Ленинского проспекта никогда не пустовала.
Не давали пустовать ей, как я только что написал, и мы, радиомонтажники.
Я уже трижды говорю: «мы, радиомонтажники», совершенно забыв о том, что поначалу четыре месяца был учеником радиомонтажника, и мой отец, главный механик завода, не мог поспособствовать мне ужать этот срок.
Отец и сам был без диплома. Когда-то, в конце двадцатых, он приехал из Смоленской губернии в Москву, прописался (тогда это было просто) в комнату своего старшего брата, который жил в ней с женой, и поступил на работу фрезеровщиком на завод имени Владимира Ильича, бывший прежде заводом Михельсона, на чьей территории Каплан стреляла в Ленина.
Всю жизнь отец хранил заводскую газету «Ильичёвец», в которой было крупными буквами написано: «Бригада тов. Красухина первой перешла на хозрасчёт».
Да, отец стал бригадиром, не имея даже свидетельства об окончании семилетки. Зато он уже в 23 года, в 1931-м («как Брежнев», – неизменно потом подчёркивал он), стал коммунистом и быстро поднимался по служебной лестнице, правда, получив свидетельство об окончании рабфака. Но выяснить, чему он там выучился и учился ли он там вообще, мне не удалось: отец на все мои вопросы отмахивался и отмалчивался.
Знаю, что до войны он дорос до начальника цеха завода имени Владимира Ильича, а на «Полиграфмаш» был взят поначалу замом главного механика.
Мать любила слушать его рассказы, как поразил он директора завода своим невиданным доселе методом перемещения неподъёмного станка с место на место, как после ухода главного механика на пенсию ни у кого и сомнений не возникло, что это место должен занять её муж. Любили они оба вспоминать, и как познакомились на заводе имени Владимира Ильича.
Маме было 18 лет, она окончила бухгалтерские курсы при заводе. Отцу – 30. Увидев маму, отец влюбился с первого взгляда. Воспользовался театральными билетами, выданными ему завкомом как передовику производства, и позвал её на спектакль по пьесе Тренёва «Любовь Яровая» (оба не смогли точно припомнить, в каком же театре они его смотрели в 1938 году: мама говорила, что в Малом, папа – что в Художественном), а после спектакля сделал ей предложение, которое она немедленно приняла с условием, что он должен представиться её тётке – тёте Лизе, у которой она, как я уже здесь рассказывал, жила и которая, конечно, была рада сбыть с рук свалившуюся на её голову племянницу – дочь её покойной сестры.
Старший брат отца вместе с женой и дочерью года за три до этого переехали в огромную коммунальную квартиру в доме недалеко от метро «Кропоткинская» (в то время станция называлась «Дворец Советов»), где заняли две комнаты, которые им выдал их химический научный институт (оба – и дядя, и его жена были кандидатами химических наук). Отцу осталась небольшая комната на Щипке, куда он привёл молодую жену и где я родился (не в ней, конечно, но рядом с ней – в роддоме) и жил очень короткое время до войны.
А после пензенской эвакуации мы с мамой в 1943 году поселились в другой комнате, которую дали отцу, – в Хавско-Шаболовском, потому что, пока все отсутствовали, комнату на Щипке заняли.
Впрочем, родители о ней не жалели. Она была восьмиметровой, а наша, в Хавско-Шаболовском, занимала целых одиннадцать с половиной метров!
Так вот – возвращаюсь к заводу – четыре месяца я ходил учеником радиомонтажника уже не помню, с какой стипендией: моя выработка по наряду выписывалась моему учителю – чудесному, доброжелательному, спокойному, никогда не паникующему человеку Юре Щипанову. Он мне много помогал и когда я, сдав экзамен, получил 4-й разряд (всего их было восемь).
Платили нам хорошо. Мы собирали оборудование для громоздкой машины ЭГА (электронно-гравировальный аппарат) – новинке в полиграфии, как и заменившей её через короткое время ЭГАМ (электронно-гравировальный аппарат масштабный), представлявшей два коленчатых вала, на один из которых наматывалась матрица, а на другой с помощью электроники она в точности воспроизводилась (на ЭГАМ её уже можно было воспроизвести в любом, нужном тебе масштабе).
За собранный электронный блок для машины платили по наряду 200 рублей (дореформенных: Хрущёв провёл реформу в 1961-м, а я веду речь о 1958-м). Мне обычно выписывали по 10 нарядов в месяц. Более опытным – по 15–20. Но и я, и бывалые радиомонтажники не спешили закрывать (подписывать у мастера) все наряды. Откладывали незакрытыми на следующий месяц. А закроешь все – и не миновать тебе урезывания суммы: специальный отдел на заводе следил за твоим заработком. Много заработал в этом месяце – в следующем норма оплаты будет снижена!
И ещё. Мы зависели от отдела снабжения, то есть от тех, кто привозил на завод комплектующие детали. А их обычно привозили только к концу месяца, когда подводили общие итоги выполнения плана, от которых зависела прогрессивка начальства. В двадцатых числах их и завозили. И мы последнюю месячную неделю вообще не покидали рабочих мест. Там же на заводе и спали: прикорнёшь ненадолго, проснёшься и снова паяешь.
А под так называемый аванс (первую получку) сдавали часть оставшихся незакрытыми нарядов. Нормировщики могли, конечно, удивляться такой неожиданной выработке (завод-то стоял!), но протестовать боялись: сказать вслух о простоях на советском производстве – значит клеветать на него!
Закисая от безделья в первые двадцать дней месяца, мы чего только не придумывали. И положенное нам за вредность молоко (дышишь дымом паяльника всё-таки!) в буфете, немного доплачивая, меняли на пиво, и спирт, которым следовало протирать экспортную продукцию, пили неразбавленным, задерживая дыхание и посылая в досыл воду.
Что же до ацетона, которым нужно было протирать изделие, предназначенное для глубинки, то его выменивали на стоящие вещи (да хоть на плексигласовые ручки для «финок») у сотрудников института.
Наш коллектив был небольшим: шесть радиомонтажников и четыре наладчика, в основном мужским: немного позже меня пришла учеником моя ровесница Вера, на которую посыпались солёные шуточки – сперва осторожно, пробно, но потом, убедившись, что они её смешат, мои товарищи (а все они, кроме Василия Ивановича Гардальонова, были лет на десять нас постарше) вступили как бы в соревнование друг с другом, изощряясь в остроумии и припоминая известные им анекдоты. Вера ровно привечала всех, никого не выделяя, смеялась даже над грубой похабщиной и очень скоро стала похожей на обычную женщину-работницу в цеху, которую могли потрогать за её прелести и получить за это, уклонившись от удара в гогочущую рожу, сильные тычки в спину. Причём гоготал не только трогающий, гоготала и та, кого трогали.
В пивнушку ни она, ни Василий Иванович Гардальонов с нами не ходили и спирт не пили. Вера пила своё молоко и быстро сошлась уже не помню с кем из институтской лаборатории, чем оскорбила коллег, которые однако не препятствовали ей отливать от общей бутыли спирта для своего парня.
Поначалу меня смешили её жажда заполучить от комсорга какое-нибудь задание и буквализм, с которым она его исполняла. Но уже через полгода она оказалась комсомольским секретарём завода и одновременно вошла в большой комитет комсомола, стоявший над заводскими и институтскими членами этой молодёжной идеологической организации.
Здесь уже и коллеги стали её побаиваться: лапать прекратили, шутили с ней намного осторожней, чем раньше.
А когда сразу после только что окончившегося XXI съезда партии на общем комсомольском собрании именно ей доверили читать наше приветственное письмо в адрес ЦК КПСС, когда, торжественным голосом подчёркивая свою взволнованность и важность текущего момента, она произносила: «мы, молодёжь», «заверяем», «клянёмся», «родная партия», «наши священные идеалы», – я понял, что профессия радиомонтажницы понадобится ей очень недолго и что замахивается она на совершенно другую работу.
О том, что не ошибся, я узнал, уже уйдя с завода. Кто-то мне сказал, что Вера тоже с завода ушла. Но не учиться, как я, а инструктором в Ленинский райком комсомола столицы.
Я уже и вовсе забыл про свою бывшую коллегу, когда, спустя много лет, показали по телевидению президиум какого-то съезда комсомола. Камера на мгновенье задержалась на лице женщины, в которой я узнал Веру. Лицо округлилось, холодные глаза, высокая причёска. Холодными своими глазами она смотрела на меня, то есть в зал, как бы отдаляя меня (зал) от себя, не допуская между собой и нами никакого равенства. Впрочем, это могло мне только показаться. Это вообще могла быть не она. Хотя для подобной карьеры завод давал идеальные возможности.
* * *
Уже через год после моего прихода меня стали уговаривать вступать в партию. Мои ровесники и знакомые из НИИ в такой возможности были ограничены: для так называемых ИТР (инженерно-технических работников) существовала определённая квота. А рабочие квотой стеснены не были. Наоборот. Райкомы давили на парторгов заводов, чтобы те побуждали пролетариев идти в свою партию.
А пролетарии чудесными своими правами воспользоваться не спешили. Для чего им было становиться коммунистами? Чтобы платить партвзносы? Так и отвечали они парторгу: обойдусь! Не заставляя себя, подобно интеллигенции, ломать комедию: не чувствую, дескать, себя достойным, не дорос нравственно!
Отец меня уговаривал. Он единственный в своей семье был партийный и без образования: о старшем его брате я здесь говорил, а три его сестры кончили кто педагогический, а кто медицинский институты. «И вот – я главный механик, – удовлетворённо заключал он. – А мог бы я им стать, если б был беспартийным?» «А я не хочу становиться главным механиком!» – отвечал я на это. «Вступай сейчас, пока есть возможность, если хочешь чего-то добиться в жизни», – не принимал отец моего юмора.
Через небольшое время после того, как я пришёл на работу в редакцию журнала «РТ-программы», я попал на свадьбу, точнее на поздравление молодых главным редактором Борисом Ильичём Войтеховым. Девушка, работавшая в его секретариате, выходила замуж за его любимца Николая Николаевича Митрофанова. Шампанское лилось рекою, Борис Ильич был в ударе и вместо одного произнёс несколько тостов, один другого красочнее. Не раз он троекратно целовался с молодыми и, кажется, был возбуждённо взволнован не меньше их. И не меньше, чем они, хотел их семейного счастья.
Коля Митрофанов попал в поле его зрения совершенно неожиданно. Недавно пришедший в журнал рядовым сотрудником не помню какого отдела, он, возможно, так и оставался на этой своей должности, если б Борис Ильич не любил, чтобы на планёрках наиболее горячо рекомендуемые отделами материалы непременно зачитывались вслух. Но Борис Ильич, любя, чтоб ему читали, вечно оставался неудовлетворённым тем, кто ему читал: ну не так читает человек, как ему хотелось, не тот голос, не те интонации! Подобным образом ведут себя иные православные в храмах, которые не пойдут на церковную службу в ближнюю церковь, а поедут за тридевять земель в другую ради голоса тамошнего дьякона.
Кто-то предложил Войтехову попробовать в роли чтеца Колю Митрофанова, и Борис Ильич наслаждался, когда Коля, обладавший голосом Левитана, читал материал. Он потребовал от исполняющего обязанности зама главного редактора Павла Гуревича назначить Николая Николаевича заведующим отделом. И поскольку выяснилось, что все отделы уже разобраны, предложил создать в журнале новый, объявив конкурс среди сотрудников и пообещав хорошую премию тому из них, кто придумает не только название нового отдела, но и убедительное для кадров Радиокомитета (мы были в его системе) обоснование необходимости его в журнале.
Не помню, кто победил, но через некоторое время Николай Николаевич Митрофанов возглавил отдел то ли конкретных, то ли конкретно-социальных исследований. А ещё через какое-то подал заявление в партию, которое быстро удовлетворили: лимит для заведующих был намного обширней, чем для рядовых сотрудников.
После того как Войтехова сняли, я перешёл в «Литературную газету», оставив журнал и Митрофанова в нём в весьма плачевном состоянии.
А через десятилетие разговорился с Виктором Веселовским, моим соседом по лестничной площадке, который до того как прийти в «Литературку» заведовать отделом сатиры и юмора, заведовал таким же в «РТ», где, как и Коля Митрофанов, томился, не зная, чем ему заняться. С Колей – понятно: функции его отдела были весьма неопределёнными, а юмора и сатиры Войтехов не любил, на страницы своего журнала не выпускал. Возможно, на почве этого вынужденного безделья они и подружились – Витя с Колей.
– Помнишь Колю Митрофанова? – спросил я Витю. – Ты не знаешь, где он сейчас?
– Как же мне не знать, – отозвался Веселовский, – если мы с Таней (с его женой) на той неделе были у него в гостях. Коля работает в Московском горкоме партии.
– Давно?
– Довольно-таки! Так что в случае чего – учти: есть там у нас нужный человек!
Но прибегать к помощи Митрофанова мне не пришлось. Хотя в горком однажды я позвонил.
Позвонил я Славе Саватееву, который некогда работал на Цветном бульваре в отделе критики «Литературной России» в одном коридоре со мной.
В том же отделе работала и жена Юрия Изюмова, Нонна, сосватавшая Славу своему мужу, который пришёл работать в горком и подбирал себе сотрудников.
Мой бывший коллега Валерий Поволяев, явившийся к нам в «Литературку» с улицы, долго мучившийся вне штата, а потом взятый в штат в отдел информации, быстро сориентировался: кто есть кто в литературном мире, стал почти постоянно брать интервью у секретарей Союза писателей, очень понравился всесильному Георгию Маркову, который сперва перевёл его из газеты замом главного редактора в журнал «Октябрь», но уже через год подыскал для него ещё лучшее место – рабочего секретаря Союза писателей РСФСР. Я забыл сказать, что при этом писал Поволяев прозу, которую, когда он стал начальником, издавали большими тиражами. Но человеком он был неплохим, помнящим добро, помнящим, как я помогал ему на первых порах в овладении профессии газетчика. Отношения у нас сохранялись тёплыми. Поэтому я позвонил ему, когда, получив весьма недурной аванс за будущую книгу в издательстве «Советский писатель», решил отправиться с женой в какую-нибудь зарубежную туристическую поездку. Каждый из рабочих секретарей Союза возглавлял одну из таких поездок раз в год. И это было ему как бы премией: денег за неё он не платил.
Валера сказал, что в этом (1983-м) году он набирает группу, которая больше недели пробудет в Италии, посетит Рим, Флоренцию, Сан-Марино, Венецию, из Венеции самолётом вылетит в Париж и уже оттуда через пять дней вернётся в Москву. Звучало сказочно.
– Но насколько реально мне поехать с женой? – спросил я.
– Абсолютно реально, – ответил Поволяев. – Группу ведь набираю я. Считай, что вы уже летите. Но учти: путёвка дорогая – по 1300 рублей с носа.
2600 на двоих тогда были очень большими деньгами. Аванс, выплаченный издательством, не дотягивал до такой суммы. Но это меня не смутило. Можно было и подзанять у родственников или друзей, ведь по одобрению книги мне снова бы заплатили.
Словом, окрылённый, я стал оформляться. Мне это трудностей не доставило. Старики из выездной комиссии райкома партии спросили, почему я беспартийный. «Готовлюсь!» – бодро соврал я им. «А для чего, – сказал один из них, – вам лететь во Францию и Италию, когда наша страна такая большая. Почему бы вам не слетать, скажем, на Байкал?» «Был, был я на Байкале, – весело ответил я. – И на Дальнем Востоке, и во всех советских республиках. Я же обозреватель центральной газеты страны. Куда только не приходится от неё ездить!»
Больше крыть старикам было нечем. И характеристику секретарь райкома партии мне подписал.
Но с женой произошла очень серьёзная заминка. Она не работала в штате. Поэтому ей предложили идти в райком партии с соответствующей справкой с места жительства. В ЖЭКе очень удивились такой просьбе жены, заставили её взять письменные свидетельства у соседей по площадке о её поведении и выдали ей справку, что, дескать, у нас проживает, ни в чём предосудительном не замечена, но в общественной жизни, связанной с деятельностью жилищно-эксплута-ционной конторы, участия не принимает.
Старики из выездной комиссии райкома, в которую её направили, гневно засверкали глазами: «не работаете!», «не принимаете участия в общественной жизни!». Отказались разрешить ей поездку едино – гласно.
Я позвонил Поволяеву.
– Старичок, – сказал он. – Здесь я бессилен. На райком я нажать не могу. Может, ты один поедешь?
Но ехать одному мне не хотелось. Я позвонил в райком. Говорил с помощником секретаря, который подписывал выездные характеристики. Объяснял ситуацию: жена работает в журнале «Пионер», но не в штате, отвечая на письма ребят и составляя страничку детского творчества. Так какие основания у секретаря райкома отказывать жене в поездке?
– Основание, – ответили мне, – представленная вашей женой справка. Выездная комиссия единогласно отказала ей в выезде. И секретарь не видит причин для пересмотра такого решения.
И здесь я вспомнил о Саватееве. Узнал его телефон, изложил ему суть дела.
– Для чего, – сказал он, – ты допустил, чтоб жене написали, что она не занимается общественной деятельностью? Ведь для выездной комиссии – это как для быка красная тряпка!
– Что же я тут мог сделать? – удивился я. – Не я же диктовал ЖЭКу такую справку.
– Буду действовать, – пообещал Саватеев.
Он позвонил в райком, о чём мы узнали от того же помощника секретаря. Но, когда оставалось совсем немного времени до конца оформления и меня торопили со сдачей всех документов, вдруг выяснилось, что секретарь всё-таки не подпишет характеристику.
Я позвонил помощнику.
– Хорошо, – сказал я, – поручительство горкома на вашего секретаря не произвело впечатления. Я подобной перестраховки принять не могу. Позвоню в ЦК и расскажу о странной робости работников райкома.
И не слушая больше никаких объяснений, попрощавшись, положил трубку.
Вечером того же дня помощник позвонил жене и сказал, чтобы утром она приезжала за характеристикой: секретарь её подписал. И мы совершили это сказочное путешествие, которому предшествовали совершенно сказочные (потому что неправдоподобные, нереальные) препятствия.
Я благодарен Славе Саватееву, как и Валере Поволяеву, но в данном случае веду речь о нравах, описанных ещё Грибоедовым, Гоголем и Островским и абсолютно с тех пор не изменившихся. Так что уж не знаю, в какое время зародилась на Руси поговорка: «Не место красит человека, а человек место». И с какой стати выдал народ подобную мудрость. Может, протестуя против того, что наблюдал повсеместно и ежедневно обратное? («Не только на Руси, – сказал мне один мудрый человек, – место красит человека! Это явление повсеместное». Может быть. Но я-то пишу о русской пословице!)
– Вот, – гордо и счастливо сказала нам в «Литературе» моя заместительница, поговорив по телефону с мужем, – теперь и за мной будут приезжать на иномарке!
Муж купил «Мицубиси» тёмно-синего цвета.
– Она почти чёрная, – ворковала заместительница, понаслаждавшись ездой на новой машине. – Когда мы едем, на нас все смотрят. И когда мы останавливаемся у супермаркетов, где меньше чем на восемьсот или на тысячу рублей мы не покупаем!
А машина-то была подержанная, и её траты в супермаркете никого не волновали. И пристальный интерес к их с мужем жизни был лишь в её воображении. Но так хотелось ошеломлять, вызывать зависть, возвышаться над другими! Этим она и жила.
– Геннадий Григорьевич, вы должны уважать мои амбиции, – говорил мне сменивший её заместитель главного редактора «Литературы».
– Амбиции, Серёжа, – возражал я, – уважения не заслуживают.
– Ну, моё честолюбие, – уточнял он.
Много в этом его ощущении объяснила мне небольшая его семей – ная драма, разыгравшаяся после новогоднего редакционного вечера. Вечер начался с оглашения списка новых ветеранов, которые с января будущего года получат, как я уже рассказывал об этом, прибавку к зарплате. Каждому новому ветерану, то есть сотруднику, проработавшему в редакции 10 лет, вручается подарок: плюшевая игрушка, дешёвый плеер или деревянная матрёшка с бутылкой водки внутри. Моему заместителю досталась матрёшка с водкой. Оказалось, что это смертельно оскорбило его жену. «Я думала, что начальство тебя ценит, – говорила она. – А к тебе относятся как к пьянице». Сергей позвонил мне в новогоднюю ночь, поздравил и сказал, что звонит не из дома, что придёт, конечно, домой, но праздник для него уже испорчен. Слава Богу, что незадолго до этого ему исполнилось 50 лет. Я написал Артёму, попросил премировать своего заместителя. Артём согласился. И только эта премия вернула ему расположение жены, убедившейся, что руководство её мужа уважает.
«Прямо как у Пушкина», – подумалось мне. Есть у Пушкина рассказ про четырёхлетнего сына своего знакомого, который в отсутствии родителя говорил сам себе: «Какой папенька хлаблий! Как папеньку госудаль любит!» «Кто тебе это сказывал, Володя?» – спросили подслушавшие ребёнка взрослые. «Папенька», – отвечал тот.
Но семейная ссора моего сотрудника не столько смешна, сколько грустна. Больше четверти века люди живут вместе. Воспитали дочь, которая уже окончила институт. Выработали, конечно, общие принципы отношения к миру. И вот лелеют собственные амбиции, культивируют их, поддерживают их друг в друге. Тебя продвигает начальство, ты ему нравишься – и мне ты нравишься, начальство тебя не ценит – и я тебя ценить отказываюсь! Как после этого не стараться угодить властям, чтобы не уронить себя хотя бы в глазах близкого тебе человека!
Любопытно, что над тем же феноменом задумался мой хороший знакомый Наум Коржавин (я, как и все его приятели, звал его Эмкой – по настоящему имени Эммануил), двухтомник воспоминаний которого «В соблазнах кровавой эпохи» я не так давно прочитал. Великолепный психолог и тонкий аналитик человеческой души, Эмка очень точно написал о явлении, когда люди, причастные вроде по профессии к культуре, оказываются обойдёнными её духом. Обойдёнными, пишет Коржавин, «как-то очень эластично и гармонично». Они не злы и не особенно плохи. Их нельзя отнести «даже к тем, о ком можно сказать словами Лермонтова: «К добру и злу постыдно равнодушны»»: они вообще не замечают «проблемы добра и зла, чести и бесчестья, честности и нечестности». Что же до другой строчки из того же стихотворения Лермонтова: «И перед властию презренные рабы», то она, продолжает Эмка, «если и воспринималась ими, то только по отношению к давней, ныне официально ошельмованной (значит, ненастоящей) власти. А вообще стремление угодить власти воспринималось ими как нечто естественное, а умение угодить ей, угадав наперед её желание, – вообще как высшее профессиональное и человеческое достижение. И то сказать – это ведь не было связано у них с подавлением чего-то своего. Своего, кроме как на бытовом уровне, не было – его им заменили установки, которые были для них благом и стимулом творчества».
* * *
Абсолютно точно! Так и вёл себя в «Литературной газете» бывший преподаватель литературы Ростовского университета Фёдор Аркадьевич Чапчахов. Не верилось, что он не просто читал книги, но много знал наизусть, любил, ценил русскую и мировую классику, но её дух каким-то образом оказался закрытым для его души. Он читал книги, как пил «мёд-пиво» сказочник, у которого по усам текло, а в рот не попало! Ну ни капельки не попало. Человек, всю жизнь продрожавший перед начальством и перед своей женой (трудно сказать, перед кем больше!), но при этом хорохорившийся, рассказывающий подчинённым о своих дерзких поступках и бесстрашии. Его абсолютно не волновали вопросы «чести и бесчестия, честности и нечестности».
– Иногда диву даёшься, – говорил я своему заместителю, обнаружив в «литературном календаре» газеты не замеченную мной прежде какую-нибудь заметку в густопсовом советском стиле, – почему вы не вступили в партию? Просто не успели? Не подошла ваша очередь в Литинституте?
– Я и не собирался туда вступать, – отвечал он мне. Так же отвечал мне и Чапчахов, который до «Литературки» был членом редколлегии ростовского журнала «Дон», потом кочетовского «Октября». Тот пришёл в «Литгазету» убеждённым якобы беспартий – ным, но променял убеждения на членство в редколлегии. Ввели с условием, что он подаст заявление в партию. И он немедленно подал.
А меня, как говорится, Бог упас! На заводе я не был принципиальным антикоммунистом. Да и какие у меня тогда были принципы? Может быть, только нелюбовь к массовым сборищам. Отсюда и нелюбовь к комсомольским собраниям, на которых я не только скучал, но как бы внутренне протестовал против того ритуала, который там следовало соблюдать: «кто за?», «кто против?», «кто воздержался?» Не хотелось поднимать руку, я её и не поднимал.
Да и так сложилась моя жизнь, что не был отец для меня авторитетом, и я к его советам прислушивался редко.
Но вот сидим мы, радиомонтажники, в пивнушке. Вливаем в пиво водку, пьём этот «ёрш», закусываем бутербродами с сёмгой и с варёной колбасой. И слушаем, что говорит нам сидящий, выпивающий и закусывающий с нами секретарь большого комитета комсомола (института и завода) Игорь по фамилии (извините!) Штаркман. Говорит он, обращаясь ко мне, но слушаю я его вместе с другими.
– А он дело говорит, – подтверждает Юра Щипанов. – Ты слушай, слушай!
Я слушаю:
– Обычный конкурс на редакционно-издательский Полиграфического – 8—10 человек на место. На вечернем меньше. Ты, допустим, будешь поступать на вечернее…
– А для чего ему? – встревает наладчик Федя. – Пусть идёт на дневное.
– На дневное рано, – объясняет мне Игорь Штаркман. – Нужно два года стажа, а у тебя их нет.
– Ну и поступит, когда накопит, – заключает Федя.
– Стаж-то ты накопишь, – говорит Игорь. – И характеристику от завода получишь. Но конкурс есть конкурс. Сколько ребят из нашего института его не прошли – ни на дневное, ни на вечернее. А почему?
– Да, почему? – интересуемся мы.
– Потому что такой фантастической возможности вступить в партию, как у тебя, у них нет. А коммунист-абитуриент – это как абитуриент-мастер спорта. Идёт вне конкурса по особым спискам.
Отчего Штаркман заговорил именно о редакционно-издательском факультете? Видел, что я люблю литературу. Была у нас общая ежемесячная стенная газета, где я почти регулярно печатал свои стихи, которые многим на заводе и в институте нравились. Особенно тепло к ним относился научный сотрудник институтского отдела печати Боря Боссарт. Хотел извиниться и за эту фамилию, да вспомнил, что она нынче известная. Современная писательница Алла Боссарт, обозреватель «Новой газеты», – дочь моего приятеля Бори, который был ещё и очень неплохим карикатуристом. Его карикатуры появлялись не только в нашей газете, но и в периодике: в журналах «Крокодил», «Смена». Помню, как радовался Боря первой публикации своей дочери в «Юности». Не помню только точно, работал я в это время на заводе или уже ушёл: мы сохраняли тёплые отношения друг с другом и некоторое время после моего ухода.
Штаркман входил в редколлегию газеты, которая была органом парткома, профкома и комитета комсомола. А на маленьком нашем заводе иногда вывешивали личный наш заводской листок, намного меньший размерами, чем общая стенгазета. Я и в этот листок давал свои стихи.
Забегая вперёд, скажу, что первая моя в жизни публикация – заметка о современной поэзии в «Литературной газете» – была подписана: «Г. Красухин, радиомонтажник завода «Полиграфмаш», Москва». А впоследствии, когда в 1970 году Московское совещание молодых писателей рекомендовало меня в члены Союза, его московский секретарь Александр Рекемчук написал в «Вечерней Москве» о тех, кого рекомендовали. Обо мне он сказал, что я пришёл в литературу, набравшись опыта работы на заводе. Звучало это солидно, но не совсем достоверно: слишком коротким был в моей жизни её заводской отрезок.
– Конечно, – отхлёбывая своего «ерша», вдруг соображал Игорь Штаркман, – тебе может понравиться твоя работа. И тогда ты захочешь поступить на факультет электронного машиностроения. А там – половина преподавателей из нашего института. Поступление почти гарантировано.
– Во! – радовался за меня Федя. – Слышал? Поступай на электронное. Вернёшься главным электриком. Узнавать-то нас не перестанешь?
– Да кто ж тебя, беспартийного, главным электриком возьмёт? – скептически спрашивал Игорь. – В лучшем случае будешь мастером цеха. И встанешь на очередь в партию. А поступишь коммунистом, вернёшься на завод коммунистом, все руководящие должности твои. Какая освобождается, туда тебя и продвигают.
– Дело говорит! – подтверждает Юра Щипанов. – Ты слушай, слушай!
Но я не слушал. Точнее не слушался.
Электронное машиностроение я изучать не собирался. В технике я вообще туповат. Так и не научился читать электронные схемы: действовал по примитивным: объект «1» припаять к объекту «4», а тот в свою очередь подсоединить к объектам «7», «9». И хотя подсоединял я разноцветные провода, они перекручивались, так что находить нужные мне концы для зачистки и паяния приходилось с помощью тестера: обзваниваешь каждый, пока не начнёт колебаться на экране стрелка. Не могу сказать, что мне нравилась такая работа или что она меня отталкивала. Скорее, я был к ней равнодушен. Нравились мне мои напарники, с которыми приятно было приходить в заводской буфет, отдавать буфетчице талон на молоко и кивать на её «как всегда?», получая бутылку пива и тарелку с горячей, взбухшей колбасой, которую она взвешивала, вынимая из чана с кипятком. Приятно было потом подсмеиваться вместе со всеми над этой её хитростью: все понимали, что кипяток утяжеляет вес продукта. Но никто против этого не возражал. «Её зарплата – это не наша зарплата!» – глубокомысленно говорили мои гуманные товарищи. Отношения с буфетчицей у нас сохранялись дружескими.
Поскольку дома я не обедал, я не давал родителям денег из своей зарплаты. Давал только младшему брату пятёрку на школьный буфет. Так что денег в кармане у меня было много. Отверг я предложение матери отдавать их ей на сохранение, как это делал её неженатый брат, которому она скопила приличную сумму и вручила ему её, когда он женился. Мы с дворовыми и школьными друзьями любили посиживать в чешском баре «Пльзень», где тебе приносили кружку бочкового чешского пива, горячие шпикачки и корзиночку солёных рогаликов, испечённых полумесяцем.
Я не помню, сколько это стоило, хотя в бар мы заходили очень часто. Но помню, что стоило немного. В то время бары и рестораны были дёшевы. Своё восемнадцатилетие я отпраздновал в ресторане «Метрополь» – с фонтаном в зале. Пригласил человек восемь гостей. Заказал большую тарелку икры и столько холодных закусок, что шашлыки по-карски все жевали вяло, запивая их водкой и коньяком. Впрочем, начался вечер с нелюбимого мной до сих пор «шампанского», а вино я заказывал исключительно грузинское (нынче признанное контрафактным главным санитарным врачом Онищенко, при котором то и дело объявляют о массовых отравлениях детей в школьных буфетах и в лагерях, солдат в воинских частях; однако, если верить Онищенко, ничего опаснее грузинских и молдавских вин для русских желудков не существует!). Словом, съедено и выпито было много. А сумма счёта мне запомнилась отчётливо: 372 рубля. Я дал официанту 400 (чуть больше четвёртой части моей месячной зарплаты), и тот провожал нас едва ли не до самого выхода, предлагая заходить почаще и в его смену. Невероятно любезен был и швейцар, принявший от меня 15 рублей.
Разумеется, зарплата, которую я получал на заводе, мне нравилась. И всё же посвящать жизнь этой профессии у меня не было никакого желания.
И поступать на редакционно-издательский факультет Полиграфического института – тоже. Не предполагал я тогда, что почти всю жизнь проработаю редактором. Я тянулся к литературе, но к авторству в ней.
А что до раздававшихся со всех сторон советов вступать в партию, то исходили они, как правило, от институтских сотрудников. Желая мне добра, они ничего плохого в таком поступке не усматривали. Да и я не видел в этом ничего плохого. С волками жить – по-волчьи выть! – это давно известно. Но пример Веры, рьяно взявшейся воплощать в собственной жизни такое правило, меня не вдохновлял. А напарники мои – радиомонтажники и наладчики, с этой точки зрения, волками не были.
За исключением одного наладчика – Василия Ивановича Гардальонова.
Я пришёл на завод на его место: его перевели в наладчики из радиомонтажников, которым он работал недолго. Наладчики были элитой: разъезжали в командировки на места, где был установлен наш ЭГА, выявляли и устраняли недоделки, заменяли испорченные детали. Василий Иванович стал наладчиком почти сразу же, как вошёл в заводской партком. На правах старшего товарища он журил нас, вспоминающих о вчерашних посиделках в пивнушке: «Ну и как головка? Бо-бо? Небось о пиве думаете?» «Не трави душу, Василий Иванович!» – отзывался кто-нибудь из моих старших товарищей. «Не трави! – усмехался Гордальонов. – Да ты сам её и травишь!» «Ну ладно, – смягчался он. И обращался к наладчикам: – У кого из вас меньше всех голова трещит? Кто мне поможет?»
А помогать ему следовало. Он не обладал даром остальных: чуть ли не по звуку, чуть ли не на ощупь определить причину неполадки и устранить её. Поэтому доверяли ему, как правило, поездки в местные командировки – то есть по городу. Ну иногда и в Московскую область. Говоря иначе, его подстраховывали: если что, он звонил, и к нему немедленно выезжал другой наладчик.
Зачем же держали Василия Ивановича? Не знаю. Начальство к нему относилось хорошо, а точнее – это он замечательно относился к начальству. Забыл имя-отчество рано умершего главного инженера завода Кушнирского. Завидев его, Гордальонов сахарно улыбался, почтительно приветствовал, слушал подавшись вперёд всем корпусом. А с директором завода Жерковым отношения у Василия Ивановича были почти дружескими. Они жили неподалёку друг от друга, и Жерков нередко подвозил Гордальонова на своей служебной машине. Нет-нет, никакого амикошонства! Оба были на «вы», и Василий Иванович всегда благодарил хозяина, вылезая из его машины.
Жерков, однако, его привечал и выделял. Приказал повесить портрет Гордальонова в галерее передовиков производства. Хотя, как уверял нас Василий Иванович, сам он был категорически против такого почёта. Заявлял об этом на парткоме.
– Я предлагал заменить мой портрет на твой, – говорил он Феде.
Федя был главным гардальоновским консультантом-наставником и вообще очень авторитетным работником. Советоваться с ним приходили из многих институтских лабораторий.
– Хорошая голова! – говорили о нём одни.
– Самородок! – другие.
Поэтому, когда мы узнали, что наш ЭГАМ окажется среди экспонатов советского павильона Всемирной международной выставки в Брюсселе и что, помимо директоров института и завода, его будет сопровождать наладчик, никто не сомневался, что в Брюссель поедет Федя.
Больше всех за Федю радовался Василий Иванович. «Увидишь, – говорил он ему, – настоящую заграницу, попьёшь настоящего пива. Шоколаду детям привезёшь! Нас в Германии угощали бельгийским шоколадом: м-м-м!», – и он целовал себе пальцы, сложенные щепоткой.
Гордальонов служил в войсках, которые демонтировали и вывозили в СССР немецкие предприятия.
– Пузырь привезёшь? – спрашивали Федю ребята. – Интересно сравнить с нашей!
– С нашей нечего сравнивать, – убеждённо говорил Юра Щипанов, – потому что никто и не сравнится. Пил я и венгерскую «палинку», и польскую водку…
– Не скажи, – возражал ему Федя, – «зубровка» у поляков не хуже нашей. А «палинка» – это фруктовая настойка. Мы же с тобой наших фруктовых не пьём.
– Не вздумай из Бельгии везти фруктовую!
– Что я, одурел? – обижался Федя.
– А кто тебя знает? – говорили ему. – Запросто по пьянке можешь перепутать.
– Я ж туда не пить поеду! – резонно рассуждал Федя.
– Не удержишься! – смеялись.
Новость, которая вскоре за этим последовала, сразила всех: партком высказался против Фединой кандидатуры и рекомендовал послать в Брюссель Василия Ивановича Гардальонова.
– Что поделать, брат? – сокрушённо говорил Феде Гардальонов. – Я бился за тебя на парткоме. Но со мной не согласились.
– Врёт! – сказал нам пожилой токарь, член парткома. И описал, как было дело. Гардальонов действительно назвал Федино имя, на что Жерков отозвался резко: «Но он ведь не только беспартийный, но, кажется, ещё и запойный пьяница?» «Ну не запойный», – возразил Василий Иванович. «Но выпить не дурак!» – подхватил Жерков. «Это есть», – подтвердил Гардальонов. «Так как же мы можем брать на себя ответственность посылать его в такую командировку? Вы можете поручиться, что он не станет там пить?» – спросил Василия Ивановича Жерков. «Я бы такого ручательства не дал, – сказал Гардальонов. И добавил: – Но наладчик он действительно опытный». «А других, – ответил на это Жерков, – мы на заводе и держать бы не стали! Для чего нам посылать беспартийного пьяницу, когда мы можем послать партийного трезвенника».
– Я был единственным, – рассказывал Гардальонов, – кто проголосовал против моей кандидатуры.
– Врёт! – и по этому поводу сказал нам токарь. – Голосовали открыто, и Гардальонов поднимал руку вместе со всеми.
Посовещавшись, мы решили пойти к Жеркову, поручиться всем коллективом за Федю.
Но убедить Жеркова не смогли. Его не убедило даже то, что в случае непредвиденных обстоятельств Гардальонов с машиной не справится.
– А вы не допускайте непредвиденных обстоятельств, – жёстко сказал директор. – Обследуйте машину как следует, пока её ещё не отправили. Языком её всю вылижите. Привыкли, что ваше же дерьмо потом за вами подтирают! Сколько рекламаций приходит на завод! Во сколько обходятся ваши недоделки государству! На одни командировки наладчикам сколько денег выбрасываем.
– Мы-то тут при чём? – запротестовали мы. – Машину устанавливают без нас, подключают без нас. И к её механике мы никакого отношения не имеем. Было хоть раз такое, чтобы машина не заработала по нашей вине?
– По вашей или не по вашей, – сказал Жерков, – а жалобы поступают постоянно. И наладчикам приходится выезжать постоянно. Это вы не хуже меня знаете, так что хватит ваньку валять!
– А неизвестно ещё, кто валяет ваньку! – возразил Юра Щипанов. – Агрегат экспериментальный, не серийный. К нему не привыкли. Многое зависит от тех, кто его устанавливает на месте. Все, кто имел дело с Федей, знают, что он – наладчик от Бога: любую помеху устранит. А вот устранит ли Гардальонов – сомневаюсь.
– Всё, поговорили, – подытожил Жерков. – Ступайте пить пиво, которое вам выдают за вредность. Гардальонов, кажется, с вами не пьёт? И спирт не пьёт, а протирает им, как и положено по инструкции, экспортную продукцию? Понятно, почему вы в нём сомневаетесь.
– Ну про пиво ему любой мог сказать, – задумчиво произнёс Юра, когда мы вернулись к себе, – народу в буфете много. А вот про спирт… Вера не могла, она и сама отливает себе в баночку.
По всему выходило, что проинформировать директора мог только Василий Иванович.
Дураком Гардальонов не был. Что наши отношения с ним испорчены, он понял сразу. И не пытался их восстановить. Не заговаривал с нами, как и мы с ним. Обедать ходил отдельно от всех. А на своём рабочем месте сидел, склонившись над схемами, и сверял их с книгами, которые приносил с собой. Прибегать к чьей-нибудь помощи он не пытался и ни к кому не обращался за разъяснениями. Так и просидел он молча в нашей комнате до самого своего отъезда в Брюссель.
А вернувшись, подал заявление об уходе, которое Жерков немедленно подписал.
Нет, с машиной в Брюсселе всё было в полном порядке. Она получила золотую медаль, которую показал всему коллективу директор института. Кажется, к золотой медали прилагалась какая-то денежная премия, и её поделили прежде всего между конструкторами агрегата. Перепало ли что-либо заводу, не помню.
А Жерков чуть было не лишился директорского места. Во всяком случае, партийный выговор райком ему вкатил. За потерю, – так передавали райкомовскую резолюцию, – бдительности. И выражалась эта потеря как раз в том, что именно директор настаивал, как информировал членов райкома перепуганный парторг, чтобы в Брюссель ехал Гардальонов.
Жерков пытался объяснить, что Гардальонов был единственным коммунистом среди специалистов и что этим в первую очередь объясняется его выбор. Но это лишь усугубило суровость райкома: а почему так сложилось? Кто, по мнению директора, должен нести персональную ответственность за низкий уровень политико-воспитательной работы в коллективе, почему квалифицированные, грамотные рабочие завода остаются вне рядов коммунистической партии?
Потерял ли партийный билет Гардальонов, я не знаю. Может быть, отделался строгим выговором с занесением? Всё-таки он считался пролетарием, а к рабочим партийные власти относились мягче, чем к дипломированным специалистам. Ещё Маркс с Энгельсом пришли к неутешительному для советских райкомов выводу о том, что пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. А это значит, что, лишившись партийного билета, рабочий своей карьеры не испортит: ушёл с одного завода – устроится на другой!
Потом уже, когда я давно не работал на заводе, Жерков, приглашённый на шестидесятилетие моего отца, рассказал мне, что выпивали они с Гардальоновым в Брюсселе в его, жерковском, номере и по его предложению. Но Жерков и не подозревал, что Василий Иванович является лечащимся алкоголиком, у которого как раз незадолго до поездки закончился срок действия зашитой на три года «торпеды».
После первой бутылки Гардальонов вёл себя вполне интеллигентно, но после второй потерял контроль над собой. Жерков сумел доставить собутыльника в его номер, но наутро узнал, что тот в нём не усидел, спустился в бар, спустил в нём выданную ему валюту, а главное, вёл себя так буйно и шумно, что бармену пришлось обратиться в полицию. Дальнейшее понятно: какие-никакие, но привилегии бывшего члена парткома Гардальонова исчезли, как сон золотой, а директорское кресло под Жерковым стало покачиваться, раскачиваться, пока, наконец, не знаю, за какой проступок, не вытряхнуло хозяина со своего сидения.
* * *
А вот карьера моего соседа по квартире Витьки до сих пор представляется мне удивительной.
До Витьки и его матери тёти Кати в их комнате жила тётя Нюра с дочкой Ниной, которая была старше меня на три года. Тётя Нюра работала уборщицей в кремлёвском буфете, и у меня сохранилась фотокарточка, на обратной стороне которой маминой рукой написано: «Елка в Кремле». Это тётя Нюра каким-то образом раздобыла для меня билет на ёлку для детей кремлёвских сотрудников. Для обычных граждан Кремль при Сталине был закрыт. Хорошо помню, что впустили нас троих – тётю Нюру, Нину и меня, долго осматривая, изучая наши билеты и переговариваясь с кем-то по телефону. А потом мы шли по дорожке сквозь частокол солдат, и моё приподнятое праздничное настроение почти улетучилось, когда я смотрел на хмурые, посиневшие от мороза лица. Правда, на ёлке было весело, и подарок приятно оттягивал руку, когда мы шли назад. Но новое созерцание неулыбающихся, иззябших лиц опять поубавило радости и веселья. Помню ещё, что нам с Ниной хотелось подойти к мощным экспонатам, которые стояли на площади, – к Царь-пушке, к Царь-колоколу, но солдаты нас к ним не пропустили: сходить со специально отведённой для идущих на ёлку или с ёлки дорожки не полагалось.
А уже после смерти Сталина, кажется, в 1954 году, тётя Нюра, как я уже рассказывал, обменяла свою комнату на тётикатину, которая была самой маленькой в трёхкомнатной квартире 5 корпуса. Въехав к нам, тётя Катя оплатила тёте Нюре переезд и дала ещё какую-то сумму – компенсацию за потерю в метраже. Потеря была значительной – целых семь метров, но тётя Нюра очень нуждалась в деньгах, а у тёти Кати они имелись. Она работала в пивной напротив проходной завода имени Сталина (потом – Лихачёва). «Золотое дно!» – завидовали ей мои родители. Да и тётя Лена ей завидовала. В нашей комнате и в комнате тёти Лены висели на стене по одинаковому небольшому коврику: тётя Лена и мать в своё время вместе купили по одному такому в Даниловском универмаге. А тётя Катя положила огромный ковёр на пол, да другим покрыла духспальную тахту, да над Витькиным диванчиком повесила большой тканый ковёр-репродукцию шишкинских медведей. Не говорю уже о дорогой мебели – ещё одном предмете зависти двух соседок – тёти Лены и матери. А вот в отношении гражданского мужа тёти Кати мать с тётей Леной расходились. Тёте Лене он нравился, а маму возмущали официально неоформленные отношения супругов, и она с ним еле здоровалась.
Наверное, тётя Катя и сама была не прочь оформить свои отношения с дядей Лёшей, да как она бы это сделала? Дядя Лёша приходил к ней не каждый день, а строго по графику: иногда три, иногда четыре раза в неделю, – когда официально дежурил у себя в милицейской конторе. Как точно называлась его контора, не помню, знаю только, что она ревизовала определённые торговые точки. Майор милиции дядя Лёша был официальным ревизором пивной тёти Кати. Так что их союз имел под собой прочную материальную основу. Тётя Катя однажды объяснила моей матери, что не может дядя Лёша развестись, бросить свою семью: это помешало бы его служебной карьере. Мать тем не менее говорила с дядей Лёшей сквозь зубы, и её отношения с тётей Катей были прохладными.
А у нас с Витькой они сразу стали дружественными. Витька, как я уже писал, был старше меня на пять лет, и я охотно выполнял его поручения. Они были несложными: схватить трубку зазвонившего в коридоре телефона, отозваться на женский голос, требующий Витьку: «А кто его спрашивает?» – и передавать трубку Витьке, если на другом конце провода называлось нужное ему имя. Всем остальным следовало говорить, что он только что ушёл с приятелями, просил меня узнавать, кто ему звонит, и сказал, что будет сегодня очень поздно.
Тётя Катя с дядей Лёшей уходили рано, а приходили не раньше восьми вечера. Весь день комната была в Витькином распоряжении, и он, хорошо сложенный, слегка похожий на актёра Николая Рыбникова, частенько проводил время с разными женщинами, которых, как говорится, менял, как перчатки, – не влюбляясь и не сентиментальничая.
Правда, раза два в неделю, когда дядя Лёша находился в своей семье, к тёте Кате приходила её мать – Витькина бабушка. Но Витьку это не смущало. И бабушку не смущало, что внук порой запирался в комнате со своей дамой. Бабушка в основном находилась на кухне, она, а не тётя Катя, занималась хозяйством – готовила семье еду сразу на несколько дней. В комнате ей делать было нечего, а на кухне помимо прочего можно было поболтать с соседями, понаблюдать чужую жизнь.
Есть у меня небольшая документально-художественная повестушка «Два дня в сентябре». Тот, кто её читал, вспомнит, быть может, Полину Егоровну, нашу соседку, которая некогда была домработницей сталинского приятеля (в повестушке я назвал его Георгием Витальевичем). Так вот. Полина Егоровна и есть бабушка Витьки. Я не менял её имени. Была она домработницей крупного большевика, устанавливавшего советскую власть в Москве, первого наркома юстиции, пробывшего на этом посту всего три месяца, а потом перекинутого на другую ответственную должность, – Георгия Ипполитовича Ломова-Оппокова. После реабилитации и отца, и своей, и сестры сын Ломова-Оппокова, работавший хирургом в госпитале на Хавской, приходил в нашу квартиру к Полине Егоровне. От него я и узнал о судьбе их семьи.
Имени Витькиной бабушки я не менял, но её саму переместил во времени – поселил в нашу квартиру раньше, чем она там могла появиться. Повестушка моя не во всём документальная, она ещё и художественная, так что правил жанра я не нарушил.
Официально Витька считался учащимся какого-то техникума. Но он в него не ходил. И думаю, что недолго в нём учился. Просто скрывал от матери, что отчислен. А матери им заниматься было некогда.
Кроме женщин (а иногда вместе с ними) приходили в Витькину комнату два его друга – типичная замоскворецкая шпана устрашающего вида: косые чёлки, золотые фиксы во рту. Колян, как рассказывал Витька, свою пятёрку отсидел полностью, а Сашка с тюрьмой знаком ещё не был.
Надо отдать должное обоим. Стоило мне несколько раз встретить их во дворе, на глазах у всех поздороваться за руку и дружески с ними побеседовать, как вся наша дворовая шантрапа стала обходиться со мной очень почтительно.
А в нашей квартире мы нередко ещё и выпивали. Полина Егоровна была большой мастерицей варить очень вкусную брагу. Вкусную и крепкую. Варила она помногу. И Витька с товарищами частенько звали меня присоединиться к ним. Я присоединялся.
Вот когда я не просто попробовал, но хорошенько распробовал хмельное зелье. Собутыльники пили стаканами. Я в четырнадцать лет за ними угнаться не мог. К тому же поначалу меня нередко выворачивало.
Но потом – привык. Пил почти на равных. Так что когда мы с моим школьным дружком Мариком Быховским в первый раз (это было в девятом классе) посетили питейное заведение – кафе «Артистическое» напротив МХАТа, я считал себя опытным бойцом и потому настоял не только на бутылке коньяка, но и на бутылке портвейна. Разумеется, этого нельзя было делать ни в коем случае.
Зато на даче, куда мать выезжала со своим детским садом, в Катуаре (теперь – Лесной городок по Киевской дороге), где велико – возрастные дети сотрудников жили со своими родителями, снимавшими в посёлке комнаты, я уже выпивал совершенно по-взрослому. Особенно с Вовой Моруковым, чей отец нередко посылал нас за четвертинкой и закуской и забывал про сдачу. Когда накапливалась нужная нам сумма, мы покупали бутылку, которую распивали, закусывая печёной картошкой. Вова учился плохо, его мать – медсестра Лидия Филипповна просила меня растолковывать ему непонятное. Я объяснял, но Вова понимал не слишком здорово, напрягался, уставал, поглаживал голову своего маленького братика, а потом манил меня на крыльцо и заговорщицки предлагал: «Давай сообразим!» И мы соображали. Иногда поллитровку на двоих. И ничего: ни мои, ни его родители этого не замечали. Мы с ним ещё долго находились в дружеских отношениях. Я провожал его в армию. Но после уже не виделись.
Я продолжал поддерживать отношения с его отцом, опытным мастером по пишущим машинкам, который продал мне машинку, собранную им самим. Она мне потом послужила на славу. Но когда мать перешла работать в другой детский сад, след семьи Моруковых потерялся. И обнаружился там, где я его меньше всего ожидал: младший Вовин брат Боря оказался полной противоположностью старшему. Отличник, он окончил медицинский институт, пришёл в космическую медицину, а потом стал космонавтом. Но с Борей я не дружил, он, скорее всего, если и знал, то забыл о моём существовании. И я бы о нём не вспомнил, если б не два его полёта в космос, о которых много писала пресса.
А моего соседа Витьку тётя Катя всё-таки разоблачила. Узнала, что его выгнали из техникума, и страшно прогневалась. Крик стоял такой, что мать даже не просила нас вести себя потише. Она отчётливо различала каждое слово, доносящееся из тётикатиной комнаты, и возбуждённо озвучивала его нам. «Кто тебя кормит и одевает? – кричала Витьке тётя Катя. – Коляны? Сашки? Шлюхи твои? Чтобы ничьей из них ноги в нашем доме больше не было!»
И Витка на время исчез. А когда появился, то выяснилось, что жил он всё это время в маленькой комнатке своей бабушки Полины Егоровны, уходил от бабушки рано, а приходил вечером, потому что устроился на ныне законсервированный завод АЗЛК, который тогда назывался заводом малолитражных автомобилей.
Появился он, потому что тётя Катя его простила. Взяв с него обещание поступить в вечерний техникум при заводе.
Витька работал в сборочном цеху. Мечтал приобрести «москвич». Говорил, что своим работникам завод продаёт его дешевле. Тётя Катя соглашалась помочь с покупкой. При условии, конечно, хорошего поведения её сына.
А дальше всё развивалось по законам литературы социалистического реализма, её «производственного» романа.
Витьку приняли в комсомол, избрали в комсомольский заводской комитет.
В техникум он не поступил, но вечернюю школу-десятилетку окончил и был зачислен в заводской ВТУЗ.
В году 58-м он показывал мне какую-то газету (не «Правду», не «Известия», но и не многотиражку), где был напечатан снимок, подпись под которым гласила, что речь идет о трудовой вахте в честь грядущего XXI съезда партии, а сам снимок изображал несущих вахту рабочих и среди них Витьку.
Ещё через год Витьку приняли в партию.
Коляна и Сашку я больше у нас в квартире не видел. Женщин Витька катал на своём «москвиче». К себе домой не завозил.
А что до института, до ВТУЗа, то не знаю, успел ли его кончить Витька, потому что через совсем небольшое время его послали в командировку в Египет на строительство Асуанской плотины – «восьмого чуда света», как называли её в наших газетах.
Я не жил уже на Хавско-Шаболовском, когда Витька вернулся из Египта, женился на своей соотечественнице, которую там встретил, и почти тут же укатил с ней в новую командировку – на Кубу.
Мать говорила, что за Египет Витька получил медаль «За трудовые заслуги», которую он два дня обмывал с семьёй и большим количеством новых, неизвестных моей матери его знакомых.
А за Кубу – это уже тётя Лена переехавшей маме рассказывала – Витьке дали орден «Знак почёта». Завод выделил ему с женой отдельную квартиру и по слухам снова послал за границу. На этот раз – в Чехословакию.
Больше ничего я о Витьке не знаю. Но догадываюсь, что его карьера могла идти и, скорее всего, шла по нарастающей. Ведь застал я только её ослепительное начало.
* * *
В том и состоял закон социалистического реализма, что тянули тебя не из-за твоих заслуг или знаний (подумаешь, невидаль!), а из-за твоего умения понравиться не просто начальству, но начальству партийному. Парторг был крёстным отцом так называемых ударников. А точнее, это он из своих крестников и делал ударников, следил, чтобы нормировщики не снижали им расценки за перевыполнение плана, которое считалось трудовым подвигом. А чтобы ты его совершил, тебе ни в чём отказу не было. Я писал уже о снабженцах, которые рыскали в поисках комплектующих деталей: завод простаивал. Но не ударник: для него создавали стратегический запас. Вот такого ударника, очевидно, и растили из Витьки. Удивительно, что из него. Учитывая его образ жизни до поступления на завод: ничто не предвещало, что он туда поступит, а главное, что просечёт, какие перспективы открываются в стране для пролетария с хорошими анкетными данными (отец Витьки, служивший в СМЕРШе, погиб на войне), если этот пролетарий выразит желание полностью принять правила игры, установленные властями.
Не знаю, анекдот мне рассказывали в Тольятти или быль. Я приехал туда с группой писателей, которую возглавлял Виль Липатов. Незадолго до этого он женился на падчерице всесильного Вадима Кожевникова – юношеского кумира Владимира Путина – и был стараниями Кожевникова избран секретарём Союза писателей РСФСР. Всё бы хорошо, но имел Виль серьёзный изъян: пил. И пил по-чёрному, комкая этим свои и чужие графики и планы. На только что построенный автомобильный завод мы приехали без него. А он появился через два дня: почерневший, с огромными мешками под глазами. Однако объяснил почтительно внимавшим ему местным начальникам, что задержали его в ЦК. «Б-был оч-чень с-серьёзный разг-говор с оч-чень в-выс-сокими людьми», – говорил им от природы заикающийся Виль. Те понимающе кивали головами.
А пока его не было, нас возили по Куйбышевской (переименована ли она теперь в Самарскую?) области, показали, например, оставшийся от сталинского лагеря барак, в котором не так ещё давно жили заключённые – строители Куйбышевской ГЭС. (Я потом вспоминал его, осматривая другой барак – бухенвальдский: очень похожий, только у немцев он – выставочный, а куйбышевский уже тогда коснулось тление.) А вечерами мы коротали время, выпивая с местными – волжскими писателями.
Так вот, кажется, поэт Николай Благов из Ульяновска и рассказывал, что поначалу строительство автомобильного завода вели итальянцы, которые пообещали хорошие деньги местным рабочим, подрядившимся рыть котлован для здания. Котлован следовало вырыть к определённому сроку. Но наши, решившие удивить иностранцев ударным трудом, за который надеялись быть премированными, вырыли на неделю раньше.
Вопреки ожиданиям никто их работу принимать не спешил. Итальянцы появились именно в назначенный для окончания рытья котлована день. В этот же день ближе к вечеру открылась касса, которая выдала строителям заработанные ими деньги.
Гораздо меньшие, чем им поначалу пообещали. Возмущённые рабочие наутро собрались у конторы и потребовали объяснений. Они их получили. Им показали технику, которую вчера подогнали к котловану, рассчитывая, что сегодня она заработает. Но сегодня она работать не сможет: неделю яма была под открытым небом. Теперь придётся её подсушить от пролитых в неё дождей. И вообще – работа выполнена с нарушением договорённости. За это фирма с каждого рабочего взыскала штраф.
Теперь-то известно, что все эти советские лозунги: «Пятилетку – в четыре года», «Выполним и перевыполним!», «Встретим съезд КПСС ударным трудом» – были блефом. Ни одна из пятилеток не достигла поставленных перед ней задач, а перевыполнения годовых планов добивались за счёт их корректировки: где-нибудь в середине года объявленные было цифры спешно пересматривали в сторону их значительного понижения, а в конце года уже танцевали от них!
Жена героя рассказа Михаила Зощенко пришла в ужас от поступка своего мужа:
«– Ещё хорошо, что его, подлеца, у меня в ряды партии не приняли. Вот бы он мне конфетку подложил».
А дело в том, что из сберкассы пришло извещение, приглашающее мужа прийти за выигрышем. Оказалось, что Борька Фомин выиграл очень большую по тем временам сумму – пять тысяч рублей!
Ну а партия тут причём, недоумевают жильцы: «А что такое?»
«– Да как же, – говорит, – что! Он, оказывается, у меня две недели назад, не дождавшись выигрыша, стал, как ребёнок, рекомендации себе просить у разных высших лиц. Хорошо – ему не дали. Он хотел, видите ли, записаться. Вот бы пришлось, наверное, я так думаю, половину денег отдать на борьбу с тем и с этим, и в МОПР. И во все места.
Один жилец говорит:
– Отдавать не обязательно, но, конечно, другие по своей охоте оставляют себе рублей шесть на папиросы, а всё остальное отдают на строительство.
Жена говорит:
– Хорошо, что дураков в партию не принимают, – вот был бы номер!»
Впервые этот рассказ, который Зощенко включил потом в свою «Голубую книгу», появился в 1933 году в «Крокодиле». Ещё, стало быть, в 1933-м не понимали многие, на кой ляд нужно вступать в партию? Чтобы отдавать деньги на борьбу с тем и с этим, и на строительство?
Но и радиомонтажники, с которыми я работал, тоже не хотели платить партвзносы. Так что же, ничего не изменилось с 30-х годов?
Изменилось многое. Появились рабочие-аристократы, номенклатурные пролетарии, которых государство одаривало щедрее, чем судьба зощенковского героя с его выигрышем.
И не только номенклатурные пролетарии, но и номенклатурные крестьяне, номенклатурные спортсмены.
Одно время заведующим отделом поэзии в «Литературной газете» работал Владимир Дагуров. Он познакомил меня с олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту Валерием Брумелем, попавшим в аварию, оставившим спорт и переключившимся на писательство. Не помню, где он напечатал свою повесть, и не помню, как назывался фильм, поставленный по его сценарию. Помню только, что он продолжал быть членом ЦК ВЛКСМ, куда его некогда ввели как выдающегося спортсмена.
Для чего тогдашнему комсомольскому вожаку Тяжельникову понадобилась комедия с дарением крошечной двухкомнатной (такую ещё называли полуторной) кооперативной квартиры с маленькой кухней и совмещённым санузлом какой-то остронуждающейся матери с ребёнком, не знаю. Но он попросил Брумеля отдать им эту свою квартиру, расположенную в районе Савёловского вокзала. О, как громко зазвучали праздничные фанфары газетных репортажей! Как восхваляли журналисты щедрость знаменитого спортсмена, как особо подчёркивали, что этот дар ещё и от члена ЦК ВЛКСМ!
И только об одном не сообщили тогдашние СМИ – о том, что бездомным Брумель не остался. Торжественно вручив новым жильцам ключ от квартиры, он перевёз мебель в другую – просторную двухкомнатную на улицу Огарёва (теперь – Гагаринский переулок) в только что построенном доме ЦК КПСС. «Ну что ты, – восхищённо говорил он мне, – одна лоджия у меня размером с комнату в той, прежней! А кухня раза в три больше. И Арбат всё-таки, а не какая-то Вятская улица!»
Сказка времён соцреализма. И для матери с сыном, получившим пусть скудный, но подарок, и для того, кому власть доверила это сделать и щедро отблагодарила за послушание.
Мои коллеги-радиомонтажники, наверное, с удовольствием бы воспользовались номенклатурными благами социалистической действительности. А с другой стороны, они любили свою работу, владели тайнами своей профессии, и этого им было достаточно для самоуважения, для того, чтобы не комплексовать, не мечтать о продвижении вперёд, наверх – в дамки!
А Василию Ивановичу Гардальонову или Витьке, вкусившим иные пути самореализации, хотелось признания, уважения хотелось, особенно в свой среде. Но жажда чужого уважения очень нередко идёт об руку с жаждой хоть чем-то поразить людей, заставить их себе завидовать.
Конечно, жизненное кредо человека: «Цель оправдывает средства», его поступки, реализующие это кредо, по которому и по которым его опознаёшь именно как шестёрку, какую бы должность он ни занимал, – явление вовсе не обязательно российское: оно нередко встречается в мире. Однако снова вспоминается Зощенко. Герой другого его рассказа. «Я, говорит, уже много лет присматриваюсь к нашей стране и знаю, чего боюсь». Россия, в её советской упаковке, выколачивала из своих граждан самоуважение, препятствовала его формированию и, требуя от жителей полного единомыслия, вытаптывала в их душах ростки совести, нравственности и добропорядочности.
Я не осуждаю тех, кто поддался человеческой слабости. Раза три в год вывешивали в «Литературке» объявление, что на очередном открытом партийном собрании состоится приём очередного сотрудника кандидатом в члены КПСС. Некоторые из вступающих были порядочными людьми, некоторые – не очень. Но те и другие преследовали совершенно определённую цель: иметь возможность карьерного роста. Естественное человеческое желание. Мне оно не близко, однако ничего плохого или постыдного я в нём не вижу.
Другое дело, когда недолгий мой приятель Юрий В., уже к сорока годам ставший и доктором биологических наук, и заведующим лабораторией, узнав, что я был когда-то знаком с академиком Муромцевым, стал настойчиво просить свести его с ним. Все мои доводы, что Муромцев – муж моей однокурсницы, с которой ни я, ни жена давно уже не поддерживаем отношений, и тем более не поддерживаем отношений с академиком, в расчёт не принимались: так найди его телефон, так позвони ему и восстанови знакомство. Для чего? Муромцев – очень большая шишка в ВАСХНИЛе. Он достаточно влиятелен, чтобы протолкнуть Юрия В. в эту Академию сельхознаук.
И не смущало Юрия, что Муромцев как был так и остался сторонником учения Лысенко. Что отец Муромцева пришёл к Лысенко в ВАСХНИЛ из органов.
А как пытался прорваться Юрий В. в совет молодых ученых при большой Академии, который курировал вице-президент Академии наук Овчинников! Как пытался выйти на Овчинникова, попасться ему на глаза, подать о себе весточку. Ради чего? Ради скалозубовского желания пролезть в генералы, то есть в академики!
Надо ли говорить о том, что в партию он вступил очень рано и с далеко идущими намерениями? Как же было ему в неё не вступить, если она была партией власти, если в основном только её члены стояли на всех ступенях властной лестницы в стране!
Напоминает нынешнюю ситуацию? Вам – не очень? А почему? Потому что шестёрки в «шестисотых» пока что колесят по стране вне зависимости от членства в «Единой России»? Потому что вообще – кто в ней состоит? Начальство всех уровней! Долговечна ли такая партия? Не умрёт ли она, как в ельцинские времена почила в Бозе НДР, партия Черномырдина? Да и вообще долго ли будет влиятельной: вон председатель Совета Федерации Миронов создаёт ещё одну партию власти, а двум медведям в одной берлоге, как известно, ужиться будет очень трудно!
Не обольщайтесь!
«В январе 2003 года на очередной встрече в Кремле президент поинтересовался моим отношением к партии «Единая Россия». (…)
«Я понимаю, что, возможно, вам не хочется мараться, но всё же прошу вас подумать над тем, чтобы возглавить генеральный совет «Единой России». Повстречайтесь с Борисом Грызловым, обсудите технологию вашей интеграции. Это всё-таки президентская партия, и мне небезразлична её судьба», – неожиданно обратился ко мне Путин».
К кому – «ко мне»? К Дмитрию Рогозину, который написал об этом в книге «Враг народа», а отрывки из неё напечатал в «Московском комсомольце» 4 сентября 2006 года. Подумайте, это всё-таки не партстроитель Владислав Сурков называет «Единую Россию» президентской партией, и не Суркову, а именно Путину небезразлична её судьба!
А раз небезразлична, то путинское предложение Рогозину её возглавить весьма красноречиво. Рогозин никогда не скрывал своих националистических взглядов. Примеривал, значит, эти взгляды Путин к идеологии президентской партии.
Да и недаром молодых «единороссов» – «нашистов», «молодогвардейцев» – называют путинюгендом. Меньше всего озабочены они овладеть ораторским искусством. Зато охотно отрабатывают на Валдае боевые приёмы самбо, дзюдо, каратэ. Вот аргументы, которые пригодятся им в борьбе с политическими противниками. Уже пригождаются, когда приходится разгонять антинацистский митинг «Молодого Яблока», которое путинюгенд в полном соответствии с оруэлловским новоязом именует фашистским.
А что до массовости этой партии, то дайте только срок – будет вам массовость! «На Северном рынке в Москве, – приводит «Новая газета» (04.09. – 06.09.2006 г.) строки из письма своего читателя, – был свидетелем интересного происшествия. Две женщины делали цветные фотографии 4 × 6. Спросил, на визу фотографируются или нет, а они ответили, что для вступления в «Единую Россию». Не вступишь в «Единую Россию» – не получишь работу. Это дословный ответ».
Во все времена шестёрок намного больше, чем независимых людей. Во все времена шестёрки намного ближе властям, чем независимые люди. Да и сами шестёрки нередко пролезают во власть. Так что не удивляйтесь, если вместе с водительскими правами (или вместо них) они, колесящие в «шестисотых», скоро станут предъявлять гаишникам ещё членские билеты партии власти.
Что в загс приходят по любви к деньгам
Снова вспоминается Зощенко. Неудивительно: после Пушкина и Чехова он – любимейший мой писатель:
«Жених – такой вообще престарелый господинчик, лет этак, может быть, семидесяти трёх с хвостиком. Такой вообще крайне дряхлый, обшарпанный субъект нарисован, на которого зрителю глядеть мало интереса.
А рядом с ним – невеста. Такая, представьте себе, молоденькая девочка в белом подвенечном платье. Такой, буквально, птенчик, лет, может быть, девятнадцати.
Глазёнки у неё напуганные. Церковная свечка в руках трясётся. Голосок дрожит, когда брюхастый поп спрашивает: ну как, довольна ли, дура такая, этим браком?»
Да, такой вот своеобразный пересказ содержания известной картины русского живописца XIX века «Неравный брак». В духе интеллекта героя и его эпохи: «Нет, конечно, на картине этого не видать, чтоб там и рука дрожала, и чтоб поп речи произносил. Даже, кажется, и попа художник не изобразил по идеологическим мотивам того времени». В духе идеологических мотивов своего времени – о том, что «вполне можно представить себе при взгляде на эту картину»:
«Такой, в самом деле, старый хрен мог до революции вполне жениться на такой крошке. Поскольку, может быть, он – «ваше сиятельство» или он сенатор, и одной пенсии он, может быть, берёт свыше как двести рублей золотом, плюс поместья, экипаж и так далее. А она, может, из бедной семьи. И мама её нажучила: дескать, ясно, выходи».
Вообще-то этот богатый «старый хрен» мог жениться на бедной юной «крошке» не только до революции, но ещё при царе Горохе.
Пукирев написал свою сатирическую жанровую картину в 1862 году, когда образованная интеллигенция усиленно вколачивала в общество мысль о «вине» богатых перед бедными. Изобразив это пародийное венчание, живописец как бы добавлял аргументов в пользу такой «вины». Хотя подобные аргументы, на мой взгляд, весьма сомнительны. Трудно, конечно, себе представить, что в семьдесят три с хвостиком человек может захотеть жениться на той, кто ему во внучки годится. Ещё труднее, что она может испытать страсть к этому «престарелому господинчику». Но прецеденты такого рода история знает.
Например, гетман Мазепа. То, что он полюбил свою крестную дочь, не так удивительно, как то, что она исступлённо, страстно полюбила его. Пушкин писал свою «Полтаву» на документальной основе. И заключал по этому поводу: «Любовь есть самая своенравная страсть».
Но зощенковский обыватель в такие тонкости не влезает. Пукирева он понял правильно. И в свою очередь рассказывает о тех современных ему хитрых брачных комбинациях, которые как раз и обличают непреходящее во времени корыстное коварство.
Не будем сплетничать. И я не стану называть имён и фамилий, но скажу, что ещё в университете мы наблюдали за развитием отношений одной провинциальной девицы с сыном известного академика. Ничего не вышло из их брака: прописать девицу в своей квартире академик наотрез отказался. Молодая пара какое-то время снимала комнату, а потом и распалась по вполне понятной причине: любви к своему мужу молодая жена не испытывала.
В «Литературной газете» некоторые сотрудницы, заводившие романы с начальством, иногда добивались успеха: кому-то удавалось поехать в командировку за границу, кто-то продвигался по службе.
Может быть, им и завидовали некоторые, но насмешек в их адрес я слышал много. Да и они чувствовали себя неуютно, когда вчерашний покровитель оказывался захваченным новым увлечением.
Да, как подметил современный поэт Олег Хлебников:
Женщины показывали разные части тела: в пятидесятые – груди, в восьмидесятые – ноги, а сейчас, в нулевые, – пупки, почти до предела чувства скрывая, – такие вот недотроги.С чувствами дело, конечно, обстояло и обстоит сложнее: одни их скрывали, другие – нет, у третьих они вообще не возникали. Но что до такого чувства, как любовь, то я не припомню, чтоб прежде своенравная эта страсть так афишировала своё перерождение в некое деловое предпринимательство.
Не у всех, разумеется, она перерождается. Но будем реалистами. Теперь эта страсть оплачивается как никогда на моей памяти щедро. На слуху разнообразные истории с поп-дивами, главный талант которых – вульгарная жажда успеха, не подкреплённая ничем данным от природы, однако сумевшими найти спонсоров в лице мужа, друга, покровителя.
Только что закончился поп-конкурс «Пять звёзд» в Сочи. «Сегодня вечером… – сообщает Артур Гаспарян из «Московского комсомольца» (9 сентября 2006 года), – торжественно объявят вердикт жюри…». Каков бы он ни был, «хорошо знакомые публике ещё по «фабричным» временам Юля Михальчик и девичий дуэт «КуБа» у всех в Сочи вызывают прилив нежнейших чувств, так же как и Malina…». Впрочем, как пишет тот же А. Гаспарян, «независимо от того, кто возьмёт Гран-при, о судьбах девушек можно не беспокоиться. У одних есть Игорь Матвиенко, у другой – Евгений Фридлянд, у третьих – Виктор Дробыш». Так что Гран-при здесь как дополнительное сладкое блюдо. Слаще продюсеров – Виктора Дробыша или Игоря Матвиенко? Ну что вы! Конечно, нет!
Когда-то в молодости мы смотрели фильм Стенли Крамера «Этот безумный, безумный, безумный мир». Ради зарытых сокровищ герои совершали умопомрачительные по изобретательности, комичности, жалкости поступки. Рушились судьбы, ломались семейные отношения, а искатели клада летели и летели, как бабочки на свет, опережая друг друга. Было ясно, что режиссёр смеётся над всесокрушающей погоней за богатством, которая действительно смешила тем, что всё к ней и сводится, что люди не замечают, как из реального мира переместились в обезумевший. И трудно было себе представить, что через энное количество лет в нашей стране это безумие обретёт несметное количество почитателей, для которых оно станет вожделенным. От телепрограмм до гламурных журналов всё вопиёт о сказочном блаженстве. Помнится, в фильме Крамера безумцы не доходили до открытых подлостей. В нашем мире дошли. Ради этого сказочного блаженства.
В чём оно состоит? В приобщённости к миру роскоши. Двух-трёх-уровневая квартира в престижном районе, особняк вблизи города, «лендровер» и «бентли» в гараже, Швейцария зимой, Средиземноморье летом, клубы для избранных, дразнящая изысканность во всём… То, что вбирает в себя постоянно звучащий в телевизоре слоган: «Вы достойны всего самого лучшего!» И тут уже нам не до смеха. А тем, кто в безумном раже пытается ухватить сказочную птицу за хвост, не до того, чтобы придерживаться обычных человеческих норм. Тут, не стесняясь, работают локтями и всеми другими частями тела, обнажая его за стеклом и без стекла. А душа – чего о ней думать во время лова! Всё, что в ней есть, пойдёт на разменную монету, если понадобится. Всё сгодится, всё будет пущено в ход, всё на продажу! Только купите!
Это надо видеть – лихорадочный блеск в глазах юных участниц разных конкурсов, дающих возможность впрыгнуть на звёздный конвейер! Это надо видеть – известная телеведущая водит операторов из программы МузТВ по своей квартире, подаренной ей (что подчёркивается особо) её бойфрендом, задерживая их камеры на том, что ей представляется наиболее значительным, наиболее поражающим непосвящённых. «Я люблю ухаживать за собой», – говорит она, и нашему взору открывается огромная комната, где установлены ванна, бассейн с подведёнными и к той и к другому золочёными трубами, несколько умывальников, масса полочек с самой разной парфюмерией. А другая, представленная как популярная писательница, демонстрирует зрителям необъятные шкафы с летней одеждой, с осенней одеждой, с зимней; многоэтажные полочки: отдельно для домашней обуви, отдельно – для босоножек, отдельно – полусапожки, отдельно – сапоги. Показывает великое множество любимых своих кукол, плюшевых зверей. Вот – столик с компьютером, который должен вызывать благоговение: именно на нём написаны книги, объявленные лидерами нынешних продаж. Вот полка с этими книгами: они вышли в разных издательствах, у них разное оформление, но одно и то же авторское имя. Долго водит писательница по своей квартире операторов – и по лестнице заставляет подниматься в обитую шёлком обширную спальню, приоткрывая в ней жалюзи: полюбуйтесь видом на Кремль! – и спускаться на самый низ квартиры, где висят колокольчики, устраивающие перезвон от звонка в дверь. Вот операторы выходят из этой двери, прощаются с писательницей. Дверь закрывается, и главный, интересовавший лично меня вопрос так и остался непрояснённым: а другие книжные полки, кроме той, что с собственными сочинениями, в квартире писательницы имеются? Не похоже. Будь она книгочеем, не забыла бы продемонстрировать и эту свою страсть.
А вот всплывают в памяти давно позабытые слова – из детской считалочки или из песенки: «На золотом крыльце сидели…» Известный аптечно-водочный король на экране телевизора сидит не на золотом крыльце, но в золотом кресле у золотого стола, на котором в золотой посуде лежат (так и хочется сказать: золотые!) фрукты. Стены то ли задрапированы, то ли выкрашены золотом, двери золотые, золотая лестница от золотого паркета в комнате ведёт наверх – в золотую спальню. Золотая ванная комната. Человек выставляет напоказ свою маниакальную любовь к золоту! Смотрите! Завидуйте моей золотой скорлупе! Вам на такую не заработать!
Вспоминается, как он, кандидат на пост президента, мерился богатством в теледебатах с другим претендентом – Жириновским. Не помню уже, чем кичился в то время главный наш «либерал-демократ» (слишком много и слишком многим он кичился и прежде, и позже!), но этот – из золотой скорлупы – демонстрировал брючный ремень из крокодиловой кожи: 7000 долларов отдал! Что? Съел!
Поэтому не удивляешься рекламному щиту ювелирного магазина. Щит этот нынче часто сопровождает тебя, пока едешь по эскалатору в метро. «Любишь – докажи!» – взывает к тебе девица, перебирающая дорогие украшения. И в самом деле, чем ещё измерить силу твоей любви, если не суммой, которую ты уплатил за бриллианты любимой!
И с тоскою думаешь: не приснилась ли нам наша великая литература, не оказалась ли она тем самым золотым сном, какой навеивал на человечество, на людей безумец из известного, благодаря горьковской пьесе «На дне», стихотворения Беранже? Нам, нашему поколению она не приснилась. А нынешним молодым она и не снилась. Ведь сниться может то, что хоть как-то связано с твоим жизненным опытом, пусть даже отдалённо, но связано.
Помнится, больше десяти лет назад, когда пришёл я преподавать в педагогический университет, с каким живым интересом слушали студенты лекции о русской литературе, о Пушкине, в частности, с какой охотой читали вместе со мной на спецсеминарах пушкинские произведения, радуясь находкам, открывая для себя что-то новое.
Да и я поощрял эту их охоту, это их желание тем, что как главный редактор газеты «Литература» имел возможность печатать и печатал их работы. Опубликовал, к примеру, чудесную статью Артёма Бабаянца, который уже с этой публикацией, закончив наш университет, поступил в аспирантуру ИМЛИ. Как я радовался, когда на городском совещании учителей в Сургуте меня расспрашивали о неизвестном доселе авторе: кто такой Бабаянц, откуда он, сколько ему лет?
Но, как сказал Тютчев, «новые садятся гости / За уготованный им пир» – новые студенты, приходившие на факультет, постепенно разрушали его атмосферу. Или, лучше сказать, каждый новый набор студентов подтверждал катастрофически убывающий интерес к литературе в стране. В том числе и к золотому её классическому наследию.
Я уже говорил о чиновниках Министерства образования, вытеснивших школьную литературу на периферию. По вузовской литературе удар был не менее сокрушительным. Мы, работники кафедры русской литературы, преподавали не только на своём факультете, но и на славянском и западноевропейском, на психологическом. А ныне не преподаём, а знакомим с ней. На большее просто нет физического времени: литературу в учебных программах этих факультетов сильно урезали, сохранив, скорее, для проформы.
И наш, филологический, постепенно стал заполняться студентами, которые и не скрывают, что посвящать себя филологии не намерены.
«В чём, – спрашиваешь в деканате, – дело? Где люди?» Это когда выясняется, что и половины числящихся в магистратуре учащихся сегодня не будет. «Ну, Геннадий Григорьевич, – отвечают, – что вы хотите? Они же работают!»
Да, большинство работает, и работа этого большинства не связана ни с литературой, ни с филологией.
В прошлом году первые полгода меня радовал студент-третьекурсник. Он из тех немногих, кто любит читать книги. Но после зимних каникул пропал. Встретил я его ближе к окончанию года. «Куда вы делись?» – спрашиваю. «Буду переводиться на вечерний, – отвечает. – Устроился на работу. Рабочий день 7 часов». «Куда?» – интересуюсь. «На фирму». – «Кем?» – «Программистом». «То есть компьютерщиком?» – уточняю. «Ну, можно сказать и так», – соглашается. «А как же литература? Ведь вы её любите!» – говорю. «Люблю, – отвечает, – только этой любовью сыт не будешь. Стипендии у нас, сами знаете, какие. Работать школьным учителем я не хочу. В редакцию ещё попасть надо, да и там начинающим платят не ахти. А здесь сразу 700 долларов и социальный пакет!» Социальный пакет означает, что фирма оплачивает тебе твои коммунальные расходы.
«Для чего вы поступили на филологический?» – интересуюсь у студентки, после того как поставил вожделенную ею тройку. «А я, – объясняет, – учусь не только на филологическом. Я ещё и на платном вечернем в финансовой академии». «Господи! – удивляюсь, – вы ведь у нас еле учитесь. Как же вы справляетесь?» «Справлюсь, – говорит, – сейчас два диплома – вещь престижная. С ними можно очень хорошо устроиться».
Вот, стало быть, чем, как рассказывает Павел Ерёмин в «Аргументах и фактах» (№ 37 за 13.09. – 19.09.2006 г.), соблазняют молодёжь, призывая её вступить в прокремлёвское движение «Наши»: «А чего тебе, в падлу постоять пару часов где-нибудь? Зато второе образование получишь на халяву». То есть за второе платить будут старшие товарищи из «Единой России». Или не будут – обяжут ректора принять.
Не знаю, есть ли среди наших студентов, или аспирантов, или бакалавров, или магистров члены какого-нибудь кремлёвского комсомола – «Наши», «Молодая гвардия». Не удивлюсь, если есть. Им действительно вряд ли «в падлу» постоять где-нибудь пару часов с какими-нибудь антиамериканскими или антигрузинскими плакатами. Или пару часов поодобрять действия своих старших товарищей из «Единой России». Ведь цена вопроса – гарантированное высшее образование. А при их знаниях получить в нашем университете диплом прежде было бы почти немыслимым делом.
Как раз сегодня (13 сентября 2006 года) в числе других преподавателей я предлагал второкурсникам свой спецкурс. Раньше такие темы, как «Художественный мир Пушкина», шли на ура: записывались многие. Ещё недавно 18 человек посещали мой спецкурс по «Капитанской дочке».
Сегодня не записалось ни одного. «Ничего, – утешает замдекана, – были не все. Мы ещё опросим отсутствующих». А я думаю, что спасибо, если запишется хотя бы один. Это ведь, как говорится, – плоды просвещения. Причём просвещения новейшего, нынешнего. Они пошли в школу где-нибудь в 94—95-м годах, когда с подачи Министерства образования вовсю выколачивали из детей любовь к книге, когда литературу стали не изучать, а «проходить» в прямом значении этого слова: проходить мимо, не останавливаясь.
В прошлом году ловит меня в коридоре третьекурсник-вечерник: «Вы – Геннадий Григорьевич? Меня к вам послали». И протягивает мне зачётку и ведомость. «Кто послал, – интересуюсь. – И в чём дело?» «Ребята сказали, что вы не свирепствуете. Пожалуйста, поставьте мне тройку». – «За что?» – «За первую треть русской литературы XIX века». – «А кто вам дал ведомость?» – «Взял в деканате, там не возражают, если я сдам экзамен вам». «Ну что ж, – говорю, – давайте найдём какую-нибудь свободную аудиторию и побеседуем». «Но я же согласен на тройку», – напирает он. «Тройку тоже надо заработать, – говорю. – Хотите сдавать мне экзамен, сдавайте». «Нет, – отвечает, – экзамен я не сдам. Я думал… Мне сказали…» «Что я вам поставлю оценку без экзамена», – продолжаю за него я. «Но ведь я прошу о тройке!»
Беру его зачётку. Листаю. Везде одна и та же оценка: «удовлетворительно». «Вы что же, – спрашиваю, – все экзамены подобным образом сдаёте?» «Некогда учиться», – отвечает. «Увы, – говорю, – учиться всё-таки надо. А я вам ничем помочь не могу».
Конечно, мне жаль этих ребят, и я действительно не свирепствую. Но двоечникам оценки не завышаю. Помню, сидит студентка. Один билет вытянула – ответить не может. Второй, третий. Упорствует: «Но вы меня ещё о чём-нибудь спросите?» «Ну о чём же мне вас спрашивать, – говорю, – если вы не можете вспомнить даже фамилию того, с кем стрелялся Печорин?» «Но самого-то Печорина я хорошо помню», – отвечает. «А как звали его боевого товарища, который рассказывает о Печорине автору первую повесть лермонтовского романа, помните?» Мнётся. «Его именем, – говорю, – Лермонтов назвал в романе другую повесть». «Михал Михалыч!» – радостное восклицание. «Нет, – говорю, – Максим Максимыч». «Ну какая разница! Главное, что я его вспомнила!» – «Кого его?» – «Максим Максимыча». – «Вы же назвали его Михал Михалычем!» – «Ну какая разница!»
Она искренне не понимает разницы. Она убеждена: мой отказ не ставить ей двойки основан на пристрастном к ней отношении. Она бежит жаловаться на меня в деканат. И не понимает его работников, которые, выслушав мои объяснения, соглашаются со мной, а не с ней. (Не говорю уже о самой порочной практике: проверять, читал ли студент книгу, а не что он в ней вычитал. Но в данном случае даже до пересказа дело не дошло!)
Единичный, скажете, случай? Увы, типичный. И не для одного нашего университета.
Вот – опубликованное в «Аргументах и фактах» (№ 34, 23.08. – 29.08.2006 г.) свидетельство ректора ВГИКа Александра Новикова (жирный шрифт его):
«Мы столкнулись с тем, что новоё поколение в большинстве своём крайне слабо подготовлено школой – обезоруживающая малограмотность, отсутствие системных представлений об истории, огорчительные пробелы в знании литературы и искусства, включая отечественный кинематограф. У одного абитуриента пытались выяснить, кто такой Медный всадник. Мучительная задумчивость завершилась гипотезой: «Может быть, это Юрий Долгорукий?»»
А плоды нынешнего просвещения – следствие проводимой властями сплошной инвентаризации ценностей, подмены одних другими. Нельзя сказать, что никого это не волнует. Волнует. Даже в провинциальном Ульяновске, как сообщила недавно радиостанция «Эхо Москвы», ссылаясь на газету «Новые Известия», жители требуют «допустить родителей к экспертизе учебников. Горожане говорят, что с помощью школьной литературы в детские головы " вбиваются ерунда, порнография и националистические настроения». Между тем, отмечает издание, проблема некачественных учебников актуальна для всей страны. По официальным данным, более 80 процентов учебной литературы содержит ошибки. Причина – недостаточный контроль со стороны Минобразования и обилие контрафактной продукции».
* * *
Тетради моего школьного детства украшались портретами русских классиков: Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов. Была на них, конечно, и советская эмблематика: Ленин, Сталин, гимн Советского Союза на задней стороне обложки. Недавно прошёлся по канцелярским магазинам. Продают школьные тетради. Некоторые словно из моего детства перекочевали: изображён Ленин с известным не только людям моего поколения слоганом: «Ленин жил. Ленин жив. Ленин будет жить», изображены пионерские и комсомольские значки. В нынешнее время это очень понятно: не мытьём, так катаньем! Не удаётся романтизировать советское прошлое для тех, кто его помнит, авось удастся убедить детей, что оно было прекрасно! И всё-таки у таких тетрадей куда меньше шансов быть распроданными, чем у тех, на чьих обложках – Дима Билан, Анастасия Заворотнюк, эмблемы футбольных клубов.
Вряд ли, конечно, издатели собираются растить футбольных фанатов. Их расчёт вполне корыстен: болельщик купит тетрадь с эмблемой любимой команды или с эмблемой последнего футбольного чемпионата мира. Разумеется, что и Дима Билан, и Анастасия Заворотнюк помещены на обложке с той же целью. Существует, например, как услужливо подсказывает поисковая программа в Интернете, Официальный Международный Фан-Клуб Анастасии Заворотнюк. Ясно, что издатели с подобными тетрадками не прогадают.
Двенадцатилетний внучатый племянник моей жены, оглядев книги на полках у меня в комнате, спросил: «А что, дядя Гена – фан Пушкина?» Дети доверчивы. Фаны для них – это прежде всего ученики некоего духовного гуру, это те, кто улавливает и впитывает в себя ауру, исходящую от избранного ими кумира. Помещая на тетрадных обложках портреты нынешних поп и арт-звёзд, издатели подталкивают детей к выбору образца для обожания и подражания.
Я ничего не имею против Димы Билана или Анастасии Заворотнюк. Но объективная реальность такова, что в сознании молодёжи они и подобные им актёры, певцы, шоумены вытеснили тех, кто олицетворяет для всего мира великую русскую национальную культуру. А вытеснили при мощной пропагандистской поддержке властей, привечающих новую духовную элиту страны.
Кажется, ещё совсем недавно бушевали страсти по поводу хулиганской выходки популярного певца, публично – на всю страну – обматерившего ростовскую журналистку Ирину Ароян. С гневным заявлением выступил Союз журналистов. Порядочные люди требовали призвать к ответственности хама, бойкотировать его концерты. И что же?
«Чета Путиных от души наслаждалась мало привычной им ролью рядовых зрителей – они от души хлопали и веселились…
В финале Путины опять же продемонстрировали равенство и братство – вместе с залом встали и проводили артиста аплодисментами. Владимир Владимирович при этом показал Киркорову большой палец…
Уж чего точно не ожидал Филипп, так это появления президента и первой леди у себя в грим-уборной. Обычно если такие встречи проходят, то в специально отведённых для этого VIP-зонах. Но Путины засвидетельствовали своё почтение артисту прямо на его рабочем месте. Они вручили Киркорову букет чайных роз в красно-белых тонах и наговорили комплиментов и ему, и его отцу, который тоже принимал участие в концерте».
Конечно, Путин может объяснить это тем, что призывы бойкотировать Киркорова звучали не вчера. С грязной нецензурной бранью Киркоров набросился на Ирину Ароян в 2004 году, а Татьяна Феклюнина из «Московского комсомольца», которую я только что цитировал, пишет о посещении президентской четой концерта певца в Сочи в августовской газете 2006 года. Пробовал Киркоров изменить свои отношения с ростовской журналисткой. Сказал однажды на концерте: «Дорогая Ира, прости меня!» Но Ароян не приняла его извинений, заподозрила, не рекламное ли это шоу: с извинениями, дескать, обычно обращаются непосредственно к тому, кого обидел, а не проговаривают их в зал, в котором её не было. Очевидно, узнавший об этом президент взял сторону певца, внушавшего журналистке в тот злополучный для него вечер, что нужно уметь общаться со звёздами!
И уж, наверное, вряд ли запомнилось Путину, что оскорблённую его любимцем журналистку встретили у выхода «два здоровенных охранника поп-звезды. Они набросились на нее, заломили руки за спину и зажали рот, сопровождая экзекуцию угрозами: «Меньше будешь гавкать». Двухметровые бойцы вырвали у журналистки фотоаппарат и диктофон, пытаясь сломать редакционную аппаратуру» («Новые Известия» от 24.05.2004). Что ж, на то она и охрана, чтобы крушить и ломать любого ради спокойствия хозяина! К примеру, любит Владимир Владимирович, бывая в Петербурге, посещать Петропавловскую крепость, на чьей территории находится жилой дом, жители которого, рассказывает Мария Черницына («Московский комсомолец» от 9 сентября 2006 года), называют себя «холопами», подчёркивая полное своё бесправие перед путинскими телохранителями, появляющимися задолго до прибытия президента.
«Через оцепление ни один заяц не проскочит. Короче, если на работу уйти не успел, то, считай, сегодня выходной, – говорят жильцы журналистке. – Звонят в каждую квартиру и предупреждают: сегодня даже носа не показывайте, окна занавесьте…
Вышел как-то безработный «холоп» Дима у подъезда покурить – в драных тапочках и халате без пуговиц. Короче, вид такой, будто заранее проштрафился. Перед ним тут же пиджак нарисовался: «Предъявите паспорт». Тот предъявляет пустые карманы: «Пойдёмте ко мне в десятую квартиру – покажу документ». Тут раздвоился пиджак. И оба говорят Диме: «Ты, мужик, нам мозги не пудри – сам сейчас пройдёшь куда следует. Мы твою личность по харе пробивать будем», – и увели пиджаки Диму под руки. На следующий день вернулся. Вся личность в синяках».
Так что каков поп, таков и приход!
И всё-таки стиль поведения главного лица государства – это одно, а стиль поведения духовных лидеров общества, которых приближает к себе главное лицо, – это совсем другое. С президентом и его семьёй не общаются каждодневно, как с теми, чьи песни постоянно звучат во многих ушах, в которые вставлены наушники, за чьи концерты поклонники готовы выложить немалые деньги и чья личная жизнь со всеми её интимными подробностями освещается во многих изданиях. А с другой стороны, поведение и слова президента и его семьи весят намного больше, чем поступки любого гражданина страны. Так что уж кому-кому, а им следовало бы вести себя с предельной осторожностью: синдром министра из шварцевского «Голого короля», о чём я уже здесь писал, очень силён в обществе. Людмила Александровна Путина, жена президента, в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» (31 августа – 7 сентября 2006 г.) много верного сказала о перегрузке школьников, о массе ненужных вещей, которые вдалбливают в головы студентам. А потом разговор зашёл о том, что «детям надо прививать уважение к российской национальной культуре, к народным промыслам». «Вот эти все традиции – вышивание, вязание, кружевоплетение, резьба по дереву, – замечает Людмила Александровна, – мне кажется, неспроста в народе возникли. Это так называемая «мелкая моторика», она очень важна для развития детей – начиная с раннего возраста и вплоть до 14 лет, – для формирования в том числе речевых центров в мозгу. Чтобы ребёнок умел хорошо и красиво говорить, нужно, чтобы он в младшем школьном возрасте что-то делал руками».
Не удивлюсь, если на обложках тетрадок скоро появятся прялки, веретено, спицы для вязания…
Конечно, неплохо сохранять, и – в связи с тем, что советская власть многое в нём уничтожила, – возрождать искусство народных промыслов. Я и сам люблю «палех», «гжель», чудесные каргопольские глиняные фигурки или сергиево-посадские: красочные резные деревянные. Но чтобы ребёнок умел хорошо и красиво говорить, ему в младенчестве нужно прежде всего не руками что-то делать, а полюбить читать, научиться черпать из книг кладезь народной мудрости (фольклор), национальной мудрости (русская классика). То есть, неплохо, конечно, если он приобщится к народным промыслам. Это даст ребяческой душе патриотические ростки. Но осознать собственную причастность к своему народу, то есть стать патриотом человек сможет не прежде, чем вберёт в себя духовные национальные ценности. А откуда он их почерпнёт? Не думаю, что открою нечто новое, если укажу на три источника и сразу же отведу от них сравнение с пошлой ленинской формулой, ибо составными частями чего-то они не являются. Каждый самодостаточен для утоления патриотической жажды. Я имею в виду религию, философию, искусство.
Увы, почти уничтоженная коммунистическим режимом религия пока что брать на себя подобную задачу не способна. Очевидно, должно пройти немало времени, чтобы к православию относились у нас так же, как в советское время к литературе – не к «секретарской», естественно, и не навязываемой властями, а к той, что пусть и покалеченной, но просачивалось через цензурное сито (Трифонов, Искандер, Чухонцев), и к той, что ходила в самиздате (Солженицын, Шаламов, Чуковская, Владимов, Войнович, Корнилов). Такую литературу боготворили, за её авторами готовы были идти в огонь и в воду: жажда правды в обществе никогда не избывалась.
Да и не претендует нынешняя церковь на подобную роль. Я уже говорил, что её иерархи видят себя скорее на месте прежних коммунистических идеологов, которые, как известно, не терпели никакого инакомыслия и чурались любой полемики.
С философией сложнее. Русская философия конца XIX и (в Зарубежье) первой половины XX века переживала ренессанс. Кое-какие оставшиеся на родине философы – Бахтин, Лосев, Мамардашвили – шли с нею вровень. Но оставшихся на родине философов печатали не слишком охотно. А зарубежных и вовсе не публиковали. Так что открытие их трудов пришлось только на горбачёвскую перестройку.
Ясно, что умученные насильственным изучением во всех вузах марксизма-ленинизма люди потеряли вкус к философии. Многие прошли мимо книг возвращённых философов. Те же, кто не прошёл, порой в типично большевистском стиле поделили их на «чистых» и «нечистых». Ильин, допустим, «чистый», а Бердяев – нет. Оба были православными философами, но так называемым «патриотам» Ильин ближе: он проповедовал националистические идеи. Потому и потревожили прах Ильина – перенесли его в Россию, где торжественно захоронили. Недавно объявили ещё и о том, что то ли купили, то ли получили в дар от американского университета рукописи покойного философа. Канонизировали – одним словом. И сделали это, по-моему, напрасно. Ведь никто иной как Иван Александрович Ильин писал в парижской газете «Возрождение» 17 мая 1933 года: «Пока Муссолини ведёт Италию, а Гитлер ведёт Германию – европейской культуре даётся отсрочка. (…) Гитлер взял эту отсрочку прежде всего для Германии. Он и его друзья сделают всё, чтобы использовать её для национально-духовного и социального обновления страны. Но взяв эту отсрочку, он дал её и Европе». Никто иной как Иван Александрович, ознакомившись с гитлеровским национал-социализмом, приветствовал его «новый дух». Никто иной как Ильин взахлёб перечислял черты этой новизны: «патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению (фашистское «sacrificio»), дисциплина, социальная справедливость и внеклассовое, братски-всенародное единение». А ведь судил о гитлеровской Германии Ильин не понаслышке. Он жил в это время в Берлине, наблюдал нацистов и описывал их высоким мажорным слогом: «Достаточно видеть эти верующие, именно верующие лица; достаточно увидеть эту дисциплину, чтобы понять значение происходящего и спросить себя: " да есть ли на свете народ, который не захотел бы создать у себя движение такого подъёма и такого духа?»» Правда, судя по тому, что в 1938 году он переехал из Германии в Швейцарию, подобная форма национал-социализма его перестала воодушевлять. (Впрочем, не исключаю, что он переехал в нейтральную Швейцарию, чтобы быть в стороне от воюющих стран и вообще – от войны!) Но не стоит забывать о былой его очарованности Гитлером. Хотя бы для того, чтобы не восхищаться прозорливостью Ильина: чего не было, того не было!
Это я к тому ещё, что в посланиях президента Федеральному собранию нередко находят слегка видоизменённые высказывания Ильина, пропагандирующие его мысли. Видимо, не следует Путину настолько доверяться своей команде спичрайтеров, которые относятся к этому философу с той же восторженностью, с какой, помнится, отнёсся к Ильину Никита Михалков, заразив этим тогдашнего своего друга вице-президента Руцкого. Впрочем, о чём мы с вами толкуем! На кого же ещё, как не на Ильина, может опереться путинская команда, которая делегировала в общественную палату всего двух писателей – Л. Бородина и В. Ганичева, внимающих Ильину с молитвенным благоговением!
«Восторг, – писал Пушкин, – не предполагает силы ума, располагающей части в их отношении к целому». Вот и Ильин в отношении всей русской философии занесён на неподобающее ему слишком высокое место. Но, повторяю, великую нашу русскую философию сегодня читают немногие. Так что духовное наставничество общества ей пока что не по плечу.
Остаётся культура. И снова вспоминается Пушкин:
Беда стране, где раб и льстец Одни приближены к престолу, А Небом избранный певец Молчит, потупя очи долу.* * *
Почти всю свою сознательную журналистскую жизнь я проработал в советской печати: полгода внештатно в «Семье и школе», временно (2 месяца) в «Кругозоре», чуть больше полугода в «РТ-программах» и 27 лет в «Литературной газете». Подробней я написал об этой работе в своих «Стёжках-дорожках». (Не писал только о «Литературе», которую возглавлял 12 лет. Но это потому, что «Стёжки…» – книга воспоминаний. А в то время я в «Литературе» ещё работал – вспоминать было рано.) Разные меня окружали люди, по-разному относились они к своему делу. Но преобладающим было ощущение, что мы работаем не зря.
Особенно в «Литературной газете». Конечно, своей бешеной популярностью она обязана не нашему отделу русской литературы, под материалы которого обычно отдавали три полосы (страницы) первой восьмистраничной половины, именуемой первой тетрадкой. И вообще не нашим коллегам по первой тетрадке. Сам много раз видел в метро, как доставали из портфелей «Литературку», первую тетрадку обычно сразу же прятали назад в портфель, а вторую начинали читать с конца – со знаменитой на всю страну шестнадцатой полосы – с материалов «Клуба 12 стульев».
Однажды мне позвонил Чаковский. «Скажите, – спросил он, – как получилось, что в статье (не помню её автора) критикуют Семёнова?» «А кто это?» – удивлённо спрашиваю я. «Неважно, – отвечает Чаковский. – Вы читали эту книгу Семёнова, которую долбает ваш автор?» «Она передо мной», – говорю. «Вы её читали?» – повторяет Чаковский. «Просматривал, – отвечаю. – Обычная графоманская бодяга. Хотите, покажу?» «Не надо, – досадует Чаковский. И вкрадчиво: – А просматривали ли вы аннотацию?» Нет, аннотацию я не смотрел. Быстро проглядываю. «А что я там должен был увидеть?» – спрашиваю. «Ответ на вопрос, который вы мне задали, – голос Чаковского по-прежнему вкрадчивый. – Кто этот Семёнов, там не написано?» «Написано, что он автор многих книг», – рапортую. «И всё?» – удивляется Александр Борисович. «И всё», – подтверждаю. «Идите с книгой ко мне».
Прихожу. Чаковский читает аннотацию. Вздыхает. Указывает мне на портрет автора: «Вы что, никогда его не видели?». «Нет», – удивляюсь заинтригованный. «Семёнов», – слышу в селекторе голос Фриды, секретарши главного. Чаковский снимает трубку. «Я проверил, – говорит он. – Никто действительно не знал, что ты это ты. А я, как тебе известно, номер не вёл. За всем уследить не могу. Но ссориться не будем, правда? Любой твой отрывок в любой номер. Присылай, опубликуем хоть в следующем. И новую книгу шли прямо мне. Отрецензируем по достоинству». И, положив трубку: «Господи, это же такая мстительная сволочь. И невероятно завистливая. Каждый материал отдела Веселовского через лупу рассматривает. Чуть что – в ЦК. Там мне столько писем его показывали!» «Да кто же это?» – спрашиваю. «Редактор «Крокодила», – отвечает. – Спасибо за статью, удружили!»
Тем и брал «Клуб 12 стульев», что его юмор совершенно не походил на «крокодильский». Не Ленча печатал Витя Веселовский, не Шатуновского и не Суконцева, а Горина, Лиходеева, Розовского, Бахнова, Арканова. Не натужный, а искромётный юмор, не пугливая, а разящая сатира – было отчего завидовать Семёнову.
А статьи Аркадия Ваксберга, Анатолия Рубинова, Александра Борина, Юрия Щекочихина, Евгения Богата, Павла Волина, Александра Левикова, Владилена Травинского, Лоры Великановой, Ольги Чайковской, Симона Соловейчика, Олега Мороза, Нелли Логиновой, Капитолины Кожевниковой! Каждое имя уже добавляло газете популярности. «В пределах возможного», – напутствовал этих авторов Чаковский. Но его первый заместитель Виталий Александрович Сырокомский порой проводил в печать их статьи, написанные в пределах невозможного. Как ему это удавалось – секрет, не раскрытый до сих пор. Думаю, что он опирался на тех работников ЦК, которые понимали, как безнадёжно пробуксовывает система, как гнилостно протухает режим.
«Почему ты ничего не сообщил о крупнейших наших акциях? Например, о том, как нам удалось остановить проект поворота северных рек?» – писал мне бывший сотрудник второй тетрадки, прочитавший «Стёжки-дорожки». Но я ведь рассказывал о своей жизни в газете и, стало быть, прежде всего о своём отделе в ней. А наш отдел подобными акциями похвастать не мог.
Смешно сравнивать – относительная свобода действий внутренних отделов «Литературки» и полная зависимость нашего от секретариата Союза писателей СССР, от отделов культуры и пропаганды ЦК (а это конкретные люди, в том числе и упомянутые мною здесь Мелентьев, Тяжельников и ещё некоторые, не упомянутые, но тоже настроенные «патриотически», то есть националистически; хотя были там и порядочные люди). Внутренние отделы газеты критикуют какое-нибудь не имеющее отношение к обороне министерство, пишут о неблагополучии в судебных органах или даже в прокуратуре. Что ж. Им это в разумных, конечно, пределах позволено. В конце концов, «Литературная газета» одна из самых известных за рубежом. Она, так сказать, витрина нашей печати. «Вы говорите, что у нас нет свободы слова, а мы даже такую стратегически важную проблему, как поворот северных рек, всесторонне обсуждаем с общественностью, прислушиваемся к разным мнениям». А что можем мы? Писать о неблагополучии в литературном министерстве – то есть в секретариате Союза писателей, о том, что без санкции ЦК не выйдет в стране из печати ни одна книга, что любая газетная или журнальная публикация не избегнут главлитовского (цензорского) сита? И кто нам это разрешит?
Наделены, конечно, главные редакторы изданий цензорскими функциями – могут печатать материал под свою личную ответственность. Но уж пусть пеняют на себя, если материал признают идеологически невыдержанным. Так на моей памяти лишились работы редакторы «Сельской молодёжи» за публикацию рассказа Булгакова «Похождения Чичикова» и стихов Окуджавы, журнала «Байкал» за помещённый там отрывок из книги Аркадия Белинкова об Олеше (этот отрывок, рассчитанный на три номера, так и остался незаконченным: сообщили, что продолжение следует, но оно не последовало), ташкентского журнала «Заря Востока», который после страшного землетрясения, разрушившего многие кварталы в городе, выпустил благотворительный номер массовым тиражом, а чтобы расходился, пригласил популярных и даже полузапретных писателей дать в него свои произведения. История с долгим выдавливанием Твардовского из «Нового мира» широко известна. Наказывали не обязательно за либерализм. Подворачивались под горячую руку и те, кто мечтали не только угодить начальству, но и внедрить в общество те радикальные идеи, которые руководство официально разделить не могло. Поэтому А. Никонова перевели из «Молодой гвардии» в журнал «Вокруг света» за публикацию яростно-националистической статьи В. Чалмаева. А за публикацию такой же по сути статьи М. Лобанова сняли с поста главного редактора саратовской «Волги» Н. Палькина.
Но Чаковский был редактором очень осторожным. А ещё большей осторожностью отличался его заместитель, курирующий первую тетрадку, Евгений Алексеевич Кривицкий. Через него не то что крамольная мышь, блоха бы не проскочила: выловил бы!
Настолько осторожен был Кривицкий, что, когда Евгений Евтушенко принёс в редакцию большую статью о Смелякове, в судьбе которого, как выразился автор, было «четыре дыры» – три лагерных срока и финский плен, Кривицкий все эти дыры тщательно замазал, то есть выкинул весь разговор об этом. Разъярённый Евтушенко попросил меня идти вместе с ним к Чаковскому. Я сказал, что вряд ли Чаковский обрадуется нашему совместному походу: разговор предстоит конфиденциальный. Но Евтушенко настаивал. Я пошёл и очень быстро, как и думал, по просьбе Чаковского оставил их вдвоём. А потом Женя зашёл ко мне в кабинет ликующим. Всё отстоять он не смог, но многое восстановил. Причём Чаковский божился ему, что от Кривицкого поголовного вычёркивания не требовал. И доказал это, взяв его с собой к Кривицкому и наорав на своего зама.
Так что можете представить, какой невероятной осторожностью отличался куратор первой тетрадки от редактората. Да прикиньте к этому, каким свирепым цербером, охраняющим идеологическую чистоту отдела, был исполняющий обязанности его редактора Михаил Ханаанович Синельников. И как невероятно пуглив оказался сменивший его и введённый в редколлегию Фёдор Аркадьевич Чапчахов. К тому же не только от редактората, то есть от руководства газеты, мы имели куратора (Кривицкого). От секретариата, чьё дело было размещать материалы на газетных полосах, нас курировал первый зам ответственного секретаря Леонид Герасимович Чернецкий. Лёня любил вести либеральные разговоры, вспоминал со мной Алёшу Флеровского, у которого работал в «Московском комсомольце», когда Алёша был главным редактором этой газеты, и которого сняли за частую перепечатку отрывков из произведений, публиковавшихся в «твардовском» «Новом мире». Сняли и глухо запрятали в какое-то агентство печати, так что снова появился Флеровский только в горбачёвскую перестройку в знаменитых «Московских новостях» Егора Яковлева. Я напечатал статейку у Флеровского, и тогда же тот познакомил меня с Чернецким. Так вот любил Леонид Герасимович вспоминать своё недавнее прошлое, но поставить смелый по тем временам материал нашего отдела на полосу не спешил. Тянул время, заматывал и нередко возвращал назад с резолюцией: «устарело!» На этой почве мы с ним в конце концов и поссорились.
И при всём том, как говорится в известном анекдоте, и мы пахали! И нам удавалось проводить материалы, взрывающие рутинное литературное поле, вызывающие недовольство руководящих наших цензоров из секретариата Союза, из ЦК. Но крыть им было нечем. Отдел, допустим, вёл какую-нибудь дискуссию по проблемам современной литературы. Понятно, что дискуссию на статьях только угодных верховным кураторам литераторов не выстроишь. А порядочные литера – торы предлагаемую им начальством правку не принимали: для чего же править? Пусть это опровергнет другой участник нашего разговора. Скрипели зубами наши начальники, но терпели, дожидались опровержения. Оно, разумеется, следовало, но читатели дураками не были. Да и смешно было сравнивать полемистов: Юрий Левитанский – Алексей Смольников, Станислав Рассадин – Александр Михайлов, Андрей Турков – Евгений Осетров. В разных художественных весовых категориях находились эти люди. Но в дискуссии каждый имел право высказать свою точку зрения. И мы давали высказываться каждому, как бы не замечая, что какой-нибудь Дмитрий Молдавский меркнет со своими охранительными идеями даже на фоне не слишком одарённого, но более смелого своего земляка-ленинградца Адольфа Урбана.
Придумали мы и диалоги между непримиримыми оппонентами, которые велись под стенографическую запись. Расшифровку отсылали обоим, учитывали их обработку стенограммы, набирали, соглашались с их правкой. И что же? И снова часто возникало впечатление, что на ковёр вышли борцы разного веса.
Что с этим можно было поделать? Снять редактора? Уволить сотрудников? А за что? Вот почему недолюбливали наш литературный отдел в определённых писательских кругах и в таких редакциях, как «Молодая гвардия» или «Наш современник». Недолюбливали, несмотря на старающегося их обслужить нашего начальника – Чапчахова. Впрочем, ещё больше он старался удержаться на своём месте, поэтому ни против дискуссий, ни против диалогов, ни против «двух мнений об одной книге» не высказывался.
Конечно, самую высокую популярность литературный отдел газеты имел, когда я ещё в нём не работал, – в конце 50-х – начале 60-х при главных редакторах Сергее Сергеевиче Смирнове и Валерии Алексеевиче Косолапове. Член редколлегии Юрий Бондарев в то время не только не был обласкан властями, но они его терпеть не могли за книги о войне, где находили ненавистную им «окопную правду». Работал в отделе тогда и Феликс Кузнецов. И тоже совершенно непохожий на себя сегодняшнего – умеренный либерал. А остальные – что не имя, то легенда: Владимир Лакшин, Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин, Инна Борисова, Булат Окуджава, Валентин Непомнящий, о котором тоже теперь следует оговориться: свойственный ему ныне православный фундаментализм не существовал тогда даже в зачатках. Кузнецов потом ушёл в «Знамя», Лакшин – в «Новый мир», а отдел, по существу возглавляемый Лазарем Лазаревым, выдавал публикации, не уступающие «новомировским» времён Твардовского.
При Чаковском такого, разумеется, не было. Но какая-то слабая преемственность сохранялась. Лживые, фальшивые публикации не заслоняли собой тех, где вещи назывались своими именами, и многие произведения принято было оценивать по дарованию или по его отсутствию.
На днях литературы в Новосибирской области оказался я в одной группе с детским поэтом и юмористом Георгием Ладонщиковым. В Колывани, районном городке, где мы с ним выступали, он вдруг заговорил об опубликованной какое-то время назад в «Литературке» статье Рассадина «Би-би-би и сю-сю-сю». К тому времени я уже подзабыл, над какими именно авторами издательства «Малыш» остроумно издевался Стасик. Помнил только, что над Александром Говоровым. И то потому, что Рассадин оценил его строчку: «Мы с братом плохо кушаем» как манерную: естественней, дескать, было бы сказать: «едим», а Говоров прислал в редакцию возмущённое письмо: «кушаем» – слово, которое можно найти во всех орфографических словарях русского языка. Оказалось, что в этой статье Стасик издевался и над стихами Ладонщикова.
– Я только потом узнал, – говорил он мне, – что статья заказная.
– В каком смысле? – не понял я.
– Готовились снять руководство «Малыша», – объяснил Ладонщиков, – и нужен был для этого повод, но причём тут я?
Это была абсолютная чушь. На графоманские книги «Малыша» обратил внимание я. Уже не помню, почему. То ли покупал их маленькому сыну, то ли ещё кому-то. Некоторые стихи были настолько неграмотны, что я пошёл и показал их Кривицкому, предложив найти автора для фельетона, который высмеял бы эту халтуру. Прочитав стихи, Кривицкий согласился. И не возражал против авторства Рассадина. Тот был очень известным фельетонистом.
– Так что, – спросил я Ладонщикова, – сняли руководство?
– А то ты не знаешь? – зло ответил он и вздохнул: – Жалко. Какие чудесные ребята были!
Стало быть, даже на такую вещь, как смена руководства издательства, мы могли повлиять. Графоманы и «патриоты» нас не любили. Политика отдела им не нравилась. И теперь я понимаю, почему. Сравнивая нынешнюю поляковскую «Литературную газету» с нашей, сравнивая с нашей всякие «Московские литераторы», «Российские литераторы», вижу принципиальную разницу: мы не имели права критиковать литературу начальства, но никогда не хвалили неумёх без регалий. Зато талантливых людей, как правило, привечали вне зависимости от того, входили они в правление какого-либо союза или нет. И при этом не делили одарённых на «наших» и «не наших».
Читательскими письмами мы были завалены, что называется, выше головы. Это сейчас редакции извещают своих читателей, что в переписку с ними они не вступают. А в то время отвечать на письма ты был обязан. Да ещё и не позже такого-то (не очень большого) срока. Лично мне приходилось отвечать не меньше чем на полсотни писем в месяц. А ведь в отделе работало больше десятка сотрудников. Да и отдел писем не всё переправлял нам: их внештатные работники получали деньги за ответы читателям. Им доставалась почта, которая была не связана с конкретными делами нашего отдела. Я уж не говорю о всякого рода встречах с читателями! О вопросах, адресованных отделу русской литературы! Они показывали, что он худо-бедно формирует общественное мнение, побуждает людей мыслить, то есть сознавать себя личностями.
Так что пусть простят мне моё самомнение именитые сотрудники второй тетрадки, но и мы пахали – и мы внесли свою лепту в формирование самой популярной газеты брежневской и горбачёвской поры. При Горбачёве, правда, появились «Московские новости» Егора Яковлева, которые не только нас догнали, но порой и перегоняли по читательским симпатиям. Но чаще всего пара этих гнедых бежала рядом. Символично, что при Путине их постигла одинаковая судьба: оба нынешних редактора – Ю. Поляков («Литературная газета»), В. Третьяков («Московские новости») – вытравили из газет свободолюбивый дух, сделали их раболепствующими по отношению к сильным мира сего, умертвили издания.
Путин и его окружение, отвечая на вопросы корреспондентов об ангажированности нынешней прессы, парируют: а на Западе она не ангажирована? Разве какая-нибудь «Таймс», или «Фигаро», или «Вашингтон Пост» не выражают политических пристрастий своего хозяина – медиамагната?
Выражают, конечно. Но в свободной стране владельцы газет имеют разные политические пристрастия. И я, журналист, выбираю работу в той газете, чей взгляд на окружающий меня мир совпадает с моим. А я, читатель, выбираю близкую моим убеждениям газету и отвергаю те, что мне не близки. Похоже на ситуацию у нас в стране? Нисколько! Оппозиционных режиму газет осталось совсем немного. А в российской глубинке очень легко не дать их распространять, а уж задушить подобные им и вовсе ничего не стоит: кто об этом узнает?
О телевидении и говорить нечего. Вот только что закрыли на канале «Домашний» программу «В круге света», которую вели Светлана Сорокина и Алексей Венедиктов. Я уж, памятуя о том, что писал здесь об изгнании Сорокиной из телеэфира, хотел было найти повод, чтобы сказать: она вернулась. Оказалось, вернулась, чтобы снова уйти. Всего четыре передачи успела вместе с напарником сделать, и четвёртая – в прошлое воскресенье – оказалась роковой. В ней известный политолог и литературовед Мариэтта Чудакова, не менее известный адвокат Генрих Падва, защищавший, между прочим, и Ходорковского, и оба ведущих говорили о суде присяжных и в связи с этим об убийцах Ульмане и Буданове. Говорили о недавних событиях в карельской Кондопоге, где местные жители – в основном русские – громили давно живущих в городе кавказцев, подожгли их рестораны и магазины. Казалось бы, много ли зрителей у «Домашнего»? Сопоставимо ли их количество со зрителями какого-нибудь «Аншлага» на Российском канале или какого-нибудь концерта на Первом с участием поп-звёзд? А не важно это! Важно, что передача «В круге света» действительно соответствовала своему названию: не затемняла, а просветляла сознание, не усыпляла, а пробуждала мысль. Ну и для чего тогда такая передача Авену, Фридману и другим руководителям компании «Альфа-Групп» и «Альфа банка», контролирующих «Домашний»? Они ведь прекрасно понимают правила игры, установленные нынешней кремлёвской администрацией. А по этим правилам пробуждение в человеке мысли не предусмотрено, способность самостоятельно мыслить не поощряется. Знала, что говорила Настасья Ивановна, тётушка режиссёра Ивана Васильевича из булгаковского «Театрального романа»: «Мы против властей не бунтуем». История с уничтожением Ходорковского напугала всех. В том и состоит страшная его вина, что не захотел он играть по правилам Кремля, а напротив – вкладывал деньги в проекты, связанные с созданием в России общества граждан, которые отличаются от манкуртов (беспамятливых, не умеющих мыслить существ из романа Ч. Айтматова) способностью размышлять, обдумывать и отвечать за свои действия.
* * *
«Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом».
Это Пушкин (и курсив его).Нынешние власти многое делают для того, чтобы человек не осознавал своего величия. Я имею в виду не амбиции – их-то власти в своих гражданах пестуют! – а то, что, опять же по точному пушкинскому слову, зовётся самостояньем, то есть следованием выверенным веками нравственным ориентирам, главный из которых – незапятнанная совесть. Совестливость не позволит забыться человеку, не даст ему предать себя, унизить собственное достоинство ради корысти. Я говорю банальности? Но они связаны с вечными нравственными ценностями, с тем неотменяемым в человеческом обществе законом, руководствуясь которым под венец или в загс приходят по любви, а не по любви к деньгам.
Однажды я прочитал, что у известного сатирика, чьи выступления в брежневские времена не то что запрещали, но не поощряли, угнали автомобиль. Через некоторое время автомобиль обнаружили и вернули этому властителю дум. Ну и отлично. А вспомнил я эту историю потому, что в газетной заметке называлась цена автомобиля сатирика: 90 000 долларов!
Ничего особенного? У некоторых машины и подороже или, говоря по-нынешнему, «покруче»? Так я не о тех, кто тешит свои амбиции, заносясь над другими. Я о конкретном деятеле культуры, который некогда пытался, как говорил Зощенко, железной метлой сатиры подметать то, что можно подмести. Ему-то для чего эта бессовестная трата? Бессовестная – потому что в стране нищих позволять себе роскошь стыдно. Жадностью, скупостью отличалось на моей памяти немало одарённых людей. Очевидно, такие вещи связаны с какими-то генными нарушениями или психическими отклонениями. Но прежде скупым хватало ума не подчёркивать эту свою черту, не выставлять её наружу как достойную зависти. Смешно было бы ждать от этого сатирика, что он купит себе машину подешевле, чтобы разницу потратить на благотворительные цели. Да и никого к этому насильно не подтолкнёшь: это уж от милосердия зависит, а оно свойственно далеко не всем. Но, купив себе дорогущую машину, проносясь на ней мимо великого множества бедствующего народа, он оказался ещё и тем индикатором, по которому Михаил Михайлович Зощенко выяснял, отчего в стране и мире «хорошего было слишком мало, а плохого было достаточно и куда ни плюнь».
«И мы имеем скромное мнение, – делился он им с читателями, – что это плохое произошло, пожалуй, даже не из-за денег, а из-за удивительной системы, или, вернее, из-за распределения денег, которые проходили не через те руки, через которые им надлежало проходить».
И здесь наш сатирик со своим дорогим автомобилем совсем недалеко ушёл от Общественной палаты, которая, распределяя государственные гранты между некоммерческими организациями, не забыла себя – дала деньги тем, во главе которых стоят члены Общественной палаты, – Анатолий Кучерена, Лео Бокерия, Ирина Роднина, Елена Зелинская.
«Общественная палата опростоволосилась и в этом смысле " села в лужу», дав деньги 17 организациям, которыми руководят члены Палаты», – заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (20.09.2006) лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, комментируя список организаций-претендентов на распределение грантов, утвержденный Общественной палатой России. По словам Л. Пономарева, «Общественная палата больна той же болезнью, что и все чиновники в России – «пилит деньги»». «Невозможно представить, чтобы руководители западного фонда дали деньги себе, это называется конфликт интересов – то, с чем борются».
(В скобках ввожу информацию, показывающую, как ответили на это власти одному из основателей «Мемориала» – всероссийского общества по увековечиванию памяти жертв политических репрессий: Л. Пономарев, как сообщает 26 сентября 2006 года агентство REGNUM, «решением мирового судьи участка № 370 г. Москвы Натальи Дятловой осуждён на трое суток ареста. Правозащитник признан виновным в организации незаконного митинга. Речь идет об организации траурного пикета «В память о трагедии в Беслане» 3 сентября. После подачи официальной заявки на проведение пикета организаторами был получен отказ за подписью заместителя префекта Центрального административного округа столицы Сергея Васюкова. Между тем правозащитники подчёркивают, что согласно действующему законодательству, заместитель префекта не обладает полномочиями для решения таких вопросов. Исходя из этого, было решено провести пикет несмотря на отсутствие согласия властей. Участники мероприятия были задержаны сразу же после его начала». Смело, ничего не скажешь, действует Наталья Дятлова, осудившая известного правозащитника. Сможет ли противостоять такой смелости бесстрашный Анатолий Кучерена? Или, напротив, одобрит её, как одобряли некогда руководители творческих и иных организаций ссылку Сахарова?)
Потому и гонят западные фонды из России, чтобы не с чем было сравнивать. Ну сами подумайте. Может ли кто-нибудь из жюри шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию, оказаться лауреатом? Глупый, скажете, вопрос: кто бы рискнул напороться на презрение научной общественности: сам себя наградил! Но вот престижная Демидовская премия, восстановленная стараниями вице-президента академии РАН Геннадия Месяца. Кому она была присуждена в 2002 году? Академику Месяцу. А «Русский Нобель» в миллион долларов, о котором я рассказывал? Его учредил академик Жорес Алфёров, а Ходорковский почти до самого ареста был одним из тех, кто финансировал премию. Кому выпал этот миллион? Разумеется, Алфёрову. Точнее – в том числе и председателю жюри Алфёрову, оказавшемуся одним из двух лауреатов.
Как тут снова не вспомнить дедушку Крылова. Его Льва, который так и распорядился добычей, поделенной им на четверых – на себя и на трёх своих друзей: «Вот эта часть моя / По договору; / Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; / Вот эта мне за то, что всех сильнее я; / А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, / Тот с места жив не встанет»!
Талант, как говорил Шолом-Алейхем, такая штука, что если он есть, то есть, а если его нет, так нет! И совесть такая же штука. Впрочем, не совсем. Ведь она сопряжена со стыдом. «Прямой стыд, – определяет В. И. Даль, – есть признак, наружное проявление совести». А с другой стороны, поговорка: «Стыд не дым, глаз не ест» родилась не сегодня.
Не сегодня, конечно. Но поговорка эта будто символ сегодняшней действительности. Стоим с женой в километровой автомобильной пробке на Киевском шоссе. Из соседней машины выходит мужик. На ходу расстёгивает ширинку. И тут же на обочине шоссе справляет нужду, нисколько не озабоченный тем, что делает это на чужих глазах. «Это нравственное чувство, – говорил о совести В. И. Даль, – свойственно только человеку, ни одно животное не показывает и следа его». Вот и мужик его не показывает. Кто же он в таком случае?
На последней XIX московской международной книжной ярмарке, сообщает «Московский комсомолец» от 11 сентября 2006 года: «не обошлось без «обнажёнки». Голые девушки представляли книгу Олега Кудрина «Фандурин 917» – пародию на Акунина. Когда одетая в боди-арт модель шла по павильону, у посетителей округлялись глаза. Потому что когда боди-арт на сцене, это одно. А когда совсем рядом – арт исчезает, остаётся одно только боди, слегка прикрытые трусиками».
В мужских журналах это боди ничем уже не прикрыто. Хотите увидеть известную спортсменку, ныне члена Общественной палаты, в «натуральном», как говорил чеховский герой, виде? Хотите осмотреть в таком же виде популярную телеведущую? Нет проблем.
А хотите «в натуральном виде» разглядывать прелести беременной поп-звезды, купите журнал, который вынес на обложку обещание пикантного зрелища.
А хотите… Но я не назову имени известной в прошлом актрисы из уважения хотя бы к её годам, которые сама она – семидесятилетняя женщина – уважать не захотела.
«Для чего вы снялись обнажённой»? – спросили её. «Чтобы утереть нос всем этим фифам, – ответила. – Обратили внимание, что у меня никакого силикона? Всё своё, натуральное!»
Хорошая, умная актриса Юлия Рутберг, высказавшая Светлане Кузиной, журналистке из «Аргументов и фактов» (№ 38, 20–26 сентября 2006 г.) много справедливых, глубоких мыслей, неожиданно заключает: «А вы посмотрите, сколько сейчас юношей и девушек ходят в военизированной одежде. В трусах-то, голые – забавно. Им удивляешься, какие-то смешанные чувства испытываешь. А вот когда видишь бритоголовых – в кирзачах, в военной форме или в чёрных кожаных куртках…» Да, бритоголовые, в чёрных куртках и кирзачах у меня тоже вызывают не смешанные, а вполне определённые чувства. Но и в публичной наготе, на мой взгляд, нет ничего забавного. Она свидетельствует о человеческом одичании, таком же, как мат с кино-и телеэкрана или со страниц художественной литературы. Житейский опыт подсказывает, что одичание ведёт к озверению. Что нагота и мат – стадии того же процесса, что кирзачи и чёрные кожаные куртки.
Газета «Московский комсомолец» в номере от 12 сентября 2006 года печатает интервью с Максимом Курочкиным, по пьесе которого на фестивале молодых драматургов «Любимовка» показан спектакль Юрия Урнова «Водка, е…ля, телевизор».
«– Согласитесь, звучит грубо?
– Безусловно. Но, к сожалению, как ни крути, точнее назвать явление, которое я описываю, не получается. Лишние смыслы сразу отсекаются. Пьеса ровно о том, о чём заявлено. В данном ключе точное название не может быть обидным. Я же не привлекаю зрителей, которые не являются «моими клиентами». Те, кто не готов столкнуться с Новой Драмой, в рамках моих ожиданий сразу отсеиваются на дальних подступах к пьесе».
Прямо как у Фета, писавшего в предисловии к четвёртому выпуску книги «Вечерние огни»: «Что же касается до массы читателей, устанавливающей так называемую популярность, то эта масса совершенно права, разделяя с нами взаимное равнодушие. Нам друг у друга искать нечего». Фет недаром пренебрежителен к популярности. Она в его время была связана со стихами не уважаемого Фетом Надсона. Максим же Курочкин как раз очень популярный драматург, автор больше десятка пьес, показанных не только у нас, но и в Англии и во Франции. «За поиск новых путей в драматургии» удостоен премии «Антибукер-1988». Пьеса, о которой идёт речь, ещё два года назад была игровым видеофильмом, где Курочкин выступил и режиссёром, и продюсером. Пробил, можно сказать, фильмом пьесу на сцену. Так что «моих клиентов», которых взялся обслуживать драматург, великое множество.
Интервьюер знает об этом:
«– Ваша публика – молодёжь, думаете, Антон Павлович Чехов одобрил бы лексику пьесы в глобальном смысле?
– Сознаюсь, я так много чего боюсь, я такой трус, но эта фобия находится в списке последних. Сто пятьдесят людей дали бы положительный ответ на этот вопрос, сто пятьдесят высказались бы против, причём с одинаковым пафосом. Этим мир лжи и отличается от мира правды. А потом, бог его знает. Чехов ведь умер давно…»
Ах, думал ли я, что настолько окажется прав мой старший товарищ поэт Давид Самойлов, написавший стихотворение на смерть Анны Ахматовой, которое начал почти теми же словами, что говорит Курочкин о Чехове: «Вот и всё. Смежили очи гении…»? Разумеется, я и помыслить не мог, что Дезик, заканчивая его: «Нету их. И всё разрешено», – окажется пророком:
«Свете 25 лет. Она устроилась в «вебкам-студию» по объявлению в местной газете».
«Вебкам» – это самодельная студия для пользователей Интернетом. Девушки раздеваются не просто перед камерой оператора, но и перед мониторами, из которых на них глядят зарегистрированные пользователи. Так в телевизионных шоу устанавливают экран, на котором появляется человек, находящийся вне студии, быть может, даже в другом городе или в другой стране, и тем не менее имеющий возможность участвовать в шоу наравне с другими: он видит, что происходит в студии, и его видят находящиеся в студии, разговаривают с ним. Вот и пользователи «вебкама» наблюдают за девушками – комментируют их достоинства, просят их что-то изобразить, принять такую-то позу и т. п.
«– И как скоро ты решилась раздеться?
– Долго не могла. (…) Одно дело – раздеться перед пустым монитором, это я делаю спокойно. А другое – когда видишь его глаза, как он на тебя смотрит. Это гораздо тяжелее. Я стараюсь туда не смотреть. Особенно если мужик нормальный и симпатичный.
– «Мужик» всё может попросить?
– Да, но ты можешь этого не делать. Категорически запрещён секс с животными, с детьми. Ну и зависит от того, насколько ты можешь далеко зайти».
Далеко можно зайти по любви к деньгам. Но не дальше вожделенного:
«Самая честная сказала: «Из трёх доступных мне работ – панель, стриптиз, «вебкам» – я выбрала последнее». Девушки с воображением мечтают, что таким образом можно познакомиться с иностранцем и выйти замуж. «Модель» Аня нашла мужа-голландца именно так. И теперь у них совместный бизнес. Тоже «вебкам»» («Московский комсомолец», 19 сентября 2006 года).
Вы рады за Аню?
Что лёг народ с восторгом под сексотов
Мне показали ничем не примечательного мужчину: «Следи за ним». «Для чего?» – спросил я. «Потом объясню», – сказал показавший. И когда мужчина открыл дверь кабинета Гали Сухаревой, заведующей отделом кадров «Литературной газеты», и скрылся в нём, возбуждённо предложил: «Давай встанем так, чтобы нас не видели. Подождём, кого позовёт Галя». Ждали минут десять. Мне это начало надоедать: «Пошли отсюда. Работать надо». «Вот потому и следует подождать, если хочешь и дальше здесь работать!» – было сказано мне. А когда знакомый нам сотрудник (не стану называть имя) вошёл в кабинет Сухаревой, а сама она вышла да ещё и заперла за собой дверь, мой спутник предложил пройтись с ним до магазина и по дороге объяснил, что ничем не примечательный мужчина является вербовщиком и мы теперь должны быть осторожны с сотрудником, сидящим сейчас в сухаревском кабинете.
– А если он отказался? – спрашиваю.
– Узнаем, – отвечает. – Если отказался, расскажет, что вызывали.
– Расскажет? – спрашиваю с сомнением.
– Ну, не всем, конечно. Но близким приятелям обязательно. Вот посмотришь!
И я смотрел. Да, и мне рассказывала одна сотрудница, как вызвала её Галя и как оставила наедине с бесцветным мужчиной.
– Я так и затряслась от страха, – говорила она.
– И как тебе удалось отказаться?
– Сказала, что необщительна: друзей в редакции не имею, в гости ни к кому не хожу. Чем я могу быть им полезна? Стенограмма на летучках ведётся, а душу передо мной никто не распахивает.
– И тебя отпустили с миром?
– Ну не совсем с миром. С угрозой: «Смотрите, пожалеете!» Представляешь, как страшно, Ген!
Спустя время я узнал, что именно Галине Васильевне Сухаревой мы были обязаны тем, что знали своих стукачей. Она кого-то предупредила по дружбе, рассказав про вербовщика. Этот «кто-то» тоже по дружбе рассказал об этом кому-то. Так что когда Галю Сухареву сменила на посту Алла Ющенко, взявшая потом мужнюю фамилию Иевлева, многие были уверены, что дознались органы о роли Сухаревой. Хотя, на мой взгляд, если б дознались, могли уволить. А её перевели в кабинет иностранной печати после смерти бывшего его заведующего Марка Шугала.
К юбилеям газеты (к сорокалетию, к пятидесятилетию) или в честь значительного события её жизни (например, в 1970 году её тираж перевалил за миллион) редакция выпускала малотиражную (для внутреннего пользования) смешную газету «Литературка», главным редактором которой был Виктор Веселовский. Она сочилась юмором. Как эта заметка, ободряюще названная «Так и надо!»: ««Накося-выкуси!» – твёрдо ответил М. Е. Шугал на вопрос американского корреспондента, как пройти к оперному театру».
Бдительность Шугала была легендарной. Даже осторожнейший заместитель главного редактора Артур Сергеевич Тертерян весело похохатывал, пересказывая, как пришёл к нему возбуждённый Марк. «Артур, – спросил он его, – Слава Поспелов указывал в анкете, что знает языки?» «Спроси об этом у Сухаревой, – сказал Тертерян. – А с чего ты решил, что Поспелов полиглот?» «Ну как же, – ответил Шугал, – уже не в первый раз приходит ко мне Поспелов за каким-нибудь пустяком и тут же: «Что это у тебя? «Нью-Йорк Таймс»?» – разворачивает, читает. «А это что – «Шпигель»?» Опять читает. И по-испански, и по-фински!» «Да он, небось, картинки смотрит!» – предположил Артур Сергеевич. «Смотри, Артур, я тебя предупредил!» – назидательно сказал Шугал.
И при этом был Шугал милейшим человеком. Но – за пределами своего кабинета. А в кабинет пускал неохотно. Визитов к себе не поощрял.
Да мы к нему и не ходили. Так называемый «белый ТАСС» – ежедневный обзор на русском языке иностранной печати и запретных радиопередач – мне давал читать Лёва Токарев. Точнее, я читал «белый ТАСС» в его кабинете. Он работал в отделе зарубежной литературы, то есть каким-никаким, но был международником. Без доступа, конечно, к документам, так называемого служебного пользования. Но получал он их легко: международные обозреватели его любили. А получая, щедро делился со мной.
В «Стёжках-дорожках» я писал, что впервые увидел «белый ТАСС» в «Кругозоре» у его сотрудника Серёжи Есина, с которым у нас в то время установились приязненные отношения. Я просил его дать мне почитать запретный плод, и он давал. Не с такой готовностью, как Лёва Токарев, но всё же.
Недавно, путешествуя по Интернету, я наткнулся в сетевой «Библиотеке Мошкова» на есинский «Дневник ректора» от 2005 года – окончание огромного дневника ректора Литинститута, которым он перестал быть в конце 2005-го, когда известному литератору Сергею Николаевичу Есину исполнилось 70 лет.
Но запись от 27 мая, когда Есин был ещё ректором, для меня особенно любопытна – ведь она меня и касается:
«Гена Красухин, с которым я когда-то работал в " Кругозоре», написал мемуары. Мне их принес Василий Николаевич из книжной лавки, сказав, что здесь есть что-то нелицеприятное обо мне. Всё оказалось очень занятным. По Геннадию, я был раньше неплохим парнем, только почему-то неохотно давал ему на работе белый ТАСС. Он это «неохотно», бедняжка, ставит мне в строку! Зачем я вообще ему что-то давал? Ведь, по правилам, эти документы присылали только членам коллегии, а им был Борис Михайлович Хессин, он давал его, в свою очередь нарушая правило, своему заместителю по журналу Евгению Серафимовичу Велтистову, у Велтистова, особенно его не спрашивая, я втихаря, рискуя попасться, брал эту кипу бумаги, когда он уходил домой, благо сидел с ним в одной комнате, а тут ещё клянчил любопытный Гена».
Оборву пока, чтобы кое-что прояснить. Совсем немного.
«Стёжки-дорожки» вышли в апреле 2005 года за месяц до моего шестидесятипятилетия. Я родился 24 мая, а презентация состоялась 25-го в музее Серебряного века на проспекте Мира. Я запомнил дату ещё и потому, что это был как раз тот самый чёрный день, когда в Москве в нескольких районах вырубилось электричество. До сих пор сожалею о тех, кто из-за остановленных поездов в метро не смог попасть на презентацию. На фуршете, рассчитанном на 80—100 человек, присутствовало вполовину меньше. Но вечер удался.
Василий Николаевич, о котором 27 мая пишет Есин, – директор Книжной лавки при Литинституте. Отнести туда книги для продажи мне посоветовал Серёжа Дмитренко, приятель (или хороший знакомец) Василия Николаевича. Разумеется, я с удовольствием воспользовался его советом и до сих пор не жалею об этом: кое-кто из моих знакомых по Литинституту (я ведь там некоторое время преподавал) мне звонил, выражал своё удовлетворение куском о Есине.
Но таковы уж нравы, царящие в наших вузах, что ректор – монарх. Когда его снимут, о нём забудут, быть может, захотят даже пнуть. Но пока он царствует…
Словом, меня нисколько не удивляет скоропалительное (ведь не так уж много дней прошло с той поры, как получил я экземпляры в издательстве!) самоличное появление директора Книжной лавки в кабинете ректора с книгой, где есть что-то «нелицеприятное» о монархе. Промедли Василий Николаевич, и появился бы кто-то другой. И поручиться за благостный исход для директора магазина при институте, который (директор) продаёт книгу с «нелицеприятной» характеристикой ректора, не мог бы никто.
А вот как попадал «белый ТАСС» к Есину, мне лично прочесть было очень любопытно: Хессина я не знал, увидел только перед самым уходом (увольнением) из «РТ-программ» (я и об этом писал в «Стёжках»), а к Велтистову сохранил уважение (писал и об этом) как к профессионалу, человеку, не случайному на своём месте.
Ну и хватит. Вернёмся к есинской записи обо мне, «бедняжке», который заметил, что тот давал ему «белый ТАСС» «неохотно». «Зачем я вообще ему что-то давал?» – мучается очень недолгий мой коллега:
«Ну, недаром меня предупредили, когда его взяли на работу, что это самый большой литературный сплетник. Зачем только я ему вообще давал эти бумаги, которые ему не по соплям! Это всё, что он с полным знанием дела мог мне предъявить. Но на то и сплетник, чтобы сплетничать. Дальше – всё по слухам».
Меня коробит, когда Путин произносит на всю страну такие слова, как «жевать сопли». Но он из другого, более младшего, чем мы с Есиным, поколения. Когда же семидесятилетний старик переходит на молодёжный сленг, чтобы грубо и невнятно выразить своё пренебрежение: «ему не по соплям» – то ли не по чину, то ли не по зубам, – это верный признак того, что он себя плохо контролирует, что он раздражён.
Едкое раздражение обычно затемняет память и, как в данном случае, нередко заставляет придумывать самые фантастические несуразицы. До «Кругозора» я никогда не работал в штате литературного издания и вообще с литературным миром был знаком весьма относительно: кого-то знал по литературному объединению «Магистраль» (например, поэта Женю Храмова, который и предложил мне временно два месяца поработать за него: он взял в «Кругозоре» творческий отпуск), кого-то по недолгой нештатной работе в «Семье и школе». Так что заработать к 25 годам репутацию самого большого литературного сплетника я бы не смог при всём желании. Не о чем мне было сплетничать.
И о каких сплетнях он вообще ведёт речь? Сплетничать – это значит разносить о человеке что-либо малопочтенное: ну, к примеру, назвать его многожёнцем, или бисексуалом, или человеком, совершающим бесчестные поступки. То есть предавать гласности неприглядные эпизоды частной жизни человека. Но частная жизнь не близких людей меня вообще никогда не интересовала. Первый роман Серёжи Есина, который прочёл ещё в рукописи, меня увлёк. И я с охотой ждал следующего, но, прочитав, был разочарован: повеяло душевной пустотой. Человек овладел формой, но сказать ему было нечего. Поскольку о прозе я не писал, не написал и о Есине. А в «Стёжках-дорожках» поделился личным впечатлением от единственной нашей встречи через пятнадцать лет после «Кругозора» на днях литературы в Хабаровском крае, где нам пришлось вместе провести несколько дней. Избранный ректором, он передал мне для публикации в «Литературной газете» свою предвыборную программу, где изложил все факты своей биографии. О них я и пишу в «Стёжках». Есину захотелось подчеркнуть в своей программе, что он член КПСС – партии, тогда уже не существовавшей. Я и об этом написал. Почему он это сделал, догадаться было не трудно, – хотел понравиться коллективу, который и я знал изнутри: большинство было антиельцинистами, зюгановцами. Так что своей цели Есин достиг. Он скажет, что действовал искренне? И я с этим соглашусь. В неискренности я его не обвинял.
Понимаю, что утомляю читателя, поэтому прошу прощения за последнюю – больше обо мне ничего нет – цитату из есинской записи в дневнике: «Но и это не всё. Видимо опять по слухам, Гена анализирует мой роман о Ленине. Ну, там-то что его особенно интересует? Ответ правильный: Гену интересует еврейский вопрос».
А вот здесь Есин в какой-то мере близок к истине: его роман я не читал, а просматривал. Поначалу заинтересовало, что же может сейчас писатель после необъятной советской ленинианы или, напротив, – после романов, подобных алдановским, написать о Ленине. Оказалось, что ничего не может. Роман написан без малейшей попытки проникнуть в психологию своего героя. Но Сергей Николаевич ещё ведь и профессор Литературного института. Как же можно писать: «анализирует мой роман»? Где он усмотрел у меня хотя бы крохи анализа? А что до еврейского вопроса, то есть до национальности ленинского дедушки, то он как раз интересует не меня, а его. Он, отдавший еврейскому вопросу значительную часть «Дневника ректора», и в романе нажимает на то, что дед Ленина был немцем, а не крещёным евреем. А мне племенной атавизм чужд. По мне, дедушка Ленина мог быть и «негром преклонных годов» – моё отношение ни к нему, ни к его внуку от этого не изменилось бы. А в данном случае, восстанавливая истину, я опирался на книгу человека, который по своим взглядам близок как раз Есину, а не мне. Читал ли он «При свете дня» Владимира Солоухина? Не сомневаюсь, что читал. А там писатель с недюжинным темпераментом копает и докапывается до еврейских корней Ильича.
«Белый ТАСС» в советское время был весьма познавательным чтением. То, что Есин брал его «втихаря, рискуя попасться», может быть объяснено тем, что «Кругозор» был небольшим изданием: за людьми следить было легче. А в «Литературной газете» половину пятого этажа на Цветном бульваре занимал весьма многолюдный международный отдел. «Втихаря» Лёве Токареву брать эти бумаги не приходилось. Он действовал открыто. Никого не смущало, когда он входил в кабинет, допустим, Вали Островского или Юры Рябцева и возглашал: «Старичок, я у тебя часа на два эту папку возьму». И ему кивали: бери, конечно!
Больше того! Помню, как приехал на недолгую побывку из Ливана Костя Капитонов, наш корреспондент по Ближнему Востоку. Помимо других подарков в редакцию, он привёз огромную, невиданную тогда ещё мною бутыль виски «Jonnie Walker», которая устанавливалась на лафет, подобно пушечному жерлу, но не стреляла, а опускалась, отмеряя каждому желающему порцию. Сейчас такая бутыль литра на три-четыре продаётся в наших винных магазинах. А тогда к Лёве заглянул заместитель редактора международного отдела Витя Цоппи и позвал, так сказать, на банкет: в его кабинете распивали привезённую Костей диковинную бутыль. Я сидел у Лёвы и читал «белый ТАСС». «Брось, – сказал мне Цоппи, немало этому не удивившись, – потом дочитаешь. Пошли лучше – освежимся!»
А ведь международники по идее должны были быть главными доносчиками. Но такими вещами, как стукачество, они не занимались. Конечно, зарекаться не могу: может, кого-то и завербовали в секретные сотрудники (сексоты), чтобы следил за своими. Но большинство обозревателей если и были связаны с КГБ, то с другим его управлением – разведки.
* * *
В году 92-м я прочитал в каком-то журнале (кажется, «Век XX и мы») перепечатанное из рассекреченных архивов соглашение между КГБ СССР и «Литературной газетой» об учреждении корреспондентского пункта нашей газеты в США. От газеты соглашение подписано Чаковским, а от КГБ полковником И. И. Андроновым. Потом-то Андронов свою работу в КГБ отрицал, даже подавал в суд на журналиста Андрея Караулова, написавшего об этом в газете «Совершенно секретно».
Разумеется, когда наш сотрудник Иона Ионович Андронов отправился корреспондентом в США, мы ни о чём подобном не ведали. Знали только, что он – тот самый Андронов, который первым расхвалил «Малую землю» Брежнева в «Новом времени». А потом довольно быстро заподозрили его в причастности к органам. Уж слишком бесшабашно вёл себя в Америке, если верить его очеркам, наш корреспондент, «наш Джеймс Бонд», как его иронически прозвали.
Вот весьма близкая к стилю Ионы Ионовича пародия на его статьи, напечатанная в нашей юмористической, вышедшей к 50-летию газеты «Литературке»:
Скрывают правду
С неимоверным трудом оказался я в кабинете начальника тюрьмы штата Миннесота. Сначала ехал на своём стареньком «форде» в сопровождении эскорта огромных лимузинов, принадлежащих ведомству адмирала Тернера (ЦРУ. – Ред.). Потом с неимоверным трудом пересел в частный самолёт, перерасходовав транспортные расходы нашей уважаемой бухгалтерии. Затем, чтобы замести следы, пришлось прыгать с парашютом.
Я приземлился прямо у ворот страшного здания, мимо которого местные жители стараются просто не ходить. Но мне пришлось войти.
– Сэр, как у вас тут с санитарией и гигиеной? – спросил я начальника, огромного детину, с маленькими свиными глазками и связкой наручников, переброшенной гирляндой вокруг толстой шеи.
Что-то в моём облике не вызвало у него подозрения, и он откровенно ответил:
– О'кэй!
Мы разговорились, и, заподозрив неладное, толстошеий вызвал охранников, которые хорошо отработанными приёмами вынесли меня за ворота тюрьмы, очевидно, они не хотели сказать всю правду.
И. Андронов
Не подумайте, что дважды повторенное «с неимоверным трудом» случайно. Пародия высмеивает бедность стиля, да и, пожалуй, вымысла Андронова, который очень деловито, но без всякого вдохновения рапортует о своих победах. В собственных статьях Андронов «хорошо отработанными приёмами» сам укладывал любого цэрэушника, с которыми постоянно сталкивался. Чуть ли не каждая вторая его корреспонденция неизменно заканчивалась чем-нибудь вроде: «С большим трудом мне удалось запрыгнуть в автомобиль и умчаться. Вослед прогремели автоматные очереди». Но весёлая наша газета пародировала не столько стиль, сколько поведение Андронова, поэтому незаметная для нынешнего читателя фраза: «перерасходовав транспортные расходы нашей уважаемой бухгалтерии» – для всех в газете оказывалась очень заметной. Какое ведомство оплачивает нашему корреспонденту транспортные расходы, догадаться было нетрудно. На статьях Андронова к удовольствию всех остальных международников, которые не любили не соизмеряющего свои фантазии с действительностью коллегу, оттаптывался почти каждый обозреватель номера на редакционных летучках. Начальство за него не заступалось. Наоборот. Однажды ведущий летучку Сырокомский согласился с выступающими, что не помешало бы Андронову выказывать в собственных материалах побольше личной скромности.
Особенно развернулся Андронов со своей фантазией, когда ушёл из газеты в народные депутаты России. Выступая на съездах от близкой коммунистам фракции «Гражданское общество», он постоянно пугал депутатов самыми невероятными слухами. Своими антиамериканскими выпадами он там полюбился настолько, что сформировавший «белодомовское» правительство так называемый президент Руцкой назначил Андронова министром иностранных дел. Представляю, сколько сказок он вдохновенно поведал бы миру на этом посту. Но на нём он не задержался.
Андронов отрицает свою причастность к КГБ, а ненадолго заменявший его в должности нашего корреспондента в США Толя Манаков охотно подтверждает, что дослужился в КГБ до полковника. Рассказал не так давно в одном интервью, что в 1973 году сумел проникнуть к самому Бушу-старшему, беседы с которым хватило на 5 шифрованных телеграмм.
Толя, в отличие от Андронова, держался просто и весело. Охотно выпивал с сослуживцами. К нам он пришёл из «Комсомольской правды», которая тоже посылала его в Америку. Его отец работал в ЦК партии, поэтому карьеру он сделал быстро. Но не заносился над другими.
В начале 90-х к моему брату Алику часто приходили люди самых неожиданных профессий. Приходили, как я уже здесь писал, советоваться по поводу каких-нибудь ювелирных изделий, приносили образцы: стоит ли купить, или не хочет ли их приобрести Алик, или не объединиться ли ему с тем, кто принёс, для реализации. Народ приходил разный, многих я забыл. Но одного запомнил: Алик сказал, знакомя нас, что он – мой коллега, работал в АПН (в Агентстве печати «Новости»).
– В какой редакции вы там работали? – спросил я.
– Ближнего Востока, – ответил он.
– Стало быть, Игоря Беляева вы знали?
– Ещё бы, – оживился. – Кто же не знал Беляева из «Литературки»? У него в Ливане жена умерла.
– Да, – сказал я, – потом он снова женился, осел в Москве и через некоторое время его у нас перевели в политические обозреватели. А корреспондентом по Ближнему Востоку вместо него стал Костя Капитонов. Говорили, что Беляев Костю туда и устроил. Вы Костю знали?
– Знал, конечно. Но Капитонов не из КГБ, он из ГРУ.
ГРУ – это Главное разведывательное управление армии, а не госбезопасности. В оправдание такого неожиданного сообщения скажу, что оно прозвучало после немалого количества выпитого: Алик, как всегда, был очень гостеприимен.
Но этот разговор мне припомнился, когда несколько лет назад в Израиле разразился скандал: власти высылали из страны разоблачённого ими разведчика Константина Капитонова, который, находясь в Израиле (он жил там и трудился на какой-то совместной российско-израильской фирме), присылал оттуда свои корреспонденции газете «Труд» и сетевому «YTPO.RU». Израильская пресса сообщала, что Капитонова уже однажды высылали как разоблачённого разведчика – из Египта, где он работал корреспондентом «Труда». Было это ещё до прихода к нам в газету.
Всё, конечно, возможно. Однако о Косте у меня сохранились тёплые воспоминания. Артистичный (он прекрасно играл на гитаре), весёлый выпивоха, человек широкой души, автор, кстати, очень дельных биографий политических ближневосточных деятелей. Смущала, конечно, его близость к Игорю Беляеву, человеку страшному, скандальному, недоброму, рьяному советскому общественному деятелю. Но близость эта объяснялась покровительством: Беляев был в большом фаворе у властей и мог многое. А Костя брезгливостью не отличался. Он был убеждённым гедонистом. Но вредным, намеренно вредящим человеком, как тот же Беляев, как некоторые его коллеги, он не был.
Поэтому и он мог дать тебе «белый ТАСС». И его не слишком интересовало, что ты там вычитываешь. Сам он смотрел в нём переводы ближневосточных газет и, сличая перевод с оригиналом, усмехался: «Вот бракоделы! Вот так они и формируют мнение руководства!»
Словом, всем этим разведчикам, всем этим международным шпионам не было до тебя никакого дела. Твоя жизнь кого-нибудь из них интересовала только в случае твоей с ним близости: выпивали, помогали (или ты ему помогал) делом ли, советом…
Совсем другой коленкор – сексоты, которых в пушкинское время называли «шпионами».
«Шпионы, – писал Пушкин, – подобны букве ъ. Они нужны в некоторых только случаях, но и тут можно без них обойтиться, а они привыкли всюду соваться». Мы-то помним, конечно, что такое был ер (ъ) при Пушкине. Он замыкал каждое слово, кончавшееся твёрдой согласной. «Обойтиться» без него оказалось действительно можно. А вот без «шпионов» – сексотов «обойтиться» не удалось и самому Пушкину. Красавица Каролина Собаньская была причастна к тайному сыску и, кокетничая с поклонником-поэтом в Одессе (1823–1824 гг.), информировала о его поведении компетентные, как мы сейчас говорим, органы. Пушкин об этом так и не узнал, иначе, снова встретив её в начале 1830-го, не посвятил бы ей стихотворение «Что в имени тебе моём?». Да что Собаньская! Даже Сергей Львович Пушкин согласился «стучать» на сына, когда того выслали в Псковскую губернию! Так и было сказано в рапорте псковского губернатора Б. А. Адеркаса прибалтийскому генерал-губернатору Ф. О. Паулуччи, что С. Л. Пушкину по соглашению с ним поручено «полное смотрение» за сыном. А «полное смотрение» с тогдашнего языка на сегодняшний и переводится как сексотство: для дела отцу предложили распечатывать переписку сына и сообщать куда надо и кому надо обо всех неблаговидных пушкинских поступках. Успел ли отец донести о преподавании Пушкиным «безбожия» младшему брату, в чём, крупно поссорившись с сыном, обвинял опального поэта Сергей Львович?
Ну да, известно, что любимым ребёнком в семье был у отца не сын Александр, а дочь Ольга. Но это ведь не довод, чтобы стать, так сказать, «Павликом Морозовым наоборот»! К тому же Павлику Морозову выпало жить в заражённом сталинской паранойей обществе: везде чудились вредители, враги, все друг друга подозревали. А Сергей Львович жил в другом, намного более нормальном, то есть нравственно здоровом времени. Детям подозрительность, подобную сталинской, привить легче: объяви предательство героикой и – дело в шляпе! Статский советник С. Л. Пушкин хорошо понимал, что брался за дело, никак не благородное. И всё же брался…
Некоторые историки утверждают, правда, что для Александра Сергеевича Пушкина это было лучшим вариантом: не взялся бы за «полное смотрение» за ним отец, заставили бы кого-либо другого, незнакомого. Но сам же Пушкин с этим не согласен. Его ошеломило отцовское поведение, которое он без обиняков назвал «шпионажем».
Александр Кушнер рассказывал мне, как разорвал отношения с человеком, с которым дружил, – с критиком Владимиром Соловьёвым, который по секрету поделился с ним, что является сотрудником органов.
– Но это же мерзость! – сказал Саша Соловьёву, и, когда он это мне пересказывал, его лицо передёрнула гримаса отвращения.
Соловьёв доказывал Кушнеру, что никому плохого не сделал, что, взяв на себя обязательства информировать власти, он их водит за нос.
– Мерзость! – Саша остался при своём, превратив поклонника и друга в ненавистника. Оказавшись на Западе, Соловьёв отдал волю ненависти, ругая стихи Кушнера и его автора. Любопытно, что он сцепился с другим русским эмигрантом (не помню фамилии), тоже к тому времени разоблачённым сексотом, раскрывшим кухню этой своей работы. Соловьёв обвинял его в неправдоподобии деталей, в измышлениях, не соответствующих реальности. На что получил от оппонента печатные обвинения в лживости и в мании величия, выразившейся в том, как он, Соловьёв, оценивает собственную роль в игре с советскими органами.
Конечно, Кушнер прав: в любом случае такая игра с ними мерзостна. Что ты получаешь от них, понятно: кого-то соблазняют удачной карьерой, кого-то – заграничными командировками, Соловьёва, в частности, – туристическими поездками в «настоящую» заграницу. В страны так называемой «народной демократии» советскому человеку можно было ездить каждый год, но в другие – не чаще, чем раз в три года. Соловьёв ездил чаще.
Понятно, и что ты отдаёшь им. Свою душу, которую они не могут не изгадить в силу специфики своего существования. А оно у них лишено всякой духовности. Оглянитесь окрест себя: не душно ли вам жить в стране, вымечтанной чекистом Андроповым, – в стране, где вся власть в руках у тех, кого сейчас называют силовиками? А отчего так душно? Не оттого ли, что нынче
Всяк суетится, лжёт за двух. И всюду меркантильный дух?Ну, пусть «всяк» – это гипербола. Но те, кто не суетятся и не лгут, незаметны: погоды в стране они не делают. А суетливые и лживые на виду!
Так было всегда? Не всегда. И в пушкинских этих строчках – описание не всей России, а только нижегородской макарьевской ярмарки, один вид которой наводит тоску на Онегина.
Помните, как объяснил Валентин Катаев название своей книги «Алмазный мой венец»? Он позаимствовал строчку из чернового варианта «Бориса Годунова», где Марина Мнишек, отвечая своей служанке, говорит, что на свидание с самозванцем наденет «алмазный мой венец». Катаев ещё повздыхал, жалея, что Пушкин выбросил эту замечательную, по его мнению, сцену с прекрасными стихами.
Стихи действительно прекрасные, но вздыхать о тех, что Пушкин выбросил, не в моих правилах. Раз выбросил, значит они оказались не нужны его произведению.
Поэтому и не залезаю я в черновики Пушкина, предпочитаю обходиться оставленным им текстом, в него углубиться, его понять.
А сейчас взяло меня любопытство и решил я вслед за Катаевым посмотреть черновик того места пушкинского романа, где Онегин оказывается на макарьевской ярмарке. Взял том – и мне открылось: «Скупая Ярманка хлопочет».
Как и Катаев, назвавший черновой пушкинской строчкой свою книгу, я бы тоже черновой пушкинской строчкой выразил то, что сейчас происходит в стране и со страной:
Скупая Ярманка хлопочет.А что? По-моему, именно это и происходит! Скупой оказалась Ярмарка (перейдём на современную огласовку), если иметь в виду рынок, рыночные преобразования, рыночные реформы. В своё время уходившие на дно в разваливавшейся стране правительство, партия, комсомол, профсоюзы, всякие там женские, ветеранские, спортивные или детские организации, комитеты типа защиты мира разработали множество хитрых схем, позволивших номенклатуре не только удержаться на плаву, но выйти на берег хозяевами той собственности, которая вчера ещё принадлежала государству, а сегодня была продана им на самых льготных, самых щадящих условиях. Мало что понимающие в изменившихся условиях люди привычно доверили распоряжаться своей приватизированной собственностью разного рода руководителям. И они, большей частью, хорошо этим распорядились – для своего кармана. Я рассказывал в «Стёжках-дорожках», что ушёл из «Литературной газеты» при Удальцове, против избрания которого главным редактором я активно выступал. Писал и о том, что немало незнакомых людей стало обивать порог его кабинета, что многие из них вытесняли нас из комнат по приказу зама Удальцова по хозяйственной части Бонч-Бруевича, – кабинеты сдавались в аренду. Деньгами, полученными за аренду, Удальцов и Бонч-Бруевич с коллективом не делились. Зато платили так называемые «рекламные» премии из средств за опубликованную в газете рекламу. Причём размер этих премий полностью зависел от Удальцова и Бонча. Сотрудники рады были и этой небольшой прибавке: оклады из-за галопирующей инфляции обесценивались. О том, что Удальцов газету продал, я узнал, уже не работая в ней. Поэтому передаю слово своему доброму приятелю Александру Борину, моему многолетнему коллеге по «Литературке», выпустившему недавно книгу, которую рекомендую любителям мемуаристики, – «Проскочившее поколение». Из неё и цитирую:
«Удальцов для вывода «Литгазеты» из финансового кризиса оказался совершенно не пригоден.
Начались судорожные попытки спасти газету. Часто мелкие, лихорадочные. Прибегли, например, к помощи известных художников, подаривших редакции некоторые свои картины. Коллекцию потом купил для городского музея нижегородский губернатор Борис Немцов. Но деньги, вырученные за картины, очень быстро кончились, что дальше? Хватались за что угодно, брали любые подачки, затевали различные аукционы – газета пригласила читателей выставлять на них ценные книги, фарфор, редкие документы. Но всё это приносило лишь жалкие гроши».
В «Стёжках-дорожках» я писал, что приёмный сын ленинского соратника Бонч-Бруевич был дружен с весьма влиятельными людьми. Газету, как видим, это не спасло. Продолжаю цитировать Алика Борина:
«Намерение купить газету вроде бы высказал Владимир Гусинский. Но не договорились, Удальцова что-то не устроило. Зато спелись с людьми совершенно случайными. Сотрудникам редакции объявили, что газету покупает банк Менатеп: будут деньги, встанем на ноги. Помню бурное собрание редакционного коллектива, на котором Удальцов изо всех сил продавливал нужное ему решение. Выступавшие говорили, что всё это очень подозрительно, редакции нельзя терять статус юридического лица, обещанные златые горы весьма сомнительны. Так и оказалось: полный блеф».
И блеф, замечу от себя, был, можно сказать, запрограммирован Удальцовым, но скрыт им от коллектива:
«Газету практически приобрёл не банк, а некто Костин, прикрывающийся именем этого банка. Определённую роль, видимо, сыграло то обстоятельство, что в банке работала тогда его жена, Ольга Костина. Денег у нового хозяина то ли не было, то ли он их не стал вкладывать в газету, во всяком случае она продолжала выходить по инерции, без зарплаты сотрудникам, без гонорара её авторам. Через некоторое время Ольга Костина со скандалом ушла из банка, перешла в московскую мэрию, и муж её за хорошую сумму перепродал газету известной московской коммерческой организации «Система»».
А возглавляет эту коммерческую организацию Владимир Петрович Евтушенков. И потому не случайно, наверное, что жену продавца приняли на работу именно в мэрию, – тамошняя её служба способна прояснить смысл приобретённой Евтушенковым собственности. Ведь Владимир Петрович связан с мэрией самым непосредственным образом.
Во-первых, он ещё в 1987 году пришёл работать в Мосгорисполком (прежнее название мэрии) и работал там до самого падения советской власти. Во-вторых, он и потом занимал должность помощника мэра. В-третьих, он женат на сестре Елены Николаевны Батуриной, жены мэра, вместе с которой входит в список 33-х миллиардеров России 2006 года. Всё? Ну ещё, может быть, стоит сказать о том, что Владимир Петрович в 1980-м был удостоен премии ленинского комсомола, входил в комитет комсомола МГУ, который существовал на правах московского райкома. А другой комитет комсомола – Союза писателей, существовавший на тех же правах, возглавлял нынешний избранник Владимира Петровича, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, который не просто порадовался в конце 2003 года за себя и своего хозяина, что дожили, дескать, до официального – на высшем уровне – празднования в Кремлёвском дворце 85-летия ВЛКСМ. В той же статье он подсказывает властям, каков должен быть их «следующий шаг»: «объективная в целом (при многих оговорках) положительная оценка роли КПСС в отечественной истории». Был бы Владимир Петрович с этим не согласен, Поляков давно бы уже в «Литгазете» не работал. Но похоже, что тот озвучил не только своё, заветное, но и тайные мысли собственника издания. Похоже, что и Ольгу Костину для того и взяли на работу в мэрию, чтобы помочь её мужу сделать правильный выбор в отношении собственника свалившейся на него газеты.
«Пройдёт время, – пишет в той же книге Алик Борин, – и Ольга Костина предстанет потерпевшей по очень сомнительному уголовному делу: якобы один из работников ЮКОСа Пичугин по наущению своего начальника Невзлина устроил взрыв возле её квартиры. Дело это будет шито белыми нитками, доказательства станут разваливаться одно за другим, однако Пичугин получит 20 лет строгого режима, а Ольга Костина замелькает на экране телевизора и на страницах газет, взахлёб станет рассказывать, как покушались на её жизнь злыдни из ЮКОСа».
А ведь Александр Борин, помимо того, что обладает хорошим литературным слогом, является ещё и прекрасным юристом. Причём неподкупно принципиальным. Именно он первым выступил в газете со статьёй, где доказывал, что популярные тогда у общественности работники прокуратуры Т. Гдлян и Н. Иванов не добывают, а выбивают показания из подследственных по так называемому «узбекскому делу». Так что «шито белыми нитками» о деле Пичугина сказано профессионалом.
Что стало с Удальцовым – известно. Он недавно выпустил в издательстве «Литературной газеты» книгу о секретах журналистики. «Удальцова пристроили на какую-то безбедную должность…» – пишет Борин. В удальцовской книге указано, на какую: он профессорствует в университете при «Литературной газете». Так что нет у него оснований быть недовольным полученными отступными.
Ну а «Литературная газета» при Полякове безвозвратно погибла. Та, в которой мы работали, занимала свою совершенно определённую нишу, отличалась от других советских изданий, как говорил поэт прошлого, «лица необщим выраженьем». Теперешняя, что и показывает Борин, вообще потеряла лицо: мельтешит, суетится, мечется из стороны в сторону.
Однажды поляковская газета злорадно написала о 5000 экземплярах «Знамени» – тиража литературного журнала-толстяка: «Это уже диагноз». Но такой диагноз к «Знамени» относится в последнюю очередь. Это диагноз общественной болезни, симптомы которой обрисовывают и падение интереса к литературе в обществе, и незаинтересованность властей в серьёзной литературе вообще, и цены, какие вынуждены установить за свой экземпляр «толстяки», не имеющие в хозяевах миллиардеров. А вот характеристика, которую даёт Борин нынешней «Литературке», кажется мне безошибочным диагнозом индивидуальной, охватившей её болезни: «Случилось самое страшное, что может случиться с газетой: она стала неинтересной». И не убеждает меня в обратном объявленный Поляковым тираж: 81 тысяча 600 экземпляров. При евтушенковских миллиардах можно позволить себе бесплатную раздачу газеты пассажирам рейсов компании «Трансаэро» или многодневное лежание экземпляров в киосках печати: авось, кто-нибудь и купит! Я работал в «Литературе», знаю разницу между подписным и объявленным тиражами. У нас был только подписной: в киоски газеты издательского дома «Первое сентября» не попадали. Наш хозяин являлся представителем среднего класса бизнесменов, из тех, кто мог себе позволить одноразовую рекламную акцию (допустим, бесплатно к такому-то событию отправить во все московские школы по экземпляру своих изданий), а многоразовую – не мог!
* * *
Но вернёмся к хлопочущей скупой ярмарке, как определили мы нынешнюю нашу страну, нынешнее состояние дел в ней. Много ещё можно говорить о цене, которую заплатила Россия за избавление от лютого товарного голода. О так называемых приватизационных фондах, забравших у клиентов ваучеры. Большинство этих фондов потом безвозвратно исчезло. Наша семья связалась с «Альфа-Капиталом».
Поначалу, пару лет, в конце года приходили переводы от них на какие-то смехотворные суммы, а потом перестали выплачивать и такие дивиденды. Я-то думал, что «Альфа-Капитал» канул в нети, как многие другие. Но нет. Недавно где-то прочёл интервью с председателем совета директоров: они, оказывается, процветают, преобразовавшись ещё десять лет назад из чекового фонда в паевой. Но почему-то мелких держателей своих акций об этом своём переустройстве не известили.
Можно вспомнить и о том, какими огромными кусками скупали собственность криминальные структуры, о всамделишной войне между ними за обладание того или иного лакомого предприятия. Эта война, кажется, не утихает и до сих пор: вот только что убит первый замдиректора Центрального банка России Андрей Козлов. От него, говорят, зависело дать частному банку лицензию или отозвать её…
Однако ярмарку, соотнесённую с Россией, не обязательно понимать только в смысле рынка, рыночного хозяйства. Она вполне обрисовывается и в смысле разного рода служебных вакансий. Сегодня они ещё заняты, но если подсуетиться (похлопотать), если грамотно выстроить свои отношения с властями, с начальством, с хозяином, – принять их условия, выказать готовность с восторгом лечь под сексотов, то… Образование в данном случае значения не имеет: министром здравоохранения не обязательно должен быть врач, замами министра культуры могут быть и строитель, и кибернетик, и политэконом, и даже офицер-ракетчик. А уж не министром, а, допустим, депутатом – и никакого образования не надо. Как в Советском Союзе: ты – знатный дояр, вот тебе депутатский значок! Даже лучше: Дума ведь работает на постоянной основе, дойкой коров заниматься больше не станешь! Сиди себе, нажимай на кнопки, правильно нажимай! И всё тебе будет: и хорошее содержание, и хорошее обслуживание, и орден по случаю сотой годовщины открытия Первой Государственной Думы в России (абсолютно не важно, что та к этой не имела никакого отношения!).
Разумеется, никто взаправдашнего дояра сейчас и на порог Думы не пустит. Не по чину, не по зубам, да и не по деньгам ему! Был ещё недавно в Думе некто Василий Шандыбин. Входил во фракцию КПРФ и объявлял себя доктором рабочих наук. Продолжал считать себя рабочим, оторвавшись от станка на целых два (или всё-таки три? – не помню) думских срока. Не попал в Думу последнего состава. И где же он? Неужто вернулся на завод? Не знаю, и очень бы удивился, если б узнал, что вернулся. Недавно прочитал, что Шандыбин ведёт переговоры с Мироновым, который, как известно, реализует новый кремлёвский проект: создаёт противовес «Единой России» – некий конгломерат из своей партии Жизни, «Родины» и партии пенсионеров. «Форсисто», как говорил в этих случаях герой Зощенко, задумано: и у нас теперь, как в других странах, будет двухпартийная система. Отныне «Единой России» не так будет легко, как прежде: придётся потесниться, а то и – чем не шутит лукавый! – сильно ужаться. Может возникнуть в Думе и другая крупная фракция, во всём противоположная «Единой России», кроме одного: как заверил Миронов, оппозиционными президенту и его администрации они не будут. Почуял, стало быть, Шандыбин, на какую лошадь ставить, чтобы снова очутиться в Думе. Не сидится (или не стоится?) доктору рабочих наук на заводе.
А «Единая Россия» приросла вчера (27 сентября 2006 года) двумя новыми членами. Музыкантом Николаем Расторгуевым, лидером «Любэ», и бывшим замом генерального прокурора Владимиром Колесниковым. Я читал, что это Алла Пугачёва придумала одеть Расторгуева в военную форму, хотя сам он никогда в армии не служил. Надо признать, что Пугачёвой удалось довершить оформление имиджа музыканта, специализирующегося на так называемой военно-патриотической тематике. Особенно нравится Расторгуев нынешнему руководству. И понятно: в популярнейшем «Комбате» он поёт не о современной армии, но о некой всегда победоносной и невероятно духоносной. Эта песня нечто вроде усиленно пропагандируемого фильма Фёдора Бондарчука «9 рота», внушающего, что вторжение в Афганистан вовсе не наглая интервенция, показавшая к тому же очень низкую боеспособность советской армии, а героический поход солдат, для которых характерна не дедовщина, а фронтовое братство. А как не заиграть желваками и не напрячь мускулы, слушая песню с такой хорошей патриотической угрозой: «Не валяй дурака, Америка»! Как не отметить, что группа «Любэ» не прислушалась к тем, кто издевался над новой михалковской редакцией гимна, отдающей графоманией: «Одна ты на свете! Одна ты такая…», а наоборот, исполнила его с подобающим достоинством и включила новый гимн в состав своего альбома! Удивительно ли, что «Любэ» стала первой группой, концерт которой посетил сам Путин? Что президент сделал Расторгуева своим советником по культуре, что он дал ему звание Народного артиста России? Что министр обороны и председатель ФСБ ему всячески покровительствуют? И что пропрезидентская партия позвала его в свои ряды? Расторгуев, сообщил «Московский комсомолец» 28 сентября 2006 года, «пообещал творчески поддерживать «Единую Россию» и обязательно принять участие в следующей избирательной кампании в парламент». Обязательно примет и наверняка пройдёт в депутаты. Может, на место Кобзона, а может, вместе с ним.
А что до Колесникова, то его понять можно. Был замом министра внутренних дел, замом генерального прокурора. Разговаривал с людьми свысока, барски, насмешливо. Я помню, как ещё в начале 90-х, когда не омертвевшее, как сегодня, телевидение вело прямые живые передачи, в одной из них беседовал с прессой Колесников, генерал-милиционер. Как он умел уходить от ответов на вопросы, насмешничать, представлять чёрное белым и наоборот! Впрочем, многим, наверное, он таким и запомнился, когда в должности замгенпрокурора говорил с несчастными матерями Беслана. Правда, в разговоре с ними он показал ещё и абсолютную бессердечность: никакого сочувствия к потерявшим близких. Ну и кем он сейчас? Помощником министра юстиции. Маловато, конечно. Потому и поспешил в «Единую Россию»: вдруг да внесут в партийный список – станет депутатом!
Хлопочет, хлопочет ярмарка! Густой меркантильный дух витает над ней, обволакивает её, как пар в бане.
«В чём беда консервативного прогноза, по которому верстается госказна?» – спрашивает у члена Бюджетного комитета Госдумы Оксаны Дмитриевой корреспондент «Московского комсомольца» (22 сентября 2006 года).
«Бюджет у нас считается с огромной погрешностью, ошибкой. Например, в 2005 году она составила 54 %. То есть в итоге доходы превысили запланированный уровень в 1,5 раза. А это около 2 трлн рублей…
– И куда же деваются эти деньги?
– Перевыполнение относится на профицит – превышение доходов бюджета над его расходами. В 2005 году он достиг рекордного уровня и составил 11 % от ВВП…
– Разве это плохо?
– Фактически такая ситуация означает одно: часть созданного ВВП никак не используется внутри страны». И, как объясняет О. Дмитриева, вместо развития экономики (при больших деньгах) получается искусственный тормоз. Эти деньги ни во что не вкладываются. Они не работают. Легко сосчитать, что если, скажем, в 2005 году профицит составлял 11 %, а валовый внутренний продукт вырос на то мы не разбогатели, но обеднели: «на приросли, а почти 11 % изъяли из бюджета. Следовательно, получился спад на 4,6 % ВВП».
«Вообще большой профицит аналогичен оттоку капитала из страны, организованному самим государством, – заключает О. Дмитриева. – Такая экономическая политика – это худшее, что можно придумать».
Стало быть, никакого удвоения ВВП, как требовал президент, не происходит. Экономика буксует, ВВП снижается, не растёт, а порой остаётся на нуле!
Но если ВВП не растёт, то откуда же брать деньги на улучшение благосостояние народа? Потому оно и не улучшается.
Власти делают вид, что очень этим озабочены. Ввели в правительство ещё одного вице-премьера, которому поручили курировать так называемые нацпроекты. Президент их лично сформулировал: «Образование», «Здоровье», «Сельское хозяйство: развитие аграрно-промышленных комплексов», «Доступное и комфортное жильё».
Подчинённые взяли под козырёк: «Здоровье»? – пожалуйста! Повышаем зарплаты участковым врачам и медсёстрам.
«В результате, – возмущается известный врач Леонид Рошаль («Московский комсомолец» 27 сентября 2006 года), – внутри отрасли произошёл настоящий скандал, грозящий сегодня социальным взрывом. Хотя этого можно было бы избежать, добавив, скажем, не по десять тысяч участковым, а по пять тысяч, но всем. Для медработников это совсем не маленькие деньги».
Эх, Леонид Михайлович! Неужто не ясно, что всё авторами этого нацпроекта просчитано? Добавить всем по пять – значит потратить намного больше, чем на прибавку по десять одним только участковым!
Ведь и в проекте «Образование» сколько-то там тысяч (немного, разумеется) учителей будут получать по 100 000 рублей! Директоров школ и завучей просили не беспокоиться – они в число счастливчиков не попадают. А чтоб получил учитель в двадцать, а в провинции и в тридцать раз больше своего коллеги, он должен пройти через фильтр: школьный педсовет, районные, областные отделы образования. Очень чистые руки должны быть у всех вышестоящих, чтобы деньги дошли до адресата в сохранности! Но, как в том анекдоте, «зъисть-то он зъист, да хто ж йому даст!» Не говорю уже о самой атмосфере, которой будет окружён счастливчик в своём коллективе. Она станет болезненной, нервозной: исчезнет необходимая корпоративная общность – одна из составляющих сложного педагогического процесса.
Вернув Пушкина из ссылки, царь, чтобы лучше уяснить себе общественно-политические взгляды поэта, попросил его изложить их письменно. И получил спустя короткое время пушкинскую записку «О народном воспитании».
Однако, прочитав её, не согласился с Пушкиным в главном: в том, что формировать граждан, совершенствовать гражданское сознание под силу только просвещению и гению. «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному», – передаёт Пушкину мнение царя в письме от 23 декабря 1826 года новоназначенный шеф жандармов А. Х. Бенкендорф. Вот в чем сердцевина наметившихся с самого начала разногласий царя, верховного чиновника на троне, с поэтом, убеждённым в необходимости поиска средств, которые смогли бы обуздать чиновничий произвол.
Нравственность сейчас никого не волнует. А вот «прилежное служение, усердие» – в цене. И очень немалой!
Нынешние власти развели в стороны профессионализм и прилежное служение, профессионализм и усердие. Под прилежным служением и усердием понимается готовность не рассуждать, а исполнять. Это и оплачивается.
А иначе мог бы оказаться в числе национальных проектов такой как «Доступное и комфортное жильё»? Разве только – на дальнюю перспективу. Жильё, не являющееся неразрешимой проблемой для западного обывателя, всегда, сколько себя помню, было труднодостижимой для нашего. Один только Хрущёв (я писал об этом) смог хоть как-то её решить, выселяя людей из подвалов и коммуналок в малогабаритные квартиры. И то всех выселить не успел (да и успел бы, если б не сняли? – сомневаюсь!), а остальные в основном кормили людей обещаниями. Последним это сделал Горбачёв, пообещав каждой семье отдельную квартиру к 2000 году. Конечно, он может ответить на это, что в конце 91-го страна развалилась, но не убеждён, что, просуществуй она ещё девять лет, его обещание было бы выполнено: вспомните, в каком состоянии находилась экономика СССР в самом его конце. И откуда бы взялись возможности для её неслыханного подъёма?
Но сейчас говорить о доступном и комфортном жилье, по-моему, просто бессовестно. Кому может быть доступно комфортное? Я писал уже кому – тем, у кого есть баснословные деньги.
Вот совсем недавно приняли в Москве закон. Называется он превосходно: «Об обеспечении прав граждан при переселении из жилых домов». А на деле он обеспечивает права чиновников свободно выселять в любой московский район жителей центра, чьи дома по суду признаны аварийными. «Этот юридический нюанс, – пишут «Новые Известия» 26 сентября 2006 года, – стал постоянным источником опасений для жителей Центрального административного округа (ЦАО). Недвижимость в округе, цена которой запредельна, – лакомый кусок для различных коммерческих предприятий. Ради того, чтобы открыть свой офис в престижном районе, они готовы на всё, в том числе и на подделку экспертного заключения об аварийности домов и полунасильственное выселение жильцов в многоэтажки на окраине».
Помните, я рассказывал о профессоре МГУ, которого выселяли из дома на Пречистенке. В той же статье «Новых Известий» говорится о Денисе Литошике, создавшем общественную организацию для борьбы жителей центра за свои права. Она названа довольно выразительно: «Оставьте нас в покое!»
«Меня пытались выселить из дома в Хилковом переулке, – говорит Денис. – Просто пришли люди и сказали: «выметайся отсюда», потому что я не согласился на половину рыночной стоимости квартиры, предложенной мне за освобождение помещения».
Его дом действительно далеко не нов. Но спасло жителей заключение чиновничьей экспертизы: мол, не о чем рассуждать – износ здания составляет 62 %. Настолько это жадное племя было уверено в себе, что не удосужилось придать своему заключению правдоподобия. Написали, «что прогнили деревянные перекрытия, в то время как они железобетонные. Это насторожило обитателей дома. Они заказали независимую экспертизу, которая показала – дом изношен на 27 %».
«Логика столичных чиновников ясна, – констатирует газета. – Как только износ дома составит 65 %, здание по ГОСТу автоматически переходит в разряд «аварийного». После расселения дома инвестором берутся деньги на капитальный ремонт, но вместо него делается косметический. Разница, естественно, прикарманивается. Далее с дома снимают гриф «аварийный» и спокойно продают квартиры по ценам на порядок выше, чем жильё стоило раньше».
Вот такой мошеннический и подлый в отношении жильцов способ присвоения денег. «Выселение людей из центра – невероятно выгодное дело, – сообщил газете экономист Михаил Делягин. – Это уникальная возможность для инвестора получить практически даром неаварийный дом. Сейчас в Москве идёт так называемая «волна огораживаний». Этот термин означает, что богачи насильно выселяют бедняков с лакомых кусочков земли с целью получения прибыли. На данный момент стоимость жилья в центре колеблется от 8 до 15 тыс. долларов за кв. метр плюс деньги якобы за «реставрацию», которые присваивают инвесторы».
Так о каком комфортном и доступном жилье может вести речь президент, если совсем недалеко от его резиденции его же госслужащие, непомерно обогащаясь, превращают для его сограждан жильё в абсолютно недоступное!
Мосгордума попыталась исправить закон принятием поправки, разрешающей жильцам проводить независимую экспертизу. Поправка не прошла. Да и если бы прошла, многие ли могут за свой счёт заказать независимую? Её цена колеблется в пределах 4–5 тысяч долларов!
Включил телевизор. Новостная лента. Дмитрий Медведев, вице-премьер, отвечающий за нацпроекты, распекает губернаторов, которые не спешат с газификацией села. «В России самые большие запасы газа в мире, – возмущается Медведев, – а до сих пор газифицирована лишь часть её территории».
Да уж! Что есть, то есть! И далеко от Москвы ездить не надо, чтобы в этом убедиться. Километров 30–40 по любому шоссе – и сворачивайте в любую деревню. Если и готовят там на газовых плитах, то подключённых к баллонам.
«Мы же на это деньги из бюджета выделили, – продолжает возмущаться Медведев. – В чём дело?»
Да в том, наверное, что, пока эти деньги шли до адресата, сумма изрядно похудела. Неплохо бы, конечно, проследить всю цепочку, да кто этим будет заниматься?
«В будущем году, – грозит Медведев, – те регионы, которые не справляются со своей задачей, получат из бюджета меньше других!»
Эк, напугал! Меньше так меньше: всякое даяние – благо. С любой суммы можно хоть что-то да отщипнуть!
«Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещённую сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег». Что напоминает вам эта цитата из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? Мне она представляется аналогом уже не раз повторенной здесь строчки: «Скупая Ярманка хлопочет»!
Не подумайте, что я пишу об этом для того, чтобы произнести уныло пошлейшее: «Деньги правят миром!» Миром они не правят – много чести! Но в соблазн, разумеется, ввести могут: одного стать сексотом на жаловании, другого – добровольным осведомителем, третьего – уронить собственное достоинство, четвёртого – испоганить свой дар, подчас недюжинный.
* * *
Я редко очаровываюсь людьми. Но в Серёжу Волкова поначалу попросту влюбился: умница, ясно мыслит, хорошо пишет, прекрасно говорит, а главное – невероятно быстро обучаем. Схватывает на лету все премудрости не известной ему дотоль журналистской профессии. Ему не было и тридцати, когда я пригласил его стать в «Литературе» консультантом, но он к тому времени был уже известным учителем знаменитой в Москве 57-й школы, входил в Орфографическую комиссию РАН. И авторов привёл в газету, очень мне понравившихся – Сергея Алпатова, Юлия Халфина, Римму Храмцову, Марину Павлову. Надежду Ароновну Шапиро, коллегу Волкова по 57-й школе, я не называю только потому, что она работала на такой же, как Серёжа у меня, ставке в газете «Русский язык», но и её статьи у нас освящены авторитетом Волкова: он как бы проторил для них дорогу.
Была у него, правда, некая удивляющая меня черта: он словно не понимал, что на нескольких его знакомых, даже очень хороших авторах, газета держаться не может, что нужно обрастать авторским активом. «Где я возьму других авторов?» – удивлённо спрашивал он. А где их брал я? Читал почту, и если попадалось что-то стоящее, не просто печатал человека, но писал ему ободряющие письма, заказывал новые материалы. Увы, в Серёже была сильна прагматическая жилка: дескать, те деньги, которые мне платит газета, я отрабатываю. Я столкнулся с подобным поведением людей, когда в раннее ельцинское время заведовал отделом в «Литературной газете». Деньги быстро обесценивались. И молодые сотрудники отвечали на мои упрёки: «Какова зарплата, такова и работа!» Приходилось объяснять им, что работа в газете – дело добровольное. Но уж если ты соглашаешься в ней работать, то должен понимать, что газета – организм непредсказуемый: что-то может срочно понадобиться, появилась какая-то опережающая других новость, которую нужно непременно поставить на полосу, – твоё присутствие может быть просто необходимо. А где тебя искать? В «Литературной газете» убедить сотрудников быть поактивней оказывалось проще: всё-таки они были профессиональными журналистами, знающими, что их работа не предполагает нормированного дня. А учитель школы, работавший в «Литературе» и получавший в ней немного – 3–4 тысячи рублей, искренно недоумевал: он ведь приходит на несколько часов раз или два в неделю, чего же ещё нужно редакции? Школьных материалов в редакционном портфеле вечно поэтому не хватало.
И всё же, повторяю, мне нравился дар Серёжи, я многое прощал ему за него.
Этого молодого сотрудника очень невзлюбили моя заместительница Маша Сетюкова и её подпевала – человек, оказавшийся такой нравственной низости, какая заставляет меня не только не называть его по фамилии, но обозначить абстрактным Икс.
Он и был абстракцией в нашей редакции: считался художником, но иллюстрации к материалам подбирал не он, он лишь ставил их на полосу, что могла сделать и без его помощи обычная верстальщица (так потом и было). У него не было образования, одно время он самоучкой расписывал витрины магазинов в Москве, потом немного поработал на Цветном бульваре, на том этаже здания, где прежде находился наш отдел русской литературы «Литературной газеты», – там в начале 90-х разместилось несколько быстро закрывшихся изданий, среди которых «Русский курьер» Александра Глезера, – кажется, в нём Икс недолго поработал художником. А потом его знакомый, обосновавшийся у Соловейчика в «Первом сентября», перетащил его туда.
Так попал он ко мне и на первых порах помогал художественному редактору «Литературы» Оксане Анфиногеновой, пока была необходимость в должности художественного редактора. Но с появлением и внедрением компьютеров и она оказалась ненужной.
Икс писал картины маслом: иной раз ему удавались лирические пейзажи, но никогда – портреты. Не хватало ему умения передать сходство, в портретах не было жизни. Писал он много, часто из-за этого опаздывал на работу, с простодушной важностью объясняя: «Был на пленере». Писал с охотой портреты Маши Сетюковой. Ей они очень нравились, и однажды она поместила репродукцию своего портрета на первую полосу нашей газеты.
Я не был против. Я вообще поощрял занятие живописью Икса и поддерживал его чем мог. Мне казалось, что в нём есть непосредственность самородка. Я способствовал тому, чтобы его приняли в секцию графики Союза журналистов. Помогал устраивать персональные выставки Икса у нас на фирме и через знакомого в РАТИ-ГИТИСе (театральном институте). Назвал в выходных данных газеты его ответственным секретарём, хотя эти функции исполняла Сетюкова. И нередко выручал, когда мы с ним выпивали: он быстро отключался, я гасил свет, уходил, предупреждая очень милых наших вахтёрш, что он переночует в кабинете.
Выпивать с ним, конечно, было необязательно, каюсь! Но отношения с ним, как и со всеми остальными работниками редакции, устанавливал дружеские.
А потом мы вчетвером – Дмитренко, Сетюкова, Икс и я – оказались в Германии, где Вольфганг Казак устроил конференцию-представление нашей газеты у себя в Кёльнском университете. Икс и Маша прилетели на неё специально, а мы с Дмитренко по Германии путешествовали – побывали перед этим у православных монахов в Мюнхене, в университетах Фрайбурга и Майнца. Мы встретили их во Франкфурте-на-Майне.
Выяснилось, что Икс обладает фобией – боится публично выступать. «Я трус!» – кричал он нам в ответ на уговоры сказать хотя бы пару слов на конференции, ради выступления на которой оказался за границей. Ни поездки в бетховенский Бонн, в смешной пряничный (с памятником прянику) Аахен и в Кобленц, стоящий в самой точке слияния двух немецких рек Мозеля и Рейна, ни в маленький сказочный Люксембург не меняли его мрачного настроения, которое он и не думал скрывать, отравляя атмосферу другим. Я поговорил с Казаком. Сказал ему о фобии Икса. Тот удивился: зачем же в таком случае Икс приехал?
Позже оказалось, что и Сетюкова не вполне понимает, чему посвящена конференция. Оттого, возможно, что до этого ни в каких конференциях не участвовала. Забыв о «Литературе», она увлечённо рассказывала о некогда молодом прозаике Дмитриеве, точнее, о том, как она брала у него интервью для «Литературной газеты» в начале 90-х. Казак ёрзал. Машино выступление затягивалось. Когда они с Иксом улетели в Москву, Казак довольно жёстко высказал мне свои претензии: мои сотрудники проявили легкомыслие. Что я мог ответить ему на это? Но по возвращению в Москву претензии Казака им передал. Оба обиделись.
И эта обида, вероятно, их сблизила. Я почувствовал их враждебность. А тут ещё через какое-то время Сергей Дмитренко уехал преподавать в Германию. Его ставку я стал делить на остальных. Это им так понравилось, что Икс предложил мне: «Выписывай премию Дмитренко». «Для чего?» – удивился я. «Чтобы нам больше досталось, – простодушно отвечал Икс. – Не бойся! Никто об этом не узнает». Но этим я заниматься не стал. Отказался делить между сотрудниками и общественные деньги, которые мы выручали за продажу двух-трёх десятков экземпляров газет, специально для этого нам выдаваемых. На выручку полагалось покупать канцелярские товары и необходимые редакции вещи. Но оба вошли во вкус денежных добавок, и мой отказ ещё больше накалил атмосферу.
Стали до меня доходить слухи, которые распускает Икс: я не работаю, а пью весь день. Газету я забросил, так что делают её Маша и он.
Подлость подобных разговоров заключалась в том, что Икс страдал запоями. Время от времени он кодировался, и тогда становился моралистом.
Я пошёл к Артёму Соловейчику, который предложил мне созвать редакцию у него и передать сотрудникам, чтобы каждый записал для него своё виденье газеты.
Известие о том, что будет совещание, очень воодушевило Икса. Он даже подобрел к Серёже Волкову. Скорее всего, он был уверен, что провёл блестящую подготовительную работу, и теперь Артёму не остаётся ничего другого, как снять меня. А там – кто знает! – может быть, главным станет Маша!
Но для него совещание закончилось совершенно неожиданно: я остался на своём месте, а другим сотрудникам редакции Артём предложил подать заявление об уходе. Мне пришлось хлопотать, чтобы Сергея Волкова и Сергея Дмитренко (он к этому времени вернулся из Германии) не увольняли. Они, по счастью, остались в редакции.
– Я отправлю Сетюкову в отпуск, – сказал Артём. – Пусть она отдохнёт. А потом мы с вами решим, что с ней делать.
А вскоре произошло нечто странное: во время Машиного отпуска я стал получать открытки, посланные с Центрального московского почтамта. От некой Л. Михлюковой из Астрахани. В одной она сообщала, что собирается в Москву и хотела бы заодно получить гонорар за свою заметку. В другой – что приехала, живёт в подмосковном доме отдыха и хочет зайти в бухгалтерию.
– Кто эта Михлюкова? – спросил я у Сергея Дмитренко.
– Ну как же, Геннадий Григорьевич, – ответил он, – это та из Астрахани, что критиковала наш с Мезенцевой календарь.
Я рассмеялся.
Я уже говорил об обычной газетной практике придумывать за читателей письма. В календаре проскакивали иногда факты, появление которых могли неверно истолковать подписчики. Опережая их реакцию, я напечатал придуманное мною письмо, которое подписал: Л. Михлюкова, г. Астрахань.
Но почему обрела голос выдуманная мною читательница? О каких гонорарах шла речь?
Дело было в том, что Икс в моё отсутствие влез в компьютер, а тонкостей, связанных у нас с гонорарными выплатами, он не знал. Но Маша-то была моей заместительницей и знала, как оформляются документы для выплаты гонорара.
Сотрудникам редакции гонорары получать не положено. Но для бухгалтерии я обязан выписать гонорар за любые материалы с указанием их авторов и за что начислены деньги. То есть в данном случае указать свою фамилию, проставить сумму и пометить: «за письмо Л. Михлюковой». Бухгалтерия из этих сведений формировала гонорарную ведомость.
В принципе с этим у нас было строго. Такая переписка главного редактора с бухгалтерией запечатывалась специальным паролем. Но от сотрудников у меня тайн не было. Пароль мой, конечно, был известен Иксу, и он решил, что я присвоил себе чужие деньги.
Ничего удивительного, что он так решил. Он из тех, кого ещё Некрасов припечатал: «люди холопского звания», кто готов верить в способность человека совершить любую подлость. Удивительно, что в это поверила Маша. Здорово же должен был накрутить её Икс, чтобы она потеряла разум, утратила связи с хорошо известной ей реальностью!
Словом, я потребовал, чтобы она подала после отпуска заявление об уходе.
А через короткое после её ухода время приносит мне Людмила Михайловна Урбанская, секретарь Артёма Соловейчика, телеграмму, где некто сообщает, что имеет бесспорные доказательства о присвоении мною гонорара гражданки Михлюковой и что он начинает объективное расследование.
Мне это надоело. Я дал телеграмму Маше от имени газеты. Написал, что «Л. Михлюкова, г. Астрахань» – мой псевдоним, что редакторская переписка с бухгалтерией запечатана специальным паролем, взломать который – всё равно что залезть в чужую квартиру. В компьютере нашёл её адрес. По нему и послал.
А назавтра жена, смеясь, рассказывает, что позвонила ей Сетюкова и возмущалась изощрённой формой моего садизма. Оказывается, я послал телеграмму на адрес её родителей, которых она, очевидно, посвящать в такие дела не хотела. Она вышла замуж, уже работая в «Литературе», и новый её адрес в компьютер не был внесён.
Случайность, конечно. Но и подтверждение известной мудрости: за что боролась, на то и напоролась.
(В дальнейшем, кстати, «Л. Михлюкова, г. Астрахань» стал не только моим псевдонимом. Им подписывались и другие члены редакции.)
История эта печальная. Тем более что работником Маша была хорошим. Обязанности ответственного секретаря исполняла отменно.
Но что для меня было особенно горько: Серёжа Волков, которого я защищал от остальных, невзлюбивших его за яркую одарённость, этот Серёжа повёл себя самым разочаровывающим образом. Накануне совещания у Соловейчика он поделился со мной догадкой, что раз Артём попросил всех высказаться о своём видении будущего газеты, значит у каждого, в том числе и у него, Волкова, есть шанс стать главным редактором. «Так что, Геннадий Григорьевич, – сказал он мне, – вы должны быть готовым и к тому, что прозвучит критика в ваш адрес». И критика действительно прозвучала. В частности, из уст Серёжи, которого уже не помню что не устраивало в работе редакции. Да и предупреждённый им, я понимал, что говорит он об этом не из принципиальных соображений, а удачно, по его мнению, вписываясь в ситуацию: чем больше критики, тем больше шансов, что освободится кресло главного редактора.
И я уже не удивлялся тому, что и потом в интервью разным изданиям он неизменно подчёркивал, что является не только учителем, но и редактором газеты «Литература», хотя ему ли, тонкому стилисту, не знать смысловой разницы между такими словами, как «редактор газеты» и её «сотрудник» или «корреспондент». Проговорки сомнения не оставляли: Волкову хотелось стать главным редактором «Литературы».
Тем не менее, поздравляя меня, уже ушедшего из газеты, с Новым 2006 годом, он писал: «А насчёт быть главным редактором – это не моё, я не хотел бы им быть. Потому что это надо всю жизнь положить, и ответственности куча. А я больше люблю, как Вы знаете, этакую артистическую свободу. К тому же, у меня сейчас много мест работы: я преподаю в ВШЭ, в школе продолжаю работать, делаю газету Центрального учебного округа Москвы (ежемесячно), в Русском журнале сотрудничаю (кстати, мой проект «Директорский клуб» был подан на конкурс Министерства и выиграл первое место в номинации «Лучший Интернет-проект»; я ходил тут намедни получать награды), веду также Заочную международную олимпиаду по русскому языку. Поэтому у меня на нашу газету нет столько сил, сколько надо. Я это и Марку сказал…»
А месяц назад я узнал, что Марк Сартан предложил Волкову стать главным редактором «Литературы», и тот немедленно согласился! Поступился любимой своей артистической свободой, решился всё-таки положить на газету всю жизнь!
Конечно, Серёжа Волков может мне на это возразить, что в выходных данных Марк Сартан пишется литературным директором «Литературы» и, стало быть, волковское «главный редактор» не означает руководителя газеты. Так же как и заместитель Волкова (или кем он ему на самом деле сейчас приходится?) как был ответственным секретарём, так им и остался. Хотя Марк и его назвал: «шеф-редактор». Польстил, так сказать, амбициям сотрудников (см. эпиграф к этой книге из Роберта Бёрнса).
Но как раз подобные игры на амбициях, готовность принять в них участие лишний раз подтверждают правоту Сергея Аверинцева, известного нашего филолога и философа, напомнившего, что у дьявола две руки. Люди, преодолевшие много соблазнов, поднесённых рукою дьявола, много достигшие в жизни и сумевшие вызвать у окружающих восхищение своей стойкостью, в тот момент, когда они с удовлетворением осознают это, не замечают, как вторая цепкая рука дьявола захватывает их души. Ближайшие примеры – Шолохов и Солженицын, не создавшие ничего сравнимого с выдающимися своими произведениями после того как один был приближен к земному престолу, сделался влиятельнейшим придворным, а другой воспарил в мечтах к небесному – вообразил, что его рукою водит Бог.
«Да, – вздыхает известный актёр Александр Збруев («Московский комсомолец», 4 октября 2006 года), – всё продается. Кто-то за большее, другие – за меньшее. Вообще у людей существуют свои представления о купле-продаже. И если человек уже сформировался, очень глупо ему говорить, что он не прав и всё не так. У каждого своя правда. И своя цена».
Но вот – несколько дней назад (27 сентября) праздновали православные Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. И звучало в этот день с церковных амвонов: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12, 31–32).
И хотя, как сообщает «Эхо Москвы», по данным социологического опроса половина россиян объявляют себя атеистами, священные эти слова сохраняют свою силу независимо от веры. Веришь ли ты в то, что дьявол – князь мира сего будет изгнан с земли, или не веришь, но, убеждая себя в том, что у каждого своя правда, ты невольно сам себя обманываешь: ведь в глубине души каждый знает, что хорошо – что плохо, что благородно – что подло, что низко – что высоко! Потому что держится мир на нравственном, по словам Канта, императиве, то есть на общей для всех истине, которую нельзя раздробить, нельзя присвоить ради собственного блага, нельзя приторговывать ею по сходной цене: не продаётся!
Что делают бестселлер из говна
Как дали ленинскую премию Егору Исаеву, я уже здесь рассказывал. Помню, Егор, очутившийся в программе «Время» по случаю своего юбилея и присвоения ему героя соцтруда, делился с интервьюершей фактами фронтовой биографии: «Сидим, бывало, с ребятами в землянке, байки травим…» На что поэт Николай Старшинов, в чьей квартире я смотрел эту передачу (мы жили в соседних домах), сказал мне: «Верный признак, что Егор не воевал. В землянках офицеры жили, а мы, солдаты, в окопах. Да и какая у Егора война? – он достал с полки тоненькую книжку – первый исаевский сборник стихов и показал мне аннотацию. – Видишь, что написано: «Служил в конвойных войсках в Австрии»?»
Егор был на редкость малограмотным человеком и поэтом. Но его заприметил и стал продвигать Николай Васильевич Свиридов, работавший сперва в ЦК партии, а потом председателем Госкомпечати РСФСР. Убеждённому националисту Свиридову взгляды Исаева очень пришлись по душе, и он не только закрепил Егора на посту заведующего редакцией поэзии издательства «Советский писатель», но и поспособствовал тому, чтобы оброс Исаев необходимыми связями с влиятельнейшими людьми. Такими, например, как секретарь ЦК КПСС М. В. Зимянин, который, как я уже говорил, расположился к Егору, пробил ему ленинскую премию, сделал секретарём большого Союза писателей. Хамоватый Егор никогда не отвечал по телефону на моё «здравствуй», всегда нукал после того, как я представлялся, так что, обнаружив это, я больше с ним не здоровался, а называя себя, немедленно переходил к делу. «Ну что, – лениво-небрежно спрашивал Исаев, – даёт «Литературка» на меня рецензию?» «Спроси об этом Кривицкого», – отвечал я. Свою маловразумительную поэму Егор печатал по частям и жаждал положительного отклика на каждую публикацию. Кривицкий его не разочаровывал. Тем более что, как все хамы, Егор был холуём сильных мира сего. А, как все холуи, набивал себе цену. В разговорах с нашим заместителем главного редактора намекал на связи с такими людьми (куда до них Зимянину!), от чего у Евгения Алексеевича Кривицкого перехватывало дыхание.
Большой кабинет Кривицкого располагался стенка в стенку с кабинетом Сырокомского. Егор однажды, попугав как всегда Евгения Алексеевича, перешёл к чтению отрывков из своей поэмы. Читал Егор долго и очень громко, подвывая в ударных местах. Я, придя к Кривицкому раньше Исаева, слушал чтение с тоской: оно затягивалось, а дело, по которому я зашёл, было срочным. Но распахнулась дверь кабинета – и Сырокомский резко оборвал чтеца: «Это ещё что за концерт в рабочее время?» «Читаю из новой поэмы, Виталий Александрович!» – умильно заулыбался Егор. «Так пригласите Кривицкого к себе домой или сами к нему приходите и там читайте, – жёстко сказал Сырокомский. – А здесь вы мешаете людям работать!»
Он повернулся и вышел, а съёжившийся Егор испуганно посмотрел на Кривицкого, тихо спросил: «Как ты думаешь, он не помешает рецензии?» «Думаю, нет», – ответил Евгений Алексеевич, а когда Исаев ушёл, в сердцах сказал мне: «Вот трепло!» Я понял, о чём он: если б Егор на самом деле тесно общался с теми, о ком он только что ему, Кривицкому, рассказывал, пугаться Сырокомского он бы не стал.
О дружбе Исаева со Свиридовым я узнал от Анатолия Передреева. Толя жил в Грозном, его жена Шема работала в вагон-ресторане фирменного поезда, на котором Передреев частенько приезжал в Москву. Здесь, в Москве, он довольно много печатался, здесь брал в издательствах подстрочники для переводов. Навсегда перебраться в Москву было заветной мечтой Толи и Шемы.
Приблизиться к её осуществлению удалось, когда Передреев напечатал в кочетовском «Октябре» статью «Читая русских поэтов». Среди прочих он писал в ней о Пастернаке, о его стихотворении «О, знал бы я, что так бывает…»
Я потом несколько раз отвечал в печати Передрееву, который ничего в этом стихотворении не понял. Не понял, о каком «искусстве» вёл речь Пастернак, заканчивая стихотворение:
Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлёт раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба.««Кончается»? – иронически переспрашивал Передреев. – Но ведь оно здесь только начинается!» Я отвечал на это, что он, демонстрируя невежество, ломится в открытую дверь, потому что «искусство» у Пастернака – то же самое, что «литература» в стихотворении Поля Верлена, которое перевёл тот же Пастернак и в котором речь идёт о возможностях и подлинности стиха:
Пускай он выболтает сдуру Всё, что впотьмах, чудотворя, Наворожит ему заря… Всё прочее – литература.Иными словами, и там и там речь идёт не об искусстве и не о литературе, а о литературщине, об игре в искусство.
Передреев этого не понял, а прочитавшие его статью графоманы-националисты расплывались от удовольствия: «Здорово Толя вмазал Пастернаку!» Передреева зазвал к себе в кабинет заведующий отделом поэзии издательства «Советский писатель» Егор Исаев, долго дружески с ним беседовал, выведывал, не нуждается ли тот в чём-нибудь. И, узнав, что мечтает Толя о московской прописке, позвонил Свиридову, с которым говорил почтительно, но по-приятельски, посоветовав чиновнику ознакомиться с передреевской статьёй. «Он перезвонит», – сказал Передрееву Исаев, после того как положил трубку.
И действительно. Получаса не прошло, рассказывал мне Толя, как Свиридов позвонил и попросил Егора немедленно направить Передреева к нему.
– Московскую прописку, – очень доброжелательно сказал Толе Свиридов, – мы вам сразу сделать не сможем. Сделаем подмосковную, – и позвонил секретарю московского обкома партии по идеологии А. В. Гоголеву.
– Читал, как вы врезали Пастернаку, – сказал Передрееву Гоголев, – принципиально и по-партийному. Нам такие литературные кадры нужны. Вот вам ордер на трёхкомнатную квартиру в Электростали. Поживёте там недолго, а мы за это время подыщем вам что-нибудь поближе к Москве, а то и в самой Москве. Идёт?
Конечно, Передреев согласился. Но, приехав с семьёй в Электросталь, он на другой день развернул районную газету и прочитал в ней некролог: его покровитель Гоголев скоропостижно скончался.
Тем не менее в Москве он прописался. Не сразу, конечно, – пришлось какое-то время жить в Электростали. Но у Н. В. Свиридова, члена так называемой «группы Шелепина», о которой пишет в своей книге «Русская партия» Николай Митрохин, было немало единомышленников и в московском горкоме, и в московском исполкоме.
Так что Егор Исаев имел, разумеется, мощную поддержку в среде партийной номенклатуры. Но хотелось помощнее. Хотелось, чтобы трепетали от одних только называемых им имён людей, с которыми он якобы запросто общается. И он блефовал.
Густой едкий дым вранья поднимался от рассказов о себе всех этих хорошо прикормленных советской властью писателей. Забыл фамилию сотрудницы нашей «Литературной газеты», которая напечатала интервью с Михаилом Алексеевым. Помню только, что звали её Алла и что через очень короткое время она ушла из газеты в издательство «Советский писатель».
Это интервью запомнили многие. Появилось оно спустя какое-то не слишком большое время после смерти Александра Трифоновича Твардовского. Как относились к писателю Алексееву в руководимом Твардовским журнале «Новый мир», литературная общественность знала: плохо относились, насмешливо. Да и читатели журнала не могли не знать этого – ничего кроме фельетонов о романах Алексеева «Новый мир» не печатал.
Но нашей сотруднице Михаил Алексеев впаривал душераздирающую историю о том, как оказался он с Твардовским за одним столом президиума какого-то писательского собрания, и когда оно закончилось, подошёл к нему Твардовский, сказал, что ему понравилась новая вещь Алексеева (кажется, повесть «Карюха»), а потом, помявшись: «Алексеев, мы были к вам несправедливы! Простите!» «И даже как-то покраснел при этом», – описывал Алексеев Твардовского.
Почти сразу же после публикации газета получила письмо, подписанное бывшими сотрудниками «Нового мира» Юрием Буртиным и Игорем Виноградовым, которые, развенчивая легенду о покрасневшем от трудного своего признания Твардовском, указывали, что в интервью Алексеев остался верен себе: не заботится о правдоподобии. Между тем все хорошо знавшие Александра Трифоновича Твардовского люди, писали бывшие его соратники, подтвердят, что он никогда не обращался к человеку, называя его по фамилии, но непременно – по имени и отчеству.
Письмо это газета не опубликовала: ссориться с Алексеевым Чаковский не стал. А Михаилу Алексееву придуманная им история так понравилась, что несколько лет назад он слово в слово повторил её, выступая по телевидению. И не смутило Алексеева то обстоятельство, что дочери Твардовского напечатали обширный дневник своего отца, который тот вёл до самой смерти. Ни одной обрадовавшей бы Алексеева записи о нём Твардовский не оставил. Хотя поминает его нередко. И всегда с холодным презрением к номенклатурному литератору, выступавшему помимо прочего яростным гонителем «Нового мира» – любимого детища Александра Трифоновича.
А недавно в Интернете прочитал ещё одну байку Алексеева о его первом романе «Солдаты». О качестве этой вещи говорить не буду: Алексеев не просто утратил талант, он его никогда не имел. Но в том, что «Солдаты» могли быть выдвинуты на сталинскую премию, я не сомневаюсь: книг после войны выпускали мало и почти все они попадали в список. Алексеев настаивает: не просто выдвинули, но уже дали, позвонили, поздравили, и он ждал завтрашнего утра, когда принесут газету со списком лауреатов. Принесли. Но своей фамилии в списке он не нашёл. Оказывается, ночью Константина Симонова, который был заместителем председателя Комитета по сталинским премиям, вызвал Сталин и сказал, что ему позвонил писатель и академик Сергеев-Ценский и очень просил дать премию автору романа «Семья Рубанюк» крымчанину Евгению Поповкину, который очень много делает для Крыма. Академику он отказать не может, якобы сказал Сталин Симонову, но и расширять список нельзя: нужно кем-то пожертвовать. Пожертвовали Алексеевым.
Надолго однако – на всю жизнь – застряла в Михаиле Алексееве обида, что не дали ему за «Солдат» сталинской премии! Потому и придумывает через полвека совершенно невероятное объяснение того, почему он её не получил. Чтобы Сталин остановился перед расширением списка или не смог отказать академику, если б захотел? Вот что значит не быть писателем и не уметь оформлять свои мысли. О чём говорит Алексеев? Что Сталину закон не писан, но этим Алексеев обычно восхищается. Лицемером обожаемого им вождя он и в дурном сне не назовёт. Тогда о чём же тут речь? Может, он обличает задним числом Симонова, который науськал Сталина исключить «Солдат» из списка? Но если б Сталин прочёл «Солдат» и они ему понравились, добился бы Симонов успеха? Словом, темна вода во облацех!
И не стоило Игорю Золотусскому накануне своего 75-летия поминать добром Георгия Мокеевича Маркова, «который помог мне выпустить книгу о Гоголе». «Если бы не он, – говорит Золотусский в интервью газете «Завтра», – книга не вышла бы. Он был большой начальник, в ранге союзного министра. Вскоре после его поддержки книги о Гоголе мне позвонили из издательства «Советская Россия» и предложили написать книгу о Маркове, я сказал, что я не буду этого делать. Надо вновь отдать должное Маркову: наши отношения остались прежними».
Я уже рассказывал в «Стёжках-дорожках» об избранной Золотусским методе. Он устанавливал хорошие отношения с главным начальником, чтобы не зависеть от меньших. Одобрять подобные вещи я не мог: мне не приходилось встречать в жизни высокой цели, которую оправдывали бы низкие, низменные средства.
Игорь Золотусский говорил мне, что прибегать к таким методам он научился в детском доме, куда поместили его, сына репрессированных Сталиным родителей. «Это была система выживания», – комментировал Игорь. Может быть. Но ставший благодаря установившимся хорошим отношениям с Марковым, как тогда говорили, выездным (Золотусскому, работавшему над книгой о Гоголе, очень хотелось побывать в Италии, и он неоднократно туда ездил), выпустивший опять-таки благодаря Маркову действительно хорошую книгу о Гоголе, Игорь на этом не остановился. Одарённый человек, он проявлял удивительную небрезгливость – сблизился с людьми тёмными, недостойными, стал своим у так называемых «патриотов», секретарём московского отделения Союза писателей, которое возглавлял Феликс Кузнецов. И кто знает, куда завела бы его эта дорожка, ведь московский секретариат был невероятно агрессивен по отношению к инакомыслящим: гнал их из союза, обрекал на голодное существование, а то и на существование за колючей проволокой! Но на счастье Игоря, не успевшего принять участие в подобного рода секретарских судах, грянула горбачёвская перестройка. Ветер перемен он уловил быстро и расстался с бывшими своими дружками. Я много писал в «Стёжках-дорожках» о нашей совместной с ним работе в «Литературной газете», где он в то время стал членом редколлегии.
Но, как сказал в известном своём стихотворении Михаил Светлов, «новые песни придумала жизнь». Чекистские обручи, оковавшие Россию в её коммунистический период, вовсе не лопнули при Горбачёве и тем более при Ельцине, но всего лишь ослабли. Пророческим оказалось четверостишие, которое в то время все повторяли со смехом: «Товарищ, верь: пройдёт она – / Пора пленительнейшей гласности! / Но в комитете безопасности / Запомнят наши имена!» Вновь с силой сжавшие Россию обручи этого комитета разворачивают страну в совершенно определённом направлении. И вот обладающий тонким чутьём на политическую конъюнктуру мой многолетний знакомец снова восстанавливает порванные было связи с тёмными людьми, не брезгует сотрудничать с газетой «Завтра», завспоминал о Георгии Мокеевиче Маркове, который сделал, конечно, хорошее дело – помог ему выпустить книгу, но в памяти большинства остался олицетворением бюрократического всевластия и бюрократической исполнительности.
«Это мы с Фадеевым его из Иркутска выдернули, в большой секретариат перевели, – говорил нам с Игорем Тархановым, работавшим со мной в «Литературной газете», поэт Алексей Сурков. – Тихий, аккуратный, исполнительный. Мы и взяли его с бумажками возиться. Думали ли мы, что он на самый верх вылезет? – здесь Сурков задумался и начал похохатывать: – А главное, думали ли мы, что он таким доверчивым ослом окажется: ему говорят, что он великий, и он верит в это! Понимаете? Ничтожный, никакой писатель верит в то что он большой, крупный, что он – классик, ха-ха-ха!»
Смеялся Сурков напрасно. Подобные Маркову фигуры в российской действительности оказывались наверху довольно часто. Кем был Сталин поначалу? С точки зрения Ленина и его соратников, малозаметной скромной личностью. Потому они преспокойно пропустили его наверх: будет, дескать, опираться на более знаменитых, более известных партии и народу. А Брежнев? Та же история: звёзд с неба не хватает, выберем его, куда он без нас денется, что сможет?
Так что не стоило Игорю Золотусскому ставить себе в заслугу, что отказался писать книгу о Маркове. Тот вполне удовольствовался похвальным о нём словом известного и даже как бы либерального критика на однажды затеянном секретариатом Союза писателей СССР обсуждении журнала «Знамя». Всех авторов «Знамени» выругал на том обсуждении Золотусский и только для романов Маркова сделал исключение: да, это настоящая проза! Многие верили в строгую принципиальность Золотусского. Одобрение им публикаций первого секретаря союза было для Маркова поценнее иных монографий о своём творчестве. А книг о себе при своей жизни Марков наполучал немало. Не говорю уже о том, как часто звучали по радио инсценировки его романов! Или сколько было отснято кинофильмов и телефильмов по мотивам его произведений!
Однажды в газету «Литература» прислали из какого-то сибирского городка урок по повести Маркова «Тростинка на ветру». Я удивился: неужели этого литератора до сих пор изучают в школе? Мне ответили, что в обязательном перечне его книг нет. Но учитель волен давать уроки по любому полюбившемуся ему произведению советского периода, начиная с 60-х годов XX века. То, что прислали урок по марковскому произведению, говорит, разумеется, о дурновкусии учителя, но куда больше о том, что объявленного классиком Георгия Маркова прежде в школе изучали, и учитель, не мудрствуя лукаво, обращается к старым наработкам.
Многих, конечно, покоробила вторая звезда героя соцтруда Маркова, которую дал ему Черненко. Всё-таки до этого дважды героями в искусстве были только Уланова и Шолохов. Уланова для всех была явлением бесспорным. «Тихий Дон» – роман выдающийся. Но Черненко обожал Брежнева и подражал ему. Успел в отмеренный ему год правления создать легенду о себе, вообще не нюхавшем фронтового пороха, как о храбрейшем пограничнике (он в начале тридцатых отслужил год в армии). Наградил себя в свой день рождения третьей звездой героя (две других он получил из рук хозяина – Леонида Ильича). И осыпал звёздами земляков-сибиряков. В точности как Брежнев – днепропетровцев. Бюст дважды герою Маркову, как и положено, установили на его родине. А вот в его биографии ничего героического не нашли: до войны – комсомольский функционер в Новосибирске, редактор сибирских комсомольских органов печати, во время войны – корреспондент газеты Забайкальского фронта, после войны – глава иркутской писательской организации, редактор альманаха. А потом, как и говорил нам с Тархановым Сурков, переведён в Москву, в секретариат Союза писателей.
Ничего героического! Но, как пародийно шутили в Одессе: «Вы хочете песен? Их есть у меня!» На родине Маркова открыли музей охотника-промысловика, где выставили соответствующие экспонаты: вот оружие, с которым промышлял охотник, вот – чучела зверей, на которых охотился. Штука, однако, состояла в том, что охотник этот не был безымянным. Звали его Мокеем Марковым. Так что пригодились музею дагерротипы, портреты и фотографии его семьи. Фотографий сына охотника Мокея, Георгия Мокеевича Маркова, разместили особенно много. Вот он на трибуне (сзади вожди ему аплодируют), вот в президиуме какого-то важного съезда (сам вместе с вождями аплодирует кому-то), вот – книги сына, вот – читатели сына, которым он надписывает свои книги. С одной, стало быть, стороны, музей вышел краеведческим. А с другой, он стал прижизненным мемориальным музеем славы дважды героя. Как говорил весёлый карманник Мустафа, чью роль в первом звуковом советском фильме «Путёвка в жизнь» великолепно сыграл мариец Иыван Кырля, погибший позже в сталинском лагере, «ловкость рук и никакого мошенства»!
Вторую свою звезду Марков получил как председатель Союза писателей к пятидесятилетию этой организации. В указе Черненко значилось много награждённых литераторов, в том числе и несколько новых героев соцтруда. Им, в частности, стал ещё один черненковский земляк-сибиряк Анатолий Иванов. А вот Петру Проскурину, которого критика привычно ставила рядом с Ивановым, достался орден Ленина.
Одна известная актриса (так рассказывали), узнав, что к какому-то юбилею Малого театра дирекция занимается распределением наград, которые пойдут для оформления в президиум Верховного Совета, пришла к директору театра Царёву с грозным предупреждением. «Михал Иваныч, – сказала она, – учтите, если мне дадут орден Ленина, я восприму это как плевок в лицо!» Похоже, что именно так воспринял свой орден Проскурин. Пьяный, с бутылкой портвейна в кармане, он ходил по нашему двору (мы жили тогда в одном доме), прихлёбывал из бутылки и жаловался каждому встречному: «Тольке, этому кабану поганому, героя, а? Представляешь, Иванов – герой! А он писать-то умеет?»
Через четыре года, уже при Горбачёве, Проскурин получил-таки к 60-летию звезду. Так что бушевал он зря. Оказался даже с лишним орденом Ленина. Подобрел. Забронзовел. Телевидение транслировало его творческий вечер. Но тогда, в 1984-м, его обида была понятной: чем он хуже Анатолия Иванова?
Сейчас патриотическая пресса их обоих, ушедших в мир иной, иначе как великими писателями не называет. В великих ходят и ныне живущие Юрий Бондарев и Михаил Алексеев. А уж лауреат премии имени Солженицына Валентин Распутин или некогда действительно обладавший незаурядным даром Василий Белов вообще попали в гениальные, в «совесть нации».
Сместились критерии? По-моему, унаследованы с советских времён. Среди сталинских лауреатов встречались порой и хорошие писатели, но много чаще – сервильные, бездарные, бесчеловечные типа Грибачёва, Софронова, Бубеннова, Сурова, Бабаевского, Вирты. Ленинские премии при Хрущёве старались дать за вещи на самом деле талантливые (хотя дали и Шолохову за конъюнктурную «Поднятую целину», и Леонову за скучнейший «Русский лес»), но при Брежневе показалось надёжнее давать исключительно литературным начальникам. О государственных премиях и говорить нечего: их получали и общесоюзные секретари, и республиканские, и даже региональные. За ними становились в очередь – точнее, очерёдность списка претендентов устанавливали партийные и государственные начальники. Проколов поэтому не было. Евтушенко получил премию за на редкость фальшивую поэму «Мама и нейтронная бомба», Вознесенский за книгу «Витражных дел мастер», которая и намёка не содержит на какую-либо оппозиционность режиму. Да и не давал советский режим премии оппозиционерам. Извлекал уроки собственной оплошности, слушая выступления по радио «Свобода» лауреата сталинской премии Виктора Некрасова или ленинской – Мстислава Ростроповича. Поэтому Юрий Трифонов, получивший в молодости сталинскую премию за слабый роман «Студенты», окрепнув и став настоящим писателем, уже больше никаких премий не получал, как не получали их до горбачёвской перестройки самобытные и талантливые Фазиль Искандер, Василий Аксёнов, Борис Можаев, Владимир Войнович, Олег Чухонцев.
А своих лауреатов советская власть опекала, лелеяла. Огромными тиражами и безудержным восхвалением лепила из их книг бестселлеры. Обеспечивала большими аудиториями читателей, которым представляли авторов не какие-нибудь, но авторитетные для этих мест люди – секретари райкомов или обкомов. И давала стопроцентную гарантию, что фильмы по мотивам их произведений получат высшую категорию, устанавливающую такое количество копий, что их увидят в самых глухих районах, самых отдалённых уголках страны.
* * *
Ах, как рвал и метал Хрущёв, посмотрев фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича»! Что страшного в этой картине примерещилось главе компартии и правительства, одному Богу известно! Хрущёв орал, что Хуциев хочет натравить молодёжь на их революционных отцов, о чём, конечно, создавая эту картину, Хуциев не мог и помыслить! Хрущёва вообще легко было завести, тем более что слушать других он не умел, а понять и не пытался. Вознесенский начал своё выступление перед ним и другими руководителями с фразы, закончив которую, мог бы оказаться их любимцем. «Как мой учитель Владимир Маяковский, я не являюсь членом коммунистической партии… – начал Андрей, чтобы продолжить: – Но, как и он, ощущаю себя беспартийным большевиком». Однако продолжить Хрущёв ему не дал: «Это не заслуга! – орал он. – Нашёл, чем гордиться! Вон из страны!» Белый от страха, Вознесенский стоял на трибуне и смотрел в бесновавшийся, улюлюкающий, подначивающий Хрущёва зал. А хуциевский фильм так озлобил Хрущёва, что он немедленно создал огромный Государственный Комитет по кинематографии, в котором началась, как я рассказывал в «Стёжках-дорожках», моя не творческая, конечно, но околотворческая служба. Так уж вышло, что, как только возникло это министерство кино, я туда и пришёл, ещё не окончив университета и соблазнившись названием должности: «редактор». Работал я там недолго – полтора года с лихвой хватило на то, чтобы разобраться, в чём ты участвуешь, и отказаться этим заниматься. Первый фильм, который при мне был принят коллегией, назывался «Знакомьтесь, Балуев!». Вадим Кожевников, внештатный член нашей коллегии, не сомневался в успехе этой картины, снятой по мотивам его повести. Он не ошибся: фильм о строительстве газопровода прошёл на ура. Сам Романов, председатель Комитета, открывший заседание коллегии после просмотра, произнёс несколько восторженных слов. Ну а после него, кто только не отмечался: «по-моему, один из лучших советских фильмов последнего времени» – «а я бы назвал его лучшим вообще» – «преувеличивать не стану, но скажу, что фильм меня потряс!» По неопытности и наивности я относил эти комплименты к актёрскому составу: героя фильма, принципиального коммуниста, руководителя крупной стройки, играл Иван Переверзев. Неплохо сыграли Зинаида Кириенко и Нина Ургант. А чем ещё можно было восхищаться в этом заурядном производственном фильме? Но потом я узнал, что почему-то раньше Комитета фильм показали Хрущёву. Может, после «Заставы Ильича» он, как Сталин прежде, пожелал быть первым зрителем выходящих в стране кинофильмов? Если это и так, то, судя по дальнейшим просмотрам и обсуждениям в Комитете, хрущёвского энтузиазма хватило ненадолго. Кожевников, конечно, о хрущёвском просмотре знал. Потому и держался со снисходительной благожелательностью: напомнил всем, обращавшимся с комплиментами именно к нему, что главным виновником торжества является всё-таки режиссёр, да и сценарий написан не им. «Но по вашей повести! – уточнил главный редактор сценарной коллегии Александр Львович Дымшиц. И с горячим чувством: – По прекрасной вашей повести!»
Пламенное это чувство объяснялось тем, что картина Хрущёву не просто понравилась, но горячо полюбилась. Прессу зашкаливало от жарких комплиментов. Фильмом «Знакомьтесь, Балуев!» открыли первый Международный кинофестиваль, проводимый в Москве. Хрущёв требовал от Григория Чухрая, председателя жюри, чтобы именно этот фильм получил главный приз. Но Чухраю такое оказалось не под силу. В жюри входило немало зарубежных деятелей кино, которые предпочли советской производственной картине фильм Феллини «8V2».
Через много лет я прочитал в журнале «Дружба народов» беседу писателя Михаила Кураева с моим приятелем критиком Лёней Бахновым. Кураев, оказывается, работал в сценарном отделе «Ленфильма», когда там шли съёмки картины по повести Кожевникова. А лет через десять после этого довелось ему побывать в Москве, в Главном управлении МВД, послушать рассказы сотрудников отдела, занимавшихся борьбой с расхитителями социалистической собственности (ОБХСС). «Одним из рассказчиков, – делится Кураев с Бахно-вым, – был тот, кто когда-то вёл следствие, а затем и предал суду реального человека, прототипа Балуева».
Лёня, естественно, удивлён: Кожевников ведь представлял своего героя чуть ли не человеком будущего, идеалом для современников! Представлял, соглашается Кураев, однако «в реальности… прототип оказался уголовником. Но уголовником редкого качества, из тех, что на зонах зовутся «чистоделами» – всё у них, вроде бы, по закону, шито-крыто, не придерёшься. Мастера!»
Надул Кожевников Хрущёва? Нет, конечно. Кожевникова самого надули. А может, и не знали, знакомя его с идеальным руководителем, принципиальным коммунистом, что тот создал уголовную строительную «панаму»!
Это я к тому ещё, что в последнее время раздаются протестующие крики: «Оставьте в покое нашу советскую классику!» Фадеев в «Молодой гвардии» сделал комиссаром боевой молодёжной организации Олега Кошевого, хотя на самом деле им был Виктор Третьякевич, удивительно мужественный человек. Наплевать! Обойдёмся без Третьякевича! Николай Островский принимал, конечно, участие в написании «Как закалялась сталь». Но ведь известно, что художественно оформили роман Анна Караваева и Марк Колосов. Позже в подобных случаях стали мелким шрифтом писать: «Литературная запись таких-то!» Так восстановите истину – пометьте так и этот роман! Нет! – не трогайте легенду!
Борис Полевой не был писателем, хотя и опубликовал небольшую повестушку до войны. Он был журналистом, фронтовым корреспондентом «Правды». Узнал о безногом лётчике Алексее Маресьеве, не оставившем штурвал и на протезах, и написал об этом очерк. Почему не напечатала его «Правда», не совсем ясно. Известно только, что редактор газеты посоветовал Полевому написать о Маресьеве книгу, что тот и сделал. Она сразу же стала популярной. Ребячески-неразвитое воображение Сталина, готового верить в самые невероятные чудеса, нашло в «Повести о настоящем человеке» для себя обильную поживу. Штукой посильнее «Фауста» Гёте вождь её не назвал, но осыпал сталинскими премиями и саму книгу, и фильм по ней, и даже иллюстрации Н. Жукова к повести.
Года два-три назад пришлось мне в «Литературе» отбиваться от чиновников Министерства образования, замысливших вернуть повесть Полевого в школьную программу. Логика чиновников: чему учит такая книга? – патриотизму! А я доказывал им, что сильно расширенный беллетризованный очерк, выдаваемый за художественную литературу, патриота не воспитает, а сбить школьника с панталыку «Повесть о настоящем человеке» может несомненно. Ведь научить детей отличать литературу от подделки под неё – первостепенная задача педагога-словесника.
Полевой, когда брался за повесть, разумеется, хотел своему герою хорошего. И Алексей Маресьев наверняка испытывал к нему благодарность. Возможно, что он просто постеснялся указать автору на кричащее неправдоподобие и в описании воздушного боя, и в воссоздании такой ситуации, когда любой профессионал прыгнет с парашютом, а не воткнётся самолётом в лес. Быть может, постеснялся Маресьев, у кого, как и у Мересьева в повести, оказались раздробленными все косточки стопы, объяснить Полевому абсурдность вымышленной им в этом случае героики. Человек в таком положении просто физически не сможет снять, а потом снова натянуть на ноги унты и тем более не сможет ходить на раздробленных ногах!
Я делюсь сейчас чужими наблюдениями над «Повестью о настоящем человеке» – писателя Михаила Веллера. И не надо меня ловить на том, что, читая в школе повесть, я ничего подобного не замечал. Что, скажите, хорошего, если ребёнку врезываются в память подробности, не имеющие никакого отношения к действительности? А порой и комически неправдоподобные.
Помню, смотрел я в детстве фильм, куда перекочевал из книги эпизод встречи покалеченного Мересьева, которого играл Павел Кадочников, с медведем. Затаив дыхание, следил я за тем, как подошёл к человеку зверь, как цапнул его когтями, как, превозмогая боль, успел выхватить Мересьев пистолет. А через много лет прочитал подробный комментарий этой сцены:
«Лежит. Медведь подходит, шатун. Ходил я на медведя… Если на лес грохнется самолёт поблизости, то медведь тут же обделается и удерёт от этого необъяснимого ужаса и приблизится очень нескоро и очень осторожно. Ну, шатун, жрать хотел – пришёл. Когтем цапнул – комбинезон не подался. Да он цапнет – жесть раздерёт, голову оторвёт! «комбинезон не подался»! Понюхал! – решил: мёртвый. Это, может, Полевой решил бы, что мёртвый, а медведь – он как-нибудь разберёт, кто мёртвый, а кто живой. И свернёт шею. Голодный – закусит сразу, сытый прикопает, чтоб запашок пошёл, но сытый шатун – это редкость большая. Короче, глупый медведь попался и несчастливый. Потому что человек тут же, лёжа, выстрелил в медведя из пистолета и убил его. Это, стало быть, лёжа, навскидку, одним выстрелом, из пистолета ТТ – какого ж ещё? – калибра 7,62 – уложил медведя. Странно ещё, что не из рогатки он его убил. Как пропаганду мощи советского стрелкового оружия я это понимаю, а как рецепт охоты на медведя – пусть мне писатели растолкуют, это я не понимаю. Эту живучую махину – из этой пукалки? в сердце – фиг, на дыбки поднимать надо, иначе не попасть, с черепа рикошетом соскользнёт, позвоночник из этого положения такой ерундой тоже не перешибёшь. Короче, охотник на привале» (Михаил Веллер. «Кавалерийский марш»).
Ну? И для чего эту осмеянную вещь возвращать в школу? Вспомните, как в похожей ситуации действует пушкинский Дубровский, выдающий себя за француза Дефоржа. Его ради барской потехи впихнули в клетку с медведем: «Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился». А ведь речь идёт об оставшейся неотредактированной Пушкиным вещи, где сам автор не решил окончательно, кем ему представить Дубровского – пехотным гвардейским офицером или гвардии корнетом конного полка. Но в реалистических и психологических деталях Пушкин точен и здесь. Как везде.
А прочитайте переписку Михаила Булгакова с родственниками, живущими во Франции. Булгаков работает над романом о Мольере и засыпает родственников просьбами сообщать ему, где расположено то-то, как оно выглядит, какая за ним открывается перспектива. Просит как можно более подробных описаний.
А вот близкий мне человек, работавший вместе с хорошей нашей знакомой Сашей (Александрой) Васильевой корректором в журнале «Москва», рассказывал, как удивился и поначалу не поверил Пётр Проскурин тому, что Роберт Фальк вовсе не западногерманский художник, как было написано у него в журнальном варианте. И если б не корректоры, быть бы у Проскурина Роберту Рафаиловичу Фальку, родившемуся в Москве, уехавшему в 1928 году в Париж, но через девять лет вернувшемуся назад в Россию, западногерманским гражданином.
Не удивительно, конечно, было встретить подобные ошибки у Проскурина. Помните, как осторожно предполагал один герой «Мастера и Маргариты» о другом, что тот – «конечно, человек невежественный»? А здесь и осторожничать не надо. Примерно в то же время, когда «Москва» печатала роман Проскурина, показали по телевидению его творческий вечер в Останкино, где он беседовал с залом о печальном забвении фактов отечественной истории. «Ну кто, к примеру, был первым главнокомандующим Красной армии?» – вопрошал он у зала. И, получив ответ: «Троцкий», – горестно качал головой: «Вот так мы знаем свою историю! Не Троцкий, а Сергей Сергеевич Каменев». Я пожалел тогда, что не нашлось в зале человека, кто встал бы и сказал Петру Лукичу, что Сергей Сергеевич Каменев возглавил Красную армию с августа 1919 года, после отставки её первого главкома Иоакима Иоакимовича Вацетиса, на чём настоял основатель Красной армии Лев Троцкий. Он же поспособствовал Каменеву стать главнокомандующим, против чего выступал Сталин. Каменев командовал полком в Первой мировой войне, а Сталин категорически не соглашался с Троцким, привлекавшим на командные посты в армии бывших царских офицеров. Но в то время мнение Троцкого было намного весомее сталинского.
Не удивительно, повторяю, что Проскурин путался, перевирал факты. Этот писатель был, судя по всему, таким же знатоком отечественной истории, как и знатоком живописи. Где-то что-то слышал, но, увы, не так понял…
В том-то и дело, что никакого следования истине режим от своих песнопевцев не требовал. Наоборот. Режим врал народу об ожидающей его счастливой жизни, о тех, кто уже сегодня пробивается к счастью, преодолевая любые препятствия, и мастера культуры художественно оформляли это враньё. Поэтому комиссаром «Молодой гвардии» Фадеев сделал самого юного из всех в этой организации Олега Кошевого. А напиши он правду, что комиссарил Виктор Третьякевич, человек не только старше Кошевого, но намного его опытней, успевший повоевать в партизанском отряде, – и потускнела бы легенда! (Как подтвердилось впоследствии, выполняя заказ, Фадеев сделал чёрное дело. Сохранив в художественном повествовании подлинные фамилии, он создал иллюзию документа. А Сталин засвидетельствовал документальность, увековечив всех поименованных Фадеевым погибших членов штаба «Молодой гвардии» – присвоив им звания героев Советского Союза. И потому несёт Фадеев тяжкую вину за посмертную судьбу Виктора Третьякевича, о котором, ещё когда собирался материал для книги, был пущен слух, что тот оказался предателем. Мог Фадеев восстановить истину, но не захотел. Клеймо предателя сняли с Третьякевича при Хрущёве, который наградил погибшего комиссара маленьким орденом: решил и он всё-таки не рушить окончательно героическую легенду. А после Хрущёва опять заговорили об Олеге Кошевом как о мудром комиссаре. И снова попытались забыть о Третьякевиче, а когда это не получалось, то проговаривали его имя сквозь зубы.)
Вот почему не просто буря – тайфун негодования официозных пропагандистов обрушился на статью В. Кардина «Легенды и факты», напечатанную Твардовским в «Новом мире». Злобствовал не только маршал Будённый: Кардин одобрил роман Юрия Трифонова «Отблеск костра», восстановивший доброе имя Бориса Думенко, расстрелянного в 1920 году и незадолго до публикации статьи Кардина реабилитированного. Неистовствовал Главпур (Главное политическое управление армии и флота) – Кардин напоминал о письме А. Н. Степанова, автора романа «Порт-Артур», Сталину, в котором Степанов сообщал вождю о том, что вынес из архивов: 23 февраля 1918 года не было боёв под Нарвой и Псковом, где получила якобы первое боевое крещение Красная армия. Дата, которая и сейчас отмечается не просто как День защитника отечества, но ещё и как день победы Красной армии над кайзеровскими войсками, не имеет под собой исторического основания! Бесился и аппарат ЦК: Кардин посягнул на привычно-героическое для каждого советского человека словосочетание «залп «Авроры»»! И чем, прикажете на это отвечать, кроме мордобоя? Ведь Кардин процитировал письмо матросов крейсера «Аврора», опубликованное после октябрьского переворота в «Правде». Авторы письма возмущены: их обвиняют в том, что они стреляли по бесценному архитектурному памятнику – Зимнему дворцу – боевыми снарядами. Ничего подобного, горячатся матросы: «был произведён только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности».
Я находился в кабинете Тертеряна, заместителя главного редактора «Литературной газеты», когда туда с полосой в руках влетел Александр Кривицкий, которого многие напрасно считали родственником нашего Евгения Алексеевича Кривицкого. Наш носил собственную фамилию. У Александра Юрьевича она была псевдонимом. Он кипел от злости. «Артур, – сказал он, – ну чт-т-то эт-то т-так-к-кое?» Сильный заика, он помогал себе произносить фразы, притоптывая в такт ногой и дирижируя себе рукой.
– В чём дело, Саша? – вежливо поинтересовался Артур Сергеевич.
– А т-то т-ты н-не з-з-наешь? К-кто т-теб-бе п-ооо-з-зволил в-влез-зать в-в мой м-мат-териал?
– Чем ты недоволен? – спросил Тертерян.
– Почему т-ты убрал слово «п-под-д-оонок» об эт-том ублюдке К-кард-дине?
– Потому что, – спокойно ответил Артур Сергеевич, – мы с тобой не на базаре, а в газете.
– В т-так-к-ом случае, – взвился Кривицкий, – я с-сним-м-аю свою ст-татью.
Однако не снял. Статья в газете вышла. «Подонком» Кривицкий Кардина не называл, но исходил злобой: на что замахнулся Кардин? На священную для советских людей память о 28 героях-панфиловцах, погибших под Москвой в неравном бою с фашистами!
Да, Кардин писал в своей статье о том, как выдумывал и украшал факты в 1941-м корреспондент «Красной Звезды» Александр Кривицкий. Привёл цитату – запись Кривицким своего разговора с секретарём ЦК, начальником Главпура армии А. С. Щербаковым, который поинтересовался у журналиста, кто ему передал облетевшую всю страну после статьи Кривицкого в «Красной Звезде» фразу политрука панфиловцев погибшего Клочкова: «Велика Россия, но отступать некуда: позади Москва!» Ему подсказала эту фразу его патриотическая интуиция, – отвечал журналист.
Да и не все 28 панфиловцев, которых Кривицкий назвал поимённо, а Сталин, как и молодогвардейцев, увековечил, дав каждому героя, погибли. Это утверждение Кардина Кривицкий в своём ответе обошёл молчанием.
Позже выяснилось, что статья В. Кардина прогневала самого Брежнева, которому пересказали клевреты её содержание.
* * *
В ранние годы горбачёвского правления руководил я семинаром молодых поэтов, который проходил в Алма-Ате, а потом побывал вместе со своим семинаром в Талды-Курганской области, заезжал в казахский городок Панфилов, названный в честь знаменитого генерала. Экскурсовод провела нас по скверу, с обеих сторон уставленного бюстами. «Это наша аллея славы, – сказала экскурсовод. – Бюсты героям-панфиловцам изваяны…» – и она назвала фамилию скульптора, которую я, к сожалению, забыл.
– А вы слышали, – спросил я её, когда мы шли с ней в гостиницу впереди сильно отставших от нас молодых поэтов, – что не все панфиловцы погибли?
– Да, – ответила она. – Но руководство считает, что бюсты установлены не погибшим, а героям Советского Союза. Героев было 28.
Кривицкий в «Красной Звезде» утверждал, что поначалу панфиловцев было 29. Но один струсил и несколько однополчан, не сговариваясь, выстрелили в него. Чего, как потом выяснилось, не было.
Да и с теми, кто выжил, всё не так оказалось просто. Иван Добробабин попал в плен, а потом служил у немцев в Харьковской области начальником полиции, за что угодил в советский лагерь. Живы остались Илларион Васильев, Григорий Шемякин, Иван Шадрин, Даниил Кужебергенов. Последнего, прочитав очерк А. Кривицкого, в котором Даниил Кужебергенов погиб раньше других, идя навстречу танкам и не страшась смерти, воспел Н. Тихонов в мгновенно сочинённой им поэме «Слово о 28 гвардейцах»:
Стоит на страже под Москвою Кужебергенов Даниил, Клянусь своею головою Сражаться до последних сил!Однако этой клятвы Д. Кужебергенов не сдержал. Он сдался в плен. И те, кто готовил указ о героях, успели проинформировать вышестоящих об ошибочном включении в него Даниила. Вместо него в указ включили другого Кужебергенова – Аскара. Но он начал службу в дивизии Панфилова в 1942-м, спустя несколько месяцев после боя, описанного Кривицким. И быстро погиб. Помог своей смертью наградному отделу выйти из щекотливого положения!
Любопытно, что подлинные эти факты стали очень скоро известны военной прокуратуре, которая положила документы на стол Жданову. Жданов доложил Сталину, но возмущения от главковерха не услышал. «Оставим всё, как есть, – сказал Сталин. – Люди знают об этом подвиге, и не надо их разочаровывать». Так же впоследствии рассудил и Брежнев.
Представляю, как заводил его Будённый: мол, сколько можно вспоминать о Думенко? Какой из этого предателя герой? Была причина у Будённого ненавидеть бывшего своего командира. Подробней вы можете прочесть об этом в «Независимом военном обозрении» от 12 мая 2006 года в статье полковника Сергея Коломнина «Незабытая порка». А я приведу из неё только одну цитату:
«Однажды к Думенко пришла казачка в разодранном платье и пожаловалась на то, что её изнасиловали бойцы из эскадрона Будённого. Борис Мокеевич, скорый на расправу, тут же вызвал комэска и устроил ему показательную порку за то, что «тот распустил своих хлопцев». Будённый был в бешенстве. Ветераны – «первоконники» вспоминали любопытный эпизод. Когда двое дюжих «думенковцев» срывали с Будённого рубаху и укладывали его для порки на лавку, он в ярости протестовал: «Да у меня полный Георгиевский бант, меня даже офицер при царе пальцем не мог тронуть, а ты меня, красного конника, плеткой?!» На что стоявший рядом Думенко, посмеявшись, ответил: «Да какой ты Георгиевский кавалер, Семён, фантиков себе на базаре навесил, а так настоящие казаки не делают…»»
Не только, оказывается, за порку оклеветал бывшего своего командира Будённый и добился его расстрела, но за публичную насмешку над его «полным Георгиевским бантом» – четырьмя Георгиевскими медалями и четырьмя крестами. Навесить фантиков на базаре – это просунуть голову в отверстие той нарисованной формы, какую выбираешь, чтобы запечатлел тебя в ней фотограф. Сохранилась эта фотография. На ней драгунский унтер-офицер Будённый снят в бескозырке и с аксельбантом, который как раз и свидетельствует о фальшивке. Аксельбант в то время носили генералы, штаб-и обер-офицеры Генерального штаба, военные топографы, жандармы и фельдъегеря, но унтер-офицеру он не полагался. Дочь Будённого рассказывала его биографу со слов отца, за что тот получил в 1916 году все Георгиевские кресты, но показать их, как и медали, не смогла: они были утрачены, и маршал заказал себе дубликаты, то есть подделки под подлинные награды. Коломнин не настаивает, что их не было вообще, он только призывает историков покопаться в архивах, потому что сам он ничего подобного там не нашёл.
Мы с Лёвой Токаревым любили вспоминать встречу Будённого со студентами нашего филологического факультета МГУ. Она проходила на Моховой в знаменитой Коммунистической аудитории. Старого маршала представлял замдекана Михаил Никитич Зозуля. Маршал, судя по всему, красноречием не обладал. Но оживился, вспоминая свою кавалерийскую юность.
– Ведь здесь что главное? – спрашивал он. И отвечал: – Навык! Вы думаете, это просто – шашкой рубать? Вон, – прищурился он и показал пальцем в зал, – как рубануть этого мальца? – И поскольку все завертели головами и повскакали с мест, указал: – Да, да, вот этого.
«Малец» смущённо-неловко улыбался. Он был крепкого сложения, но поджарым, костисто-худым.
– Вот! – сказал маршал. – Как его рубать? Вы думаете, ударил по голове – и дело с концом? А если шашка соскользнёт? А у него ружьё за спиной? Он тут же тебя и укокошит. Нет, здесь особый подход требуется. – Будённый прищурился, как бы выверяя точность операции, и, взмахнув рукой, трубно возгласил: – Под погон и до седла!
«Малец» нервно повёл шеей. В зале хихикали.
Потому, очевидно, никак не проявил себя Будённый в Великую Отечественную, что в кавалерии, начальником которой он был, особой потребности не было, а в танках, артиллерии или авиации он понимал не так хорошо, как в лошадях. Не выпало маршалу получить тогда звезду героя. Это уже после войны, в 1958-м, к 75-летию Будённого присвоил ему Хрущёв это звание, а через пять лет пожаловал старому и преданному ему, как казалось Хрущёву, маршалу ещё одну звезду. И Брежнев продемонстрировал коннику, отмечавшему 85-летие, своё расположение – в третий раз удостоил его геройского звания. Так что «геройский бант» у Будённого имеется. «Полный»! – если учитывать, что больше трёх звёзд героя за подвиги на войне никому взять не удавалось Да и удалось-то лишь двоим: лётчикам Покрышкину и Кожедубу. У Жукова была звезда и до войны, на которой он получил ещё две. А четвёртую – уже после, к юбилею. Что, разумеется, противоречило статусу этой геройской звезды, которая не являлась сувениром, наподобие юбилейного адреса. Но, начиная с хрущёвского правления, именно таким сувениром и стала. Поэтому хоть и существует в яви, в отличие от сомнительного полного Георгиевского банта, «полный геройский бант» Будённого, он та же легенда – коллекция подарков сталинских преемников, с которыми предприимчивый маршал сумел сохранить добрые отношения.
Обслуживавшие режим пропагандисты не хуже В. Кардина знали, что многие советские легенды противоречат фактам. Но такое противоречие было краеугольным камнем, на котором держался режим. Это была его ложь во имя его спасения. Потому и проливался золотой дождь на всех этих павленко, михалковых, марковых, проскуриных, бондаревых и прочих подобострастных, имя которым легион!
Сейчас он льётся на угодных путинскому режиму работников телевидения – ведущих программ, создателей ток-шоу, сериалов, документальных фильмов, воспевающих советское прошлое, по которому тоскуют нынешние власти. Разве только хрущёвское десятилетие они готовы объявить чёрной страницей истории вверенной им страны. Ух, как усердствуют документалисты: был-де, Хрущёв главным сталинским подхалимом, носил тирану списки врагов народа, которых предлагал арестовать. Удивлялся Сталин: «Неужели у нас их так много!» «В следующий раз я вам ещё больше принесу», – угодливо якобы обещал Хрущёв. А доклад, с которым он выступил на XX съезде, – это гнусная холопская клевета на усопшего хозяина. И ни слова в этих документальных фильмах о возвращении невинных из сталинских концлагерей, о реабилитации миллионов узников, о восстановлении добрых имён невинно убиенных. Ни слова о слегка приотворённой Хрущёвым форточке, откуда потянуло свежим ветром, разгоняющим застоявшуюся затхлость. О начавшемся расселении коммуналок и выселении из подвалов в какое-нибудь более пригодное для людей жильё. О том, что «ярём он барщины старинной оброком лёгким заменил», то есть облегчил жизнь колхознику тем хотя бы, что отдал ему на руки паспорт, при Сталине хранившийся в сейфе председателя. Входил, конечно, Хрущёв в когорту сталинских вождей, на совести каждого немало тысяч арестованных и казнённых. Море невинной крови пролил Хрущёв на Украине и в Москве, которыми по очереди руководил. Но расстрельные списки наиболее именитых, наиболее известных Сталин доверил подписывать только пятерым своим соратникам: Молотову, Маленкову, Жданову, Кагановичу, Ворошилову. Особая честь им была оказана, и они из кожи вон лезли, чтобы оправдать доверие Хозяина. Не просто ратовали за расстрел, но письменно обливали обречённых грязными, порой нецензурными ругательствами. Знали, что это нравится Сталину. Кагановича демонизировали все, для кого было важно его этническое происхождение. Помню, как сокрушался Валентин Распутин, что не вывел Рыбаков в своём романе «Дети Арбата» такую зловещую фигуру, как Каганович. К остальной четвёрке он относился благодушно. Как, впрочем, и его товарищи – «патриоты».
Особенно полюбился им Молотов. Феликс Чуев в том числе и за книгу, где записал свои разговоры с этим сталинским сподвижником, был удостоен к своему юбилею Сажи Умалатовой, председателем постоянного президиума съезда народных депутатов СССР, звания героя социалистического труда. Конечно, с одной стороны, награды этого существовавшего при Ельцине нелегитимного органа власти вроде всерьёз не воспринимались, но, с другой стороны, очень много серьёзных, влиятельных людей их добивалось. Так что праздное дело – задаваться вопросом, почему Ельцин не разогнал самозванцев. Не захотел, стало быть, связываться с теми, кто за ними стоял! А те, кто за ними стоял, обозначили себя достаточно откровенно после ухода Ельцина, когда Умалатова возглавила движение в поддержку политики президента РФ В. В. Путина. И не удивительно, что она создала такое движение: среди учреждённых ею наград есть не только орден Сталина, но и медаль «80 лет ВЧК-КГБ»! Так что к выходцам из этой организации она относится не менее трепетно, чем к усатому вождю и сохранившим ему, несмотря ни на что, преданность соратникам. Да и как же не возглавить Умалатовой движение в поддержку политики нынешнего президента, если в его политике ныне воплощаются самые смелые чаяния Сажи! Вот, к примеру, недавно прошла презентация книги о Молотове, написанной его внуком политологом Вячеславом Никоновым. Среди посетителей – секретарь Совета безопасности Игорь Иванов. Одобрял внука. Хвалил его деда. Понимай, что сам Путин хвалил. Иначе посмел бы высунуться Иванов с демонстрацией своих симпатий? Ему ли не знать, как относятся в его же компании к тем, с кем не согласен главарь!
Понятно, что и телевизионщики не осмелились бы клеветать на Хрущёва, если б и это не было по душе Путину. Хрущёв – старая кровоточащая рана сталинистов: выволок Сталина из мавзолея! И у чекистов кровоточит и не заживает: наговорил на магнитофон мемуары, которые издали на Западе. А на Запад у госбезопасности застарелая аллергия. Запад с наслаждением ругают все – от яростного Алексея Пушкова или оголтелого Михаила Леонтьева до любящих многословно порассуждать Сергея Маркова или украшать свои опусы латинскими изречениями и экскурсами в мировую историю Максима Соколова.
Только что убили Анну Политковскую, храбро писавшую о преступлениях тех, кто развязал войну в Чечне, о воцарившемся там с помощью Путина клане Кадыровых, бывших боевиков, действующих и во власти бандитскими методами. Вызволяла Политковская из неволи заложников. Появлялась в горячих точках, чтобы донести до читателя увиденное ею, добытое в результате опроса свидетелей – местных жителей.
Ей угрожали, её запугивали. Однажды российская госбезопасность устроила ей в Чечне жестокий спектакль – продержав несколько дней в тюремной яме, её повели якобы на расстрел. Чекистам пришлось разочароваться в собственной режиссуре: страха Анна не выказала.
* * *
Что Путин будет хранить молчание по поводу этого убийства, наверное, не удивило даже Бориса Аврамовича Кузнецова, о котором – помните? – я уже рассказывал: он присутствовал при встрече Путина с родственниками погибшего экипажа подлодки «Курск». Но после «Курска» был «Норд-Ост», был Беслан, и реакция президента стала привычной: Путин не спешил высказывать соболезнования погибшим. Не стал спешить и сейчас. Возможно, вообще бы промолчал, если б не оказался в Дрездене, и журналисты не спросили его, что он думает об убийстве Политковской.
Вот что он думает:
«Это убийство нанесло России больший урон, чем публикации А. Политковской».
Ему внимали, и он продолжил:
«Но я думаю, что журналисты должны это знать – что степень её влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной. Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но её влияние на политическую жизнь в России было минимальным».
Не знаю, как кто, а я, читая этот пассаж, вспомнил людоедскую поговорку: «Труп врага сладко пахнет!»
Прежде всего потому, что единственным человеком в России, кто оказывает влияние на её политическую жизнь, является сам Путин. Уже премьер, или председатель Конституционного суда, или спикеры палат не оказывают на неё никакого влияния. Даже минимального. Все нити в руках президента. Он как кукловод. Управляет той или иной фигурой в политическом своём театре. Анна Политковская в его постановках не участвовала. И он с неадекватным моменту удовольствием подводит итоги политической деятельности своего непримиримого оппонента, стоя, так сказать, над его свежевырытой могилой.
Не был актёром путинского политического театра и Александр Николаевич Яковлев. По своей удивительной честности и с самим собой, и с другими он мне напоминал Андрея Дмитриевича Сахарова. Книги Яковлева, изданные в последние 10–15 лет его жизни, свидетельствуют о его редкой моральной чистоплотности: да, он верил в социализм с человеческим лицом, не сомневался в порядочности Ленина, а потом ужаснулся своей вере, столкнувшись с неопровержимыми фактами. Понял, какое страшное это дело – манипулирование утопией. Оценил, что на самом деле представляли из себя такой деятель, как Ленин, и такое социалистическое общество, как советское. И эту веру, и его сомнения в ней, и его развенчание её зафиксировал в своих книгах, каждая из которых подобна новому витку спирали его исповеди, в которой не щадит Александр Николаевич прежде всего самого себя. Во время похорон этого выдающегося человека президент вёл себя соответственно – прислал представительствовать маленького кремлёвского чиновника, приказал телевидению как можно меньше уделять внимания этой смерти. Но президент не стал тогда сам публично унижать покойника. За него это сделали политические обозреватели, не преминувшие выругать усопшего: какой, дескать, монолит раздробил – какую могучую страну разрушил!
А здесь от Кадырова, которому Политковская незадолго до этого пожелала на день рождения оказаться на скамье подсудимых, и от силовиков, которым Политковская своими публикациями указывала на ту же ожидающую их скамью, Путин отвёл подозрение, что кто-нибудь из них мог «заказать» журналистку. Они не могли, могли другие: «Некие скрывающиеся от правосудия силы давно вынашивают планы принести кого-нибудь в жертву, чтобы создать в мире антироссийские настроения».
Евгения Альбац в «Ежедневном журнале» уже сравнила такое заявление со сталинским – после убийства Кирова. Людоед тоже указывал прокурорам, где следует и где не следует искать. А что наша прокуратура не менее понятлива, чем сталинская, она не раз уже демонстрировала: так что след взят!
Я придал бы ещё большей объёмности сравнению Альбац: оба они – Сталин и Путин демонстрируют одинаковую бедность фанта – зии: один завёл пластинку про троцкистско-зиновьевский блок, другой – про Березовского и Невзлина. Обе – заезженные.
Всё это было бы смешно, когда бы не зависела Россия от своих правителей, когда бы не зависела нынешняя Россия от президента, не замечающего, что в ненависти своей, он проговаривается по Фрейду, ибо если влияние Политковской на политическую жизнь страны было «незначительно» и «минимально», то какой урон могли бы нанести России её публикации!
Между тем нанесли, и Путин подтверждает это, не уточняя, правда, кому именно – какой России? Но это очень легко вычислить.
Той России, что устала от беспредела президентской администрации и президентских наместников, униженной и обворованной ими, статьи Анны Политковской помогали держаться, напоминали о том, что совесть и достоинство – категории непродажные. А той, что ежедневно появляется на телевизионных экранах в глянце, в самодовольстве, не желающей видеть реальности, – такой России публикации Политковской наносили огромный урон. Они разоблачали ложь этого фальшивого блеска.
Так что, преуменьшая влияние на читателей статей бесстрашной журналистки, президент тоже отворачивался от реальности. Как будто от этого она перестаёт существовать и тревожить!
Некогда провозгласил Евгений Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт». Анна Политковская была больше, чем обычный газетчик. Она отстаивала право писать правду, называть вещи своими именами. А такое право непереносимо для тех, кто пытается заморочить головы гражданам.
Помню, какой визг раздался в «патриотическом стане» в конце восьмидесятых – начале девяностых годов: не писал Лермонтов стихотворения «Прощай, немытая Россия»! Не мог Михаил Юрьевич сказать о России: «Страна рабов, страна господ»!
И никому из оголтелых охранителей России не пришла в голову простенькая мысль: почему же, если не читал подобных стихов Лермонтова Николай I, он, узнав о гибели юноши-поэта, отозвался о ней даже ещё резче, чем Путин о гибели Политковской. «Собаке – собачья смерть!» – сказал царь о поэте.
Как-то попалась мне на глаза статейка Владимира Бондаренко о поэте Олеге Чухонцеве. Отмечает Бондаренко достоинства стихов Олега, но журит его: нехорошо, дескать, по молодости, конечно, написано, но как можно было вообще написать такое: «Прости мне, родная страна, / за то, что ты так ненавистна!» А я, перечитывая это раннее стихотворение Олега, вспоминаю весну 1968 года, дом творчества писателей в Голицыне, наши с Чухонцевым долгие прогулки по опушке леса, вокруг пруда, наше приникание к «Спидоле», откуда доносились вести из пока ещё не оккупированной советскими войсками Чехословакии. Официальная пресса неистовствовала: «антикоммунистический переворот!» Было ясно, что Брежнев с товарищами не позволят Дубчеку, Смрковскому и другим осуществить обещанные народу реформы. На как далеко готово зайти наше руководство? Хотелось думать, что войска оно не введёт. И в то же время именно этого мы и опасались. Стыдно было бы (а потом стало стыдно!) ощущать себя оккупантом! Ненавистно было читать и слушать наших пропагандистов, впавших в транс, призывавших власти навести порядок в чужой стране!
Как можно так – о родине! – корил Чухонцева Бондаренко.
Можно, потому что родина – понятие не абстрактное, а совершенно конкретное, потому что, приватизировав, как мы бы сейчас сказали, родную Чухонцеву страну, брежневский режим вовлекал всех её жителей в соучастники преступления!
Что ж, рассудит затвор затянувшийся спор? Нет, что мне до чужого наречья! Я люблю свою родину, но только так, как безрукий слепой инвалид. О родная страна, твоя слава темна! Дай хоть слово сказать человечье. Видит Бог, до сих пор твой имперский позор у варшавских предместий смердит. Что ж теперь? Неужели до пражских Градчан довлачится хромая громада? Что от бранных щедрот до потомства дойдёт? Неужели один только Стыд?Олег не зря обозначил Стыд с большой буквы, выразив этим ту тоскливую неловкость, с которой придётся смотреть людям в глаза, то гадостное ощущение, что и тебя заподозрят в причастности к разбою!
Лет пять назад ехал я вместе с паломнической группой во Францию, в знаменитую бургундскую экуминистскую общину «Тэзе» на автобусе через Польшу, Чехию, Германию. Границы проскакивали довольно быстро. И вдруг – остановка: чешская граница. Стоим час, стоим второй, кажется, будем стоять третий. Все шумят: в чём дело? И сравнительно молодой таможенник нам отвечает: «Вы, русские, по моей груди двадцать лет на танках ползали. Постойте теперь, почувствуйте доброе отношение к вам чешских граждан!»
Понимаю, что такие вещи Бондаренко вряд ли впечатлят. Так я это и не для него пишу. Я пишу для тех, кто сохранил в себе совестливость и стыд, кого оскорбляет не то, что тебя не боятся, а то, что тебя могут отождествить с бесцеремонной и грубой силой.
«Гражданственность – талант нелёгкий», – сказал когда-то Евгений Евтушенко.
Сам он, увы, далеко не всегда воплощал в стихах такую формулу. Стихи Евтушенко меня трогали разве только в юности, в конце 50-х – начале 60-х. Мы с ним одно время приятельствовали. Мне нравился человек Евтушенко – щедрый, наивно-хвастливый, незлобный. А поэт Евтушенко разочаровывал крупными провалами вкуса и излишней болтливостью. К тому же не мог я принять того цинизма, с каким он торговался о публикации своих стихов с Чаковским. «Мои требования вы знаете: одно – против, четыре – за!» – «Нет, Александр Борисович, давайте два на три!» – «Женя, не проходит! Четыре – за, одно – против!»
«За» и «против» – речь шла о советской власти.
И всё же и Евтушенко написал стихотворение «Танки идут по Праге». И Евтушенко, узнав об аресте Солженицына, помчался на почту, чтобы дать протестующую телеграмму Брежневу.
А что сейчас? Закрыли фонд Ходорковского. Заставили Букеровский комитет отречься от своего спонсора и… Праздник продолжается! Объявлен, как водится, короткий шорт-лист. В него вошли произведения Петра Алешковского, Захара Прилепина, Дины Рубиной, Ольги Славниковой, Дениса Соболева, Алана Черчесова. Победитель решением нового спонсора – международной нефтегазовой компании НР – получит 20 тысяч долларов (при Ходорковском было 15. Так что лишние 5000 – это иудины сребреники!). Остальные пятеро – по тысяче. Понятно, что газонефтяников, которых опять-таки понятно, кто у нас в стране патронирует, такая сумма не разорит. А писателям получать её стыдно не будет? Их ладони не обожгут ассигнации при воспоминании о многолетнем благодетеле Русского Букера, ныне тюремном сидельце? Да и станут ли о нём вспоминать?
А кто из писателей заступился за Акунина, на которого обрушилось Управление по налоговым преступлениям? Ведь не считать же действенным заступничеством фразу из открытого письма Русского Пен-центра Путину (об этом письме я ещё поговорю), где, к сожалению, не очень внятно наряду с униженными московскими грузинами упоминается фамилия писателя. А между тем вдумайтесь: по налоговым преступлениям! – в преступном укрытии налогов подозревается успешный и популярный автор издательства только лишь потому, что его настоящая фамилия (Б. Акунин – псевдоним) грузинская. Москвич по происхождению, учёный-японист, знаток русской истории и старой Москвы, только лишь из-за фамилии Чхартишвили подозревается в нарушении закона. Как и другие россияне с грузинскими корнями.
«Они начали первыми!» – слышу я возмущённые крики. Ну что ж, давайте вспомним, с чего всё началось. В Грузии арестовали четырёх русских офицеров. Власти утверждали, что все четверо – офицеры ГРУ российского Генштаба. Некий бывший сотрудник спецслужб, специализировавшийся на кавказских проблемах, ответил на это так («Московский комсомолец», 29 сентября 2006 года):
«Нет никаких сомнений, что захвачены сотрудники ГРУ Генштаба. Однако надо понимать, что они выполняют в Грузии не подрывную деятельность. Это обычное региональное подразделение, занимающееся сбором информации. Причём, как правило, открытой. Их задача – сбор и анализ ситуации. Надо понимать, что никаких секретов для нас в грузинской армии нет. А следовательно, ничего тайного они сделать не могли. Так что со стороны Грузии это классическая провокация».
«Форсисто сказано», – снова вспоминается Зощенко. ГРУ – это Главное разведывательное управление. Его сотрудники – разведчики. Их задача – сбор информации. Какая информация интересует разведчика? Наверное, всё-таки не та, каков курс грузинского лари по отношению к рублю! И не может быть, чтобы нас вовсе уж не интересовали секреты в армии существующего уже 15 лет независимого государства! Интересовали и интересуют. Для того и разведчики в чужой стране находятся, чтобы выведывать секреты!
Но ладно. Арестованные офицеры отпущены и вернулись в Россию. Конфликт улажен? Ни в коем случае! Он только начинает разгораться. Объявлена всесторонняя транспортная блокада Грузии. Отозван российский посол. Сотрудники посольства со своими семьями эвакуированы в Россию. Прекращены любые двусторонние связи. Отменены гастроли грузинского театра.
И понеслось. И завертелось. Каждый день новые сводки с фронта: столько-то грузинских мигрантов-нелегалов выявлено и депортировано на родину в Москве, столько-то в Петербурге, столько-то в других российских регионах. Приказано отлавливать не только тех грузин, кто занимается воровством и разбоем, но грузин вообще. Потому что они грузины. Как Б. Акунин. Как родители юной фигуристки Елены Гедеванишвили, о которой ещё совсем недавно восторженно писала наша пресса и которая только что вышла победительницей международного турнира в Австрии. На днях её родителей выслали в Грузию.
Мужественных людей не много. Как сообщило радио «Эхо Москвы», протестуя против геноцида, известный актёр Станислав Садальский обратился в посольство Грузии с просьбой предоставить ему грузинское гражданство. Сомневаюсь, что российские власти будут к подобным поступкам благодушны. Политической шпаны сейчас в стране много. Задержали, к примеру, на таможне англичанина. Он пытался вывезти из страны авторские работы, в числе которых были карикатуры на Путина. Приобрёл их в галерее Марата Гельмана. И вот – надо же какое совпадение! – чуть ли не на следующий день вломились в галерею на Малой Полянке бандиты. Не исключаю версии, что не только из-за англичанина громили галерею и избивали Гельмана, но за открывшуюся там выставку грузинского художника Александра Джикия. Его картины топтали и рвали с особенным остервенением.
Тринадцать человек подписались под заявлением, осуждающим начавшиеся погромы. Выписываю по алфавиту: Лия Ахеджакова, Артур Аристакисян, Леонид Баткин, Сергей Гандлевский, Алла Гербер, Вадим Жук, Михаил Златковский, Зоя Масленникова, Юрий Норштейн, Наталия Трауберг, Артёмий Троицкий, Инна Чурикова, Елена Камбурова. Всё это очень достойные, известные люди – артисты, режиссеры, публицисты, художники. Но писатели? Всего один: поэт – Сергей Гандлевский. Ну, может быть, ещё Наталия Трауберг – прекрасная переводчица Льюиса, Честертона.
А что до открытого письма Русского Пен-центра президенту, то взятый авторами тон не может не удивить. Цитирую концовку:
«Антигрузинская истерия, сейчас захватившая лишь начальство и тех, кто это начальство обслуживает, может перейти в массы. Если это произойдёт, пострадают не только грузины, но и азербайджанцы, армяне, абхазцы, вообще все выходцы с Кавказа. На рынке не будут разбираться, кто грузин, а кто абхазец. А в поликлиниках начнут отказываться от услуг врачей-грузин, как это уже бывало с врачами-евреями во время «Дела врачей».
Мы не политическая партия и не вмешиваемся в политику. Мы не знаем, как разрешить грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликт. Но во всякой политике есть гуманитарный аспект. Народы не должны расплачиваться за действия своих правительств.
С уважением…»
Наверное, всё-таки стоило выбрать не эпистолярную, с сервильными обертонами, форму, а, допустим, форму заявления. Тогда не потребовалось бы разъяснять главе государства очевидные вещи. Вряд ли Путин не понимает, куда может завести страну антигрузинская истерия. И тем не менее остановить её не спешит! А для чего эта оговорка про невмешательство в политику? Да, не дело Пен-центра заниматься политикой, которая, как любил повторять Горбачёв, есть искусство возможного. Но правозащитная организация – та, что обязана заниматься искусством невозможного: мешать властям осуществлять бессовестную политику, нарушающую права человека. Так не обкладывайте возмущение безудержной ксенофобией подушками безопасности!
Впрочем, сошлюсь на чудесного поэта и прекрасного мыслителя – Тимура Кибирова: «Теперь властителями дум стали журналисты, т. е. плохие писатели». А «замена писателей в качестве творцов общественного мнения, – добавил Кибиров, – это, пожалуй, плохо, поскольку, какие бы ни были писатели, пусть уж лучше думы определяли бы они, чем абсолютные ублюдки, правящие бал сейчас».
Кибиров погорячился? Да нет, он – мастер слова, как всегда точен в эпитетах и в определениях.
Вот что предлагает Елена Левицкая, автор статьи «Кондопога», напечатанной во владимирской газете «Молва» (19 сентября 2006 года):
«Ужесточить миграционное законодательство, например, а на нервные вскрики либерально-толерантной Европы не обращать никакого внимания. Начать самую жёсткую – если нужно, самую жестокую, на полное физическое уничтожение – борьбу с этническими преступными группировками. И, безусловно, если обнаружится продажный мент, крышующий бандитов-инородцев, судить его по статье «Измена Родине». Ради этого не грех и отменить мораторий на смертную казнь…»
А сколько таких левицких работает в разных регионах России? Призывая к физическому уничтожению этнических преступных группировок и к введению смертной казни для тех, кто крышует бандитов-инородцев. Тамбовские, солнцевские, ореховские, питерские, смоленские могут, стало быть, не трепетать от страха. Как и те, кто крышует русских бандитов, – им измену родине не пропишут.
* * *
Глупость? Разумеется. Причём очень опасная глупость. Впрочем, как заметил известный некогда литератор Аркадий Белинков, глупость – не отсутствие ума; это такой ум! Очень в данном случае целенаправленный. В сторону от российских интересов, ибо, как недавно показала Югославия, племенная грызня внутри многонационального государства ведёт к неизбежному его распаду. В сторону от великой русской литературы. «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин, – из письма Пушкина брату. – Что он за нехрист? он русской, из перерусских русской». И правда. Так ли уж важно для нас, кем по этническому происхождению был автор «Недоросля»? «Недоросль» оказался «из перерусских русским», и этого вполне достаточно, чтобы считать его автора великим русским писателем. А Фонвизину – именно Россию – родиной, именно русскую литературу – своей, кровной. Как и Тимуру Кибирову, который запечатлел такое чувство в этих изумительных строчках из «Послания Л. С. Рубинштейну»:
На дорожке – трясогузка. В роще – курский соловей. Лев Семёныч! Вы не русский! Лёва, Лёва, ты еврей! Я-то хоть чучмек обычный, Ты же, извини, еврей! Что ж мы плачем неприлично над Россиею своей?И не о том же по сути писал Олег Чухонцев в раннем своём стихотворении?
Фазиль, Булат, Камил, к чему молоться вздору, кто из какой земли, — у вас один замес! Вас бог степей рубил по сосенке да с бору, а вы лозой пошли, Как шёл Бирнамский лес. А вы лозой пошли. А вы ветвями стали. Шумите же смелей колючею листвой, чтоб из иной дали навстречу вышли дали, листву иных ветвей, неся над головой. Машите же, друзья, и пусть вам радость машет! Мы все одна семья, и я вам хвойный брат. Вот вам рука моя на лихолетье наше и вот вам жизнь моя, Камил, Фазиль, Булат!А вот Чухонцев – поздний, его книга «Фифиа», в которой он обновил русскую стиховую систему, – не привил, как Бродский к мандельштамовскому стиху Тредьяковского, а сумел удержать много – стопный белый стих от падения в прозу:
Орест Александрович Тихомиров происходил из немцев, когда стал русским, не знаю, но это спасло его и семью, – других соседей, Шпрингфельдов, мужчин расстреляли, а детей и женщин сослали в Караганду, всё-таки немчура и возможный пособник Гитлеру, то есть своим, а наш брат Иван любит порядок и дисциплину тоже, но со славянским акцентом. Как не хватает всё-таки здешних немцев, думаю я, вспоминая Алтай, кустанайскую степь, фиолетовые луга в росе, в многоярусной дымке, и закаты вполнеба, свист сусликов из степи, и потёмки, камнем падающие на землю…Впрочем, есть в «Фифиа» и рифмованные стихи, прекрасные, на все времена, тоже ставшие сейчас злободневными из-за страшного всплеска ксенофобии в стране:
Под тутовым деревом в горном саду, в каком-то семействе, в каком-то году, с кувшином вина посреди простыни, с подручной закуской – лишь ветку тряхни, с мыслишкой, подкинутой нам тамадой, что будем мы рядом и там, за грядой, Амо и Арсений, Хухути и я, и это не пир, а скорей лития. Как странно, однако, из давности лет увидеть: мы живы, а нас уже нет.«О, никогда не порвётся кровная неизбывная связь русской культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что с неё нам уйти некуда. Но она ещё много раз будет размежёвана и перепахана по-иному. И самое имя того, кто дал эту землю и полил её своей кровью, порой будет забываться» (Владислав Ходасевич).
Ходасевича мог часами читать поэт Евгений Винокуров, один, пожалуй, из самых давних моих знакомцев, с которым мы, несмотря на значительную разницу в возрасте, как-то очень быстро перешли на «ты». Женя часто ездил за границу и неизменно привозил оттуда книги философов, художников, поэтов, изданных там.
– Как ты не боишься? – удивлялся я.
– Боюсь, – отвечал он. – Но захожу в книжный магазин и не могу удержаться.
– А если досмотрят? – спрашивал я, имея в виду наших таможенников.
– Отберут, – пожимал он плечами. – Но пока, слава Богу, не трогают.
А чтобы не трогали и выпускали за рубеж, он вёл себя осторожно: был, так сказать, внутренним эмигрантом, но власти об этом не догадывались. Он не подписывал никаких писем в защиту гонимых, но и от коллективных, погромных уклонялся. Тактика, выбранная им и Константином Ваншенкиным, была нехитра, но помогла обоим не замараться. «Пора!» – звонил Винокуров Ваншенкину или Ваншенкин Винокурову. С Константином Яковлевичем Ваншенкиным мы сблизились позже, но я знал, что означает его сигнал, поданный Жене, или винокуровский – ему. «Пора залечь на дно!» – говорил об этом Винокуров, и действительно – дозвониться до него в такие периоды было невозможно. В доме на улице Фурманова (теперь Нащокинский переулок) никто не брал трубку. Или брала старая няня Тани – жены Винокурова: «Их нету!» – и сразу же обрывала разговор. Не появлялся Женя и в Литинституте, где вёл семинар (потом приходил с неизменно безупречно оформленным – не придерёшься! – бюллетенем). Поскольку мы жили неподалёку друг от друга, мы с ним нередко прогуливались по Гоголевскому бульвару. Слушателем Женя был неважным, но рассказчиком блистательным и умно-язвительным, так что говорил в основном он. Однако «залёгшего на дно» Винокурова невозможно было встретить на бульваре. И поднимался «со дна» он не на следующий день после публикации чего-либо мерзопакостного, – выдерживал паузу, чтобы всё это выглядело правдоподобно.
И ещё одна любопытная деталь – ни Винокуров, ни Ваншенкин не стремились занять какие-либо руководящие должности, хотя обоим их не раз предлагали. Не стремились из тех же соображений. «А не полез бы в секретари, не вмазался!» – жёстко сказал Женя про Рекемчука, который жаловался, что его заставили участвовать в чьём-то исключении из Союза. «Но ты же член правления большого союза», – говорил я. «Ну и что? – спрашивал Женя. – В правлении больше ста человек, всегда можно увильнуть». «А если потребуют подписать всех поимённо?» – насмешничал я. Он пугался. Замолкал. Уходил в себя. А потом тряс головой: «До этого они никогда не додумаются!»
Так вот о любви Винокурова к Ходасевичу. Прихожу к нему как-то в квартиру в Токмакове переулке, куда он переехал после того как выселил Генштаб писателей из легендарного дома на улице Фурманова, снёс его и построил другой – генеральский, роскошный по тем временам. Женя встречает меня с томиком Ходасевича в руках. «Слушай, – говорит он, – а ведь как точно назвал свою речь Владислав Фелицианович. Лучше, чем Блок».
Оба они – Блок и Ходасевич – выступали в петербургском Доме литераторов, на вечере, посвящённом 84-летию со дня смерти Пушкина.
– Блок, – говорю, – тоже точен: «О назначении поэта».
– Скучное, – возражает Винокуров, – название. Вроде Эйхенбаума – «О поэтических приёмах Пушкина» (тоже выступление на том же вечере). А «Колеблемый треножник» – это тебе и гордое: «Ты – царь. Живи один», и гневное: «Подите прочь, какое дело / Поэту вольному до вас», и насмешливое: «В детской резвости колеблет твой треножник».
– Но Блок, – начинаю спорить, – говорит о сыне гармонии. Поэт должен понять своё назначение.
– А Ходасевич о том, что не поймёт поэт своего назначения, – и Женя прочитал приведённую мной здесь цитату. А когда закончил, сказал: – Видишь, как воспринималась поэзия Пушкина в начале двадцатых, – как колеблемый треножник! А как ты его зафиксируешь, если он всё время колеблется. Потому и нет сейчас настоящих поэтов, что никто не понял Пушкина. Отдельные удачные стихи есть. А поэтов нет.
Не любил Винокуров современную поэзию, хотя протежировал многим. Особенно молодым из своего семинара. Впрочем, их тоже не хвалил. «Хороший?» – спросят его в редакции, куда он принёс проталкивать стихи питомца. «Способный, – ответит, – будет печататься, обкатается, может, и выйдет из него толк!»
– А всё-таки, – говорю, – верил Ходасевич, что никогда (подчеркиваю голосом) не порвётся связь нашей культуры с Пушкиным.
– Это он себя уговаривал, – заключал Женя. – Говорил, что не порвётся, а констатировал, что рвётся. Страшное своё ощущение передавал. Для Владислава Фелициановича Пушкин – это вершина культуры, её кульминация. Он жил Пушкиным.
Я не был согласен с винокуровским приговором живущим рядом с нами поэтам. Не соглашался и с тем, что никто из них не понимает Пушкина. Но то, что Пушкиным следует выверять любого поэта, не вызывало у меня никакого протеста. И сейчас я в этом уверен.
Я и в «Стёжках-дорожках» приводил пушкинское: «Цель художества есть идеал». Причём слово «идеал» подчёркнуто самим Пушкиным.
Мой тесть, конструктор, о котором я здесь уже писал, облучился на испытаниях и спустя несколько лет умер от белокровия. Недавно, накануне праздника Покрова (дня его смерти), ездили мы с женой на Новодевичье кладбище прибрать его могилу и положить цветы. Постоял я и у могилы похороненного неподалёку Сергея Ивановича Радцига, легендарного многолетнего преподавателя античности. Мы в университете застали его маленьким румяным старичком. О его плаксивости вспоминают многие. Нам он читал латынь, а на курсе Лёвы Токарева, который был старше нас на два года – древнегреческую литературу. «Задаёт наводящие вопросы, – рассказывал мне Лёва уже в «Литературной газете», как Радциг принимал у них экзамен, – умоляюще смотрит на студента, но, поняв, что тот не ответит, громко рыдает: «Заросла! Заросла народная тропа!»»
Мне рыдающего Радцига видеть не приходилось, но одну его лекцию по древнегреческой слушать довелось. Образовалось окно в занятиях: кто-то из преподавателей заболел, и я, чтобы не слоняться бесцельно в ожидании следующей лекции, заглянул в аудиторию, где читал другому курсу Радциг. Он рассказывал об идеале древних греков. Даже не рассказывал, а, лучше сказать, парил от восторга: Олимп, Олимпийские игры, посвящённые богам, герои, исповедовавшие идеал, связанный с теми или иными покровительствовавшими им богами, наконец, Гомер, величайший художник, первым постигший природу искусства, цель которого – идеал.
Заканчивал свою страстную лекцию Радциг цитатой из малодоступной тогда статьи Гоголя, которая входила в его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», напечатанную к тому времени только в академическом собрании сочинений писателя. Гоголь говорил об «Одиссее», которую перевёл Жуковский. «Тот из вас, – сказал Радциг, – кто постигнет древнегреческий и прочитает «Одиссею» на нём, поймёт, что перевод очень хорош, но оригинал намного лучше. Однако Гоголь не зря радуется, что «Одиссею» прочтут теперь русские люди». И он процитировал:
«Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как своё законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времён патриархальщины, с которым есть такое сродство в русской природе, разнесётся невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесёшь в них никакими законами и никакой властью!»
Эта лекция перевернула мою душу, заставила по-новому взглянуть на мир и на место в нём искусства. А гоголевскую цитату я вынес в эпиграф той главы одной из моих книг, где речь идёт о вечно удерживающем искусство на поверхности идеале, без которого оно рухнет в пропасть. Как это мы наблюдаем сейчас.
Присутствуем ли мы при конце христианской культуры, как считают многие, или нет, нам знать не дано. Лично я вообще не убеждён, что культура конечна. По-моему, она всегда сопровождает земную человеческую жизнь. Античная или средневековая, атеистическая или христианская, она – культура, если её благоухающими устами навевается на человеческие души то, что делает их в свою очередь благоухающими – устремлёнными к истине. А потребность в такой культуре, на мой взгляд, неизбывна. Хотя действительность нынче во многом работает против подобного взгляда.
* * *
Держался-держался московский департамент по образованию и сдался: с будущего года вузы принимают вступительный экзамен по литературе только в формате ЕГЭ. Сочинение остаётся для поступающих на филологический факультет МГУ. У нас, в МПГУ, стало быть, его не будет. Я говорил уже здесь, каковы нынешние студенты, магистры и даже аспиранты у нас. Могу себе представить, с какими столкнусь через год-два!
(А может, не столкнусь! Вдруг объявили мне о сокращении: увольняйтесь, дескать, с 1 января. А потом выяснилось, что нельзя сокращать преподавателей в середине учебного года. Так что продлят ли со мной договор в университете – неизвестно!)
«За последние семь-восемь лет школьники стали читать примерно на 30–40 % меньше, – рассказал корреспондентам «Новых Известий» (2 октября 2006 года) президент Фонда образования РФ Сергей Комков. – Главная причина снижения интереса к чтению заключается в изменении акцентов преподавания литературы, которая сейчас фактически низведена до уровня второстепенного предмета. Происходит это, в частности, из-за глобальных изменений в самой системе преподавания. Российское образование всегда носило фундаментальный классический характер. В 90-е годы активно стала внедряться прикладная система преподавания. Дети стали учить только то, что им напрямую может пригодиться в жизни. Уже 1,5 поколения учатся по этому принципу, а ведь достаточно трёх поколений – и вернуться к прежней системе будет уже нельзя. Так произошло, например, в Америке. Поэтому-то мы сейчас и бьем тревогу».
Поэтому и я снова и снова возвращаюсь к проблеме, о которой здесь уже писал. Ещё полтора поколения – это десять-пятнадцать лет, и люди перестанут испытывать потребность в книге как, так сказать, в душеполезном чтении. Книга станет абсолютно прагматическим продуктом: входит в школьную программу – добросовестные её прочтут, а недобросовестные удовольствуются кратким пересказом сюжета: для сдачи ЕГЭ ничего больше и не надо.
Недавно я прочитал в «Ежедневном журнале» Антона Ореха, который согласен с нынешними изменениями и считает, что детей следует учить только тому, «что им напрямую может пригодиться в жизни»: «Я закончил школу 17 лет назад, но совершенно точно могу сказать, что уже через год после выпускного благополучно забыл всю химию, физику и тому подобное. А кто-то, наоборот, также скоро забыл литературу и историю. Не кажется ли вам, что в школе преподается слишком много того, что потом никак человеку в жизни не пригождается? Цель вроде бы благая: сделать из ученика всесторонне образованную личность, обладающую универсальными знаниями. Но, по-моему, эта благая цель просто не достижима».
Универсальные знания – удел очень немногих. Прежде это хорошо понимали. Для маленьких детей простолюдинов существовали церковно-приходские школы, типа нашей начальной, только более быстрые: обучающие азам чтения, счёта, рисования, пения. Дети состоятельных родителей такие вещи постигали с домашними учителями. А дальше всё зависело от самого ребёнка: что ему ближе? Он склонен к техническим навыкам? Добро пожаловать в реальное училище. Полюбил читать, проявил гуманитарные наклонности? Поступай в гимназию. Но и в реальном, то есть технологическом училище заботились о человеческой душе – в намного, конечно, меньшем, чем в гимназии объёме изучали литературу, историю.
Так ведь именно к такой системе образования и собирались вроде вернуться ещё при Горбачёве. Страшное нынче слово «реформа» тогда значило не копировать западную модель, а восстановить отечественную. Будущий посол России во Франции академик Юрий Рыжов, а тогда ректор МАИ, будущий председатель Высшей аттестационной комиссии академик Николай Карлов, а тогда ректор МФТИ, учредили в своих вузах кафедры культурологии, понимая исключительную важность гуманитарной прививки инженерному мышлению.
«Разве смысл в простом механическом прочитывании, заучивании фабулы и имен главных персонажей? – спрашивает А. Орех (точности ради скажу, что он подписывается с ятем на конце: Орехъ). И констатирует: – А по программе получается, что так». И ещё: «Так ли важно, произошла Куликовская битва в 1380 году или двумя годами позже или раньше? Гораздо важнее, чтобы ученик понимал, почему она произошла, какие причины привели к этому и какие были последствия. Даты, так или иначе, сотрутся из памяти, кроме самых важных, а вот понимание останется. Но в школе, да и в вузе людей не учат думать!»
В том-то и дело, что фабулы и имена главных персонажей, знание точных дат, когда чего происходило, необходимо давать в специальных гуманитарных школах. Там это действительно невероятно важно. Филологу следует углубляться в произведение, изучать его всесторонне и объёмно. Историку – знать не только о том, что происходило в 1380-м в России, но и двумя годами раньше или позже. А, допустим, в физическом или математическом лицее учитель литературы, опираясь на книгу, раскроет детям смысл категории прекрасного, а учитель истории объяснит им причинно-следственные связи событий, происшедших и происходящих в мире. И всё это для того, чтобы образовать душу, учить человека думать.
Но как раз этим нынешние власти озабочены меньше всего. А похоже, что они и не хотят растить мыслящих людей. И в этом своём нежелании удивительно (случайно, конечно!) совпали с теми, кто навязывает России чуждую ей модель образования.
Я писал в «Стёжках-дорожках», что вынес из университета весьма поверхностные знания, но когда занялся самообразованием, то с удивлением обнаружил, что у литературы, как и у математики, есть свои специфические законы.
После, беседуя с читателями «Стёжек», я пожалел, что не уточнил, о каких именно законах вёл речь. Некоторые решили, что я говорил о прикладном литературоведении.
Но я имел в виду «Историческую поэтику» А. Н. Веселовского, мифологическую школу братьев Гримм, А. Н. Афанасьева, А. А. Потебни, теорию романа М. М. Бахтина.
Я имел в виду специфику жанра произведения, его жанровые законы, являющиеся ключом к постижению авторского замысла. Понять, почему так, а не иначе оформлен замысел в произведении, – значит раскрыть смысл художественного творения, вынести о нём объективное, а не субъективное суждение.
Именно поэтому меня чрезвычайно увлёк метод медленного чтения.
Что же до новейших работ, связанных со структурой произведения или с его восприятием читателем, то мне они, как правило, и не представляются научными в точном значении этого слова.
Однажды мне прислали рецензию из зарубежного журнала на мою книжку о Пушкине. Сын помог с переводом с английского. Рецензент книжку хвалил. Но удивлялся, как я мог, анализируя «Пиковую Даму», пройти мимо «Преступления и наказания». А ведь Достоевский, по мнению рецензента, открывает богатейший материал для сравнения. В «Пиковой Даме» – богатая старая графиня и у Достоевского – старуха-процентщица. У Пушкина – как бы убийца графини Германн и в романе Достоевского – рефлектирующий убийца старухи Раскольников. Вопроса, для чего их сравнивать, для рецензента не существует. Скорее всего потому, что он представляется ему риторическим. И не только ему, но сонму наших отечественных учёных, старающихся не отстать от новаций их зарубежных коллег.
Вот передо мной книга «Вершины русской драмы». Вышла в издательстве МГУ. Её автор, заведующий кафедрой института кинематографии, как веслом в бурном море, управляет в литературном плавании по русской драматургии понятием «архетипа», то есть «первоосновы», «оригинала». К примеру, берётся герой фонвизинской пьесы Митрофан. Ему назначена роль «архетипа недоросля» – первоосновы того, кто не дорос, не достиг зрелости. К нему подстёгивается лакей Раневской Яша из чеховского «Вишнёвого сада». Он же не достиг зрелости? Не достиг! К ним – Чацкий из «Горя от ума». Он же не дорос?
До чего не дорос? Ну как же! Ведь ещё Чаадаев сказал однажды: «Мы растём, но не созреваем». Он сказал это не о Чацком? Ну почему же: он это сказал о русском обществе вообще и, стало быть, о Чацком тоже! А можно ли пройти мимо фразы Чацкого: «Отечества отцы»? Точнее, можно ли не вспомнить при этом, о чём молит народ пушкинского Бориса Годунова? «Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами! / Будь наш отец…» «Отцы» – «отец»! Не означает ли это, что (привожу цитату из книги) «Чацкий – сын того народа, который изображён в «Борисе»»? И, кстати, обратите внимание на то, что Чацкий в конце пьесы бежит из Москвы. А пушкинский Отрепьев бежит из монастыря. «…С этой точки зрения, – снова привожу цитату, – фигура Григория в «Борисе» неожиданно близка Чацкому…» И не только ему: «у разных персонажей русской драмы обнаруживается какая-то общность порывов…», например, у Подколесина из гоголевской «Женитьбы», который выпрыгнул в окно, или у Хлестакова, тоже бежавшего из безымянного города.
Да, многие мои коллеги, увлечённые прикладным литературоведением, греха здесь не обнаружат. Сколько появляется подобных работ в журнале «НЛО» («Новое литературное обозрение»), в одноимённом издательстве! А сколько подобных тезисов выступлений участников научных конференций вы прочтёте в их брошюрках!
«Книжка Сарнова о Мандельштаме – никакая, – написал мне однажды один из лучших российских учителей, не скрывающий симпатий к постструктурализму, – а книжка Ронена – основная, без ссылки на неё ни одна работа о Мандельштаме не выходит».
Увы, количество ссылок на литературоведческую работу (индекс цитирования) стали для многих главным признаком её ценности.
Что ж, в других научных дисциплинах резон в таком измерении есть: коллеги должны оценивать значимость работы учёного, понимать её роль, быть в курсе новаторских достижений в их специальности. Без этого наука развиваться не может, что и доказал чудовищный застой в советской биологии при Сталине, который объявил генетику «лженаукой» и запретил ею заниматься.
Но ещё Пушкин говорил, что критика (так называли литературоведение в его время) есть «наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы». А это значит, что литературоведение имеет дело не с абстракцией, но с живым явлением. Великолепно, по-моему, написал о цели, ради которой существует такая наука, как литературоведение, священник Вячеслав Резников (я напечатал эти слова у себя в «Литературе» ещё в 1994 году): «Когда сквозь совершенство формы гениального художника начинаешь проникать к тем сокровенным пружинам, которые дают героям жизнь и индивидуальность, от которых происходит композиционное движение, то поражаешься, насколько всё у него пропитано поиском смысла жизни». В этом всё и дело! В идеале литературовед обязан не только не упускать из внимания подобный поиск, но понимать, что именно ему и обязано своим существованием любое художественное произведение. «Везде мы видим, – заканчивает свою мысль отец Вячеслав Резников, – либо попытки духовного освобождения, либо духовные искания, либо крайнюю боязнь закрепощения духа, и всегда – острое чутьё ко всему, что напоминает духу о забытой родине». В этом смысле я бы сравнил литературоведа с пчелой, он припадает к книге, как пчёлка к цветку, извлекая из произведения только ему присущий духовный нектар, улавливая и передавая читателю неповторимую, ни на кого больше не похожую авторскую ауру. Это отличает и Бенедикта Сарнова, вникающего в стихи Мандельштама, запечатлевшие, как правило, трагические моменты человеческого существования. Трагически сложилась жизнь самого Мандельштама, однако, как показывает Сарнов, слово поэта одолевало трагедию, гармонически возвышалось над ней. Такая книга поможет человеку выстоять в испытаниях, выпадающих на его долю, ибо каждый нуждается в духовном поиске нравственных ориентиров. А в книге Омри Ронена «Поэтика Мандельштама» он не найдёт ни подобных поисков, ни подобных ориентиров. Книга Ронена из тех работ, в которых, как написала в «Русском Журнале» А. И. Журавлёва, «художественное произведение всё больше становится просто поводом для умственных упражнений в выстраивании всё новых и новых языков описания неизвестно чего, сменяющихся по законам " от кутюр», видимо, под влиянием того, что на несколько десятилетий «рынок захватила» Франция. По последним сведениям, эти построения и вовсе уже неприлично связывать с каким-нибудь конкретным явлением искусства, с произведением». Понятия «подтекста» (переклички с другими авторами) и «контекста» (переклички автора с собой), которыми орудует Ронен, порой кажутся притянутыми за уши. Ну что, скажите, общего между мандельштамовскими строчками о дате собственного рождения: «в ночь с второго на третье / Января в девяносто одном / Ненадёжном году» и пушкинскими из «Евгения Онегина»: «Снег выпал в январе / На третье в ночь»? Сознавал ли перекличку (подтекст) с Пушкиным сам Мандельштам? Сомневаюсь. А могло ли слово «аорта», произнесённое Маяковским «в контексте мировой войны», подтолкнуть Мандельштама написать свою знаменитую строчку «Играй же на разрыв аорты»?
С тем, что такого рода вещи говорят не о любви к конкретному произведению, а о любви к литературным играм, согласны и сами апологеты прикладного литературоведения. Вот кумир постструктуралистов философ Мишель Фуко: «Литературное творчество раскрывается как игра, неизменно нарушающая собственные правила и выходящая за пределы. Цель литературного творчества не в том, чтобы обнажить или подчеркнуть сам процесс произведения, и не в том, чтобы запечатлеть субъект средствами языка; скорее, эта цель в том, чтобы создать некое пространство, в котором постоянно растворяется пишущий субъект». Или Вольфганг Изер, создатель школы рецептивной эстетики, очень авторитетный среди нынешних теоретиков литературы: «Пусть это только игра, но игра, позволяющая человеку моделировать для себя неисчерпаемое множество «пробных жизней», значительно превысить тот опыт, который выпадает на нашу долю в реальной действительности».
Увы, извечная двусторонняя связь «писатель – читатель» оказалась перевёрнутой в той же рецептивной эстетике, которую недаром называют «критикой с позиции читателя». Его, читателя, субъективным ощущениям, переменчивым, причудливым, капризным, посвящены многие тексты классиков и постструктурализма, и психоанализа, и постмодернизма, и феминизма, и Бог знает, каких ещё «измов».
«Автор умер», – ещё в 1968 году провозгласил не менее известный, чем француз М. Фуко философ Ролан Барт. Умер, чтобы уступить место читателю. И читатель резвится.
Прислала как-то провинциальная учительница в «Литературу» сочинение своей ученицы по гоголевской «Коляске». Прочитав его, я удивился: с одной стороны, мыслила школьница неординарно, но с другой – почему-то всё время называла гоголевского героя Черток-рутским. Неужели и учительница не замечает говорящей фамилии у Гоголя – Чертокутский? Почему не растолковала ученице, что не крутит чёрт героем «Коляски», а устраивает себе в повести самый настоящий кутёж?
– Сочинение неплохое, – сказал я Сергею Дмитренко, поделившись с ним своим недоумением. – Печатать его стоит, но непременно указав девочке на ошибку чтения и показав при этом, как важна для понимания смысла произведения любая гоголевская деталь. Не хотите ответить?
Я знал, что «Коляска» из любимых гоголевских произведений Дмитренко. Серёжа загорелся.
Но когда я прочитал его ответ, удивился, для чего ему толкование в духе фрейдизма: Чертокутский прячется в кармане коляски, как ребёнок в материнском лоне.
– Кого вы обучаете фрейдистскому подходу к литературе? – спросил я. – Школьницу или её учительницу?
– Я, Геннадий Григорьевич, – ответил Сергей, – говорил об этом недавно на научной конференции. Со мной согласились многие. И мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из участников конференции опубликовал мою концепцию как свою. Мне надо спешить с публикацией.
Имеет какое-нибудь отношение обнаруженная Дмитренко фрейдистская деталь к смыслу гоголевской «Коляски»? По-моему, нет. Эта деталь имеет отношение к некой курьёзной игре с текстом или, как принято называть его в прикладном литературоведении, – с грамматическим дискурсом писателя. На Западе, повторяю, подобные игры фактически подменили собой науку о литературе. Ну а что до нас, то, как чаще всего у нас бывает, – куда конь с копытом…
Но почему, спросят меня, так уж опасно рушить национальную систему образования во имя её единения с универсальной западной моделью? Что в этом плохого? Ведь на Западе – открытое общество!
А у нас-то оно пока что абсолютно закрытое! И прежде всего для гражданских (либеральных) ценностей. Не формировать гражданина – значит обречь Россию на вечное существование в ней дикого барства и трусливого холопства.
Да и Западу его модель образования не приносит, на мой взгляд, ничего хорошего. Пока что удаётся сдерживать так называемых антиглобалистов. Что будет дальше – не знаю. Знаю только, что невежество, набирающее общественный вес, – опасно для любой страны.
Потому хотя бы, что невосприимчивые к гармонии сердца оказываются открытыми для самых низменных страстей. Для чего было звать в гости венгерский театр «Крекатор», чей режиссёр Арпад Шиллинг следующим образом раскрывает внутренний мир своих актёров: «Венгерские артисты легко и непринужденно снимают штаны, демонстрируя вид сзади и спереди, в наклонах и разворотах. Одному, с хорошо развитыми ягодицами, дают пописать в стакан…»?
Марина Райкина написала в «Московском комсомольце» (17 октября 2006 года), для чего – попыталась подвести серьёзную теоретическую базу под снимание штанов:
«Однако если абстрагироваться от нахлынувших чувств при виде венгерского многочленства, то можно утверждать, что венгры делают довольно страшную комедию про нашу жизнь. А метод провокации сегодня единственно правильный при разговоре о жизни. Цинизм властей и общества, независимо от территории на земле, достиг такой степени, что показывать его привычными, традиционными способами в театре невозможно по причине их малоэффективности».
Но, судя по её же пересказу, М. Райкина лукавит, сообщая, что венгерский театр обличает цинизм любых властей и любого общества независимо от территории на земле. Сама же Райкина и свидетельствует, кому адресует своё сатирическое действо режиссёр, который «выстраивает трёх мужчин на авансцене, и дама в официальном костюме спускает им штаны, тщательно исследуя их плоть… Строгая дама мужчин нагибает так, что голова следующего объекта упирается в голую задницу предыдущего. Таким паровозиком со спущенными штанами они уходят со сцены. А комментарий на экране сообщает, что население Соединенных Штатов снова выбрало Джорджа Буша».
Не удивлюсь, что такой юмор окажется по вкусу нашим властям. Они и сами склонны шутить в подобном роде. В момент, когда президент Израиля вынужден отбиваться от обвинений в многочисленных изнасилованиях, наш передаёт ему привет, присовокупляя в разговоре с израильским премьер-министром: «Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил. Мы все ему завидуем».
Думаю, что такие вещи не в последнюю очередь объясняют высокий рейтинг нашего президента, которого толпа опознаёт как «своего».
«Когда я сожалел о том, что писатели перестали быть властителями дум, – объясняет Тимур Кибиров, – я имел в виду уже, может быть, и не существующих сейчас писателей с чёткой нравственной позицией, служителей истины, добра и красоты. А отнюдь не Пелевина, Сорокина, Лимонова и прочих подобных, которые, на мой взгляд, являются растлителями. И то, что к ним прислушиваются, не очень меня радует. Когда я противопоставлял писателей и журналистов, я подразумевал, что есть писатели, которые говорят одно, и журналисты, которые говорят другое. Все названные писатели говорят то же самое, что и журналисты, причём уже довольно давно: всё плохо, все циничные, никакого просвета не предвидится, всё продаётся, и иного отношения к миру быть не может. Вообще мир плох, а если мир плох, то почему я должен умерять свои порывы к свинству».
Толпа не нуждается в настоящей литературе, и Путин в ней не нуждается. Толпе нравится нынешняя попса, и Путину она нравится.
Каков поп, таков и приход – эту поговорку я уже здесь приводил. Про то, каков поп, я только что сказал. А каков нынче приход?
«Бульварные романы и детективы лидируют в рейтингах продаж», – констатируют журналисты «Новых Известий» (2 октября 2006 года). «Что же поделать, если нашим клиентам Маринина нравится больше, чем какой-нибудь Бунин? – говорит им исполнительный директор магазина «Библио-глобус» Лариса Голованова. – Маринина же тоже хороший автор». Для того, чтобы «какой-нибудь Бунин» проигрывал в читательском спросе «хорошему автору» Марининой, много потрудились нынешние власти предержащие, убеждённые, что цена книги определяется только рыночным спросом. Много они для этого поработали. Поэтому, слегка перефразируя героиню рассказа Фазиля Искандера, скажу: «Их не жалко, детей жалко!» Детей жалко! Жалко будущей России!
Что проходимец лепит монументы
Понятно, почему его прозвали Мартышкой. Из-за фамилии. Но Мартынов и в самом деле был похож на обезьяну: оттопыренные уши, низкий лоб, вывернутые губы. Правда, для полного сходства не хватало волосяного покрова, но третьеклассников заставляли стричься наголо.
Мы звали его Мартышкой промежду себя. А в лицо – нет. Боялись не столько его, сколько его дружков, которые подстерегали тебя, вооружённые металлическими прутьями. Мартышка жил за Серпуховским валом в страшных Рощинских проездах (их было 6), пересечённых такими же страшными 3-мя Рощинскими улицами. Туда редко кто осмеливался ходить. Из стоящих рядом друг с другом деревянных трущоб несло затхлостью. Во дворах играли в карты взрослые и дети, которые, как взрослые, смолили папиросы (от нашего Мартышки несло табачным перегаром). А когда убирали карты и на столе появлялась водка, к компании присоединялись женщины, приносившие какую-нибудь нехитрую закуску: варёную картошку, солёные огурцы – и визгливо подпевавшие потом пьяным своим собутыльникам.
Мартышка носил с собой не только перочинный ножик, которым исписывал парту. Однажды его поймали в раздевалке с бритвой. Он успел полоснуть ею несколько зимних пальто и затравленно молчал, зло сверкая глазами, когда его спрашивали, зачем он это сделал. Выносить сор из избы дирекция побоялась: инцидент как-то замяли. Но когда через некоторое время чьи-то пальто снова оказались исполосованными, пришлось вызывать милицию.
Однако в детскую колонию Мартышку упекли не за это.
Во дворах Хавско-Шаболовского переулка стояло несколько одинаковых статуй – небольших гипсовых мальчиков Лениных. А подходя к Сиротскому переулку, я шёл в школу мимо ещё одного такого же. Смешно было глядеть на его кудри, неизменно вызывавшие в памяти очень известные тогда строчки:
Когда был Ленин маленький С курчавой головой, Он тоже бегал в валенках И в шубке меховой.А гипсовый Ленин был в летнем костюмчике и в ботинках.
Это меня и веселило: одев Ленина по-летнему, скульптор-копиист словно разоблачил этим поэта, не сообразившего надеть на Ленина зимнюю шапку. А с неприкрытой – пусть даже курчавой, а не лысой – головой по морозу не очень-то побегаешь!
Оказалось, что точно такой же, как у нас, гипсовый Ленин стоит и в жутком дворе Мартышкиного дома. Мартышка с друзьями, забавляясь, закидали статую снежками, а когда металлическими прутьями счищали с неё снег, подъехал милицейский наряд. Ребята разбежались. Милиционеры сумели отловить двух. Один из них был Мартышка. Отколотый нос маленького вождя стоил Мартышке много дороже, чем располосованные бритвой зимние пальто. В школе он больше не появился. Встретил я его лет через восемь, в рубашке с короткими рукавами, открывающими изрисованные татуировкой руки. Я узнал его с трудом. А он меня вообще не узнал – прошёл мимо, не останавливаясь.
Сколько я слышал смешных анекдотов о памятниках Ленина! Но вот – эпизод из нашей с женой жизни. Не менее анекдотичный, чем придуманные истории.
В 1988 году оказались мы в городе Каргополе. Собирали грибы в Архангельской области и решили возвращаться домой не из Плесецка, куда приехали на поезде, а потом рейсовым автобусом проехали километров 80 до большого села. Решили возвращаться из Няндомы, куда рейсовый автобус из нашего большого села привезёт часа за четыре. Приличный, конечно, крюк, но Няндома недалеко от Каргополя, а нам очень хотелось посмотреть древний городок, известный своими причудливыми глиняными игрушками. Приехали. Церкви порушены, изгажены. Хотя и сквозь изгаженность проступает красота. Так что догадываемся, какое архитектурное чудо являли собой церковь Рождества Богородицы XVII века и древний (XVI век) Христорождественский собор. Наверное, со стороны реки Онеги Каргополь выглядит лучше: ведь кое-какие колокольни сохранились, хоть и многие без креста. Но мы-то идём сейчас по городу, осматриваем его не со стороны реки. Заходим в магазин. Покупаем местные глиняные игрушки. Радуемся. Выходим – и оказываемся в самом центре, рядом с райкомом партии, перед которым, как водится, стоит Ленин с вытянутой вперёд рукой. Осмотревшись, видим почти такого же Ленина с вытянутой рукой, который стоит неподалёку на противоположной стороне. Что за чудеса? Нам объясняют, что позади второго Ленина находится райисполком. Раньше в этом доме находился ещё и райком. А потом отцы города построили здание, возле которого мы сейчас стоим. Поставили нового Ленина. Старого собирались установить в другой какой-нибудь архангельской глубинке. Но райком вселился с размахом и уплотняться для бывшего своего соседа не захотел. Райисполком остался на старом месте. И как ты теперь уберёшь Ленина? Ведь это не просто монумент, это фетиш власти – советской и партийной, её символ. Вот и показывают два Ильича друг на друга, своей наглядностью демонстрируя абсурд этой власти.
Последний (в Москве) памятник Ленину рядом с метро «Октябрьская» открывал Горбачёв. Посмотрев на него, он досадливо произнёс: «Ну, не я утверждал проект!»
Было от чего досадовать! На огромном пьедестале вокруг какой-то колоссальной тумбы во весь рост стоят группы рабочих, крестьян, красноармейцев. Тумба как бы вырастает из этой скульптурной группы и вытягивается на недосягаемую для простых смертных высоту, оказываясь подножием для гигантского Ильича.
Так на закате советская власть осуществила свою лелеемую чуть ли не с самого рождения мечту. Конечно, Дворец Советов, ради которого взорвали храм Христа Спасителя, был такой же утопией, как сама власть. Архитектор Б. М. Иофан брался строить дворец, чья высота превзошла бы все имеющиеся в мире небоскрёбы – 350 метров! Причём сам дворец должен быть пьедесталом для семидесятипятиметрового Ленина. Отлить Ленина Сталин поручил своему любимцу скульптору С. Д. Меркурову. Тот предложил ещё больше увеличить скульптуру. Один ленинский указательный палец был бы размером в двухэтажный дом. На ладонь Ленина садились бы самолёты. Не вертолёты, которых тогда не было, а самые настоящие самолёты, которым нужна немалая взлётная полоса. Но если одна только ладонь будет размером с взлётную аэродромную полосу, то каково же должно быть туловище? А голова? Поверил бы нормальный взрослый человек в то, что подобное чудо может быть водворено в центре Москвы на берегу реки? Нет, конечно. Только ребёнка могла увлечь такая мечта. Но о детски неразвитом воображении Сталина я уже говорил: он в это верил.
Наш Филипповский переулок впадает в другой – в Сивцев Вражек. Сделав по нему несколько десятков шагов в направлении к Гоголевскому бульвару, видишь дом с мемориальной доской в честь жившего в нём академика Александра Александровича Богомольца. Крупный был учёный. Его работы так заинтересовали Сталина, что прознавший про это придворный его песнопевец драматург Александр Корнейчук воспел академика в пьесе «Платон Кречет», за что сразу же был избран председателем Союза писателей Украины. А Богомольца, жившего больше в Киеве, чем в Москве, Сталин сделал президентом Украинской академии наук. Присвоил редкое в его время звание героя соцтруда. И до самой смерти академика осыпал того всевозможными наградами и воздавал ему всякого рода почести.
Но, узнав о смерти Богомольца, страшно разозлился. И было отчего: среди прочего учёный решал задачу, как замедлить наступление и развитие старости человека. Для решения этой задачи Сталин дал Богомольцу институт. За книгу «Продление жизни» – сталинскую премию. А тот возьми и умри! В 65 лет! «Всех надул!» – разочарованно и гневно сказал о нём Сталин.
Надувал ли Сталина Меркуров? Приверженец монументальной скульптуры, он и сам был склонен воздвигать гигантские фигуры. На ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, которая стала потом ВДНХ, Выставкой достижений народного хозяйства, а теперь ВВЦ – Всероссийским выставочным центром) и у входа в канал имени Москвы стояли изваянные им Сталины высотою в 25 метров. У входа в канал Меркуров поставил ещё и такого же Ленина. Но того собирали по блокам. А Сталина – нет. Одна только сталинская голова была высечена из монолита и весила 22 тонны. Урони эту голову подъёмники, и Меркуров потерял бы свою. Работы на канале имени Москвы вели заключённые. Парадом командовали высшие чины НКВД. Поэтому прежде чем поднять на 25-метровую высоту сталинскую голову, подняли груз весом в 22 тонны. Груз сорвался. Следующий поднять сумели. Подъёмники выдержали. К счастью для Меркурова, голова монстра благополучно встала на место.
Мы со школьным моим дружком любили прогуляться по Шаболовке, потом – пересекая Калужскую (ныне Октябрьскую) площадь – по Большой Якиманке, ещё не переименованной тогда в улицу Димитрова, которой, впрочем, теперь вернули старое название, выйти к «Ударнику», пройти мимо «дома на набережной», впоследствии описанного Юрием Трифоновым, пересечь Большой Каменный мост и спускаться по Волхонке вдоль глухого нескончаемого забора, на котором был нарисован так и не построенный Дворец Советов. Забор заканчивался, мы переходили дорогу и садились в метро на станции, которая так и называлась «Дворец Советов». Переименовали станцию в «Кропоткинскую», когда котлован, вырытый ещё до войны для дворца, почистили, укрепили и наполнили голубой водой. Забор убрали. Сверху бассейн с подсветкой, с незамерзающей водой и с вышками для любителей водного спорта казался очень красивым. Тем более что рядом с ним разбили небольшой парк с прямыми дорожками между деревьев, по которым мы часто гуляли с моим маленьким сыном.
Виктор Веселовский рассказывал мне, что под трибунами бассейна были не только раздевалки и души. Была сауна для руководящих работников аппарата – с водкой, кремлёвской закуской, пивом, раками и не слишком капризным женским персоналом, в основном медсёстрами. Иногда руководству хотелось чего-нибудь ещё и для души, и тогда приходила к ним в гости команда Веселовского – наш клуб «12 стульев». Угощали, говорил мне Витя, очень неплохо, а порой и расплачивались деньгами, большими, чем по таксе Москонцерта.
Ах, сколько сожалеющих статей можно сейчас обнаружить на различных сайтах в сети, а порой и в печати: могли бы, могли довести до конца строительство! Было бы у нас сейчас в стране одно из самых высоченных на земле строений. Всех выше на Тайване – там стоит какое-то здание больше 500 метров в высоту. Ещё где-то парочка-тройка не намного ниже. Был бы наш Дворец в первой мировой пятёрке.
И неясно только из этих публикаций, а на кой ляд он нам вообще был нужен? Я не считаю тоновский храм Христа Спасителя чудом архитектурного искусства: были и есть в Москве храмы и соборы намного совершенней. Но даже если б не взорвали этот храм, если б для Дворца выбрали какое-либо пустое место, что это бы дало городу? Прибавило бы красоты? По-моему, добавило бы нелепости. Москва, конечно, не сразу строилась, ощущается это в старой её архитектуре, но небоскрёбы её не украсили. Ни нынешние, ни сталинские «высотки». Везде выбиваются они из гармонического пространства, свидетельствуя о дурном вкусе правителей. А Дворец Советов свидетель – ствовал бы ещё о сталинской мании величия, мании грандиоза, которой подвержен, кажется, и нынешний властитель России. «Мы слабые, а слабых бьют», – горестно говорил он в начале своего правления о том, какой принял страну. «Потому что мы большие, и нас боятся», – удовлетворённо ответил он недавно журналистам на вопрос, почему какая-то зарубежная фирма согласилась на не вполне выгодные для неё наши условия. Подростковое восприятие мира!
(Так я, от рождения не слишком физически крепкий мальчик, ходил сперва на стрелку возле кондитерской фабрики «Красный Октябрь» – полуостров Москва-реки, где сейчас на его оконечности стоит церетелевский Пётр, заниматься греблей на байдарке, потом увлёкся гимнастикой, а после неё классической борьбой. Занимался спортом, чтобы постоять за себя перед драчливыми ровесниками. В моём тогдашнем возрасте это было простительно, как простительно в любом возрасте отстаивать право на самооборону. Особенно если знаешь, что милиция тебя не поспешит защитить. Но наращивать военный потенциал страны, принуждая многих её граждан жить за чертой бедности, допустимо только в военное время. В любое другое – это свидетельство подростковой агрессивности властителя. Таких властителей в истории было много. И нынешняя знает немало!)
Ну, а если б построили Дворец Советов, то Волхонка была бы обречена. Музей изобразительных искусств предполагали отодвинуть, а остальные дома сломать, разбив на их месте огромную площадь и стоянку на 5 тысяч автомобилей. Сколько бы оттяпали пространства от Гоголевского бульвара, неизвестно. Но, думаю, что гораздо больше того, какое отрезали от Суворовского (теперь Никитского) при Хрущёве, когда пробивали Новый Арбат и рыли тоннель на Арбатской площади.
* * *
Кстати, о Гоголевском бульваре. Ещё при Хрущёве появлялись в печати статьи, высмеивающие стоящий в начале бульвара памятник Гоголя. Писали, что, кроме фотографического сходства, в этом изображённым скульптором Томским официальном человеке, вытянув – шемся как бы в ожидании награды, ничего от Гоголя нет. «Да и награда-то вот она, – думал я, – рассматривая надпись: «От правительства Советского Союза»». Для полного сходства не хватает какого-нибудь выбитого указа президиума Верховного Совета, как это делалось на стелах в честь городов-героев!
Прежде я был согласен с теми, кто считал, что на место этого преданного советскому правительству Гоголя следует вернуть прежнего, который и стоял здесь с 1909 года, – работы скульптора Н. А. Андреева. Его Гоголя сперва сослали в Донской монастырь, а потом установили во дворе дома, где умер писатель, где он сжёг второй том «Мёртвых душ». Я писал уже, что этот дом № 7 по Никитскому бульвару сделали библиотекой имени Гоголя не так давно. Прежде его занимали разные учреждения, в том числе и журнал «РТ-программы», где я одно время работал.
Как-то мы остановились у этого памятника с Булатом Окуджавой.
– «Божье имя, как большая птица, / Вылетело из моей груди», – процитировал Мандельштама Булат и спросил: – А тебе он не напоминает такую большую птицу?
Сумрачный Гоголь сидел в кресле, уткнув подбородок в плечо. Да, так иногда сидел на моём подоконнике голубь, свернув головку и запустив клюв себе под перья. Я согласился, что есть в них – в голубе и андреевском Гоголе – пластическое сходство.
– Не только пластическое, – сказал Булат. – Да, он похож здесь на птицу, на голубя. Но я говорю о той, которая вылетела из груди Мандельштама. «Божье имя, как большая птица». О чём это?
– О душе, – ответил я.
– Правильно! – обрадовался Булат. И указал на памятник: – Это не сам Гоголь, это его страдающая душа, готовая к отлёту.
Я обошёл круговой пьедестал с вырезанными на нём гоголевскими героями. Они лепились друг к другу, легко узнаваемые по известнейшим иллюстрациям художника Агина, с которым Андреев, очевидно, чувствовал душевное родство. Как и подобает кругу, он замкнут.
«Боже, как грустна Россия!» – вспомнилось мне, что сказал Пушкин, прослушав «Мертвые души». Вот она – гоголевская Россия в этом нескончаемом кругу лиц, масок, харь, рыл.
В том ракурсе, в каком я вновь посмотрел на Гоголя, он был не сумрачным, а усталым. Казалось, что в уголках его губ змеится какая-то слабая улыбка. Я вспомнил, что Владимир Михайлович Померанцев, приходивший к нам в «РТ», рассказывал, что пока он обходит андреевский памятник, несколько раз меняется облик Гоголя.
Да, Булат был очень точен: Андреев запечатлел гоголевскую душу, страдающую в той России, какую художник увидел. А в ту, какую Гоголь хотел бы видеть, его душа верить отказывалась. Отсюда и разлад с душой – душевная болезнь Гоголя, закончившаяся трагически. Кажется, что Андреев изобразил писателя за несколько мгновений до трагедии.
– Напиши об этом, – сказал я Булату.
– Нет уж, – ответил Булат, – я не теоретик, я практик. Это ты напиши об этом.
Об этом я сейчас и пишу.
Так вот о том, почему я разочаровался в идее вернуть андреевского Гоголя на прежнее место. Когда его устанавливали, он вписывался в открывающуюся перспективу Пречистинского (теперешнего Гоголевского) бульвара и расстилающейся перед памятником Арбатской площади, небольшой, обрамлённой невысокими домами и ведущей через себя к продолжению бульварного кольца – к входу в Никитский (одно время – Суворовский), уставленный доходными домами и особнячками. Андреевский памятник высился на этом фоне, то есть притягивал глаз к себе. А на фоне нынешнего Гоголевского бульвара и – главное! – нынешней Арбатской площади теряется даже монумент Томского. Это не значит, что я проголосую за то, чтобы его оставить: я за то, чтобы убирать всё, что не имеет художественной ценности. Проходимцев, лепящих монументы, было много и в сталинское время, и после. И не только лепящих, но и выбирающих, где их устанавливать, куда передвигать подлинно ценные, если они им почему-то мешают.
О том, что 6 июня 1880 года на Тверском бульваре в Москве был открыт памятник Пушкину, вы можете прочесть в собрании сочинений почти любого жившего тогда художника. Нет, они специально об этом не писали, но произносили речи в честь двойного праздника: дня рождения Пушкина и открытия поэту памятника, созданного Александром Михайловичем Опекушиным. Да, этот памятник оказался подарком россиянам, подарком любителям Пушкина. А главное – он украсил Москву. Чуть склонённая в раздумье голова поэта сразу же отвергала мысль о «вознёсся выше я главою непокорной», хотя на постаменте и выбили строки из пушкинского «Памятника». А может, потому и выбили, чтобы напомнить о том, о чём опекушинский Пушкин не размышляет. Он, любящий жизнь, как бы к ней и прислушивается, её наблюдает, её благословляет. Действует так же, как запечатлевший в творчестве своё сущее поэт, для которого с его физической смертью жизнь не заканчивается и который не видит в этом никакой трагедии:
И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою вечной сиять.Поставили памятник в глуби бульвара, не перед самой Тверской. Стоял поэт и сквозь ветки и листву видел высоченную колокольню Страстного монастыря, построенного в XVII веке и расположенного по другую сторону Тверской улицы и тоже в некотором от неё отдалении.
Увы, монастырь сломали и снесли в том году, когда Сталин решил отпраздновать столетие со дня смерти Пушкина, – в незабываемом 1937-м. Точнее, это до недавнего времени он был незабываем как год, положивший начало Большому Террору. А с недавнего одни стали утверждать, что никакого террора не было, другие – что Сталин осуществил возмездие за поруганную ленинской гвардией Россию…
Вот на днях ещё одна версия. «Аргументы и факты», № 42. 18–24 октября 2006 г. Николай Добрюха раскрывает тайны кремлёвских архивов. Рассказывает о документе, переданном Ежову. 109 сотрудников кремлёвского лечебного санаторного управления искажали лабораторные анализы, небрежно хранили яды, назначали не те лекарства, которые требовались, и попускали вредительству в кремлёвской столовой: «В приготовленной пище обнаруживались булавки, вместо сахара оладьи посыпались содой…» Обычные байки чекистов? Нет, святая правда! Потому что, доверительно рассказывает Добрюха, все 109 арестованных – выходцы из прежде состоятельных сословий: «Одно дело, когда работать в больницу пошли бывшие мед-сотрудники или хотя бы неимущие рабочие и крестьяне. И совсем другое, когда медициной вдруг занялись бывшие состоятельные люди, которые прежде никогда не были с ней связаны».
Удивляешься не Добрюхе, удивляешься опубликовавшей это редакции. Неужели не распознала знакомый стиль, каким веет от этих пассажей: «Можно представить себе силу ненависти к советской власти, скопившейся в этих людях, которым эта самая власть сломала всю жизнь!», «На новый «белый террор»… большевики ответили ещё более страшным и беспощадным «красным террором»…»?
Да и сам Добрюха под конец устал от стилизации под Андрея Януарьевича Вышинского. Напрямую обращается к бесценному наследству Прокурора Союза ССР – заканчивает цитатой из его обвинительной речи: «Когда мы говорим об отравлении, то не надо иметь в виду, что для отравления надо применять только цианистый калий, мышьяк и т. д. Нет, очень часто убийцы используют врачей и медицинскую систему якобы для лечения, а на самом деле для того, чтобы добиться своей преступной цели».
Что называется, старые песни о главном!
Так вот, в 1937 году Страстной монастырь снесли. А в 1950-м взялись за Пушкина. Его перенесли аккурат на место колокольни, нарастив фундамент: мелковат показался Сталину памятник по величине. Не по рангу такому поэту! И обаяние разрушилось. Интимный, размышляющий о чём-то своём Пушкин обрёл черты некой государственной монументальности.
А при Хрущёве позади памятника построили огромный кинотеатр, который назвали «Россия». На свою бедную голову утвердил Хрущёв такое название. И без того к нему подозрительно присматривались: не из масонов ли? А как ещё прикажете истолковать пять огромных домов на Новом Арбате, похожих на толстые раскрытые книги? Конечно, это жидомасонский знак! Прославление Торы! Пятикнижия Моисеева!
Разумеется, при самом Хрущёве об этом помалкивали. А после его снятия о подобных вещах хотя и глухо, но заговорили. Заставили, например, секретаря ЦК по идеологии М. Зимянина принять яростного борца с сионизмом В. Емельянова, впоследствии оказавшегося в психиатрической лечебнице. Поведал Емельянов секретарю ЦК, что на юбилейном рубле, выпущенном в честь сорокалетия советской власти, «присутствует масонская символика, образуемая тремя перекрещивающимися орбитами спутников» (см. книгу Николая Митрохина «Русская партия»). И что же Зимянин? Не просто принял информацию к сведению, но довёл её до более высоких инстанций. В результате политбюро приняло решение изъять монеты из обращения и отправить их на переплавку. Ну, а во времена горбачёвской гласности о таких вещах уже криком кричали. Всё, всё было разоблачено: и Пятикнижие Моисеево на Новом Арбате, и эта связка Пушкин – кинотеатр «Россия»!
Она не то что не понравилась, она показалась кощунственной: подумать только, Пушкин стоит спиной к «России», отвернулся от «России».
Нет, кавычки здесь мои. Бесноватые крыли правду без всяких кавычек: Пушкин отвернулся от России! – вот он ещё один жидомасонский знак!
Не помню, у кого не выдержали нервы! Кажется, у Горбачёва. А может, у Ельцина. Так или иначе, но «Россию» переименовали в «Пушкинский».
А на Тверском бульваре, недалеко от того места, где стоял Пушкин, поставили Есенина. Ссылались при этом (да и сейчас ссылаются) на его строчки, обращённые к памятнику Пушкина:
Мечтая о могучем даре Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, В легендах ставший как туман, О Александр! Ты был повеса, Как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в бронзе выкованной славы Трясёшь ты гордой головой. А я стою, как пред причастьем, И говорю в ответ тебе: Я умер бы сейчас от счастья, Сподобленный такой судьбе.Года два назад попалась мне книга воспоминаний о Дмитрии Шепилове, том самом, кто был «и примкнувший к ним» – к противникам Хрущёва, одолев которых первый секретарь выгнал их из ЦК и из партии как «антипартийную группу». Вспоминают о Шепилове тепло, хорошо, порой, быть может, и заслуженно. Но вот – читаю его посмертное пожелание. Среди прочего просит он близкую ему женщину, посетившую умирающего Шепилова в больнице, позаботиться о том, чтобы «приклепали» к его дому «какую-нибудь памятную досточку». Господи! – думаю, – о чём мечтает человек перед смертью! Впрочем, удивляться этому не приходится. Пройдите по любому старому московскому кладбищу. «Член ВКП(б) с 1926 года», «кандидат физико-математических наук», «заслуженный работник культуры РСФСР» – вот что достойно увековечивания, по мнению родственников усопших. О бюстах военачальников на Новодевичьем и говорить нечего: неважно, что лица многих высечены топорно, важно, чтоб были чётко вырезаны каждый значок, каждый орден, каждая медаль!
Да, Есенин так закончил стихотворение «Пушкину»:
Но, обречённый на гоненье, Ещё я долго буду петь… Чтоб и моё степное пенье Сумело бронзой прозвенеть, —подтвердил, стало быть, что и ему хотелось бы такого, как у Пушкина, бронзового памятника. Но при всём желании предсмертную волю Есенина в этом стихотворении мы не найдём. Не собирается он умирать, коль пишет: «Ещё я долго буду петь»!
Известно, что прежде чем захоронить поэта на Ваганьковском кладбище, его гроб обнесли вокруг стоящего тогда ещё на старом месте памятника Пушкина. И этот символический жест представляется мне куда более уважительным по отношению к памяти Есенина, чем материальное его воплощение на Тверском бульваре. Можно, конечно, как это сделал скульптор А. А. Бичуков, представить поэта позирующим перед публикой. Он нередко заносился над другими, задирал других и в стихах, и в жизни. Но как же было не вспомнить его собственного признания, что ощущал он, как «много мук / Приносят изломанные / И лживые жесты»? «У него было чистое и отличное сердце, русское, широкое и свободное, – отозвался на известие о смерти Есенина М. А. Осоргин. И заключал: – Его трудно было не любить». Увы, такую есенинскую характеристику Бичуков не подтверждает. Для чего тогда было браться за монумент, который поставили в самом центре города?
Впрочем, вкусом отцы города не отличаются. Я уже писал здесь, как разрушили они архитектурный ландшафт центра Москвы. А разрушив, украшают монументами, едва ли не похожими на знаменитое художественное изделие Остапа Бендера, за которое его и Кису Воробьянинова погнала в шею администрация лотереи, поверившая было, что имеет дело с художником и его помощником.
Видел ли скульптор Клыков лошадей? А собак? А кошек? Знал ли, в каких случаях задирают животные хвосты? А если знал, то для чего усадил маршала Жукова на коня с задранным хвостом?
А представление о пропорциях Клыков имел? Если да, то неужели всерьёз думал, что задние ноги у лошадей длиннее передних? А ведь таким и вылеплен у него конь Жукова. Читал где-то, что, по мнению специалистов, Клыкову удался конский круп. Что ж, можно поздравить москвичей: Долгорукий напротив здания правительства Москвы сидит, наверное, на менее удачном крупе.
Конечно, скорее всего, через некоторое время статую, стоящую у служебного входа Исторического музея, уберут. Быть может, отдадут в переплавку. Но для чего-то её ставили. Кто-то её установку, как теперь принято говорить, пролоббировал. Кто же? Мэр? Чем, в конце концов, лучше его любимцы – Церетели или Рукавишников? А Глазунов и Шилов? Каждому из них выделены особняки под галереи? И где? В самом центре Москвы, который алчно уже не по десятому и не по сотому разу обшаривают горящие глаза чиновников: что ещё можно продать? на чем ещё нажиться!
* * *
Помню, кто-то принёс в «Литературку» альбом Шилова. Возможно, это был его первый альбом. Сужу по времени: ближе к середине восьмидесятых. Листаем. Бумага хорошая. Лица официальные. Позы сидящих или стоящих одинаковы. Почти одинаковы выражения лиц. Кого всё это напоминает? Рокотова? Боровиковского?
«Портрет критика Юрия Селезнёва». Он тогда ещё, кажется, был жив. Естественно, все впиваются глазами в картинку: Селезнёва в газете знают.
Выпустил к тому времени Селезнёв книгу о Достоевском в «ЖЗЛ». И на портрете стоит, опираясь на книгу, на которой чётко выведено «Достоевский», но не серийная эта книга, не жезеэловская, может, самого Достоевского? «Всегда стоял за правду», – вдруг завертелось в голове. Ну, конечно! Какой тут Рокотов? Какой Боровиковский? Чартков из гоголевского «Портрета», обслуживающий богатого заказчика: «Гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука опёрлась на книгу, на которой бы чёткими словами было написано: " Всегда стоял за правду»»!
Делюсь этими впечатлениями с другими. Смеются. Кто-то сбегал в библиотеку. Читаем текст. Ну в точности по гоголевскому рецепту. И вдруг один сотрудник, который считался и считается весьма прогрессивным критиком, полуобиженно:
– Ну, хорошо! Но почему именно Селезнёва изобразили? Он что – известней других?
– Какая, – говорю, – разница, почему? Дружат, наверное. Ты же не удивляешься стихотворным посвящениям?
Нет, понял, задело его: хороший ли, плохой художник Шилов, но он известный. И портреты в альбоме известных, даже знаменитых людей. Следовательно, и коллега сотрудника – критик Селезнёв приравнен к знаменитостям.
Через несколько лет в компании, сидящей в фойе ЦДЛ, зашёл разговор о Шилове. Со смехом описываю портрет Селезнёва, провожу параллель с Гоголем, и Гриша Поженян мне:
– Ну, хорошо, старичок! А кроме Селезнёва у него есть ещё какие-нибудь портреты литераторов.
– Не знаю, – отвечаю, – может, и есть.
– Да! – вздыхает Гриша. – Видишь, как они сплочены. А нас с тобой кто-нибудь напишет?
– А ты согласился бы, – спрашиваю, – позировать Шилову или Глазунову?
– Подумал бы, – говорит Поженян. – Всё-таки известные художники!
Вот так! А мы ещё удивляемся, почему быстро схлынула волна доверия либералам! Почему массы, недавно ещё бывшие народом, сплочённо выступившие против всевластия бессовестности и цинизма, превратились в толпу, обречённо махнувшую рукой на безобразия, творящиеся в стране.
– Ну, я не так радикален, как ты, – сказал мне друг, когда я удивился, для чего ему оправдывать… «да не оправдываю я, а пытаюсь понять», – перебил он… для чего ему пытаться понять однозначный по своей низости человеческий поступок, пусть даже совершённый из соображений личной мести. – Я не так радикален, – повторил он.
Да и я не так уж радикален. Писал в «Стёжках-дорожках» и о первых своих публикациях, о которых ныне вспоминаю с отвращением, и о долгой своей дружбе с Вадимом Валерьяновичем Кожиновым, в ком не разглядел будущего мастера провокаций – изощрённых лживых публикаций по истории России, вдохновлявших как раз таких людей, как скульптор Клыков. Писал я и о том, что согласился быть соруководителем семинара поэзии на Высших литературных курсах при Литературном институте вместе с Юрием Кузнецовым, недавно умершим и занесённым в свои святцы «патриотами».
– Как вы с ним уживались? – удивлённо спросил меня поэт Толя Преловский, прочитав об этом.
В отличие от многих своих друзей я не считал Кузнецова бездарностью. Были у него стихи, которые мне и сейчас нравятся. Небольшого сборника из них не получится, но в непредвзято составленной поэтической антологии они займут достойное место. К тому же пришёл я в Литинститут после того, как дважды критиковал Кузнецова в «Литературке». Второй раз, казалось бы, особенно для него обидно. Он в своей статье процитировал гоголевские слова о Пушкине: «В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла». И так их прокомментировал: «Никакое оптическое стекло не может отразить ни звука, ни запаха, ни осязания, ни, тем более, духа – уж совершенно неуловимой вещи». Ну что за безграмотность! Коли ты ратуешь за значимость поэтических символов, мимо которых, по-твоему, проходят русские поэты, даже Пушкин, так будь хотя бы сам твёрд в древней символике. Гоголь ведь писал о возможностях выпуклого оптического стекла! А выпуклое оптическое стекло – это древний символ мира.
Но когда мы с Кузнецовым встретились в Литинституте, оказалось, что он на меня не обижен. Моя статья его заинтересовала. Поэтому и просил меня рассказывать студентам (слушателям) побольше о древней символике. «Стихи у них, как правило, слабые, – говорил он. – Ругай их. Но просвещай – символика, древнее значение слова: в этом я не силён!»
Стихи и в самом деле были чудовищны. Я к приёму этих слушателей не имел отношения. Набирали их Кузнецов с проректором стихотворцем Валентином Сорокиным, о котором Кузнецов однажды сказал мне: «Его стихи ещё хуже, чем у наших студентов». Чувствовал, очевидно, Сорокин, как относится к нему Кузнецов, если сейчас вовсю кроет стихи покойного поэта: и то у него не по-русски, и это по-одесски (подражает ли Сорокин Леониду Соболеву, который первым стал обозначать еврея эвфемизмом «одессит», или действует независимо от Соболева, я не знаю)! За что его время от времени журят: ну что ты, Валя, нельзя же так – по своим!
Мне в этих играх патриотов разбираться недосуг. И пишу только о том, как мы с Кузнецовым уживались. Хотя сейчас я бы на подобный союз не пошёл, да и, по правде сказать, облегчённо вздохнул, когда услышал от инспектора учебной части Литинститута, что принято решение ограничиться одним руководителем семинара.
Не радикален я. И, конечно, небезгрешен. Многое могу понять и простить. Но, в отличие от подпольного человека Достоевского, вопрошавшего: «Свету ли провалиться, или мне чаю не пить?» – чашку чая к себе не придвину – душу потом не отмоешь от подобной гадости!
И всё-таки, даже принимая во внимание своеобразный, скажем так, художественный вкус Лужкова, не очень верится, что он симпатизировал Клыкову. Ибо уж в чём-в чём, но в ксенофобии мэра не обвинишь. А Клыков был, по всей очевидности, зоологическим антисемитом. В «Стёжках-дорожках» я описывал, как внимали наши слушатели Высших литературных курсов Кожинову, который рассказывал им про Хазарский каганат, про недавно якобы найденные документы, призывающие хазар крепить, так сказать, свою боевую мощь, готовиться к нападению на Русь. Писал я и о том, что, отвечая на мой вопрос, сказал Кожинов, что документы написаны на иврите, и что этим ответом разоблачил себя как вруна, потому что у тюркского племени хазар был свой язык. Но на Клыкова, видимо, кожиновские изыскания произвели огромное впечатление. К 1040-летию (вы помните, чтобы кто-нибудь ещё признавал значимость подобной даты?) разгрома Хазарского каганата князем Святославом Клыков изготовил 13-метровый памятник русскому князю, который топчет конём хазарского воина, прикрывшегося щитом с изображением звезды Давида. Уже было собрались ставить его в Белгороде, но посыпались протесты: не хазарянина топчет князь, а еврея, потому что не могло быть у хазар такой сионистской символики. В ответ Клыков ссылался на некие раскопки, явившие миру государственный символ Хазарского каганата. Если он не выдумал эту чушь, то, скорее всего, прочёл её у Кожинова или его последователей. Шестиконечную звезду Давида сделали своим знаком сионисты. А их движение за выезд в Палестину всех рассеянных по миру евреев возникло в начале XX века после еврейских погромов в России. Потом уже, когда был образован Израиль, звезда Давида стала его государственным символом.
Каган, кстати, – это тюрское именование хана. Древние русские великие князья охотно отзывались и на этот титул. Потому и льстит великому князю, величая его русским каганом, тот самый митрополит Илларион, которого в «патриотических» кругах принято чтить особо за его «Слово о законе и благодати».
Наверное, Клыков, радевший о Православии и его святых, не знал, что князь Святослав не был христианином, что он, как пишет Карамзин, «не запрещал никому креститься, но изъявлял презрение к христианам». Не знал патриот Клыков и того, что «Святослав первый ввёл обыкновение: давать сыновьям особенные уделы». «Пример несчастный, – продолжает Карамзин, который курсивом обозначил нововведение, – бывший виною всех бедствий России». А бедствия оказались великими: из-за свар наследников – каждый полноправный правитель в своём удельном княжестве – Русь не смогла противостоять татаро-монгольскому нашествию!
Но дело не в Клыкове, Рукавишникове или в Церетели. Дело в традиции. Безвкусицей отмечены многие памятники, поставленные советской властью. Был я в Волгограде. Видел мемориал Вучетича. Громадная (52 метра) и страшная, как голем, женщина, названная Родиной-Матерью, держит 33-метровый меч. Давит этот истукан, не вызывая никаких человеческих чувств: ни умиления, ни нежности, ни желания защитить. «Родина-мать зовет!» – кто не помнит этого плаката времён Великой Отечественной, с которого смотрят на тебя глаза женщины, убеждённые, что глядят на защитника. А здесь? Кто осмелится посягнуть на исполинского голема, чугунная пята которого запросто раздавит любую боевую единицу – танк, пушку, ракетную установку. Помните фильмы про то, как в ужасе всё живое бежит от гигантской гориллы Кинг-Конга? Вот так же побегут и от страшного истукана Вучетича, сумей эта баба сойти с пьедестала! «Мы за мир! – уверял в моём детстве сталинский плакат и угрожающее рычал на опережение: – Но если тронете…»
Приходилось читать, что памятник Гагарину в Москве воспринимается многими как символ науки. В каком-то опросе большинство отдало предпочтение этому монументу перед другими. Удивляться нечему: к высоченным громадам привыкли, а эта, огромная по величине, ещё и устремлена вверх: на длинном ребристом столпе стоит титановый человек с шарнирными раздвинутыми руками, похожими на крылья птицы. В принципе ничего уродливого в ней нет. Но не вписывается этот 40-метровый столп-пьедестал в ландшафт бывшей Калужской заставы, для чего-то переименованной в площадь Гагарина. В моём детстве, когда, пересекая заставу, уходила вдаль малоэтажная Большая Калужская улица, этот памятник, возможно бы, пришёлся к месту: рассматривать его издали не составило бы труда. А здесь как ты его рассмотришь? Городская площадь для обзора маловата, а сойди с неё и сразу упрёшься в дома Ленинского проспекта или Воробьёвского шоссе, переименованного, увы, в улицу Косыгина.
И ещё одну площадь моего детства изуродовали. А ведь комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме единогласно вынесла решение: не стоит ставить пятиметрового Алишера Навои на Серпуховской, не будет он там смотреться, лучше найти для этого памятника узбекскому поэту площадку за пределами старой Москвы. Слушать не стали: как можно за пределами старой? Это же дар государства Узбекистан! Шутка ли – обидеть наших восточных друзей!
Как всё-таки нужно не любить Москву, чтобы орудовать в ней, не обращая никакого внимания на мнение специалистов – мастеров в области искусства и архитектуры! А каким надо обладать равнодушием к собственной культуре, чтобы уничтожить старомосковские названия: Калужская застава, Воробьёвское шоссе! Неужто в честь Гагарина нельзя было назвать любую строящуюся улицу. И в честь Косыгина. Ведь ясно же, что ничего в старину просто так не делалось. Вообразите: сколько живого непосредственного интереса вспыхнет в человеке, узнавшем, что Хлебный, Ножовый, Скатертный, Столовый переулки находились рядом с Поварской улицей, и как легко этот интерес загасить, переименовав Поварскую в улицу Воровского. А ведь интерес этот – немалая составная того патриотизма, о каком сейчас якобы пекутся.
А пеклись бы всерьёз, убрали б с московской карты имена сталинского сатрапа в бывшей Германской Демократической Республике Вильгельма Пика или Зденека Неедлы, тоже пламенного пропагандиста советского режима в Чехословакии. Не говорю уже о Саляме Адиле. Мало кто знает этого иракского коммуниста, уничтоженного, кстати, дружественным Советам режимом. А Самора Машел – покойный диктатор Мозамбика? За что его-то увековечила московская топонимика? Он действовал весьма типично для аборигенов-революционеров. Сперва убил бомбой, посланной по почте, Э. Модлена, основателя Фронта освобождения Мозамбика. А потом на пару со своим партийным товарищем М. душ Сантушем Машел загубил ещё одного вождя – У. Силанго. (Душ Сантуш только что приезжал в Москву. В частности, за орденом Дружбы, которым его, нынешнего президента Мозамбика, наградил Путин!)
Был я в подмосковном Королёве. Одно только его название уже говорит о том, что это наукоград. Понимаю, что не учёные мужи давали названия в городе улицам и площадям. Но подумайте только: десять (1-й, 2-й, 3-й… 10-й) Ленинских переулков впадают в Ленинскую улицу, параллельно которой тянется Ульяновская! Какие надо иметь слух, интеллект и чувство в груди, чтобы штамповать эту топонимическую не просто безвкусицу, а полную бессмыслицу!
О каком же патриотизме может тогда идти речь? Только о советской кумирне! О советских божках. Они, кстати, снова востребованы.
О суете вокруг Сталина я здесь уже писал. Чекисты (не зеки же!) поставили ему памятник в якутском городе Мирном, который прежде был обычным гулаговским лагерем. В Волгограде на Мамаевом кургане открыли мемориальную сталинскую комнату. Выгравировали его профиль на стеле в Калининграде.
Дзержинского на Лубянку пока что не вернули, хотя подкачивали общественное мнение: зря, дескать, уступили после провала путча требованию народа, не пожелавшего любоваться больше основателем и вдохновителем большевистских карательных органов. Отсутствие фигуры этого палача на высоком пьедестале разрушает, мол, гармонию архитектурного ансамбля. Видите, когда им нужно, и про гармонию вспомнят. Слышали, значит, что существует такое понятие! Но оно их не интересует – действуют они исключительно из политических, прагматических целей, что и показала установка на прежнее место бюста Дзержинского, который тоже в августе 91-го убрали со двора Главного управления внутренних дел (знаменитая «Петровка, 38»). Потому разъясняют, вернули, что уважили просьбу ветеранов милиции. О любви к прекрасному на этот раз речь не шла. Да и о каком прекрасном её можно было бы вести, если возвращённый бюст создан тем самым Бичуковым, который поставил Есенина на Тверском бульваре.
Итак, на Лубянской площади Дзержинский пока что не стоит, а в подмосковном городе, до сих пор носящем имя Дзержинского, два года назад ему установили памятник. Он там был и прежде, но гипсовый. Его убрали. В начале девяностых, конечно. Теперь поставили бронзового. Снова порадовали ветеранов карательных органов!
В Новороссийске открыли памятник Брежневу (соскучились!), в Петрозаводске – памятник Андропову. Причём глава Карелии С. Катанандов вспоминал не только о том, что Андропов руководил карельским комсомолом и входил в партизанский штаб во время войны. Катанандов нажимал на то, какой строгий, жёсткий порядок в стране навёл Андропов за недолгое время своего правления. Да уж, как писал А. К. Толстой о Грозном, на кого равнялись в русской истории Сталин и Андропов: «Такой навёл порядок, / Хоть покати шаром!» Тяжёлой рукой вёл страну к порядку бывший шеф КГБ Андропов: приказал двадцатиминутное опоздание на работу считать прогулом, устраивал милицейские облавы в дневное время в магазинах и кинотеатрах – почему не на службе? Отношение с Западом поставил на грань войны: переговоры прервал, пассажирский самолёт из Южной Кореи сбил. Одного только не смог: добиться ликвидации товарного дефицита в стране. Полки магазинов оставались пустыми! Но о таком пустяке никто на открытии памятника, разумеется, не вспоминал.
В моей студенческой молодости огромным успехом пользовался спектакль «Карьера Артура Уи» по пьесе Бертольда Брехта, поставленный Сергеем Юткевичем в студенческом театре МГУ. Не называя фашистских вождей их реальными именами, Брехт воспроизвёл зловещую атмосферу, которую они создали у себя в стране. Режиссёрское решение Юткевичем иных сцен спектакля потрясало.
Ах, как ласков с оппонентом человек в безукоризненно чёрном костюме с бутоньеркой в петлице! Они расхаживают по сцене, человек в чёрном успокаивает собеседника, чем-то обнадёживает его. Вот они остановились в середине сцены. Человек в чёрном вытаскивает красную гвоздику из петлицы, внюхивается в неё и в знак того, что всё будет хорошо, улыбаясь, вручает её оппоненту. И тут на наших глазах оппонент начинает опускаться вниз, как в открытом лифте, в яму, откуда бьёт электрическое пламя. Он исчезает там внизу, а на выровненной сцене появляется очередная пара: человек в чёрном костюме с бутоньеркой и его оппонент.
Вы поймёте, почему я вспомнил эту сцену, если прочтёте выдержку из воспоминаний руководителя венгерской полиции в 1956 году Шандора Копачи. Их цитирует мой приятель Игорь Минутко в своей книге «Юрий Андропов. Реальность и миф», в той главе, где рассказывается о том, как с подачи посла Андропова советские войска подавили народное восстание в Венгрии.
«Никогда не забуду последнюю встречу с этим страшным человеком, – пишет Ш. Копачи. – Так произошло – она случилась в последний день нашей революции. Вместе с женой я торопился в югославское посольство, где мы надеялись получить политическое убежище. Прямо на улице нас задержали агенты КГБ и доставили в советское посольство. Встретил нас Андропов, радушный, приветливый, как будто мы званые дорогие гости и он чрезвычайно рад нашему появлению. Он пригласил нас к столу «на чашку чая» и, улыбаясь, сказал, что вот Янош Кадар формирует новое правительство и что он очень хотел видеть в нём полковника Копачи. Я поверил советскому послу. " Время тревожное, – сказал он. – Если хотите, мы предоставим вам машину, и вы будете доставлены к главе нового правительства». Я согласился. К подъезду была подана бронемашина. Я на всю жизнь запомнил, никогда не забуду Андропова в последнюю минуту нашей последней встречи: он стоял на верхней площадке лестницы, улыбался мне, махал на прощание рукой… Советская бронемашина доставила меня прямиком в тюрьму, из которой я вышел по амнистии семь лет спустя, в 1963 году».
Разумеется, о роли этого посла-лицедея в кровавом подавлении венгерского восстания Катанандов на открытии памятника Андропову не вспоминал. Не вспомнил о ней и Путин, начавший свое правление с возвращения мемориальной доски с барельефом Андропова на место, откуда её убрали после провала путча в августе 1991-го, – на стену дома, где жил бывший путинский шеф.
Фотографии других членов брежневского политбюро ещё не пожелтели от времени, бюсты многих из них, установленные, как было положено дважды героям, на их малой родине, возможно, сносить не стали. А снесли – недолго и вернуть, как Дзержинского на Петровку. Косыгину, например, новый бюст собираются ставить во дворе дома, где он жил на Воробьёвке… тьфу, на улице Косыгина – Мосгордума приняла недавно такое постановление. Так сказать, Алексею Николаевичу Косыгину – от благодарной Москвы. За что только благодарить? За слухи об экономической реформе, которую собрался было проводить Косыгин, став Председателем совета министров? Но они так и остались слухами. А других заслуг у этого деятеля я что-то не припомню.
Начинал я работать в «Литературной газете», когда директором издательства был старый большевик Василий Семёнович Медведев – отец ныне тоже покойного Володи Медведева, хорошего иллюстратора многих поэтических книг в «Советском писателе», где он работал. Как директор издательства, Медведев входил в редколлегию и имел все права на обслуживавший её спецбуфет на 4-м этаже. Но правами этими никогда не пользовался. Обедал с нами вместе в столовой на 6-м. Мало того! Возмущался подобными порядками. «Новое дворянство!» – презрительно говорил он о посетителях спецбуфета. И приветствовал Тертеряна, когда тот почему-либо оказывался в нашей столовой: «Что, Артур, надоело в барах ходить?»
В стране, имевшей огромные площади леса, был острый дефицит бумаги. Купить хоть какую-нибудь для пишущей машинки считалось огромной удачей. А уж финская писателям продавалась в специальном комбинате рядом с метро «Аэропорт». И то далеко не всегда. За ней выстраивались очереди, в которых рассказывали, что навострились финны делать бумагу из наших брёвен, оторвавшихся от плотов, которые мы сплавляли по приграничным с ними рекам. Порой плоты развязывались, порой ещё что-то происходило с лесом при сплаве. Так или иначе, но подобная бесхозяйственность радовала финских умельцев, умудрившихся поставить заводик, который выдавал высококачественную бумагу.
Однажды я рассказал об этом Медведеву. Он усмехнулся: «Очень похоже на правду!» И в ответ поведал о том, как подписывал Косыгин с японцами соглашение о строительстве где-то в Сибири какого-то очень крупного бумажного комбината.
Все комплектующие для комбината должна была нам поставить японская сторона. И поставила бы, не заинтересуйся Косыгин какой – то железной сеткой, через которую прокатывается сырая древесная масса. Спросил, для чего она нужна? Объяснили (и мне Медведев объяснял, но я, незнакомый с этим процессом, боюсь за давностью лет чего-нибудь переврать). Сколько она стоит? Несколько десятков тысяч долларов. «Что, – спросил Косыгин, у сопровождающих его специалистов, – у нас своей сетки нет?» «Как не быть? Есть, конечно!» – успокоили его. Сетку покупать не стали. «Многомиллионный контракт заключили!» – рассказывал Василий Семёнович.
Поставили. Сетку приладили свою. Запустили. Бумага на выходе рвётся, выходит дырчатой. Остановили производство. Стали колдовать над сеткой. Чуть ли не научно-исследовательский институт для её производства создали. Нет, ничего не выходит! Приезжают японцы. Хотят посмотреть, как работает их детище. «Остановлен на профилактический ремонт», – объясняют. Удивляются: «Что так рано занялись профилактикой?» «К вам претензий нет», – уклоняются от пояснений. «Значит, всё у вас в порядке?» – «В полном!»
– И что сейчас с этим комбинатом? – спросил я.
– Законсервирован, – пожал плечами Медведев. – Из-за нескольких десятков тысяч выкинули миллионы! А ещё называют Косыгина хозяйственником! Да Ленин таких хозяйственников под зад коленом погнал бы из правительства.
Что поделать, старый коммунист Медведев любил Ленина. Был убеждён, что не умри Ленин, Россия процветала бы. Всё время подчёркивал, что ввёл Ленин нэп, дал жизнь мелкому собственнику, а Сталин этого собственника задушил. Сталина Медведев терпеть не мог. Как и всех его последователей. Принципиально поэтому отказывался от номенклатурных привилегий. «Чудак!» – пожимали плечами другие члены редколлегии. Но для Медведева понятие номенклатуры было связано со Сталиным. И в этом он не так уж не прав.
Номенклатура, как показал в известной своей книге М. Восленский, – действительно сталинское изобретение. Очень неглупое, с точки зрения укрепления режима личной власти. Одни, стало быть, останутся голодными: на всех не хватит! Другие получат кусок, третьи – пожирнее, четвёртые станут очень богатыми, но в определённых пределах, а для пятых сняты любые ограничения. Они не тратят немалые свои оклады: не на что тратить. Для них всё бесплатно. Всё им сошьют, доставят, обставят. Исполнят любое желание. Хочешь так жить? Пожалуй на карьерную лестницу. Доказывай преданность диктатору. Сноси его капризы. Люби его больше друзей, которых ты должен оклеветать, больше родных, от которых откажешься, если их арестуют. Сталин не зря называл высших руководителей партии генералитетом, средних – «нашим партийным офицерством», а низших – «унтер-офицерством». Похоже на путинскую вертикаль власти? Безусловно, потому что время, в которое мы сейчас живём, является ничем не прикрытым реваншем номенклатуры.
Конечно, самый верхний этаж власти сейчас живёт по-другому. Для него, как и для всех, бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Но им и не нужна бесплатность. Им хватает.
Вот сегодняшняя (28 октября) «цифра дня» в «Московском комсомольце»: «579 тысяч 188 рублей в день…» – так в 2005 году зарабатывал министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Напиши газета, что столько зарабатывает человек в год, и это бы вызвало почтение: всё-таки больше полутора тысяч долларов в месяц – большинство населения страны об этом может только мечтать. Но в месяц Трутнев зарабатывал 17 миллионов 375 тысяч 655 рублей.
И здесь же подробности недавнего ограбления квартиры Любови Константиновны Слиски. Украли 85 тысяч евро и 4 векселя по 1 миллиону рублей каждый, вскрыли сейф с ювелирными украшениями.
Я уже упоминал об акциях энгельского ОАО, стоящих огромных денег. «Откуда у меня может быть такая сумма!» – удивлялась Слиска. Это она, как сказала бы героиня Зощенко, кокетничала. «Я не исключаю, – пишет её коллега по Думе депутат А. Митрофанов («Аргументы и факты», № 44, 1–7 ноября 2006 г.), – что Слиска могла получать доход по акциям крупных предприятий. У многих депутатов есть побочные заработки в виде акций».
И кроме того, нынешний госслужащий, ну такой, к примеру, как министр Трутнев, получать подарки не имеет право. Он обязан по специальному акту отдать их государству. Я понимаю, что Трутнева это вряд ли огорчает. Но я и не собираюсь выражать ему сочувствие. Пишу, чтобы подчеркнуть особо: депутаты не госслужащие, им подарки брать не возбраняется. Большая удача для любительницы ювелирных украшений Любови Константиновны. «Я не отрицаю, у меня были украшения, – сказала она корреспонденту «Комсомольской правды» (28 октября 2006 года). – Но, извините, мне 53 года. У меня муж, родственники. А на юбилей мне делали подарки известные люди».
* * *
При Сталине, слышу я, было такое? При Сталине было и не такое! Министры, конечно, при Сталине о таких заработках, как у Трутнева, мечтать не могли. И Георгадзе, любитель, как и Л. К. Слиска, ювелирных изделий, работал в Верховном Совете после смерти Сталина.
Но сталинская верхушка жила бесплатно. Для чего, допустим, Молотову или Кагановичу эти трутневские почти 8 миллионов долларов в год? Им и так принесут всё, что ни пожелают!
Ах, как умиляются сейчас бескорыстию Сталина. В одних и тех же сапогах полжизни проходил, маршальский мундир до дыр износил! Картин в доме не держал, прикнопывал к стенам фотографии, вырезанные из «Огонька»! А сколько имел наград? Одну звезду героя соцтруда, да одну – Советского Союза, два ордена Победы, три – Ленина, три – Красного знамени и один – Суворова I-й степени. Всё! И это у полководца-то! Верховного главнокомандующего! Генералиссимуса!
Ну что ж, Гитлер как был ефрейтором, так им и остался. А награждать себя вообще не разрешал. Убеждённый вегетарианец, он не любил пьяных застолий. Умиляет?
Анри Барбюс растрогался, встретившись со Сталиным: «Человек с головою учёного, с лицом рабочего, в одежде простого солдата, живёт в небольшом домике». После его книги и пошло: да, одежда простого солдата – шинелька латаная-перелатанная, да, простой домик. «Вы в курсе, – спрашивает корреспондента «Комсомольской правды» писатель В. В. Карпов, – что после смерти Иосифа Виссарионовича на его даче обнаружили лишь шесть кителей, четыре шинели да пять курительных трубок? Всё, больше у него ничего не было…» Даже если б это была правда, перевесила бы она на весах справедливости миллионы загубленных душ, искорёженных судеб граждан, которых аскетический вождь сделал своими рабами? Но не был Сталин аскетом! Простой домик, говорите? А вы сосчитайте, сколько их было, этих простых. «На его даче», говорите? А на какой именно? Они же были разбросаны по всей огромной стране. Сталин не был, конечно, похож на будущего своего преемника Брежнева, который, как сорока, тащил к себе всё, что блестит. Но и с простым человеком, живущим в его государстве, Сталина не уравняешь: монарх есть монарх! А этот монарх ещё и лицедей. Барбюса в простой солдатской гимнастёрке примет, а Черчилля в Ялте ошеломит изобилием и роскошью. Всё-таки сам я не беден, напишет об этом в мемуарах Черчилль, но не смог бы во время войны, зная о бедственном положении многих своих граждан, закатывать лукулловы пиры.
Эдик Елигулашвили, корреспондент «Литературной газеты» в Грузии, рассказывал мне со слов одного охранника сталинской дачи, что независимо от того, жил или нет на ней в это время Сталин, в определённые часы накрывался большой обеденный стол. Официанты замирали, как часовые у ленинского мавзолея (сейчас у Вечного огня), и только через какое-то продолжительное время приготовленные блюда убирались – их съедала и разбирала обслуга. И так было заведено на всех дачах в разных районах страны. Так сказать, в целях конспирации. Чтобы никто не определил, где сегодня обедает или ужинает Сталин.
Чем обедает и чем ужинает? Вот свидетельство его дочери Светланы: «К его столу везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников, грузинское вино специального разлива, свежие фрукты доставляли с юга самолётом. Он не знал, сколько требовалось транспортировок за государственный счёт, чтобы регулярно доставлять всё это к столу» (Аллилуева С. Только один год).
Ну, на южные дачи – в Сочи, в Гаграх, на озере Рица, в Массандре – фрукты, быть может, самолётами и не доставляли. А может быть, и не делали исключений: неизвестно ведь где эти фрукты выращивали – вполне допускаю, что и не рядом с дачей, а в каком-нибудь дальнем питомнике: Сталин панически боялся отравления. «К каждому свёртку с хлебом, мясом или фруктами прилагался специальный " акт», скреплённый печатями и подписью ответственного " ядолога»: «Отравляющих веществ не обнаружено»», – вспоминает Светлана Аллилуева.
Ещё в конце семидесятых иронически призывал Булат Окуджава толпу придумать себе деспота, в точности, как это делают сейчас, ссылаясь на мнение большинства, а точнее – трусливо им прикрываясь: «Потом будет спрашивать не с кого, / коль вместе его создадим». Заканчивал Булат это стихотворение грозным предупреждением:
И пусть он над нами куражится и пальцем грозится из тьмы, пока наконец не окажется, что сами им созданы мы.– Стихи-то, конечно, так себе, – комментировал эти строчки Евгений Винокуров, как всегда сдержанный в отношении чужого творчества, – но мысль здравая: два-три поколения, и народ перерождается.
А позже мы говорили об этих стихах Окуджавы с Таней Бек, которая очень их хвалила.
– Чудесные стихи, – сказала Таня, – с неожиданной, почти басенной концовкой.
Я дружил с Танечкой. Она была не только хорошим поэтом, но невероятно преданным поэзии человеком. И многое в ней понимала, и много об этом писала. В том числе и для меня – в «Литературу».
А здесь ещё оказалось, что её привлёкает жанровое разнообразие стихов Окуджавы. Вместе с Сергеем Чуприниным Таня вела семинар в Литературном институте и рассказала своим студентам-поэтам об этом своеобразии. Оно их заинтересовало. Их интерес её подогрел. Она взялась написать статью об этом для «Литературы», которую я с удовольствием напечатал. Потом она выступала с ней на конференции, посвящённой творчеству Окуджавы. На мой вкус, эта статья является самым значительным вкладом в понимание жанровой природы стихов и песен Булата Окуджавы.
Любимым Таниным современным поэтом был Евгений Рейн. Мне многие его стихи тоже нравились. И всё же Олега Чухонцева я ценил гораздо больше. Мы не то что спорили с Таней, но оставались каждый при своём мнении.
Стихи Рейна взахлёб читал мне Александр Межиров, который часто посиживал в моём кабинете «Литературной газеты». «Ну ч-что в-вы, – говорил он, заикающийся от природы, – к-как-кой Ч-чухонцев б-ольшой п-оэт? Разве м-ожно с-срав-внить с Рейном?»
С Межировым я спорил. Да, говорил, есть у Рейна замечательные стихи. Но много провальных. А у Олега провалов не бывает. И замечательные стихи Олега выше замечательных стихов Жени, которые выдают последователя традиции питерской школы начала XX века. Олег – кошка, гуляющая сама по себе!
– П-пушк-киниан-нец! – определял Межиров. Я возмущённо опровергал: это Самойлова можно назвать пушкинианцем, но Чухонцева – с огромной натяжкой.
В то время многие стихи Рейна не печатались и ходили в самиздате. Слышал я их не только от Межирова. Я писал в «Стёжках-дорожках», что любили мы в Доме творчества писателей в Дубултах по вечерам собираться дружеской компанией у кого-нибудь в номере. Травили байки, слушали песни, которые пел нам Окуджава, и стихи, которые не мог тогда напечатать Олег Чухонцев. Читал стихи и актёр Михаил Козаков. Не свои стихи, а тех, кого он любил. Среди них и Рейна.
Но Рейн мне не нравился по-человечески: самоупоён, бесцеремонен, хвастлив. Детские его стихи публиковали очень охотно. Рейн выпустил много детских книжек, которые издавались огромными тиражами. Так что он не бедствовал.
Поэтому я удивился, когда в ранние горбачёвские годы после первого творческого вечера Рейна, который официально разрешили провести в Малом зале ЦДЛ, захотев это отпраздновать и охотно приняв приглашение поэтессы Тани Щербины ехать праздновать к ней, Рейн скинул шапку: «У меня ни копейки. А кроме водки и закуски, мне нужно будет оставить себе трояк на такси». Мы охотно скинулись и поехали к Тане Щербине, которая жила на Садовом кольце, недалеко от нового тогда здания «Литературной газеты», – Гена Калашников, Виктор Ерофеев, я, ещё человек шесть народу.
Рейн дружил с Бродским до его эмиграции. Бродский называл Женю своим учителем. Как только рухнул железный занавес, Женя поехал к нему в Америку.
Печатаясь со старыми своими стихами, Рейн быстро стал уважаемым и авторитетным поэтом. Что, конечно, справедливо. Стал преподавать в Литинституте и постоянно выезжать за границу.
Таня Бек обожала Рейна. Поэтому как личную трагедию восприняла его согласие переводить вместе с Михаилом Синельниковым и Игорем Шкляревским стихи Туркменбаши, бывшего первого секретаря ЦК компартии Туркмении, захватившего в ней власть после распада СССР и заставившего подданных обожествить себя, ставшего типичным восточным деспотом.
Рейн объяснял своё согласие тем, что речь идёт о стихах, а не о политических трактатах. «Кроме того, – сварливо добавлял он, – у меня подчас в доме не на что даже пельмени купить». Что возмутило знающего его Андрея Битова: «Столько печатается, столько внушительных денежных премий получил, и не на что купить пельмени?»
Циничное и фальшивое самооправдание столь почитаемого Таней человека, вероятно, доставило ей большую боль. Тем больше уважения внушает то обстоятельство, что она нашла в себе силы выступить с резкой оценкой поступка бывшего друга («НГ-Ex Libris», 23.12.2004): «антисобытием года назову письмо троих известных русских поэтов к Великому Поэту Туркменбаши с панегириком его творчеству, не столько безумным, сколько непристойно прагматичным». Но далась ей эта история настолько душевно трудно, что, возможно, уже не хватило сил жить дальше. Меньше чем через месяц она умерла.
Таня дружила с одним из любимейших моих прозаиков Владимиром Войновичем. Именно она, когда работала в журнале «Вопросы литературы», попросила меня отозваться и о нашумевшей тогда книге Войновича «Портрет на фоне мифа», и о реакции разгневанных этой книгой критиков. Я написал статью. «Апологетика Войновича», – отреагировал на неё главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский в своём ежемесячном перечне разного рода сетевых и печатных публикаций.
Я не против. Можно, конечно, воспринять статью и так. Я действительно восхитился мужеством Войновича, выступившего против культа Солженицына, сложившегося в современной, отчасти литературной, а больше окололитературной среде.
С недоумением так же, как Войнович, читал я солженицынский «Словарь языкового расширения», который напоминал не «Словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, а словарь какого-нибудь хлебниковского будетлянина. Народ на подобном языке не говорил. А любое личное словотворчество должно ещё пройти испытание временем. Много экспериментировали с русским языком, много создавали слов на его корневой основе, но в живую речь вошли единицы.
Дивился я и тем заявлениям, которые изредка делал Солженицын, высланный на Запад. Например, его высокомерному отказу встретиться с президентом США вместе с другими русскими диссидентами: согласен только с глазу на глаз! Удивляла его публицистика, где он постоянно громил Запад, противопоставлял ему дореволюционную Россию: насколько, дескать, прежнее русское местное самоуправление плодотворней западной демократии! Создавалась парадоксальная ситуация: человек, апеллировавший в дни гонения у себя на родине к Западу, защищённый Западом, спасённый Западом, его же и осыпает бранью! Не понимал я и подчёркнутого нежелания Солженицына ознакомиться с приютившей тебя страной. Ну да, сидит в Вермонте, пишет «Красное колесо», которое считает главным делом своей жизни. Но неужели нет никакого желания оторваться хотя бы на неделю, слетать в какие-то другие уголки Соединённых Штатов, посмотреть их?
– А разве мы с вами не найдём подобных прецедентов в русской литературе? – спросил меня Эдуард Бабаев, когда я поделился с ним своим недоумением. – Вспомните Машу Миронову из «Капитанской дочки», которая приехала хлопотать за своего жениха перед императрицей и остановилась в Царском Селе. Что о ней пишет Пушкин? Что, сделав дело, она уехала назад, не пожелав и взглянуть на Петербург, которого до этого не видела.
Тогда я не нашёл, что возразить Эдику. А теперь, вчитавшись в роман, нашёл: Марья Ивановна, как рассказывает об этом через много лет Пётр Андреевич Гринёв, остановилась в так называемой Софии. Уездный городок София, как и указывают исследователи, был основан через десять лет после пугачёвского восстания, а частью Царского Села стал ещё позже – лет через двадцать пять после событий, описанных в «Капитанской дочке». Почему же Пушкин разрешает своему Гринёву этот анахронизм? Потому что тот подчёркивает, что пишет с чужих слов – со слов той же Маши Мироновой, ставшей его женой. Причём предупреждает, что рассказ о её поездке слышал многократно, так что основные подробности впечатались в его память.
Так вот София, которой не существовало во время посещения Марьи Ивановны Царского Села, но которая появилась в романе, как раз и свидетельствует о неоднократном рассказе с чужих слов. Сперва Марья Ивановна, возможно, более топографически точно обрисовывала Петруше место событий. Через какое-то время, быть может, уточнила: это там, где теперь находится София. А ещё через время – там, где прежде София находилась. Верный художнический признак не только того, что Пётр Андреевич рассказывает с чужих слов, но и того, что Марье Ивановне не раз ещё удалось побывать в Царском Селе, не торопясь больше из него с новостью, которая так важна была для нетерпеливо ожидающих её Гринёвых. Могла, стало быть, осмотреть и Петербург! И наверняка его осмотрела: она любила жизнь, была любопытной к её подробностям. Но как она могла любоваться красотами города в то время, когда жених томился в темнице!
Затворничество Солженицына в Вермонте удивляло меня, конечно, в последнюю очередь. И привёл я своё запоздалое возражение покойному Бабаеву, так сказать, на опережение – если кому-нибудь придёт в голову напомнить мне об этом эпизоде из пушкинского романа. В первую очередь удивило меня, как быстро Солженицын разругался с теми, кто ему помогал, кто из-за него пострадал, кто считался его союзником.
Одно время я был близок с Варламом Тихоновичем Шаламовым. Мы вместе гуляли по городу, он приходил ко мне домой или в «Литературную газету». Варлам Тихонович Солженицына не любил. Не признавал даже его первой, поразившей всех вещи – повести «Один день Ивана Денисовича».
– Что он знает о лагере? – отмахивался Шаламов на моё недоумение. – Где он сидел? В шарашке? Лично он этого не пережил. Потому и вышла вещь подсахаренной.
Я удивлялся: «Что же в ней сладкого?» «А что горького? – парировал Варлам Тихонович. – В лагере не до интеллигентных разговоров о фильме Эйзенштейна. Лагерь не шарашка. Там одно только занимает, как бы тебе сегодня не сдохнуть!»
Шаламов знал, о чём говорил. На допросах ему вывернули руки, порвали сухожилия, отчего ему трудно было попадать рукою в рукав. Чекисты били его по ушам, повредив барабанные перепонки, – он стал плохо слышать. Отплатил он им за это сторицей. Его «Колымские рассказы» – натуральные физиологические очерки о ГУЛАГе – воспроизводят такой кошмарный звериный быт, который недурно бы дать ощутить тем, кого зовут назад в советское прошлое. «Это наша история», – объясняют энтузиасты такого возврата. Что ж, пусть подталкиваемые ими люди, особенно молодёжь, почувствуют на примере непридуманной прозы Шаламова, какова была наша история! Хотел бы Солженицын, чтобы «Колымские рассказы» вошли в сознание читателей так же, как его «Архипелаг ГУЛАГ»? Не уверен. Войнович в книге, о которой я писал, подметил, что для Запада был Александр Исаевич невероятно авторитетен и что поэтому мог бы поспособствовать широкому изданию «Колымских рассказов». Мог бы, но делать этого не стал…
Я и сейчас не согласен с тем, как оценил Шаламов «Ивана Денисовича». Лично меня эта небольшая повесть перевернула. Очень сильное художественное произведение. По-моему, одно из лучших у Солженицына. (Да и Шаламов, как позже выяснилось, это поначалу признавал. Но я пишу о том времени, когда мы с ним встречались. Я застал его категорически не принимающим ни Солженицына-человека, ни Солженицына-художника.)
Но вот что любопытно. Мой старший товарищ Бенедикт Сарнов вспоминает, как спросила его Мария Павловна Прилежаева, не почувствовал ли он в повести антисемитский душок. И в ответ на его удивление уточнила: «А Цезарь Маркович?» Странно, но почти то же самое говорили нам с женой её тётя, дочь известного в прошлом актёра театра оперетты Митрофана Ивановича Днепрова, с мужем. «А ведь Цезарь Маркович неспроста так назван, – сказали Валя (тётя жены) с Сашей (мужем), прочитав только что появившийся в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича», – это страшная вещь, это написано антисемитом».
Мы с женой тогда между собой посмеялись: ну и чутьё! Да и сейчас, перечитав повесть, вижу, что, если не знать о дальнейших шагах Солженицына, антисемитизм в повести обнаружит только тот, кого покоробит имя её персонажа. Но это абсолютно субъективное ощущение. В конце концов, этот персонаж мог быть назван как угодно, хоть Василием Николаевичем, хоть Равилем Рустамовичем. Другое дело, когда о дальнейших солженицынских шагах знаешь. Когда прочитана и его публицистика, и «Двести лет вместе», и «Евреи в СССР и в будущей России» – книга, выкраденная, по словам Солженицына, у него неким Анатолием Сидорченко. Если из этого далека взглянуть на Цезаря Марковича, то придётся согласиться: по-другому он назван быть не может.
Но книга Владимира Войновича посвящена не столько антисемитизму Солженицына (эту черту писателя сейчас отрицают только его апологеты), сколько его умению прощать себе то, что не прощаешь другим.
«Портрет на фоне мифа» Войновича вызвал яростную реакцию в печати. Книгу не критиковали, ею возмущались: как Войнович посмел! Да кто он такой?
Написал я об этой критике. Напомнил, кто такой Владимир Войнович. Прекрасный писатель. Я влюбился в него ещё в литературном объединении «Магистраль», где он в конце пятидесятых прочитал нам два удивительно живых и смешных рассказа. А после напечатал: «Два товарища», «Хочу быть честным», «Расстояние в полкилометра», «Путём взаимной переписки», «Чонкин», «Иванькиада», «Шапка» – каждая вещь шедевр!
А стихи Войновича. Опять-таки со времён «Магистрали» помню наизусть:
Видевшая виды радиола Выла, как собака на луну.И ещё – из того же стихотворения:
Целовали девушки устало У плетней женатый комсостав.А блистательные сатирические «Открытые письма» Войновича, адресованные советским властям, советским вельможам! Сопоставимые, быть может, только с письмами каторжанина декабриста Лунина Николаю, о которых хорошо написал Ю. Н. Тынянов: «Тростью он дразнил медведя».
Да, оспорить заслуги Солженицына перед русской литературой невозможно. Войнович и не занимается этим бессмысленным занятием. Но у него и своих заслуг перед русской литературой немало. Да и если бы их у него не было вовсе? В данном случае он написал не о прекрасном некогда писателе, но о человеке, проявляющем себя с неожиданной и, увы, с не лучшей стороны. Так чего же возмущаться: «как он посмел?», «да кто он такой?»? Для чего вообще так ставить вопрос уже независимо от книги Войновича?
Вот – недавно. Эдуард Сагалаев, как раз в этот день – 3 октября 2006 года – награждённый по случаю юбилея орденом и собирающийся на приём к президенту за наградой, говорит корреспонденту «Московского комсомольца» Александру Мельману о Солженицыне: «Я крайне возмущён, раздражён и раздосадован, когда слышу в его адрес какие-то недобрые слова». Александр Мельман в ответ: «Да и кто эти люди, которые нападают на Солженицына?» Сагалаев: «Да, нужно колоссальное моральное право, чтобы его судить».
По-моему, не требуется колоссального морального права осуждать антисемитизм, самоупоение, нежелание слушать оппонента, нетерпимость к любой критике. Хватит для этого и самого обычного права, основанного на человеческой морали. Такое право есть у каждого человека. Вы с ним не согласны? Так опровергайте его мнение, а не хватайте за грудки с воплем: «А кто ты такой?»
Значительно позже того, как была напечатана моя статья о Войновиче, я прочитал в дневнике Александра Шмемана, что Александр Исаевич в разговоре с ним сравнил себя с Лениным. Нет, это не было покаянным сравнением. Солженицын имел в виду знаменитую тактику Владимира Ильича: идти к цели, не отвлекаясь ни на какие обстоятельства, добиваться своего, преступая, если нужно, мораль, человечность. Проницательный отец Александр многое понял в Солженицыне, но, увы, многое простил ему за талант. На мой взгляд, этого делать было нельзя: никакому таланту не позволено заноситься над людьми, наполняться сознанием собственной исключительности. Что и подтвердил Солженицын собственной практикой: его талант увядал прямо пропорционально затрачиваемым им усилиям творить из себя кумира. И увял окончательно, когда вылепил писатель свой монумент и вознёс на невероятную, захватывающую воображение многих высоту.
* * *
А что до бронзовых и гранитных монументов, то их сейчас ставят много. Помнится, года четыре назад иронизировали по этому поводу на «Эхе Москвы» Антон Орех и Евгений Бунимович.
Антон Орех: «У Библиотеки Ленина сползает со скамейки на землю Достоевский. Так не сидят люди! Он упадёт сейчас – если бы был живой».
Евгений Бунимович: «Я хочу напомнить, что в Москве есть другой памятник Достоевскому на бывшей Божедомке, и это замечательная работа. Поэтому вообще не очень понятно, зачем поставили ещё один. Сколько памятников Достоевскому должно быть в Москве?»
Антон Орех: «Десяти хватит?»
Евгений Бунимович: «Может быть, и нет! Не хватило же одной Натали к пушкинскому юбилею, решили поставить двух, что почти анекдотично!»
Антон Орех: «Причём одна из них выше ростом Пушкина, а другая ниже!»
Да, правда. И обе не так далеко одна от другой. Та, что выше, – рядом со мной на Арбате. А та, что ниже, – у храма Большого Вознесения, где некогда венчались Гончарова и Пушкин, – там, где заканчивается Никитский бульвар и начинается Тверской.
Как-то фатально не повезло с монументальной пропагандой моему району. Только что в Брюсовом переулке открыли памятник композитору Араму Хачатуряну работы скульптора Георгия Франгуляна. Этот монумент я ещё не видел. А мимо другой скульптурной работы того же Франгуляна – памятника Булату Окуджаве приходится проходить часто. Когда открывали этот памятник, корреспондент московского бюро компании NTV–International заметил, что Ольга Окуджава, вдова поэта, «отказавшись от выступлений и общения с прессой, прятала глаза за тёмными стеклами». «Со мной никто не посчитался», – позже говорила Оля. А высказывала она разумные вещи. Её мысль о том, что «слово «памятник» несовместимо с Булатом», и мне приходила в голову. Для увековечивания этого замечательного поэта и человека достаточно было бы достойного памятного знака. А не того двора, который изобразил Франгулян, поставив на площадке из булыжника стол, две скамейки, заключив всё это в рамы, напоминающие скорее металлоискатели, чем проходные дворовые арки. А кто этот косо стоящий мужчина из бронзы, засунувший руки в карманы? Встречался ли с поэтом Франгулян или хотя бы вслушивался в его песни? Что-нибудь слышал о нём? Меньше всего этот его забулдыжного вида гуляка похож на всегда подтянутого, элегантного, не терпящего никакого амикошонства и вульгарности реального человека и поэта Булата Окуджаву!
А истукан, который стоит на стрелке Пречистенки и Остоженки, метров в ста от храма Христа Спасителя? Скульптор И. Козловский назвал свою работу памятником Энгельса. Но, как шутливо не раз уже замечали, её вполне можно назвать и памятником Кропоткина, благо и у Кропоткина была борода, и стоит истукан аккурат напротив станции метро «Кропоткинская». Знаменит он ещё и тем, что находится на месте снесённого дома, построенного в 1825 году, где жил Василий Суриков, большой русский художник. И тем ещё прославился памятник Энгельса, что в 1976 году, когда его устанавливали, крановщик почему-то поднял статую в воздух и ушёл ночевать. Ироничные москвичи поименовали такую провисевшую всю ночь скульптурную композицию «Призраком коммунизма». А больше ничего выразительного в этом памятнике не отыщешь.
Был на Сивцеве Вражке уютный скверик, сбоку от большого красивого школьного здания в Староконюшенном, где до революции размещалась известнейшая в педагогических кругах Медведниковская гимназия. Да и 59 школа, как она стала называться после революции, не менее известна. Её окончили Юрий Завадский, Юрий Домбровский, Ростислав Плятт, Сергей Наровчатов. Я сказал, что был там скверик? В принципе он там и остался, но как бы и перестал им быть. Его огородили высоченным чугунным забором и уставили скульптурами Александра Бурганова, чья мастерская находится неподалёку, в Большом Афанасьевском. Для маленького сквера четырёх скульптур многовато. А тут ещё словно в насмешку огромную ладонь, установленную на высоченном столпе и накрытую ажурной бабочкой, назвали «Экологией». О якобы бережном, даже трепетном (хрупкая бабочка) отношении к природе беспокоятся те, кто её уничтожает, сужая и без того маленькое пространство арбатского скверика!
На Гоголевском решили поставить ещё один памятник – Шолохову. Работы скульптора Александра Рукавишникова. Того самого, кто изваял сползающего со скамейки Достоевского у бывшей библиотеки Ленина. Шолохов будет стоять… точнее, как сообщает агентство Интерфакс, «будет сидеть в лодке, которая плывет по воображаемой реке. Фоном для этой скульптурной композиции послужит горельеф, на котором будут изображены плывущие лошади. По одну сторону от М. Шолохова будет плыть белая лошадь, символизирующая Белое движение, а по другую – красная, символизирующая Красную армию». Так вот, эту обширную композицию разместят в том месте бульвара, где открывается вид на Сивцев Вражек, в одном из домов которого жил писатель. Там и мемориальная доска об этом сообщает: «жил и работал». Вообще-то, как всем известно, Шолохов жил в донской станице Вёшенская. Вроде там он и работал. А в Москву иногда приезжал. И любил чаще всего останавливаться не в квартире, а в гостинице «Москва». Но не станем придираться к мелочам. Меня другое удивило. Для чего занимать место на небольшом Гоголевском бульваре, когда совсем недавно в районе Волгоградского проспекта открыли памятник Шолохову? Зачем нужен второй?
Оказалось, что первый установлен незаконно – волевым решением местной префектуры. В обход московской Комиссии по монументальному искусству. И что прикажете теперь с ним делать? Не сносить же его в самом деле? Да и попробуйте только! Себе окажется дороже! Он уже отмечен международной премией имени Шолохова! Не он, конечно, а его авторы Владимир Глебов и Юрий Дрёмов. Но именно за этот памятник. Так, может, им одним и ограничиться? Помните иронический диалог Ореха и Бунимовича: сколько памятников Достоевского нужно Москве? Предвижу негодующую реакцию «патриотов»: неуместное сравнение! Шолохову – и десяти мало. Он их знамя!
Кстати, добавлю, никто не знает, сколько незаконных, сколько самостийных памятников поставили на нашей грешной московской земле. Ещё в прошлом году «Новые Известия» писали, что их «не меньше нескольких десятков».
Как обходят закон? По всякому. Ну вот тот же Шолохов на Волгоградском, как я уже сказал, понравился префектуре. Точнее – префекту Юго-Восточного административного округа Москвы Владимиру Борисовичу Зотову. И всё. И неважно, что по закону не префектура решает, где в её районе устанавливать памятники. Захотела и поставила! Мэр же Москвы Юрий Михайлович Лужков этому не только не препятствовал, но прислал на открытие памятника свою первую заместительницу Людмилу Ивановну Швецову, а года через два и сам появился у памятника, чтобы по случаю шолоховского дня рождения сказать несколько проникновенных слов о творчестве писателя.
Самая, пожалуй, анекдотическая история вышла с памятным знаком за освобождение Киева и форсирование Днепра. Ух, как бурно негодовали члены Комиссии по монументальному искусству: это что ещё такое? это же совершенно непрофессиональная работа! А кто этот Д. Левин? Откуда он взялся? Недавний выпускник Архитектурного? Ах, памятный знак – это его дипломная работа? Ну, если он с этим знаком даже в своём институте на конкурсе дипломов занял только 3-е место, то о чём же тогда вообще можно говорить…
Возмущаются, негодуют, голосуют, а в этот момент в зал заседания входит Игорь Самохин, первый заместитель главы Управы Бибирёво. Удивляется: «Для чего собрались?» «Чтобы обсуждать памятник», – объясняют. «А зачем его обсуждать, когда он уже стоит!» – «Как?» – «Так!» – «Где?» – «На пересечении улиц Плещеева и Лескова». – «Кто разрешил?» – «Было много обращений от жителей».
Так что мало быть проходимцем, чтобы успешно лепить монументы. Нужно быть ещё пройдохой, пролазой, пронырой. И, судя по тому, как захламлен город новейшими скульптурными изваяниями, в таких творцах нынешняя Москва дефицита не испытывает!
Что музыкант играет паханам
Вот летит время! Читаю вчера (3 ноября 2006 года) в «Московском комсомольце» о том, что Макаревич, Крутиков, Маргулис, Державин, Ефремов – рок-группа «Машина времени» вернулась из Лондона, записав новый альбом в студии, где записывал свои альбомы легендарный «Битлз», и вспоминаю конец семидесятых, новогодний вечер в «Литературной газете» и наше недоверчивое ожидание чуда, которое пообещала Лора Левина (Великанова), пригласившая мало кому известных тогда музыкантов: «Убедитесь сами – это русский «Битлз»»!
А портрет молодой Аллы Пугачёвой в кабинете Лиды Польской с надписью: «Лидочке! Моей крёстной матери». Покойная Лида Польская была одной из первых, кто заметил и приветил певицу.
Как из-за той же Пугачёвой ругался со мной Валера Кичин. В статье, напечатанной в «Литгазете», я написал о неприятно поразившем меня поведении некой звезды эстрады, гладившей и целовавшей макушку Раймонда Паулса в то время, как тот играл на рояле. «Как ты мог? – наседал на меня Кичин, тоже видевший эту телепередачу. – У Пугачёвой нет ни одной песни, восхваляющей советскую власть!» «Но я же не о репертуаре написал, – защищался я, – написал о развязности. Она никого не украшает. Даже убеждённого антисоветчика!»
Не знаю, как ведут себя сейчас рок-музыканты из «Машины времени». А Пугачёва с тех давних пор, видимо, здорово изменилась – стала членом Общественной палаты, трижды съездила в Витебск на «Славянский базар» и этим летом из рук Лукашенко получила учреждённую белорусским батькой премию «Через искусство к миру и пониманию».
Достигла, так сказать, с Лукашенко полного понимания через искусство! Что бы сказал на это мой давний коллега Валерий Кичин? Впрочем, что он мог бы на это сказать? Принимать награду от диктатора – это не целовать макушку приятеля!
Всегда, конечно, горько разочаровываться в людях. Ну по поводу семьи Михалковых я, положим, никогда и не обольщался: близость к Самому (как бы его ни звали) – их передаваемая по наследству реликвия. Понимал я и Николая Губенко, ставшего после распада империи активистом зюгановской компартии. Он потерял должность министра культуры и не простил тем, кто её у него отобрал.
Но известную актрису, вдруг страстно притянувшую к себе Путина и уткнувшую ему в грудь голову во время награждения её орденом, понять не могу. Так же, как и другую, согласившуюся участвовать в телевизионном шоу: умильно наблюдать за президентом, который – подумайте только: как самый обычный человек, как мы с вами! – открывает для неё бутылку шампанского. Они что? – не видят, что происходит за пределами их театрального мира?
Я писал в «Стёжках-дорожках», как удивили меня мои старшие и весьма прогрессивные товарищи по «Литературной газете», когда не просто проголосовали за исключение из Союза журналистов подавшего на выезд в Израиль Виктора Перельмана, но тянули руки, вставали, выступали, горячо осуждали бывшего коллегу, хотя такого усердия от них никто не требовал.
Помню и собрание в газете, посвящённое выдвижению Изюмова кандидатом в депутаты Моссовета. Оно проходило вяловато. До этого газета своих сотрудников ни в какие депутаты не выдвигала, опыта не было, никто не знал, как себя вести, в каком порядке действовать. Пришлось Изюмову, которого должны были не избрать, а переизбрать, по существу председательствовать. «Сейчас, – говорил он, – следует предоставить слово кому-то от партбюро». И кто-то вставал, говорил, какое это редкое счастье – выдвинуть именно Юрия Петровича Изюмова в депутаты. «А сейчас, – продолжал Изюмов, – нужно, чтобы кто-нибудь выступил от месткома». Бонч-Бруевич соловьём разливался: конечно, это счастье, но и великое доверие, оказанное нашей газете, – выдвигать кандидата в депутаты. Всё? Нет, не всё. «По протоколу, – сказал Изюмов, – полагается дать наказ кандидату». Возникла заминка. Все смотрели друг на друга. Но потом в зал вбежала сотрудница, которую в конце собрания назначили доверенным лицом кандидата. «У меня – наказ, – запыхаясь говорила она, – наш дорогой Юрий Петрович прежде всего должен…» И пошло барабанное перечисление: «добиваться», «бороться», «стараться», «обращать внимание», «надеемся», «убеждены», «не подведёт». Закончила. Люди стали привставать с мест. «Обождите! – жёстко посадил всех назад Изюмов. – Нужно предоставить слово кандидату в депутаты». То есть ему. «Это просто необходимо», – издевательски-понимающе сказал я, обращаясь к соседу Владимиру Ломейко из международного отдела. Ломейко улыбнулся. В зале услышали и захихикали. Изюмов посмотрел на меня с ненавистью. Но отвлёкся: ему предоставили слово, в котором он поблагодарил коллектив за высокую честь, за оказанное доверие. Он будет стараться оправдать, не подведёт. «Если меня выберут», – добавлял он.
«Он вам этого не простит», – сказал мне Ломейко, когда всё наконец закончилось. «Устроил представление театра марионеток», – отозвался я. «Ну, мой милый, – раздумчиво произнёс Ломейко, – такова уж наша общественная жизнь. Он тут не при чём!»
Ломейко, конечно, был прав. Я валял дурака. Оскорбительно было участвовать в этих играх. А с другой стороны, любопытно было смотреть, как старательно делают вид многие, что принимают весь этот абсурд совершенно всерьёз. Впрочем, кто-то, наверное, не лукавил: иной жизни он себе и не представлял.
Изюмов, может быть, мне бы и не простил, но ему очень скоро стало не до меня. В газете сменился редактор: ушёл Чаковский, пришёл Юрий Воронов. В Москве сняли Гришина, изюмовского патрона и покровителя, первого секретаря обкома, и кресло под Изюмовым начало шататься.
А Ломейко потом проработал в газете совсем недолго. Это был международник высокого ранга. Никак не меньшего, чем работавшие у нас вместе с ним Игорь Беляев и Фёдор Бурлацкий, ставшие позже политическими обозревателями. Да и кто знает, останься работать в газете Ломейко, быть может, его, а не Бурлацкого сделали бы главным редактором после смерти Воронова. Всё-таки был Владимир Ломейко зятем Громыко, другом и соавтором его сына, то есть имел мощных в то время покровителей. Особенно в Министерстве иностранных дел. В МИД Ломейко и ушёл, став через некоторое время послом СССР в ЮНЕСКО и оставшись потом там же послом России.
Не знаю, где он сейчас, но ещё в 2001 году был он специальным посланником ООН по правам человека, советником Генерального секретаря ЮНЕСКО. И выступил на международной конференции в Германии, посвящённой проблемам его отечества. «Основная проблема России, – сказал Ломейко, – заключается в том, что там с давних времён традиционно попирается достоинство человека, которое для россиян является чисто абстрактным понятием. Поэтому многие люди сами себя не уважают».
Известно, конечно, как народная мудрость относится ко всяким там «если бы да кабы». А всё-таки получи «Литературная газета» в своё время главным редактором не самовлюблённого Бурлацкого, не корыстного Удальцова, а Ломейко с его понятиями о чести и достоинстве, глядишь, и не сидел бы сейчас в кресле главного редактора человек, который осуществил давнюю мечту Всеволода Кочетова или Владимира Ермилова, – сделать газету трибуной не интеллигенции, а толпы. Им это не удалось, а Полякову без труда. Он вытравил ту атмосферу интеллигентности, которая проникала на её страницы несмотря на цензурные советские плотины. «Литгазета» стала крикливой и бесстыдной А как иначе охарактеризовать подобострастие, с каким газета восхваляет своего главного редактора? Даже Кочетов, не отличавшийся скромностью и уж тем более совестливостью, не пропустил бы в своём издании заметку о себе, предпочёл бы прочитать её в других печатных органах. Поляков не так церемонен. В его газете приветствуется любая его публикация, одобряется любая его пьеса, поставленная в театре, умиляются любому фильму, снятому по его сценарию. Откройте сайт «Нового мира» или «Знамени». Вам представляют сотрудников редакции, авторов, которыми дорожат. А что на сайте «Литературной газеты»? Колонка Полякова, сообщение о книге публицистики Полякова, которую выпустило издательство «Литературной газеты», наконец, для общения – адрес специального авторского сайта Полякова! Административный ресурс в действии?
Впрочем, это мне нынешняя «Литературная газета» не нравится. А вот Валентин Распутин, перечисляя на её страницах «подвиги» её теперешнего главного редактора, закончил: «Последний подвиг Юрия Полякова из его неустанной деятельности в минувшее десятилетие (и это действительно подвиг) – " Литературная газета». Её возвращение из небытия, из дерьма и бесстыдства, в которых она волочилась лет пятнадцать подряд, – это похоже на чудо».
Конечно, такие вещи полагается оплачивать. И вот – ответный комплимент: письмо в «Литературную газету» Саввы Ямщикова, где между прочим пишет искусствовед о стране, «давшей миру Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Пастернака, Шолохова и Распутина». Вы нам – подвиг (и мы это напечатали!), мы вам – гений (продолжайте хвалить наше чудо!).
Удивительным образом эйфория Распутина по поводу редактора «Литгазеты» перекликается с эйфорией Владимира Бондаренко, обращённой к Феликсу Кузнецову в газете «Завтра»: «То, что вы сделали на посту председателя Московской писательской организации – почти что чудо. Из оплота либерализма вы за десять лет, не имея никакого плотного фундамента под ногами, а одно космополитическое болото, сделали оплот патриотических сил. Наши общие враги никогда не простят вам этого подвига. Позже вы повторили этот же прорыв в ИМЛИ». Даже дословно совпадает: там – «чудо» и «подвиг» и здесь «чудо» и «подвиг». Разве что Бондаренко усилил батальную картину героики собеседника: «прорыв»!
«Прорыв» в Московской писательской организации происходил на моих глазах. В издательстве «Современник» разразился крупный скандал. Директор Юрий Прокушев и главный редактор Валентин Сорокин оказались замешанными в коррупционной истории. Оба получили партийные взыскания и были сняты с работы. А через какое-то время узнаю, что их обоих Кузнецов ввёл в свой секретариат.
Мы с Феликсом Кузнецовым жили в одном доме. «Для чего ты сделал секретарями Прокушева и Сорокина?» – спросил я, встретив его во дворе. «Не люблю, – объясняет, – когда людей преследуют. У нас ведь как? Оступился – и начинают топтать!» Золотые слова! Помнил ли он о них, когда обрушился на составителей и авторов «Метрополя»? А ведь те даже и не «оступались», то есть не воровали, не брали взяток!
Да, Феликс повторил подвиг, став с подачи своего поклонника Егора Кузьмича Лигачёва директором ИМЛИ. Он немедленно перевёл в сотрудники некогда весьма уважаемого института аппаратчиков секретариата московского отделения Союза писателей, позвал в институт работников журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник», издательств «Современник» и «Молодая гвардия», помог многим из них защитить диссертации. Лигачёв добился избрания Кузнецова членом-корреспондентом Академии. И наверняка стал бы Феликс академиком, а потом перешёл бы на работу в академики-секретари отделения, где снова повторил бы свой подвиг: сделал бы академиками полуграмотных докторов наук, которым сам же и помог стать докторами. Но власть из рук Лигачёва выпала, как сыр из клюва крыловской вороны. И Феликс академиком не стал. А после, через какое-то время, несмотря на уговоры сотрудников ИМЛИ Валентина Непомнящего и Игоря Золотусского оставить Кузнецова на посту директора, коллектив института освободил его от этой обязанности, как объявили, по болезни и по достижению возраста. Но без должности этот Геракл не остался. Кузнецова избрали первым секретарём и заместителем председателя исполкома международного сообщества писательских союзов, которое возглавляет Михалков, а также сопредседателем международного литфонда.
Что же до Полякова, то он, помнится, в передаче Швыдкого «Культурная революция» не то что взялся спорить с Львом Толстым, выписавшим в свой «Круг чтения» афоризм английского публициста Самуэля Джонсона («Патриотизм – последнее прибежище негодяев»), но решил его дополнить: «Если патриотизм – последнее прибежище негодяев, то антипатриотизм – их первое прибежище». Понимал ли он смысл того, что захотел переиначить? Сомневаюсь. Джонсон и согласный с ним Толстой утверждают, что негодяи, исчерпав все свои аргументы, хватаются за патриотизм как за последнее средство, чтобы увлечь за собой толпу (ближайшие исторические примеры – Гитлер, Сталин, африканские племенные вожди). А Поляков, пристроившись к чужой мысли, исказил её и обессмыслил. Ибо кого могут напомнить эти поляковские «негодяи-антипатриоты»? Конечно, безродных космополитов времен разгула сталинского антисемитизма. И там и там расплывчатые зловещие определения, таящие в себе взрывную силу ненависти. Страшно опасную для общества, как показали на днях «Русские марши» в так называемый День народного единства.
А насчёт человеческого достоинства Владимир Ломейко верно заметил: оно в России попирается с давних пор. Пушкин ещё в 1836 году писал Чаадаеву (подлинник по-французски): «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние».
Поэтому с огромным удивлением я читал работы пушкиниста Валентина Непомнящего, где он доказывал, что Пушкин разочаровался в либеральных ценностях, связанных с правами человека. Недаром, дескать, опубликовал в III томе своего «Современника» (1836 г.) статью, которую назвал «Об обязанностях человека».
Но название статьи просто повторяет название книги, о которой пишет Пушкин. Об этом говорит подзаголовок его статьи «Сочинение Сильвио Пеллико». Пушкин восхитился бывшим карбонарием, просидевшим за свою антиправительственную деятельность десять лет в тюрьме, написавшим об этом автобиографические записки «Мои тюрьмы» и вслед за ними ту, «где ни разу не вырывается из-под пера несчастного узника выражение нетерпения, упрёка или ненависти…»
Подобная незлобивость умиляет Пушкина. Он постигает в ней «тайну прекрасной души, тайну человека-христианина». Не зря начинает статью с разговора о Евангелии и о тех великих церковных писателях, которые «в своих творениях приближились кротостию духа, сладостию красноречия и младенческой простотою сердца к проповеди Небесного Учителя».
Казалось бы, пушкинская позиция ясна и безупречна. И поэтому совершенно непонятно, отчего напоминание об обязанностях человека следовать Христовым заповедям, преклонение перед теми, кто им следует, должны противоречить желанию отстаивать дарованное Богом человеку право свободно жить, свободно дышать, свободно ходить по земле, не боясь, как писал Пушкин, «никого, кроме Бога одного»? По-моему, такой вопрос лишён смысла. «Бесправный человек есть раб», – совершенно справедливо написал Владимир Войнович. А ждать от раба добросовестного исполнения своих обязанностей неразумно. Тем более неразумно ждать от него исполнения неких обязанностей перед обществом, перед государством. Раб и гражданин – вот эти понятия действительно абсолютно противоречивые. «Несовместные», как говорили пушкинские герои.
* * *
Сильно перепугался Женя Винокуров, когда ему сказали, что подпись Василя Быкова под коллективным письмом против Солженицына появилась без ведома писателя. Так ведь и он, Винокуров, может оказаться на месте Быкова! «Это легенда, – недоверчиво говорил Винокуров. – Быков её и придумал!» Месяца через два после появления письма я видел Быкова на каком-то пленуме. На нём не было лица. Угрюмый, замкнутый, он недолго просидел за столом президиума, куда его избрали, встал, ушёл за кулисы и больше на пленуме не появлялся.
Через какое-то время в прессе (кажется, в «Правде») появилась хвалебнейшая статья Юрия Бондарева о новом романе Быкова, ещё через какое-то Быкову дали звезду героя соцтруда.
– Да, видимо, ты был прав, – сказал я Винокурову.
– Конечно, прав, – отозвался он. – Если б Быков письма не подписывал, он нашёл бы способ оповестить об этом. Не сталинское сейчас время!
При Сталине Борис Пастернак отказался подписать письмо с требованием смертной казни Тухачевскому, а назавтра с ужасом обнаружил в газете свою подпись.
Но много позже Алесь Адамович подтвердил мне, что Быков вёл себя так же с теми, кто позвонил ему из Москвы. И что близкие писателя опасались за его психику, когда он увидел, что с ним не посчитались.
– Что же он не протестовал? – удивился я.
– А как бы он это сделал? – спросил Адамович. – Написал бы в «Литературку»? Та бы напечатала?
– Сказал бы любому зарубежному корреспонденту.
– В Минске? – иронически сощурился Алесь.
– В Москве, где я его видел через некоторое время после этого.
– А потом бы вернулся в Минск? – продолжал иронизировать Адамович. – Нет, милый. Москвичу не понять, что такое жить под гнётом не только Москвы, но и своих провинциальных царьков.
Это правда. Не понять. Помню, вычеркнул Кривицкий какие-то очень недурные строчки из ответа Игоря Дедкова на нашу анкету. Звоню Дедкову в Кострому. Говорю ему об этом.
– Ладно, – говорит, – переживу. В кои-то веки позвали в «Литгазету»!
(В скобках поделюсь личным своим наблюдением. Конечно, спорным, я на нём и не настаиваю. Суммирую только, с чем приходилось часто встречаться. Как правило, люди, охотно идущие на компромисс с начальством, оказывались выходцами из провинции. Думаю, что это следствие советского устройства, при котором Москва оказывалась как бы государством в государстве. Провинциальные царьки в своих вотчинах были полновластными хозяевами положения, их присутствие постоянно ощущалось жителями. А в Москве этого не было. Над горкомом стоял ЦК КПСС, над Моссоветом – совет министров. Действия многочисленных начальников не будоражили испуганного воображения, как действия единственных. Отсюда и большая независимость москвичей. Добившись московской прописки – с помощью служебного перевода или женитьбы, провинциалы часто как бы вырастали в собственных глазах. Но с детства сидевшие в их подкорке страх или почтительность перед начальством своё дело делали. Во всяком случае, осторожничали они значительно чаще, чем коренные москвичи. Впрочем, понимаю, что подобные умозаключения невероятно субъективны.)
Нет, москвичи Кривицкому так бесцеремонно обращаться с собой не разрешали. Вычеркнул Евгений Алексеевич у Межирова несколько абзацев. Позвонил я Саше. Уговорились: я ему не звонил, просто он был рядом, зашёл, увидел, возмутился…
– П-ошли в-вм-месте, – предлагает.
Приходим. Межиров приветливо улыбается. Жмёт Кривицкому руку.
– Я, – говорит, – п-принимаю люб-бую критику. Если она п-о д-делу. И вы, – он смотрит любовно на Кривицкого, – по-моему, всегд-да оттличались высоким п-профессионализмом.
Кривицкий торжествующе взглядывает на меня.
– Но на эт-тот раз в-вкус вам изменил.
Евгений Алексеевич мнётся. Он говорит Межирову, что в принципе не собирался сокращать его статью. Но на эту полосу нужно поставить какой-то ещё материал. Сокращения вынуждены.
– П-перенесите на другую полосу, – предлагает Межиров. – Или д-дав-вайте снимем пока материал, я п-од-дожду.
Нет, снимать Кривицкий не хочет (нужно ещё придумывать, что ставить вместо, а это волынка, номер затормозится, будет кричать на него Чаковский на планёрке!). На другую полосу переносить, к сожалению нельзя. Так что он просит Александра Петровича…
– И не п-просите, – парирует Межиров. – П-ойти вам навстречу н-не см-могу.
Хорошо. Кривицкий согласен кое-что восстановить.
– Д-данную правку, – говорит Межиров, – следует восстановить п-олнос-стью.
Кривицкий согласен. Но при условии, что Александр Петрович сейчас сам наметит что-нибудь для сокращения. Межирову приносят статью до правки. Он в неё углубляется.
– Г-геннадий, – зовёт он меня. – М-мне кажется, что вот здесь, – он показывает, – надо бы сделать с-совсем небольшую вставочку.
– Что? – Кривицкий в ужасе. – Никаких вставок я сделать вам не позволю.
– В таком с-случае, – Межиров говорит невероятно сожалеющим тоном, – б-будем печатать так, как есть.
– Не будете сокращать?
– Поверьте, Евгений Алексеевич! С удовольствием с-ократил бы. Но не вижу что! Над эт-той статьёй я работал к-как никогда долго. Она отполирована.
– Ну, может быть, вот этот кусок?
– В-вы меня удивляете, – Межиров поднял брови. – Вы же потрясающий профессионал! В-ведь ради этого куска в-всё и написано.
Словом, уходим после того, как намечаем абзацы, которые переберут более мелким шрифтом – петитом. Для экономии места.
– Ну к-как? – хвастает Межиров, когда мы остаёмся одни. – К-класс?
Так что прав Адамович: москвичи жили свободнее других.
– Ну, не знаю, – говорю я ему. – Сразу после этого письма Быкову дают государственную премию. Потом ленинскую. Ещё какую-то республиканскую. Что это? Коготок увяз?
– Да это его панцирь, – отвечает Алесь. – Если б ты знал, какие осы над ним вились.
Винокуров, впрочем, так никогда и не верил, что Быков не подписывал письма.
– Сам подумай, – говорил он. – Ему звонят. Он отказывается. Как, по-твоему, доложат об этом верхам?
– Не сомневаюсь, – отвечаю.
– Ну вот! Те приказывают: не обращать внимания, подписать за него. Так?
– Ну да, – говорю.
– И сразу герой, лауреат, депутат! Ради чего? Ради того, чтоб не проболтался? Подписал он, не сомневайся!
Я и сейчас не знаю точно, как всё-таки обстояло дело.
С давних времён паханы (правители) России заказывали музыку и бдительно следили за тем, как её исполняют.
Я не был близко знаком с Корнеем Ивановичем Чуковским, хотя получил от него рекомендацию в Союз писателей. Но некоторых его друзей хорошо знаю. Читал воспоминания о нём. Так что представляю себе характер этого умного, ироничного, любящего розыгрыши и одновременно замкнутого в себе человека. Именно потому иначе, чем многие, написавшие об этом, отношусь к знаменитой его дневниковой записи от 22 апреля 1936 года о том, как они с Пастернаком на съезде комсомола восприняли появление Сталина:
«Что сделалось с залом? А ОН стоял, немного утомлённый, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюблённые, нежные, одухотворённые и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему всё время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой – все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы» – и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.
Пастернак шептал мне всё время о нём восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: " Ах, эта Демченко, заслоняет его!» (на минуту).
Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью…»
Я к этой записи отношусь, как Евгений Винокуров к известию о том, что без ведома Василя Быкова поставили его подпись под письмом против Солженицына. Я не верю в искренность чувства, выраженного здесь Корнеем Ивановичем.
Ну, посудите сами. За два месяца до этого: «Вчера вечером позвонили от Главного начальника политической милиции: когда он мог бы меня посетить. Говорили каким-то угрожающим тоном. Я страшно взволновался. Уж не натворила ли чего-нибудь Лида». Через две недели: «Вчера позвонил Алянский и сообщил, что в «Комсомольской правде» выругали мой стишок «Робин Бобин Барабек». Это так глубоко огорчило меня, что я не заснул всю ночь». Ещё через неделю: «Вчера нагрянул на меня Цыпин. Очень сладко и любовно предложил мне выбросить из программы несколько моих книжек. " Нельзя. Нельзя. По настоянию Ц. К.»».
А за полтора года – в конце декабря 34-го: «Сейчас говорил с Главлитом – оказывается, мой «Крокодил» запрещён опять». И до самого конца года безуспешная борьба за «Крокодил», закончившаяся окончательным цензурным запретом.
Не мог не понимать Корней Иванович, в какой он живёт стране и что с ней происходит. Его запись об аресте Каменева звучит, как обвинительное заключение: «Неужели он такой негодяй? Неужели он имел какое-нб. отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъестественный, т. к. к гробу Кирова он шёл вместе со мною в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы. И притворялся, что занят исключительно литературой». Но не потому ли появилась такая запись, что перед арестом был Каменев директором издательства «Academia», тепло и дружески общался с Корнеем Ивановичем, и дружеское это общение могло оказаться теперь для Чуковского смертельно опасным?
Не оставляет меня ощущение, что писал Корней Иванович с оглядкой и на того, кто может прочесть его дневник, если за ним, как и за многими тогда, придут.
Боже, как они с Пастернаком подогревают друг друга: «Пастернак шептал мне всё время о нём восторженные слова, а я ему…» Не доверяют друг другу? Да нет, не в этом дело. А в том, что оба сейчас наигрывают чувство. Каждый, скорее всего, знает про другого, что тот играет, и старается от другого в этом не отстать.
О том, как обстояли у Корнея Ивановича Чуковского дела в апреле 1936 года, я уже говорил. От многого он отказался, многое захотел забыть. Был он некогда блистательным критиком. А теперь бросил этот опасный жанр, в котором хочешь не хочешь, но следует обозначить свои симпатии и антипатии. Не получалось и стать безобидным детским поэтом. Даже такие стихи, как «Робин Бобин Барабек», брали под подозрение. Ну, а если кому-нибудь пришло бы в голову вспомнить из его «Тараканища»: «Покорилися звери усатому. / (Чтоб ему провалиться проклятому!)»? Чем Корней Иванович докажет, что не о том усатом идёт речь? Не этими же строчками из той же сказки:
Но однажды поутру Прискакала кенгуру, Увидала усача, Закричала сгоряча: «Разве это великан? (Ха-ха-ха!) Это просто таракан! (Ха-ха-ха!) Таракан, таракан, таракашечка, Жидконогая козявочка-букашечка. И не стыдно вам? Не обидно вам? Вы – зубастые, Вы – клыкастые, А малявочке Поклонилися, А козявочке Покорилися!»За эти, как и за те, свободно можно было получить не меньше того, что уже получил Мандельштам. И у него в стихах: «Тараканьи смеются усища»! Причём мандельштамовские стихи не оставляли сомнения, о чьих тараканьих усищах идёт речь. Помнил ли о такой параллели Корней Иванович? Не мог не помнить, хотя, конечно, вёл речь в 1923 году не о сталинских усах. И не мог её не страшиться, коль скоро ночь не спал после того, как «Комсомолка» обругала его стишок!
А как к апрелю 1936-го складываются дела у Пастернака? Я думаю, что он обрадовался, узнав, что Сталин назвал его «небожителем». Потому что достиг своей цели. Был Пастернак весьма здравым реалистом. Ещё в 1918 году, начав стихотворение «Русская революция» с мажорного воспоминания: «Как было хорошо дышать тобою в марте…», он закончил его трезвой констатацией:
Теперь ты – бунт. Теперь ты – топки полыханье И чад в котельной, где на головы котлов Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блёв.Но чтобы выжить, встал в позу, так сказать, философствующего чудака. Отказался подписать коллективное соболезнование Сталину, потерявшему жену, однако добился, чтобы рядом с коллективным было напечатано его личное, пастернаковское: «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник – впервые. Утром прочёл известье. Потрясён так, точно был рядом, жил и видел».
В 1934-м выступивший на съезде писателей Бухарин объявил Пастернака лучшим поэтом современности. Вырос, дескать, новый читатель поэзии, которого уже не удовлетворяют стихи Демьяна Бедного и даже Маяковского. Скорее всего, именно в ответ Бухарину появилось в декабре 35-го в печати резюме Сталина, навсегда установившего, кто в Советском Союзе лучший и талантливейший. Пастернак правильно понял, кому отвечает Сталин. И верно решил, как ему вести себя в этом случае – отодвинулся от своего восторженного поклонника, которого однажды уже исключали из партии – давали понять, что тот утратил благорасположение Хозяина. Потому и писал поэт Сталину: «Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, (…) я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, без которых я бы не любил жизни. Именем этой таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам Б. Пастернак». Чрезмерно горячая благодарность говорит о страхе. Очень может быть, что письмо, где он взял сторону косноязычного Сталина, а не его красноречивого оппонента, спасло поэту жизнь.
А вот два стихотворения Пастернака о Сталине, напечатанные 1 января 1936 года в «Известиях», таким противоядием быть не могли. Во-первых, благоволение Сталина к своим льстецам не было для них индульгенцией: мнительный вождь частенько менял милость на гнев. А во-вторых, вряд ли Сталин вообще понимал поэзию Пастернака, которого считал, должно быть, мастером всяческих изощрённых поэтических выкрутасов. Не подобным ли мастером Сталину представлялся и Мандельштам и не решил ли Сталин проверить своё представление, позвонив Пастернаку? «Но ведь он же мастер, мастер?» – спросил об арестованном Мандельштаме. И, мне думается, очень удивился, услышав в ответ: «Не в этом дело». Не в этом, а в чём же тогда? Поэт Мандельштам или не поэт? Поэт Пастернак или не поэт? Впрочем, из кажущейся Сталину невнятицы, напечатанной в «Известиях», он наверняка извлёк, что поэт пишет о своём восприятии гениального поступка вождя:
И этим гением поступка Так поглощён другой поэт, Что тяжелеет, словно губка, Любою из его примет. Как в этой двухголосной фуге Он сам ни бесконечно мал, Он верит в знанье друг о друге Предельно крайних двух начал.И этого было достаточно для благосклонного прочтения.
Вполне возможно, что, читая эти строчки, Сталин вспоминал просьбу поэта в том их телефонном разговоре о личной встрече. О чём бы он хотел с ним поговорить? – поинтересовался Сталин. «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Пришлось Сталину бросить трубку: небожитель!
Согласиться со многими, что был в жизни Пастернака период, когда тот увлекался Сталиным, – значит согласиться с этой сталинской характеристикой. Но небожителем Борис Леонидович только притворялся. Его близкие это знали. К примеру, его двоюродная сестра Ольга Фрейденберг, которой он писал 1 октября 1936 года: «… началось со статьи о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников и опять-таки лучших, как например, Владимира Лебедева и др. Я, послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя всё своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но и трогать не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом ко мне отряжали товарищей из союза (…) справляться о моём здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронду».
(Понимаю нынешних молодых: Пастернаку приходилось заступаться за Мариэтту Шагинян, Федина или Леонова? Но в то время эти трое не обслуживали режим с той одиозностью, с какой стали обслуживать позже. А позже «совершеннейшие ничтожества» на них и не накидывались: чуяли родственные души!)
«Чувствую я себя превосходно», – писал сестре Пастернак, запечатлевая избранную им тактику – прилюдно или в письме к вождю неизменно демонстрировать свою любовь и преданность ему.
Нет, у него демонстрация таких чувств не отдаёт холуйством, как, скажем, у Алексея Толстого или у Демьяна Бедного. Но вот, отказавшись подписать письмо с требованием расстрела Тухачевского, он в этот же день почти истерически, умоляюще объясняет в письме Сталину причины отказа: вождь может располагать его жизнью, но поэт не считает для себя возможным «быть судьёй в жизни и смерти других людей». Несомненно, что Сталин его письмо прочитал. И понятно, почему приказал включить Пастернака в число подписантов. Раз против расстрела Тухачевского тот не выступает, стало быть, сомневаться нечего – смело ставьте подпись этого небожителя.
Учтём ещё, под гнётом каких чувств жил Пастернак после суда над Бухариным. Сталин никогда ни о чём не забывал. Помнил он и кого особенно превозносил его враг. И похвала эта в любое время могла обернуться для Пастернака полновесным компроматом. Не меньшим, чем тот, каким отозвалось Сергею Есенину хвалебное слово о нём Троцкого. Но Есенин умер раньше, чем начали хватать граждан сталинские душегубы. Единственное, что мог теперь Сталин, – распорядиться, чтобы имя поэта почти исчезло из читательской памяти.
Варлам Тихонович Шаламов любил Пастернака, которому написал из лагеря и получал в ответ от него ободряющие письма и денежные переводы. «По тем временам это был очень смелый поступок», – говорил мне Шаламов. Пастернак приветил Шаламова, освободившегося из лагеря. Хлопотал за него, много ему помогал. Поэтому меньше всего я хотел бы, чтобы меня поняли так, будто я уличаю Пастернака или Корнея Ивановича Чуковского в трусости. Не уличаю. Пишу о том, что можно иметь натуру бойца, но при этом с большой и понятной осторожностью двигаться по минному полю.
Как всё-таки страшно было жить на свете, когда страною правил людоед! Какой нужно было обладать нравственной стойкостью, чтобы не сломаться, не замараться, сохранить своё достоинство вопреки унизительным условиям существования.
Да, я допускаю, что какой-нибудь ненавидевший Василя Быкова Севрук, работавший тогда в ЦК (сейчас он идеолог у Лукашенко и продолжает покойного Быкова люто ненавидеть), предложил не обращать внимание на отказ писателя и поставить его подпись под гнусным письмом. Но время на дворе стояло не сталинское. А для Быкова даже не лукашенковское. Впрочем, я в таких переделках не оказывался. Судьёю Быкову быть не могу. Да и не хочу.
* * *
Некогда поссорились два моих приятеля – два известных критика. С одним я дружил больше, с другим меньше. Тот, с кем я дружил меньше, объявил, что прекращает выступать в печати. Не хочет больше печататься, не видит в этом смысла. Не станет участвовать в литературных дискуссиях, которые время от времени затевают газеты и журналы, поскольку, по его мнению, к подлинным литературным проблемам эти дискуссии отношения не имеют. Надоело пестовать в себе внутреннего цензора в собственных критических статьях и учитывать при их публикациях замечания цензора внешнего – будет писать в стол всё, что хочет, и так, как хочет!
Тот, с кем я дружил больше, писал много, выпускал если не раз в год, то в два или в три – книгу, а уж о статьях или рецензиях и говорить не приходится – более-менее либеральные органы типа нашей «Литгазеты» их печатали охотно.
Но тот, с кем я дружил меньше, прекратив печататься, став, так сказать, внутренним диссидентом, занялся поиском источника существования. Друзья предложили ему испытанный многими – перевод, кажется, под чужой фамилией. Ему дали переводить книгу писателя с Северного Кавказа о северокавказских большевиках.
Ссора двух моих приятелей началась с обмена колкостями и продолжилась обменом язвительными письмами, которые стали достоянием довольно широкого круга общих друзей. Тот, с кем я дружил больше, насмешливо написал бывшему своему товарищу, что будь он (тот, кто написал) на его (того, кому написано) месте, то он (тот, кто написал) уж наверное не стал бы переводить книги о большевиках, коль скоро решил не печататься.
Меня эта фраза и тогда покоробила: у всех на памяти была недавняя история с исключением из партии Бориса Балтера. Его исключили не за то, что он подписал письмо в защиту арестованных диссидентов, а за то, что категорически отказался назвать тех, кто ему это письмо дал подписать. А исключив, внесли Борину фамилию в чёрный список, сверяясь с которым ни один цензор на всей огромной территории советской страны не пропустит фамилию Балтера в печать, на радио, на телевидение, не пропустит даже простого упоминания этой фамилии. Выбросив Борю из партии, его фактически выбрасывали из жизни. Так бы и произошло, не появись друзья Балтера со спасительным предложением – что-то написать или что-то перевести, прикрывшись чужой фамилией.
Позже я прочитал у Войновича, как и о нём, исключённом из Союза писателей правозащитнике, угрожающе говорила секретарь московского горкома партии по идеологии Алла Шапошникова: «Пусть только попробует писать под чужой фамилией! Мы это обязательно отследим!»
На чём погорела Алла Шапошникова, я не знаю. И характером, и внешним видом она напоминала вепря. Приезжала однажды в «Литературку». Не помню, по какому поводу. Кажется, с чем-то поздравить газету, но с чем? Запомнилось, что речь её была приветственной, что читала она, как Брежнев, не отрываясь от бумажки. И что ни разу не улыбнулась, пока была у нас.
А после я несколько раз видел её на Гоголевском бульваре. Московский наместник Брежнева, первый секретарь Гришин её из своей команды выгнал. Перешла она на работу кадровиком то ли в министерство, то ли в какой-то учебный институт. Всякий раз в её руке была хозяйственная сумка с продуктами, шла она от метро «Кропоткинская», по видимости, домой. Разумеется, кроме меня её никто не узнавал. Да и я заметил перемену: её важное лицо стало склочно базарным, как у многих советских женщин, готовых сцепиться с каждым, кто пытался бы в магазине влезть без очереди. Очевидно, её «отследим» было не только её профессиональным, но природным свойством.
Так что язвительное заявление одного моего приятеля другому, что он не стал бы, как тот, переводить сочинение о северокавказских большевиках даже под чужой фамилией, не совсем, как теперь любят говорить, корректно. А прекрасно зная этого моего приятеля, скажу резче: не уверен, что он не стал бы! Есть хорошая русская поговорка: «Чужую беду руками разведу». Каждый человек – хозяин своей судьбы. И я не убеждён даже, что у того, с кем я дружил больше и кого давно и хорошо знал, хватило бы смелости выбрать судьбу другого приятеля.
Не мог я не удивиться и стихам Володи Корнилова, посвящённым его уехавшему другу Владимиру Войновичу:
Помнишь, блаженствовали в шалмане Около церковки без креста? Всякий, выпрашивая вниманья, Нам о себе привирал спроста. Только всё чаще, склоняясь над кружкой, Стал ты гадать – кто свой, кто чужой, Кто тут с припрятанною подслушкой, А не с распахнутою душой?.. Что ж, осторожничать был ты вправе, Но, как пивко от сырой воды, Неотделимы испуг от яви, Воображение от беды. …Я никому не слагаю стансы И никого не виню ни в чём. Ты взял уехал. Я взял остался. Стало быть, разное пиво пьём. Стало быть, баста. Навеки – порознь… Правду скажу – ты меня потряс: Вроде бы жизнь оборвал, как повесть, И про чужое повел рассказ. … В чистых пивных, где не льют у стенки, Все монологи тебе ясны? И на каком новомодном сленге Слышишь угрозы и видишь сны? Ну а шалман уподобен язве, Рыбною костью заплёван сплошь, Полон алкашной брехни… и разве Я объясню тебе, чем хорош…– Не понимаю, – говорил я, – причём тут «испуг» и «воображение». Войновичу ведь довольно недвусмысленно сказали: или – или…
– Но Лидия Корнеевна не уехала, – горячо возражал Корни – лов.
– Так ей никто этого и не предлагал, – пожимал плечами я.
– Потому и не предлагали, – говорил Володя, – что знали: бессмысленно! Солженицына можно было только выдворить! Андрея Дмитриевича никто не заставил бы уехать!
– И не стали бы, – соглашался я. – Он же отец водородной бомбы.
– От этих работ он был давно уже отстранён, – сообщал Корнилов.
– Здесь нет срока давности, – говорил я. – А Солженицыну они бы своим предложением добавили героизма. С ним только и можно было поступить так, как они – арестовать и немедленно выслать. И потом, разве Володя Войнович осторожничал? – указывал я Корнилову на его строчку: «Что ж, осторожничать был ты вправе». – Сколько заявлений, сколько открытых писем…
– И всё для того, чтоб уехать, – подхватывал Володя.
– Или сесть в тюрьму, – возвращал я его к реальности.
– Надо было быть готовым ко всему, – твёрдо говорил Корнилов.
Нет, я и сейчас абсолютно не согласен с его оценкой отъезда Володи Войновича.
««Advienne que pourra!» («Будь что будет!» (фр.). – Г. К.) – говорила Жанна д'Арк. Однако, беря пример с неё, не следует упускать из виду, что её сожгли на костре…» Это написала Евфросиния Керсновская, невероятно мужественная женщина, на долю которой выпали и депортация из Бессарабии в 1940-м, и побег – многокилометровое и многодневное скитание по тайге в полном одиночестве, и гулаговский лесоповал, и работа ссыльной в шахтёрской штольне. Не только, как видите, отличало её невероятное мужество, но и трезвый взгляд на жизнь: сама была готова взойти на костёр, но от других этого не требовала. Человек в любых обстоятельствах не должен попирать в себе человеческое – вот и вся философская максима, которой вполне можно довольствоваться и в самооценке, и в оценке других.
Кажется, у Войновича я прочитал однажды, что мужество, не идущее об руку с благородством, стоит не Бог весть сколько. Я и сам об этом много думал. Помните нашумевшую историю про бандита, который сумел влюбить в себя следовательницу? Она передала ему пистолет, из которого он застрелил охранника и бежал. Он несомненно лично храбр. И при этом – подонок. Обманул женщину, предал её, убил человека, да и до этого убивал. Гражданское мужество я ставлю намного выше воинского. «Ты весь как на ладони: все пули – в одного», – передал Окуджава ощущение человека на войне. А в подобной ситуации какой смысл трусить?
– Никакого! – соглашался со мной Лёва Кривенко, тот самый командир взвода автоматчиков, комиссованный после тяжёлого ранения и ставший любимым учеником Паустовского в Литинституте, о котором я рассказывал в «Стёжках-дорожках». И говорил о том, как его ранило: – Практически все успели перебраться через шоссе на другую сторону леса, оставались мы, изготовились, и вдруг заработал пулемёт. Да не пулемёт, а пулемёты. Шоссе под огневым ливнем. Пули рикошетят. Вжались в землю, лежим. Час, два, а пулемёты не смолкают. Я говорю ребятам: «И так и так плохо! Но лучше, наверное, перебежать – отделаешься пулей в заднице. А так сильно отстанем от своих – верная смерть. Или плен. Рванём», – говорю я взводу. Рванули. Меня сразу ожгло. Но быстро, быстро на другую сторону. Бежим. Полчаса несёмся как угорелые. Всё! Вот они – наши. Падаю. Голова гудит. «Все живы?» – спрашиваю. А ответа не слышу. Очнулся в полевом госпитале.
– И сколько, – спрашиваю, – выжило?
– Все! – гордо отвечает Лёва. – И ранены все. Каждый свою пулю получил. Но я, видишь, как неудачно!
Пуля раздробила Лёве локтевой сустав, отчего его левая рука никогда не разгибалась. Ею, согнутой в локте, он жестикулировал, когда рассказывал. Как будто рубил перед собой воздух.
«Нет, не прячьтесь вы. Будьте высокими!» – обращался Булат Окуджава в своей песне-воспоминании к мальчикам, вместе с ним уходящим на войну. И мальчики были высокими. Их принуждала к этому суровая военная реальность. Не все, конечно, проявляли лучшие свои качества. Но большинство. Что и понятно – уж если на тебя напали, чтобы убить, ты будешь отбиваться от убийц до самого конца! Своего – или их конца.
Сталин, воюя с собственным народом, загнал миллионы в тюрьмы и лагеря, где перед человеком стояла та же задача: выжить, постараться вернуться назад. Страшные «Колымские рассказы» Шаламова показывают, какую неимоверную цену приходилось платить многим, цепляясь за жизнь, – дичая, принимая закон урок «умри ты сегодня, а я завтра»!
Горько разочаровал меня персонаж романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей» Корнилов, ставший сексотом. Я влюбился в него, читая «Хранителя древности» – первую часть дилогии. Обаятельный, живой, умный, честный. «Ну для чего нужно было его опускать?» – спрашивал я Домбровского. «Такое тогда было время, – отвечал он. – Многие ломались!» Да, многие. Но книги Е. Керсновской, О. Слиозберг, Е. Гинзбург, Т. Окуневской, главы «Архипелага ГУЛАГа» запечатлели мужество людей и в этих звериных условиях. А разве не свидетельствует о подобном мужестве сама по себе человеческая фигура чудесного писателя Юрия Осиповича Домбровского, впервые арестованного в 1936-м, в третий раз – в 1949-м и только в 1956 году реабилитированного? Все, кто его знал, подтвердят: он вёл себя очень достойно. Говорил то, что думал, не боясь чужих ушей, хотя очень часто за столом с ним сидело немало случайных собутыльников.
Пишет Солженицын о том, как отрёкся от своих «Колымских рассказов» Варлам Шаламов, как напечатал отречение в «Литературной газете». Сломали? С одной стороны, несомненно. Но как ломали? Кажется, в нью-йоркском «Новом Журнале» были напечатаны первые два или три его рассказа. Варлам Тихонович получал инвалидную пенсию – 80 рублей в месяц. После публикации за границей пенсию задержали. А когда у Шаламова кончились деньги, объяснили, что их у него и не будет, пока не подпишет он это написанное чекистами письмо. А не подпишет, пусть подыхает от голода. А не подохнет, ещё раз посетит знакомые места, где он провёл почти двадцать лет жизни. Махнул рукой Варлам Тихонович: пёс с вами, печатайте! Пенсию ему вернули. Приняли в Союз писателей, благодаря которому он последние три года жил в литфондовском пансионате для инвалидов и престарелых в Тушине, где и умер.
Но это, как я сказал, с одной стороны. «Мы так и поняли, – объяснял Солженицын поступок Варлама Тихоновича в сноске того там-издатского «Архипелага ГУЛАГа», который я читал в советское время, – умер Шаламов». А я так это не понимал. «Колымские рассказы» уже были переданы на Запад и жили своей жизнью. «Что бы ни заставили меня о них написать, – говорил Шаламов, – они есть. И читатели их когда-нибудь прочитают».
Что ж. Не было у Шаламова мировой известности. Не мог он поэтому не только диктовать свою волю палачам, но хотя бы вернуть себе те несчастные 80 рублей, чтобы не помереть с голоду. Гласно отрёкся от «Колымских рассказов», как некогда отрекался от Нобелевской премии его кумир и друг Борис Леонидович Пастернак. Но тайно и горячо ждал, что их продолжат публиковать. Я уже говорил, и Войнович до меня писал, что мог Александр Исаевич своим авторитетным словом подвигнуть западных издателей выпустить книгу Шаламова. Не захотел!
Но и мужество лагерников (политических, разумеется) для меня сродни воинскому. Ты никого не оговорил на допросах с применением физического воздействия, как официально называли пытки, ты выстоял против волчьего урочьего закона, не попался на крючок «кума», смог сохранить своё человеческое, питаясь отбросами, надрываясь на тяжелейших работах, – я снимаю шляпу перед твоим подвигом!
Однако на моей памяти множество примеров того, как храбрые фронтовики оказывались в мирной жизни трусливыми зайцами. Ради элементарных благ, из боязни их потерять: кто дорожил своей зарплатой, кто занятым в обществе собственным положением. Создавалось впечатление, что люди, не раз смотревшие в глаза смерти, теперь собрались жить вечно. И это не только были фронтовики. Я работал в «Литгазете» с человеком, о котором многие бывшие зэки отзывались с огромным уважением: слава о его стойкости вышла далеко за пределы того лагеря, где он отбывал срок. В газете он заведовал отделом. И был, пожалуй, самым осторожным, чтобы не сказать трусливым из всех заведующих. Над ним потешались. Павел Волин довольно верно описал его в своей книге: тот спешил одобрить любую глупость, которая исходила от начальства. Добавлю к этому, что однажды я позвонил ему из Дома творчества писателей в Дубултах и попросил на ближайшей летучке прочитать моё письмо по поводу одной возмутившей меня статьи, появившейся у нас в газете. Письмо брался передать ему человек, сегодня уезжающий в Москву. Мне было твёрдо обещано, что письмо на летучке будет прочитано. Однако, вернувшись в Москву, я узнал, что письмо действительно сразу же было доставлено адресату, но зачитать его на летучке он не решился.
– Что тебя так напугало? – спросил я его.
– Старичок, я слышал, что статья, которую ты ругаешь, понравилась Кривицкому, – простодушно ответил он.
– Ну и что из этого? – удивился я.
– Старичок, у тебя с Кривицким свои отношения, а у меня свои.
– Да нет у меня с Кривицким никаких особых отношений, – разозлился я.
– А у меня есть, – сказал он, – и портить их мне бы не хотелось.
– Но как бы ты их испортил? – горячился я. – Ты бы читал моё письмо, а не своё.
– Это неважно, – отвечал он. – Важно, что я это письмо вообще бы читал. И Кривицкий мог решить, что я с тобой согласен.
– А ты не согласен?
– Старик, моё мнение – это моё личное дело. И я не обязан кому-нибудь о нём докладывать.
И это притом, что относился он ко мне очень хорошо. И я к нему тоже. Потому и попросил о необременительной, как мне показалось, для него услуге.
А как горячо благодарил он за каждый чих Виталия Александровича Сырокомского. О Чаковском и говорить нечего, на него он смотрел с таким умилением, с такой готовностью ему поддакивал, что не верилось: неужели он и в самом деле легендарный герой-зэка? Всем своим поведением в газете он никак не подтверждал этой легендарности.
* * *
В ранние советские годы среди прочих, упразднённых потом литературных групп, пользовалась известностью «Кузница». Я хорошо знал, быть может, последнего из живущих её членов – милого старичка, поэта Василия Васильевича Казина. В «Кузницу» входила часть литераторов, отколовшихся от «Пролеткульта». Впрочем, стояла «Кузница» на твёрдой платформе советской власти, её участники полагали, что выражают взгляды и чаяния победившего пролетариата. Что не спасло от ареста и гибели таких её руководителей, как В. Кириллов и М. Герасимов. Сам Казин считал, что ему сказочно повезло. Совершенно случайно он оказался на одном фотоснимке с Лениным, где вождь подставляет плечо на субботнике под знаменитое бревно, много и по-разному обыгранное в анекдотах. Василий Васильевич был убеждён, что фотография спасла его от неминуемого ареста. Не помню, стихотворение, цикл, или даже поэму посвятил находчивый поэт чудодейственному фотоснимку. Но когда мы с ним сблизились, он рассказывал мне, что несколько раз был под дамокловым мечом из-за другой фотографии, где он снят с Есениным. Его вызывали, как он говорил, в ГПУ, он писал объяснения о своих связях с Есениным, а насчёт Ленина обещали проверить не фотомонтаж ли этот снимок.
Мы познакомились в редакции «Литературной газеты», но сблизились у Бориса Александровича Неверова, с которым мы с женой были в дружеских отношениях. Борис Александрович пришёл ко мне в газету с воспоминаниями об отце – авторе очень известной детской повести «Ташкент – город хлебный». Александра Сергеевича Неверова репрессии не коснулись, он умер в 1923-м. А вот его книги при Сталине почти не выходили, а может, не выходили вовсе. Чем-то не нравился тирану этот писатель. Может, отсутствием героического пафоса. Я любил «Ташкент – город хлебный». И ещё в университете написал о нём статью. Но печатать её было негде. А по истечении времени, когда появилась возможность публиковаться, я и сам не захотел её печатать – слабо написана!
Узнав о статье, Борис Александрович попросил её почитать. А потом долго уговаривал меня её напечатать. Брался пристроить её в Воронеже через живущего там своего двоюродного брата, литературоведа Владислава Петровича Скобелева (кстати, настоящая фамилия Неверова – Скобелев), с которым меня познакомил. Но я стоял на своём: в таком виде статью печатать не буду, а перерабатывать мне её не хотелось.
Тем не менее мы крепко подружились с Борисом Александровичем. Отец его не познал прелестей сталинского застенка, а сын в нём очутился. Взяли Бориса Александровича в 1937-м. Всем его одарили – и пытками, и голодом, и долгим путешествием в «столыпине», и лесоповалом. Он уже, как называли это лагерники, «доходил», то есть чахнул от непосильного труда и истощения, как вдруг его вызвали к начальнику, который объявил ему об освобождении. Это было перед самой войной.
Оказалось, что мать Бориса Александровича настойчиво искала выходы на сильных мира сего. И нашла того, кто сказал о нём Берии. Тот закрыл дело.
Борис Александрович ввёл меня в комиссию по литературному наследству Неверова. Я стал её ответственным секретарём. Но от комиссии мало что зависело. При Хрущёве в городе Куйбышеве (Самара теперь) вышел четырёхтомник избранных произведений писателя. В руководстве Союза писателей считали, что этого вполне достаточно. О более-менее полном собрании никто не хотел и слышать.
Аргументы были достойны руководства Союза: чему учит Неверов? Вот Серафимович, или Гладков, или Панфёров учат людей постигать советскую новь. А Неверов? Где она у него? Контраргумент, что писатель умер в 1923 году, их не убеждал: ну так для чего его печатать?
Борис Александрович проявлял чудеса дипломатии и обходительности. И, казалось, был поглощён только одним – публикацией произведений своего отца.
Но однажды он пришёл и объявил, что хочет кое-что нам с женой почитать. «Это ещё не закончено, – сказал он, – над этим ещё следует работать». И прочитал начало воспоминаний о своём аресте и пребывании в тюрьме.
Я удивился тому, что он подчёркивает социальное происхождение соседей по камере. Один из них кулак. Что из этого?
– Мне это важно, – сказал Борис Александрович, – для публикации. Я хочу подчеркнуть, что сам против советской власти не бунтовал. А кулак мог и затаиться.
Я убеждал его писать, не думая о публикации. Тем более что при Брежневе тему сталинских преступлений стали свёртывать. Борис Александрович сослался на «Правду», которая недавно напечатала новые главы из романа Шолохова «Они сражались за Родину». Я читал эти абсолютно немощные, ничтожные в художественном отношении главы. Не верилось, что их писала рука автора даже не великого «Тихого Дона», а посредственной «Поднятой целины». Главы эти были о Сталине, и политбюро пошло на их публикацию только потому, что Шолохов убедил руководство: такую тему отдавать Солженицыну нельзя. А вычитывая гранки, спрашивал у «правдистов»: «Ну что? Посильнее Солженицына будет?» Те подтверждали: посильнее!
Так или иначе, но Борис Александрович уверовал, что шолоховская публикация открывает дорогу запретной было теме. И спешил её оформить, подстраиваясь под тогдашнюю мифологию.
Он приходил к нам с очередным куском написанного. Читал. Мы с женой слушали с интересом. Но то и дело переглядывались, когда речь заходила о кулаках или нетрудовых элементах.
– Да нет, – говорил нам Борис Александрович, – конечно, сам я так не думаю. Но ведь без этого не напечатают.
Умер Борис Александрович внезапно. Но рукопись закончить успел.
В перестроечные времена я взял её у его вдовы Нины Петровны и отдал в журнал «Юность». Там охотно печатали тогда воспоминания бывших лагерников.
– Понимаете, – сказали мне в журнале, – эти воспоминания написаны по прежнему советскому трафарету. Есть отдельные интересные кусочки, но как их вырезать из пропагандистской лабуды?
Я прикинул. Да, вырезать нельзя – не получится!
Жалко Бориса Александровича. Дело он задумал благое. Чем же ещё убедить потомков в бесчеловечности режима как не свидетельствами её очевидцев? Но заговорил в Борисе Александровиче внутренний цензор, и он дал ему победить в себе правдивого свидетеля.
Может быть, и к лучшему, что он умер прежде, чем узнал, что подстраивался зря: он любил это своё детище. Однако, как и мой коллега в «Литературной газете», считал для себя обязательным следовать руководящему на данный момент мнению.
Поспособствовал я тому, чтобы взяли на работу к нам в газету одарённого человека, прозябавшего в издательстве «Просвещение». Увлекла меня его история.
Когда началась война, ему и брату-близнецу было по пять лет. Жили они в небольшом городке на Брянщине. Пришли немцы. Матери вместе с маленькими сыновьями удалось пробраться к партизанам, у которых они находились довольно продолжительное время и с которыми встретили советских освободителей.
Но вместе с освободителями пришли особисты. Партизаны и те, кто жил с ними, подлежали фильтрации, то есть проверке. Проверив, их отпустили, но из виду, как выяснилось, не выпустили. Они теперь навсегда были обязаны собственными руками марать свою биографию: на вопрос анкеты сталинских кадровиков: «Находились ли вы или ваши родственники на территориях, временно захваченных фашистскими оккупантами?» – отвечать: «Да».
Анкета не помешала братьям кончить школу, поступить в институты: один – в электронный, тот, о ком веду речь, – в МГУ, на филологический. Но сильно мешала дальнейшей их карьере. Несмотря на то, что учившегося на филологическом рекомендовали в аспирантуру, комиссия по распределению загнала его в Эвенкию, откуда уже в разгар хрущёвской оттепели он смог поступить в аспирантуру ИМЛИ, но, закончив её, вынужден был идти работать в «Просвещение» (оттепель кончилась, на дворе заметно холодало!). Я порекомендовал его Кривицкому. Тот, побеседовав с ним, согласился: начитанный, знающий литературу, вполне может работать в отделе литературоведения.
Уже тогда, работая с ним в одной газете, я удивлялся его желанию подписывать своей фамилией отчёты с тех официальных мероприятий, на которые его посылали. Сотрудники газеты ставили в этих случаях: «Наш корреспондент». И действительно, что за радость подписываться под словами: «выступивший на собрании секретарь X напомнил слова В. И. Ленина о том, что…» или «с огромным подъёмом собрание приняло приветственное письмо в адрес Центрального Комитета КПСС и лично…»? Но тот, кому я протежировал, объяснял, что ему очень важно, чтобы фамилия его мелькала почаще, запоминаясь читателю.
Сомневаюсь, чтобы его фамилия о чём-то тогда говорила обычным читателям. А вот нужному ему читателю – Василию Ивановичу Кулешову, который заведовал кафедрой русской литературы на филологическом факультете МГУ, его фамилия действительно запомнилась. И сам он приглянулся Кулешову. Так стал мой бывший коллега сотрудником кафедры.
Время от времени он приходил в газету, в основном в отдел информации, добиваясь, чтобы о том или ином мероприятии, затеянном Кулешовым, или о самом Кулешове появилась хотя бы крошечная заметка. Не настаивая теперь на своей подписи, но, если предлагали, с радостью подписываясь.
– А тебе не приходит в голову, – спросил я его, – что ты ведёшь себя, как денщик Кулешова?
– Ну, брат, – отвечал он мне. – Если б ты у него работал, ты бы понял, что по-другому нельзя. Если не хочешь остаться без степени.
Я забыл сказать, что, кончив аспирантуру, он диссертацию написал позже. И вот теперь ему предстояло стать кандидатом. Через некоторое время он им стал.
Через много лет на той же кафедре кандидатскую защищал я. Я был человеком со стороны, от Кулешова не зависел и дивился не монархическим даже, а диктаторским его замашкам. Разговаривал он со своими профессорами и доцентами пренебрежительно, грубо обрывал выступающих. И приветствовал любое восхваление в свой адрес. Даже по поводу маленькой информации в «Вестнике МГУ», подписанной им. «Читали? Ну и что скажете?» И не пропускал, кажется, никого: каждый должен был сказать нечто одобрительное.
Больно было за тех бывших моих преподавателей, которых я уважал. Их он третировал особенно яростно. Чуял, быть может, в них какую-то невысказанную крамолу, которую нещадно уничтожал. И уж, конечно, знал, что они, в отличие от него, – любимцы студентов.
Но и они, унижаясь, ничего не приобретали. Двадцать лет пытался защитить докторскую диссертацию Владимир Николаевич Турбин. «Рано!» – каждый раз, когда об этом заходил разговор, жёстко обрезал Кулешов. Когда хоронили Турбина, многие говорили, что эта незащищённая докторская и укоротила его жизнь.
Насмотревшись на всё это, я уже докторскую диссертацию защищать в МГУ не стал. Защитил в другом университете.
Мой бывший коллега в приватных, так сказать, разговорах со мной не хуже меня возмущался хамством Кулешова. А на кафедре демонстрировал своему заведующему горячую преданность.
Кстати, и его брат-близнец, с которым я тоже подружился, меня удивил. Он осуждал поведение брата, рассказывал, что ведёт себя на работе совершенно иначе. Большой, шумный, он производил впечатление крепкого смельчака.
Но вот решил он в годы горбачёвской перестройки баллотироваться в депутаты Моссовета. Это был пик российской демократии, когда окружные комиссии проводили многочасовые встречи кандидатов с избирателями, давая возможность последним оценить программу того или иного претендента, чтобы не покупать кота в мешке.
Брат моего бывшего коллеги попросил меня стать его доверенным лицом. Я согласился, и мы вместе поехали на встречу с избирателями.
В этом округе кроме моего подопечного на депутатское кресло претендовало ещё человек девять. Всех представили, все изложили свои программы, а потом стали отвечать на вопросы зала.
Один из них был обращён ко всем сразу: «Как вы относитесь к обществу «Память»?»
В то время скандалы, связанные с этим «патриотическим» обществом, возникали постоянно. Власти, как и сейчас, очевидно, надеялись, что им удастся приручить нацистов.
Что ж. Несколько кандидатов говорили о «Памяти» возмущённо. Перед тем как дать слово тому, чьим доверенным лицом был я, говорил кандидат-коммунист. Он – горячий сторонник «Памяти», потому что русский народ на своей родине по существу находится в униженном положении, что особенно доказывает процентное соотношение русских и русскоязычных в образованных слоях общества.
«Ну, – думаю, – сейчас тебе выдадут по первое число!»
Однако мой кандидат мнётся, мямлит: он, конечно, не согласен с «Памятью», но правильно сказали до него – есть в деятельности «Памяти» и положительные моменты, мимо которых проходить нельзя.
При этом смотрит он не в зал, а на председателя окружной избирательной комиссии, который ему одобрительно кивает.
– Для чего ты нёс эту чушь? – спросил я его. – В зале сидели либо сторонники «Памяти», либо её противники. И тех и тех ты разочаровал.
– Посмотрим, – самодовольно ответил он, очевидно, вспоминая поощрительные кивки начальства.
Смотреть было не на что. Выборы он с треском проиграл. А наши отношения с тех пор стали охлаждаться.
* * *
Конечно, я могу приводить и противоположные примеры. Своих коллег по «Литературной газете». Об Александре Ивановиче Смирнове-Черкезове, которому довелось хлебнуть при Сталине лагерной баланды, я писал в «Стёжках-дорожках». Вёл он себя в газете достойно и бесстрашно.
Так же вёл себя и Марлен Кораллов, тоже прошедший через сталинский лагерь. Всегда спокойный, всегда вежливый и прямой – без тени угодничества.
Юра Буртин, на которого равнялись мы все – сотрудники его отдела. Удивительно душевный и удивительно мужественный был человек.
Вспоминать подобных людей могу долго. Мне на встречу с ними везло.
Пётр Ильич Гелазония, который взялся в неприметном тогда для литературной общественности журнале «Семья и школа» пробивать такую неподцензурную литературу, что мне, который ему в то время в этом помогал, звонили (я писал об этом в «Стёжках…») даже из «Нового мира» Твардовского: у нас этот рассказ точно не пройдёт, попробуйте в «Семье и школе».
А Владимир Михайлович Померанцев, которого не сломило более чем двухлетнее безденежье, устроенное ему властями, ошельмовавшими его за статью «Об искренности в литературе»! Я наблюдал, как он ведёт себя с редакторами так и не вышедшей при его жизни книги. Категорически отказывался уступать! Присутствовал при его разговоре с Карповой – всесильным главным редактором «Советского писателя». «А ведь если мы не договоримся, – вкрадчиво сказала она ему, – ваша книга не выйдет». «На ваших условиях, – спокойно ответил Владимир Михайлович, – мы не договоримся никогда!» Напомню поразивший меня своей точностью афоризм Померанцева (я приводил его в «Стёжках-дорожках»): «Обыватель, не пожелавший стать гражданином» – о человеке, который за всю жизнь не обрёл себе ни одного врага! Не обрёл – значит прилежно обходил любые препятствия, старался понравиться всем, стать, как гоголевская дама, приятным во всех отношениях.
Об таких я и сам неоднократно спотыкался. Один из них отчасти благодаря моим стараниям дошёл-таки, как сказано об этом в бессмертной русской комедии, до степеней известных, о чём мечтал. Не только потому, что во все времена больше «любят бессловесных» – это уже после меня другие его за это повысили. Не скрою, приятные для меня слова написал после моего ухода из «Литературы» Серёжа Волков: «Сейчас читаю воспоминания Лакшина о Твардовском как редакторе «Нового мира» – что-то мне в атмосфере их редакционной жизни напоминает о нашей редакции золотого времени. Большая Вам благодарность за её создание». Да, бессловесные, слепо подчиняющиеся приказу мне были не нужны. Смысла в голом администрировании я не видел: оно только мешает творческим способностям людей. Меня тот сотрудник взял иным: удивительным своим умением быть тебе необходимым. А то, что при этом он умел быть необходимым каждому, меня тогда не занимало. Серьёзный мне урок!
А гражданское мужество напрямую связано со стыдом и совестью. Потому оно и ценнее, потому и действенней любой другой храбрости. Быть в ладу с собственной совестью, действуя, быть может, наперекор многим представлениям и понятиям, – поступок, на который отважатся единицы. Юрию Карякину до сих пор не могут простить объявленному им по телевидению на всю страну: «Россия, ты одурела!» – о победе жириновцев на выборах в первую Думу при Ельцине. До сих пор проклинают Карякина: такое – о России, о Россиюшке, о священной нашей корове! Но ведь прав оказался Карякин: дурман, который он различил, уже тогда начал выпускать пары паралитического газа. Жириновцы, коммунисты, единороссы – и усыплена Россия, вяло равнодушен её народ, которого лишили выборов. То есть выборы де-факто сохранились, но кто с ними считается? А точнее, как на них считают? По-сталински: как нужно, так и считают.
Только что передали по «Вестям» мнение Грызлова: он категорически против отмены выборности мэров. Опомнились власти? Да нет. Недаром собрались грызловские единороссы принять поправку в закон о выборах: отменить порог явки. Признавать голосование состоявшимся при любом количестве опущенных бюллетеней. А в этом случае можно и выборы губернаторов восстановить. Тревожиться нечего: никто не придёт – избирательная комиссия сама и проголосует. Очень удобно!
– Олег Николаевич (парторгу «Литгазеты» Прудкову)! Красухин вот уже третий год проходит в местком единогласно. У всех нас (остальных членов месткома) по 20–30 голосов против. Неудобно! Давайте сделаем Красухина председателем.
– Да вы смеётесь, что ли? – голос Прудкова от возмущения становится визгливым. – Вы представляете, как на это посмотрит райком? Какие же, скажет, у вас коммунисты, если никого не нашлось поставить председателем месткома!
– Но, Олег Николаевич, коллектив…
– А что коллектив? Я ж вам объясняю, что скажут в райкоме! Согласись Прудков, я бы и сам отказался от такого почёта. Стать председателем месткома – значит войти в так называемый «треугольник»: главный редактор + секретарь парткома + председатель месткома. А на подпись «треугольнику» какие только бумаги не носят! Как учил Женя Винокуров, не скромничать, но и не выпячиваться! Так что не нужен был мне этот пост. Но прудковское пренебрежительное «а что коллектив?» ничего вам сейчас не напоминает?
«Ну не совсем демократия, – определяет сущность нынешнего режима Михаил Жванецкий в беседе с ведущим телепрограммы «Дежурный по стране» Андреем Максимовым (см. «Аргументы и факты», № 45, 8—14 ноября 2006 г.). – Так я не знаю, что такое демократия. Если мой сосед – бандит и его терпеть – это демократия? Или, может быть, ему лучше перевоспитаться? С какой стороны подойти?»
Эк, какую неразрешимую лемму предложил собеседнику известный сатирик! В каком соотношении находятся бандит-сосед и демократия? С какой стороны не подходи, понять этого невозможно. Где имение, а где наводнение? Раньше что – не было бандитов?
«Раньше я говорил очень популярные слова: «Так жить нельзя!» – и приобрёл огромную известность… – вспоминает Жванецкий. – Но, – продолжает он, – сейчас вынужден сказать, что так, как сегодня, мне кажется, жить можно. Клянусь!»
Во как! Так и видишь: одна рука на сердце, другая – на Библии! Помните старый анекдот: докладчик – залу: «В следующей пятилетке мы будем жить ещё лучше»; из зала – докладчику: «А мы?» Золотые для паханов слова произнёс Жванецкий. Можно, значит, жить, Михал Михалыч? Кому? Крестьянам, учителям, научным сотрудникам? Или госчиновникам, шоуменам, вам с Задорновым? Тот оседлал тему оглупления Америки, вы не нарадуетесь нынешнему благолепию.
Метаморфозы жизни! Очевидно, выражая их, так неузнаваемо преобразилась, слабо сохраняя очень отдалённый свой смысл под пером Сергея Шабуцкого, одиннадцатая строчка сонета Шекспира в переложении Пастернака. Пастернаку доставляло боль, что в его время «простодушье простотой слывёт». Теперешняя реальность, по Шабуцкому, куда грубее и проще: «Музыкант играет паханам». А паханы очень неплохо платят за заказанную музыку.
Вы что-нибудь слышали прежде о директоре Черкизовского рынка в Москве Тельмане Исмаилове? Я, например, ничего. Но оказалось, что в конце октября ему исполнилось 50 лет. Что ж, пусть примет мои поздравления. Впрочем, на что ему нужны мои, когда его поздравила мировая знаменитость – американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Лично пела для Исмаилова и его гостей.
Я писал однажды, что Булат Окуджава был не только замечательным поэтом, но превосходным устным рассказчиком. Записывали мы на магнитофон его песни, а записать его байки, рассказанные им анекдоты, не догадались. Правда, в этом случае нужно было записывать не на обычный, а на видеомагнитофон, потому что важны были не только модуляция его голоса, его интонации, но и выражение лица.
Попробую передать на бумаге, как рассказывал известный анекдот Булат. Хотя понимаю никчёмность этой попытки.
Итак, в Тбилиси прилетела Джина Лоллобриджида. Грузины её на руках носят. Хорошо воспитанная красавица, всех благодарит, всем улыбается. (Лицо у Булата светится счастьем.) Но всё подходит к своему концу. (Булат грустнеет.) Завтра улетать. Собирает Лол-лобриджида вещи и слышит стук в дверь.
– Да, – мило отзывается Джина, – войдите. (Медиум что ли, Булат? Ведь он говорит сейчас голосом Лоллобриджиды!)
На пороге стоит грузин.
– Что вы хотите? – спрашивает его Джина.
– Вот, – грузин протягивает ей коробочку. Джина с недоумением открывает и видит крупные, чистой слезы бриллианты.
– Нет, – хочет отдать коробочку назад Джина. (На лице Булата огорчение воспитанного человека, не желающего расстраивать ближнего.) – Я не могу это взять!
– Паачэму? (Коренной москвич, Окуджава превосходно имитирует грузинский акцент.)
– Я ведь за это что-то должна сделать? (На лице Булата вежливая неприступность.)
– Нэ надо нычэго! Только ваазымытэ!
– Спасибо, но что вы от меня хотите?
– Нычэго! (Дальше акцент опускаю.) Одна просьба: завтра будете подниматься по трапу – обернитесь. Я буду стоять внизу. Увидите меня, скажите: «Чао, Гиви!» Меня Гиви зовут!
– И это всё? (На лице Булата недоумение и облегчение.)
– Всё!
– Хорошо, большое спасибо, Гиви!
Самолёт собирается улетать. Джина взбегает по трапу. Оборачивается. (Лицо Булата выражает сложную гамму смешанных чувств: восторг, благодарность, удивление, упоение, любовь ко всем, наконец.) Улыбается, взмахивает рукой: «Чао, Гиви!»
– Иди, иди! (Булат сейчас ворчливо пренебрежителен.) Надоела, понимаешь!
Лопес осчастливила своим пением юбиляра за полтора миллиона долларов. Именно осчастливила. Помните: «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живёт в таком-то городе Пётр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живёт Пётр Иванович Бобчинский». Кому был известен до этого Тельман Исмаилов? А теперь, глядишь, и до Америки донесётся, что вот, господа американцы, живёт в Москве крутой миллионер, из-за юбилея которого сама Дженнифер Лопес в Москву пожаловала!
Кстати, точно ли из-за юбилея Исмаилова? Нет, конечно. Просто пятидесятилетие директора рынка пришлось чуть ли не на следующий день после шестидесятилетия Павла Павловича Бородина. А его-то в Америке очень хорошо знают. Его там ещё в 2001 году арестовывали по громкому делу «Mabetex» – об отмывании денег. Еле Павел Павлович оттуда выбрался: немалый залог за него внесли. Вот к этой знаменитости и пожаловала на юбилей американская звезда. И взяла с него по-Божески: всего-то около миллиона. А юбилей Исмаилова – это, так сказать, транзитная остановка на пути домой. За полтора миллиона стоило ещё на денёк в Москве задержаться.
Лопес, конечно, большая акула! Наши звёзды – рыбки помельче. Как свидетельствует сетевое агентство NEWS RTVi (13.10.06), Пугачёва или Киркоров больше 40 тысяч долларов за концерт не берут. А патриотическая «Любэ» или депутат Государственный думы Александр Розенбаум соглашаются на выступление и вовсе за 10–16 тысяч долларов. Не запредельно. Трёхгодовой оклад профессора вуза.
– Обратите внимание на то, как сливаются в контрапункт такие-то стихи восьмой главы и такие-то из «Отрывков…», – говорю я студентам об «Онегине» и вижу недоумённые, непонимающие глаза. – Что такое контрапункт, – спрашиваю, – вы знаете? Пусть поднимут руки те, кто любит классическую музыку.
Не поднялось ни одной.
– Ну а оперу или балет? Та же картина.
– Как, – удивляюсь я, – неужели вы даже краем уха не слышали о скандальной постановке в Большом театре «Евгения Онегина» режиссёром Черняковым? Там старушка Ларина водку хлещет.
Весёлое оживление: «Геннадий Григорьевич, а эта опера ещё там идёт?» «Что, – спрашиваю, – хотите сходить?» «Да не помешает!» – улыбаются. «А может, – говорю, – вам лучше для начала в Пушкина вчитаться. Потом обдумать либретто оперы, чтобы понять, насколько разные «Онегины» у Пушкина и Чайковского. А уже потом слушать искажённую версию. Может, тогда отпадёт охота смеяться».
Говорю и думаю: зачем я это говорю! Помню, ещё лет шесть назад я начинал объяснение такого литературоведческого понятия, как жанр, с самой простенькой вещи. «Откройте, – говорил, – стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье». – Известно, – напоминал, – что на эти стихи написан романс Глинки. Вот и давайте уясним себе разницу между романсом и лирическим стихотворением. Пропойте про себя первую строчку романса и скажите, на каком слове делает ударение композитор?» «Помню!» – радостно отвечали мне. «Правильно! – подтверждал я. – А у Пушкина ударное по смыслу слово " чудное», которое у него почти везде связано с чудом, с волшебством. Романс убирает всё личное, а в стихотворении оно является главным». Но недавно попробовал подступиться с этим к нынешним магистрам, они – пожимают плечами. «Ну пропойте про себя!» – настаиваю. Не могут пропеть, они этого романса не знают, не слышали никогда!
(«Ты уже не в первый раз пишешь здесь про магистров и студен – тов, – сказала жена. – Надо бы объяснить читателю, в чём их различие». Объясняю. Реформа высшей школы помимо пятилетнего студенческого цикла ввела ещё и экспериментальный четырёхлетний бакалавриат. Для признания второго высшего образования диплома бакалавра хватит, а для работы по специальности бакалавр должен ещё два года учиться в магистратуре. Пока действуют и старая, и новая схемы обучения. Но в перспективе останутся только бакалавриат и магистратура – как на Западе.)
А вот развод некой Жасмин магистры переживают бурно. «Две иномарки, да сколько-то там (забыл!) миллионов оставил ей бывший муж». – «Хорошая хоть певица?» – спрашиваю. «Хорошая», – убеждены. «Неужто лучше Пугачёвой?» – подначиваю. «Ну, Пугачёва! Пугачёва – это ваше, Геннадий Григорьевич, время!» «Моё, – говорю, – время – это Обухова, Максакова, Козловский, Лемешев, Рейзен, Вишневская – слышали?» Имена некоторых слышали. Самих артистов – нет.
Про Вишневскую, например, знают, что она открыла какую-то школу. «Центр оперного пения», – объясняю. «А-а, – понимающе, – вроде «Фабрики звёзд»»! «Да нет, – говорю, – в другом роде».
Помню, как встретили эту школу «патриотические» круги, – с откровенной неприязнью. Как это ей удалось получить участок под строительство в центре Москвы – на Остоженке? То, что Глазунов и Шилов открыли свои галереи совсем близко к Кремлю, недоброжелателей Вишневской не смутило: к этим художникам у них вопросов нет. А к Галине Павловне Вишневской есть. Что не вопрос, то грязный намёк. За сколько сумела договориться с мэрией? Сдала ли часть здания коммерческим фирмам? Сколько берёт за аренду?
Понятно, почему взялись опорочить замечательного человека. Правда глаза колет! Такой едкой правдой явилась для оголтелых книга Вишневской «Галина», изданная ещё при Горбачёве, написанная за границей, куда вынудили уехать советские власти её и мужа – великого Мстислава Ростроповича.
Его «патриоты» ненавидят даже ещё больше, чем её. Примчался из-за границы в Белый дом в 1991-м. Играл на виолончели для его защитников, засыпал с автоматом в руках. Прохановское «Завтра» просто хрипло от злости, вспоминая об этом и о том, как дирижировал оркестром великий музыкант в сентябре 1993 года на Васильевском спуске, где собрались толпы людей, не поддержавших коммунистических реваншистов.
А центр оперного пения, построенный по инициативе Галины Вишневской, никаким фирмам площадь в аренду не сдаёт. Показалось Галине Павловне, что можно ещё спасти русское искусство, сохранив его традиции.
Но 80-летний юбилей в родном своём Большом театре праздновать отказалась наотрез. Из-за той самой постановки «Евгения Онегина» Дмитрием Черняковым, о которой я говорил своим студентам. Сам-то Черняков этой постановкой очень доволен, в чём и признался в сетевом ежедневном журнале: «Я хочу открыто выложить карты перед теми, кто меня обвиняет в страшных вещах… Я абсолютно уверен, что девяносто девять процентов из них никогда так подробно не изучали это произведение, как изучил его я, готовясь к постановке. Поэтому моя аргументация безупречна. Обвинить меня в халтуре невозможно». Но именно в недобросовестности и халтуре обвинила Чернякова Галина Вишневская, давая интервью корреспонденту «Московского комсомольца» (9 сентября 2006 года):
«– Эта премьера взволновала меня настолько, что до сих пор не могу прийти в себя. Вот сцена дуэли: (читает) «После открытия занавеса Ленский и Зарецкий уже находятся на сцене, Ленский сидит задумчиво под деревом, Зарецкий с нетерпением ходит по сцене… " Чайковский это написал не для того, чтобы всё точно соблюдали: вот здесь дерево, а здесь слева направо идёт артист. Но он напоминает о духе эпохи, о чём, собственно, опера… А что на премьере? Этот несчастный тенор, поющий Ленского, начинает исполнять гениальную партию «Куда вы удалились…», а в это время прислуга вокруг него моет пол грязными тряпками, оттирая его от блевотины и собирая осколки после пьянки, которая была в доме Лариных!
Вишневская страшно волнуется, перебирая страницы клавира: – Полнейшее искажение образов! Истеричка Ольга поёт свою первую арию, схватив Татьяну, и трясёт её! Ларина в первой картине пьёт водку, неуместно хохоча… Я не понимаю, что это такое, извините!»
Замечу, кстати, что дебютировала Вишневская в Большом театре именно в опере «Евгений Онегин». Она пела в ней Татьяну. Но не о своей Татьяне печётся Галина Павловна. Поэтому меня, например, совершенно не убеждает генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, отвечающий Вишневской в «Российской газете» (7 сентября 2006 года): «Мы сохраняем в репертуаре и тот спектакль «Евгений Онегин», в котором пела сама Галина Павловна. Но надо понимать, что Большой театр должен делать новые постановки «золотого фонда» русской национальной классики. Необходимость нового прочтения, интерпретации классики – веление времени. Жаль, что это не понимают такие талантливые люди…»
«Должен делать», отзываясь на «веление времени» – ответ пуст и напыщен. Некогда «Литературная газета» вела дискуссию о границах интерпретации классики, в которой и я участвовал. Оттолкнулись от фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятого по мотивам пьесы А. Н. Островского «Бесприданница». Фильм в основном ругали. Иногда справедливо. Однако общую идею пьесы Островского Рязанов не исказил, её дух выразил. Что же до деталей, которых у Островского быть не могло, то ведь Рязанов снимал не саму пьесу, а фильм по её мотивам. Это и давало ему право на интерпретацию.
А Галина Павловна говорит совершенно о другом. О произволе режиссёра, который вносит в оперу абсолютно чуждые ей идеи, изгоняет её благородный дух. Вот что не только «талантливых», но и обычных людей не может не оскорблять.
Впрочем, «талантливые люди» – это со стороны театрального администратора подсахаривание горькой пилюли, которую, наверное, лучше назвать плохо замаскированным хамством. Великая актриса объясняет, что издевательство над русской культурой не даёт, как это ей ни больно, отметить юбилей на родной некогда сцене. Надо ли говорить, какой чести удостоился бы театр, подведомственный ныне недавно переехавшему из Петербурга Иксанову? Но он пренебрежительно иронизирует – в духе своих вельможных земляков: «Что касается места для проведения юбилейного концерта Галины Павловны, то каждый сам вправе решать, где ему праздновать день рождения. Некоторые вообще отмечают юбилеи дома».
Устраивать юбилейный концерт дома Галина Павловна не стала. Возможно, что если бы это сделал Иксанов, никто бы не расстроился – не приходилось слышать о его талантах и его поклонниках. А своих многочисленных поклонников Вишневская не разочаровала. Концертный зал имени Чайковского был переполнен. Актрису поздравили уважаемые в обществе люди. Увы, их с каждым годом становится всё меньше. Не то чтобы подтверждается правота какого-то известного марксиста, кажется, Ленина, говорившего, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но жить в авторитарном обществе и быть свободным от обсевших власть авторитетов действительно трудно.
«Мы боялись, что криминал войдёт в политику? Так он давно уже там, – говорит актёр Игорь Ливанов. – Лоббируются законы, которые не нужны людям, но в интересах сильных мира сего». Не учитывать эти интересы в своей жизни, не подыгрывать им, действовать им наперекор – и значит проявлять гражданское мужество. Ибо властные паханы, заказывающие музыку, имеют много разнообразных возможностей выразить своё неудовольствие невыполняющим их заказ. Поэтому вызывает уважение Игорь Ливанов, чьи слова из заметки в «Аргументах и фактах» (№ 40, 4—10 октября, 2006 г.) я только что процитировал. И – актёр Сергей Варчук, который (в том же номере «Аргументов и фактов») опровергает расхожее мнение о том, что только из-за их высокого рейтинга телевидение в лучшие часы показывает зрителям тюремные фильмы: «Такое ощущение, что нас зомбируют и готовят к чему-то. К лагерям, что ли, обратно?» Зомбируют! По словам того же Игоря Ливанова: «Наше общество больно. За границей вы нигде больше такой агрессии не увидите! Мы же ненавидим друг друга, кидаемся друг на друга! Люди перестали улыбаться друг другу. Поколений «Потерянных» уже насчитывается много – начиная с 90-х гг. Эти «волчьи стаи» выросли, и им, по-моему, уже ничего не стоит убить человека».
Через три дня после того, как «Аргументы и факты» с этими словами оказались у читателя, была убита Анна Политковская. Случайное совпадение? Как говаривал булгаковский герой, «кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится». И это правда – ничто не возникает из ничего!
Что учит жить быдляк интеллигента
Ну то, что из всех шахматистов я особенно выделял Василия Смыслова, был его болельщиком, – это объяснимо. Смыслов когда-то учился в нашей 545-й мужской школе, его помнил, например, немолодой наш учитель математики Исаак Львович Агранович. «Блестящим учеником Вася не был, – говорил он. Потом после некоторого раздумья: – Отличником он тоже не был, учился так себе, но в шахматы, – вздыхал, – играл, как бог». Поговаривали, что Исаак Львович и сам увлекался шахматами, но не слишком сильный в математике ученик его обыгрывал. Было от чего вздыхать, вспоминая…
А вот почему задолго то того, как удалось мне побывать на стадионе, слушавший только репортажи о футбольных матчах по репродуктору, я болел за ЦДКА, объяснить не возьмусь. Притягивало само название футбольного клуба, приятно было слышать, как произносит его комментатор Вадим Синявский, неизменно расшифровывая слово, когда объявлял составы команд: «Центральный Дом Красной Армии». Футбольные позывные по радио напоминали переливчатый звон колокольчиков, услышав их, я радостно настораживался и сердцем отзывался на знакомые модуляции волшебного голоса: «Внимание! Говорит Москва! Наш микрофон установлен на московском стадионе «Динамо». Мы ведём репортаж о футбольном матче на первенство Советского Союза между командами…»
Я так привык к этому началу, что однажды ухо сразу же зафиксировало разницу: слово «матч» Синявский не произнёс. Он сказал, что ведёт репортаж о футбольном «состязании». Да и дальше в том же репортаже исчезли «голкипер», «бек», «хавбек», «форвард». Синявский и раньше мог сказать: «вратарь», «защитник», «полузащитник», «нападающий», но говорил и так и так – то называл вратаря «вратарём», то «голкипером». А уж «аут» или «корнер» произносил постоянно. Тем более – «пенальти», «пендаль», как мы называли его во дворе. А сейчас: «Ай-яй-яй! Судья показывает на одиннадцатиметровую отметку. Одиннадцатиметровый штрафной удар!»
Не стану утверждать, что сразу понял, в чём тут дело, но недоумение возникло тотчас: для чего Синявский отказывается от коротких энергичных слов, которые так уместны в темпе его стремительного репортажа? Кому не ясно, что означает «аут»? Ведь пока произнесёт Синявский: «Мяч вышел за боковую линию», игрок уже успеет вбросить этот мяч! А кто не знает, что «корнер» – это угловой удар?
Но уяснил я себе, в чём дело, довольно быстро и никого ни о чём не расспрашивая. Отец выписывал то «Правду», то «Известия», я газету прочитывал, начиная с передовой. Сейчас сам этому удивляюсь: что меня тогда привлекало в безликих материалах? Однако в одной из заметок (то ли в передовой, то ли в подписанной автором, не помню) прочитал, что ещё Ломоносов особо хвалил русский язык, который вобрал в себя всё лучшее из языков мира (мне особенно запомнилось «великолепие гишпанского» из-за смешного созвучия с шампанским). Поэтому, писала газета, не следует засорять язык великого народа иностранными словами.
Значительно позже, читая «В круге первом», я удивлялся Солженицыну, который заставил своего Сологдина действовать в унисон с официозом тех лет, которые описаны в романе. Ещё через какое-то время, прочитав другие солженицынские вещи, я этому удивляться перестал.
А тогда, после газетной статьи, понял я, почему вместо «матч» Синявский стал говорить «состязание». Когда я поделился своим открытием со старшим братом отца, он усмехнулся:
– «Футбол» – тоже не русское слово. Синявский должен говорить о состязании по игре ногой в мяч!
Старший брат отца относился ко мне с доверием. От него, а не от моего отца узнал я, что их отец, а мой дед, колхозный бухгалтер на Смоленщине, был арестован в 1937 году и получил от судившей его «тройки» 10 лет без права переписки. О том, что такой приговор означал смерть и что деда расстреляли через два месяца после ареста за шпионаж (кто мог завербовать его в глухой деревне, и какие ценные сведения он мог бы передавать оттуда?), нам сообщили уже после смерти Сталина. Но о том, что деду предъявили политическую 58-ю статью, дядя Миша сказал мне, мальчишке. И просил не обсуждать этого с отцом. «Он верит, что наш отец был вредителем», – горько сказал о нём брат.
А здесь, слушая мои размышления о репортажах Синявского, дядя Миша спросил, ходил ли я в булочную и обратил ли внимание…
– Обратил, – радостно сказал я. – Французскую булку переименовали в городскую.
– А канадский хоккей в хоккей с шайбой, – сказал дядя Миша. И добавил: – Делай выводы!
Выводы я начал делать рано. «Так ты, Геночка, уже в 10 лет был противником Сталина?» – недоверчиво спросил меня мой старший коллега по «Литературной газете». Лучше сказать, что я в это время уже не был его обожателем.
Не из-за Синявского. А из-за моей страсти читать газеты.
Вот так же, как полюбилось мне слово «ЦДКА», воздействовало на мою душу имя венгерского коммуниста, кажется, он был членом правительства, – Ласло Райк. Опять-таки не могу рационально объяснить, чем именно оно мне понравилось – понравилось и всё тут. Полюбилось. И вдруг читаю в газете, что Ласло Райк арестован, что он был агентом югославских фашистов Тито и Ранковича.
Помню своё недоумение, возникшее, когда в Болгарии разоблачили тоже их агента, Трайчо Костова. Процесс над ним подробно освещала газета. Из неё я узнал, что все сообщники Костова признали себя виновными. А он не признал. Костова приговорили к повешению. «Приговор приведён в исполнение», – писала «Правда» (или «Известия»). И рядом напечатала письмо Костова, в котором он кается, что морочил голову следствию, согласен с обвинением и просит его простить. «Для чего ж тогда нужно было его срочно вешать? – думал я. – Не лучше ли было сперва дать ему зачитать это письмо?» Очень сильное взяло меня сомнение: так ли обстояло дело, как его представляют? (Через много лет я прочитал, что в камере смертников Трайчо Костова посетили высокопоставленные болгарские партийцы. Обречённого на казнь заверили, что его помилуют, если он обратится с просьбой об этом к генеральному прокурору. А заодно и что-то из обвинения признает. Костов поверил. Болгарские газеты печатали факсимиле его письма. Наши же о правдоподобии не заботились!)
А с сомнения, как вы понимаете, начинается недоверие, и оно нарастает. Снова горько сжималось сердце при мысли о чуть раньше, чем Костов, казнённом Ласло Райке. За что его повесили? Да-да! – мне тогда ещё и десяти не было, но хоть убейте – процесс Трайчо Костова убедил меня, что симпатичный мне Ласло Райк тоже не шпион.
Со Сталиным напрямую я это не связывал, так что на иронический вопрос моего коллеги отвечаю: не был противником Сталина. Но мне не нравилось то, что делалось в стране по его приказу. А детские сказки, которые и нынче любят рассказывать некоторые взрослые о том, что Сталин и сам не знал, что в стране творится, мне и тогда представлялись совершенно невероятными!
Что, к примеру, сделали с итальянцем Маркони, который одновременно с русским Поповым изобрёл радио? Его перестали упоминать как изобретателя. Остался русский Попов. А англичанин Эдисон, придумавший паровоз? Оказывается, что братья Черепановы ещё раньше его что-то смастерили подобное! Эдисон тоже перестал упоминаться.
Словом, в детстве меня коробили и эти подмены. Выходило, что русскому человеку принадлежали все открытия мира. И эта неправда не давала мне верить во многое, что происходило в стране при Сталине.
А уж после Сталина – тем более. Не очень верил я в сказку о лучшем в мире шоколаде «Золотой ярлык» и убедился, что был прав, когда попробовал бельгийский шоколад. И конфеты «Мишки», тоже объявленные чемпионом в своём классе, уступали финским.
В 1971 году я впервые выехал в туристическую заграничную поездку – в Финляндию и Швецию. Вообще-то по негласным тогда правилам советский человек сперва должен был ехать в страну так называемой народной демократии, не получить в этой поездке каких-либо замечаний от органов, а потом уже отправляться в «настоящую» заграницу. Но поездка была от Союза журналистов, возглавляла комиссию по выезду Валентина Филипповна Елисеева, заведующая отделом нашей газеты, которая посоветовала мне на всякий случай запастись рекомендацией от Сырокомского. Первый зам главного рекомендацию дал охотно, Елисеева меня поддержала. И я поехал.
Поначалу вместе с нами ездил заместитель главного редактора «Правды» Алексей Илларионович Луковец. Выяснилось, что он присоединился к нам от скуки: послушать гида, пообщаться, походить вместе по Хельсинки, по Стокгольму. А дальше наши пути разойдутся: он отправится в Данию инспектировать следующий корреспондентский пункт.
В одном из ресторанов Гётеборга, где мы обедали, мороженое оказалось особенно вкусным – неземным, воздушным с разноцветными цукатами. Все блаженствовали, когда раздалось:
– А всё же наше «Эскимо» повкуснее будет!
Я посмотрел на Луковца. Его лицо не выражало никаких эмоций. Похоже было, что он произнёс эту фразу по обязанности. Посмотрел на других. Некоторые оторопело-торопливо кивали – соглашались: да, наше вкуснее.
Ну, а после того, как рухнул железный занавес, граждане быстро разобрались, что на самом деле вкуснее и что лучше. Помню, вернувшись в 2000 году из Польши, я ехал на такси с вокзала и усмехался, встречая дорожные растяжки «Помоги России: купи отечественное». В Польше, где градус патриотизма, может, ещё повыше нашего, подобных плакатов я не встречал: в них не было нужды. А здесь через каждые несколько километров по дороге до дома словно оглушает меня вопль российских производителей, который выдаёт качество того, что они предлагают. Да будь их товары хороши, неужто они залёживались бы на магазинных прилавках!
Поэтому как нечто подзабытое я встретил и прочитал газетную заметку («Аргументы и факты» № 46, 15–21 ноября 2006 г.) о том, что конференция, посвящённая знаменитой Крымской войне 1853–1856 гг., пришла к выводу, что русские в ней победили. «Стара шутка!» – как кричали булгаковские герои. До сих пор о Крымской войне иначе не говорили как о «позорной» для русского оружия. Нынче устроители конференции – Центр национальной славы России и фонд Андрея Первозванного – утверждают, что это выдумка советских историографов. Что не преследовало правительство Николая I в Крымской войне никаких экономических или политических целей: «Стоит прочитать те же императорские манифесты о её начале и прекращении, из которых видно: главная цель войны, декларируемая в первом документе, – обеспечение традиционных прав Православной церкви на Святой земле. И она же в результате достигнута полностью».
Императорские манифесты, конечно, лучшее свидетельство того, ради чего затевали войну и ради чего её закончили. В них столько же правды, сколько в известной речи Сталина на параде 7 ноября 1941 года: «В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат. Германия истекает кровью, её людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны».
Мне скажут: а что же оставалось делать Сталину, который напутствовал уходящих на фронт солдат? Он врал, чтобы ободрить армию.
Вот и царские манифесты о начале и прекращении войны врали, чтобы ободрить подданных. Но своей цели не достигли. Ведь это не советский историк Е. В. Тарле, а великий русский поэт Фёдор Иванович Тютчев оценил итоги Крымской войны и роль царя в ней: «Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злополучного человека».
Как и Николай I, Тютчев был убеждён, что «Москва и град Петров, и Константинов град – / Вот царства русского заветные столицы…». Тютчев жаждал войны с Турцией за Константинов град, то есть за Константинополь, захваченный турками и переименованный ими в Стамбул в 1453 году, торопил с этой войной правительство Николая, не сомневаясь, что Россия сумеет реализовать свои (или его) панславистские амбиции:
Не верь в святую Русь кто хочет, Лишь верь она себе самой, — И Бог победы не отсрочит В угоду трусости людской. То, что обещано судьбами Уж в колыбели было ей, Что ей завещано веками И верой всех её царей, — То, что Олеговы дружины Ходили добывать мечом, То, что орёл Екатерины Уж прикрывал своим крылом, — Венца и скиптра Византии Вам не удастся нас лишить!Удалось, однако! Ни византийского «венца и скиптра», ни контроля над проливами Николай получить не смог. Русская эскадра была разгромлена, Севастополь лежал в руинах. Более чем вероятно много раз высказанное предположение, что поражение русской армии привело императора, отличавшегося отменным здоровьем, к скоропостижной кончине. Подписанный в Париже мирный договор, по которому Россия лишилась значительных своих территорий и своего влияния на Балканах, победным можно назвать только при очень разгорячённом воображении! Мирный договор объявлял Чёрное море нейтральным и запрещал России иметь там военный флот и какие-либо военные базы. Этот запрет, как пишет автор газетной заметки, о которой я веду сейчас речь, «был фактически преодолён спустя 15 лет». Да, Лондонская конвенция от 17 марта 1871 года разрешила России и Турции держать военные суда в Чёрном море. Однако запрещала России их хождение через проливы. Это было несомненным дипломатическим успехом канцлера Горчакова. А всё-таки хорошо это или плохо, что 15 лет Россия не имела возможности защитить свои черноморские берега? Это что – свидетельство победы русского оружия?
Я бы не стал об этом писать, если б такой патриотический бред не пришёлся по душе нынешнему министру культуры Александру Сергеевичу Соколову, если бы не объявил он публично, что, «по его мнению, следующим шагом должны стать «по-новому написанные учебники истории»»!
«Он ещё сызмала к историям охотник», – объясняла фонвизинская госпожа Простакова тем, кто интересовался, силён ли Митрофан в истории. Не знаю, каков был сызмала музыковед Соколов или математик Болотов (помните, я писал об этом деятеле из Министерства образования), но что история – это наука, они, кажется, так и не поняли. Потому и настаивают на учебниках не по истории – фактической и беспристрастной, а по историям, раздувающим самомнение граждан отечества, как крыловскую лягушку, которая задумала превратиться в вола.
А таких историй про мифологизированных отечественных героев и до Николая с Крымской войной, и после придумано немало! Русские князья, оказывается, не науськивали ордынцев на родственников, прирезая себе наделы убитых, как думали Н. М. Карамзин или С. М. Соловьёв, а заботились о собирании земель в единое государство. Иван Грозный не душегуб, а, как разъяснял Сталин (так с тех пор и изучают), праведник, каравший бояр исключительно за измену! Удивительно было узнать от такого режиссёра, как Павел Лунгин, что он собрался именно в этом духе снимать фильм об Иване Грозном. Показать его амбивалентной фигурой: с одной стороны – убийцей, с другой – очень религиозным человеком. А это значит, что недавно появившийся на экранах лунгинский фильм «Остров», к сожалению, случайная удача режиссёра, которому неведомо, что известная поговорка «не согрешишь – не покаешься» придумана религиозно невежественными людьми. Покаяние – не одноразовый акт, очищающий душу от какого-то определённого греха, это пересмотр своего отношения к миру, к ближним, прощения их, любви к ним (так, кстати, и представлено в «Острове»). А как относился к ближним Иван Грозный? Казнил их и каялся в содеянном. Каялся, потому что веровал? Но ведь и бесы, как сказано в Евангелии, «веруют и трепещут» (Иак. 2, 19). Поэтому писал апостол возлюбленным своим братьям по вере: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто» (1 Кор. 13, 2). Как можно вести речь об амбивалентности садиста и убийцы, когда дела его однозначно дьявольские?
Что же касается недавней нашей истории, то она покрыта мифами особенно густо. К примеру, миф о красном командире Ворошилове. О нём ещё до войны пели: «И первый маршал в бой нас поведёт». Раскройте школьный учебник истории – в списке тех военачальников, кто ковал победу, вы Ворошилова непременно встретите. А как было на самом деле? Будучи главкомом войсками Северо-Западного направления, «первый маршал» быстро катился вместе с отступающими бойцами от наших границ. В Ленинграде приказал точить пики и копья на случай уличных боёв. Готовился к сдаче города. Не успел – в конце сентября 1941-го его отозвали в Москву. А дальше – через некоторое время – назначения, отдающие не героизмом, а синекурой. Главнокомандующего партизанским движением, сами понимаете, в тыл врага не забросят. Да и вообще вряд ли знал Ворошилов численность этого своего войска. А на посту председателя трофейного комитета ему считать приходилось. Но не бойцов, а количество того добра, что они захватили.
А в рассказах о главных героях войны школьнику представят великого полководца Сталина, кто, быть может, и ошибался в мелочах, но обладал гениальным стратегическим мышлением. И сошлются при этом на историков, которые были, конечно, советскими, но какими же они ещё могли быть? Да и так ли уж важно, скажут, что они советские? Важно, что их оценка причин и следствий войны и победы абсолютно правдива и безусловно объективна. Но вот понадобилось представить в учебнике мрачного и тупого Николая I предводителем новых рыцарей, отправившихся в крестовый поход под православными хоругвями, – и обрушились на советских историков, – кому поверили: они же материалисты! Где им было понять, что Россия в Крымской войне преследовала духовные, а не материальные цели!
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата епископ Егорьевский Марк может, конечно, настаивать, что (снова цитирую газетную заметку) «в основе Крымской войны было посягательство западных католических держав на ключи от Вифлеемского храма Рождества Христова, на святые места». И при этом ссылаться на некие секретные документы, которые некоторое время назад обнаружили в архиве внешней политики Российской империи. Его Преосвященство епископ – кандидат богословия, но не специалист по истории. Ему простительно не знать, что те документы, в новом якобы свете выставляющие конфликт между папой, которому симпатизировал французский император Наполеон III, и православным духовенством Иерусалимской церкви, обратившимся за защитой к русскому царю, у историков энтузиазма не вызвали. Во-первых, какое отношение эти документы имеют к реальной Крымской войне, где союзницей Франции выступала Англия – страна некатолическая, которой не было резона сражаться за интересы папы. А во-вторых, что нового обнаружили в архивах? Е. В. Тарле ещё в годы Великой Отечественной опубликовал книгу «Крымская война», где довольно ярко высветил суть конфликта между правителями России и Франции – Николаем I и Наполеоном III, ненавидевшими друг друга.
В течение двух лет с 1851 по 1853 гг. Франция и Россия обмени – вались неприязненными нотами и всякого рода дипломатическими уколами. Российскому министру К. В. Нессельроде «приходилось писать и писать бумаги о присноблаженной деве Марии, о её храме, о том, кому поправлять купол в церкви " св. Гроба», и почему будет так неутолимо прискорбно для истинно православного сердца, если этот ремонт попадет в руки католиков». А французский министр Друэн де Люис «упорно утверждал, что никак невозможно французской империи уступить православным монахам заботу о поправке этого иерусалимского купола без тяжкого ущерба для блага католицизма и для чести Франции». Оба они, по словам Е. В. Тарле, лицемерили, как их повелители. Так что в основе Крымской войны лежало вовсе не посягательство католиков на святые места и не защита православными своих прав на них. Подобные вещи в то время не занимали даже высших церковных иерархов. Тогдашний митрополит Московский и Коломенский Филарет Дроздов, как пишет Е. В. Тарле, «решительно ничем не проявил сколько-нибудь страстного интереса к этому делу». И у папы Пия IX, по свидетельству того же историка, его не замечалось. А сегодня именно что страстный интерес возник к этому у генералитета Русской православной церкви, который с неподобающим священству пылом стремится быть не только духовным, но идеологическим наставником паствы. Знакомая большевистская поступь – всё подмять под себя. Мудрено ли, что церковные иерархи оказались невероятно привлекательными для сбросивших коммунистическое обличье чиновников, оказавшихся у власти? Одни под диктовку церкви учебники готовы переписать, другие доказывают, что не основы религии следует давать школьникам в нашей многоконфессиональной стране, а именно основы православной культуры. Вот так и продвигаются – от попрания российской истории к пересмотру нынешней конституции!
«Да у нас в области 80 % православных», – объяснил белгородский губернатор Савченко своё волевое решение ввести в обязательном порядке такие основы в школы. Очень любопытно, когда он их считал? Когда носил в кармане партбилет, работал первым секретарём горкома и в аппарате ЦК КПСС? Или когда, следуя нынешней моде, стал появляться со свечкой во время богослужения? И как он их пересчитывал? Давал заполнять анкеты или прикидывал на глазок? Вот в Малайзии считать действительно просто. Там любого малайца записывают в мусульмане. А захочет перейти в другую веру – побьют палкой или посадят в тюрьму.
Но даже если Савченко не сплутовал, что прикажете делать детям остальных 20-ти процентов?
– Вот, – удовлетворённо сказал мне Булат Окуджава после того, как, ознакомившись с какой-то новостью по телевизору, мы решили перепроверить её по радио «Свобода» и убедились, что телевидение как обычно всё передёргивало. – А как ты думаешь, – спросил Булат, – для чего им врать? Они что, не понимают, что им не верят?
– Конечно, понимают, – уверенно сказал я. – Они привыкли к безнаказанности и знают, что всё им сойдёт с рук.
– Это так, – согласился Булат. – Но дело не только в этом. Им плевать на то, веришь ты или не веришь. Им вообще плевать на твою веру. Они ведь и сами не верят тому, что говорят. Им не вера нужна, а послушание. Не веришь, а будешь делать то, что тебе прикажут. Вот если не будешь этого делать, тогда да, тогда ты для них опасен! А думать ты волен о чём хочешь, их это не волнует!
Я вспоминал об этом разговоре, когда недавно перечитывал «Капитанскую дочку». «Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай, – уговаривал Гринёва Пугачёв. – Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька».
Народная поговорка в устах самозванца особенно уместна: какая разница, кто объявил себя попом, главное, что, став им, он – батька!
* * *
В нашей 545-й мужской школе учительницей пения была старая большевичка Вера Николаевна Морозова. Мы на её уроках не только пели, но слушали её рассказы о революции, о её товарищах. Однажды она устроила нам встречу с Еленой Дмитриевной Стасовой, которая дружила с Лениным и Крупской, была активной участницей октябрьских событий. Старушка долго и восторженно говорила о Ленине: каким он был скромным, а каким умным, а каким доброжелательным. Мне запомнилось, что Ленин часто ходил в лес за грибами, как он радовался, когда находил их много – и на грибной суп хватит, и на жаркое, и на любимые Лениным ржаные пироги с грибами.
– А что, Елена Дмитриевна, вы можете рассказать ребятам о товарище Сталине? – прервала Стасову наша биологиня-парторг.
– Многое, – ответила старушка со счастливой улыбкой. – Товарищ Сталин отличается невероятной работоспособностью. А на уговоры отдохнуть отвечает: «Люди верят, что Сталин мало отдыхает. Нельзя подрывать их веру!»
– Ух! – задохнулась от восторга биологиня. – А при беседах Владимира Ильича с Иосифом Виссарионовичем вам не приходилось присутствовать?
– Только вместе с группой товарищей, – сказала Стасова.
– А про Царицын от Ленина вы ничего не слышали?
– Очень беспокоился Владимир Ильич за Южный фронт, – ответила старушка.
– Ясно, почему беспокоился, – уверенно кивнула биологиня. – Он ведь не знал, что Троцкий предатель. А товарищ Сталин уже тогда разгадал Троцкого. И сумел победить под Царицыным, несмотря на предательство Троцкого.
– Да, – коротко подтвердила Стасова.
– А сейчас вы часто встречаетесь с Иосифом Виссарионовичем? – теребила старушку биологиня.
– Нет, – ответила та, – не часто!
– Ну да! – догадалась биологиня. – Товарищ Сталин ведь очень занятой человек. Но он вам, конечно, звонит иногда?
– Звонят его помощники, – ответила Стасова.
– Но по его поручению, – снова восхитилась биологиня. И подытожила: – Запомните, ребята, этот день. Перед вами выступала соратница великого нашего вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина!
День я не запомнил. Но год помню. Я учился тогда в четвёртом классе. Стало быть, Вера Николаевна Морозова приводила к нам Стасову в 1951-м. Сталину оставалось жить меньше двух лет.
Почему Сталин сохранил Стасовой жизнь, я не знаю. Ведь та была делегатом знаменитого XVII съезда победителей, почти целиком уничтоженного вождём. К тому же на два следующих сталинских съезда её не пригласили. Читал я, что в 1948 году она получила от ЦК выговор за восхваление Бухарина. Туманная история. Когда она его хвалила? В 48-м не могла – выговором бы не отделалась. Стало быть, за много лет до выговора? Но почему вспомнили об этом в 48-м? А вспомнив, почему так мягко наказали?
Скорее всего, Сталину она не мешала. Или он сохранял её для какого-то нового громкого процесса. А Хрущёв сделал Стасову героем соцтруда, позвал на XXII – самый антисталинский в истории съезд. Но с другой стороны, прочитал я лет десять назад в «Вопросах литературы» архивное письмо-донос Стасовой и ещё некоторых старых большевиков уже в хрущёвский ЦК: как, дескать, можно присуждать ленинскую премию Чуковскому, когда тот до революции занимал антиленинские позиции? И почему забыли, что после революции Крупская добилась запрещения его вредного для детей «Крокодила»? Прочитал это и вспомнил, с каким восхищением эта бдительная большевичка рассказывала нам, школьникам, о Ленине и Крупской. С каким удовольствием – о Крупской. Была, должно быть, её подругой. Такой же тёмной и пугливой, как ленинская жена.
Дети наблюдательней взрослых. От меня не укрылось, что о Сталине Стасова говорила с гораздо меньшей непринуждённостью, чем о Ленине. Сидел, очевидно, в её памяти недавний выговор за Бухарина. Но биологиня, напугавшая старуху своими расспросами, ничего не заметила. О выговоре она наверняка не знала – тогда этого не афишировали. Учительница была в эйфории: Стасова – соратница любимого великого Сталина! Вот и пусть расскажет о нём, обожаемом. Пусть скажет то, что биологиня и без всякой Стасовой знает. Но пусть повторит! Пусть дети послушают! Им это полезно.
При Союзе писателей существовало Бюро пропаганды советской литературы, которое распределяло между членами Союза путёвки на выступления. За выступление в Москве платили 15 рублей, а если согласен поехать в область, то и 30. Для многих – спасительная добавка к зарплате или редкому гонорару. Мне, работающему в «Литературной газете», обычно больше 5–6 путёвок в месяц не давали. Я читал лекции о современной поэзии, иногда делал вступительное слово о творчестве поэта, с которым выступал. Отношения с работниками Бюро – Антониной Николаевной, матерью теперешнего телеведущего Андрея Максимова, и моей однокурсницей Надей Белоноговой были самые приязненные. Поэтому дремучих поэтов мне в напарники не подсовывали, а путёвку часто передавали с пожеланием заказчиков: рассказать о Пастернаке, или Ахматовой, или Цветаевой, или Мандельштаме. Или поговорить с залом о поэзии Булата Окуджавы, Давида Самойлова, Олега Чухонцева. Темы, разумеется, формулировали общо: «О современной поэзии» или «Из истории русской поэзии XX века». Такие маленькие хитрости, узнай о них руководство, могли обернуться для сотрудниц и для меня крупными неприятностями. Но мы друг в друге были уверены.
Однажды получаю от Антонины Николаевны путёвку, в которой обозначено: «О партийности и гражданственности поэзии Маяковского». В отличие от многих своих друзей я Маяковским никогда не увлекался. Люблю его «Облако в штанах», «Во весь голос» да пару-тройку ранних стихотворений. В остальных своих вещах он, может, и был искренен, да пожива для меня, читателя, с его искренности не густа: не люблю я ни звукописи его, ни его пафоса. Предупреждаю об этом Антонину Николаевну. Советуюсь с ней: может, отказаться. Тем более что читать лекцию нужно в школе. Название лекции меня не смутило – очевидно, камуфляж?
– Да что вы, – замахала на меня руками Антонина Николаевна. – Из школы приходила очень симпатичная библиотекарша. Сказала, как возмущены все «огоньковскими» публикациями. И просила рассказать о том, кем были для Маяковского Лиля Брик и Татьяна Яковлева.
В то время скандальной известностью пользовались публикации в «Огоньке» В. Воронова и В. Колоскова. Воронов был помощником Суслова, собирал афоризмы – высказывания известных людей, издал их отдельной книгой и за неё был принят в Союз писателей. Кем был Колосков, я не помню. В «Огоньке» они писали о русской парижанке Татьяне Яковлевой, в которую влюбился Маяковский и даже собирался на ней жениться. Но визу в Париж ему не дали. Благодаря еврейской чете Бриков. Не имея возможности увидеться с любимой, Маяковский написал: «Любовная лодка разбилась о быт» – и застрелился.
Приезжаю в школу, рассказываю о музе Маяковского – Лиле Брик, которой посвящено множество произведений поэта, советую прочитать недавно вышедший (и мгновенно обруганный) том «Литературного наследства», где опубликованы письма Маяковского к Ли-ле Юрьевне Брик, говорю о встрече поэта с Татьяной Яковлевой и после того как сообщаю, что первый муж Яковлевой погиб в рядах французского Сопротивления, и она вышла замуж за американского скульптора Либермана, – слышу раздражённый окрик:
– Какое всё это имеет отношение к теме вашей лекции?
– Самое прямое, – отвечаю я пожилой женщине со скрипучим голосом. – Уроки гражданственности поэзии Маяковского прежде всего в её интернациональном пафосе. Ни расизм, ни антисемитизм поэту не был свойственен.
– Его отличала, – голос скрипит возмущённо и властно, – преданность идеям партии, идеям Октябрьской революции.
– Верно! – соглашаюсь я. – Но ведь недаром партия своим гимном считает «Интернационал»!
– Вы ничего не сказали, – не унимается скрипучий голос, – ни о поэме «Владимир Ильич Ленин», ни о том, как приветствовал Маяковский социалистическую новь, с какой ненавистью относился к буржуазному Западу.
– А для чего, – спрашиваю, – мне повторять школьный учебник? Намного важнее, по-моему, опровергнуть то, что может опорочить имя поэта.
– Лучшего и талантливейшего поэта советской эпохи, – говорит мне пожилая дама, – никто и ничто не может опорочить.
– Опорочить можно и гения, – отвечаю. – Была бы охота и потакание этому властей.
– Вы кого имеете в виду? – скрипучий голос звучит изумлённо.
– Ну, например, – говорю, – Николая Первого. Помните, что он сказал о гибели Лермонтова? – «Собаке собачья смерть»!
Потом библиотекарша передо мной извинялась. «Кто же знал, – говорила она удручённо, – что (имя, отчество) на лекцию придёт. Она уже третий год как ушла из школы на пенсию. Чего её сегодня принесло?»
Обошлось. Не пожаловалась пенсионерка. Может, не знала куда? Но мы с Антониной Николаевной стали держаться осторожней.
– Вот доживёте до моего, – говорил мне Владимир Михайлович Померанцев, – узнаете, что такое старость. Старость – это нежелание воспринимать новое. Или неприятие его.
Я не только дожил – пережил возраст, в котором Владимира Михайловича не стало. Он умер слегка за 60. А я двигаюсь к 67-ми. Подтверждая слова Померанцева, хочу сказать только, что, если следовать его (справедливой, по-моему) логике, неизбежно придёшь к выводу, что старость у многих начинается задолго до физического дряхления организма.
Забылось уже, о чём вёл дискуссию наш отдел «Литературной газеты». Помню, что выступила там с невероятным ожесточением поэтесса Татьяна Глушкова, которая на моих глазах стала сумасшедше злобной в полном смысле слова.
Я-то знал её молодой, красивой, приехавшей из Киева и вышедшей замуж за моего знакомца, с которым мы приятельствовали в «Магистрали», поэта и детского сказочника Серёжу Козлова. По его сказке «Ежик в тумане» Юрий Норштейн поставил свой прославленный мультипликационный фильм. Но сказка и фильм были много позже, а сперва молодые жили на Трубной, недалеко от «Литера – турки», и Серёжа часто бывал у меня в газете.
Таня училась в Литературном институте, ходила в семинар к Илье Сельвинскому, писала стихи под Гийома Аполлинера в переводе Михаила Кудимова. Одно из них очень понравилось Сельвинскому, и он напечатал его в альманахе «День поэзии». Потом Таня с Серёжей разошлись. А ещё через некоторое время её поэтическая манера резко изменилась. Теперь она подражала одновременно своей землячке Юнне Мориц и Белле Ахмадулиной, но особых успехов не добилась. Первая её книжечка вышла довольно поздно и прошла почти незамеченной.
Возможно, это её и озлобило. Она бросилась в литературоведение. Начитанная и самоуверенная, она, так сказать, к штыку приравняла перо, разящее и колющее.
Критики, особенно критикессы (в частности, в нашей «Литературной газете»), ею заинтересовались: какая смелость в выражении своей позиции!
Но Глушкова, со своей неразборчивой беспощадностью, повторялась, и постепенно интерес к её статьям стал падать. А интереса к Глушковой-поэту никогда и не было. Это повысило градус и без того горячей глушковской злобы.
Короче, когда она принесла статью в газету, Кривицкий поначалу печатать её отказывался. «Пусть смягчит как-нибудь тон», – говорил он.
Угрожая, Глушкова умела быть убедительной, а Кривицкий был пуглив. После разговора с ней он свои возражения снял: «Пусть печатает!»
В статье она набросилась среди прочих на двух моих приятелей – критика Станислава Рассадина и поэта Владимира Соколова.
Рассадин уже напечатал статью в этой дискуссии, ответить ей не мог, а Соколов сказал мне, что комедию ломать он Глушковой не даст.
И не дал. Он, живший в соседнем подъезде, разбудил меня в два часа ночи и прочитал свою статью по телефону. Я сказал, что завтра утром перед работой я у него её заберу.
– А если сейчас? – спросил он.
– Сейчас два часа ночи, – сказал я.
– Давай по-гусарски, – предложил Володя. – Иди ко мне. Почитаем вместе и отметим это дело.
Может, в другой ситуации я бы и отказался. Но услышав, как прочитал он по телефону весьма убедительную филиппику в адрес «Кожинова, Куняева и примкнувшей к ним Глушковой», я понял, что он не просто публично рвёт со всеми бывшими дружками, но ощущает это как поворотный момент в своей биографии.
Дверь в соколовскую квартиру запиралась только, когда в доме находилась жена Володи Марьяна. В другое время можно было, позвонив, толкать дверь и входить. Хозяин тебя не встречал. Он сидел или лежал на любимом своём диване перед никогда не выключавшимся телевизором. Когда приходили гости, Володя его приглушал.
Сперва он снова прочитал мне статью. Потом заставил прочитать её меня, чтобы уловить ухом фальшь. Наконец, работу над статьёй мы закончили.
– Сходи на кухню, – попросил меня Соколов. – Возьми там хлеба, огурцов и чего хочешь в холодильнике и тащи сюда.
Пока не приходила Марьяна, посуду никто не мыл. Её скапливалось довольно много.
– Захвати минералки, – прокричал Володя. – И стаканы. Стаканы пришлось отмывать.
– По-гусарски, – сказал Соколов, когда еда была нарезана и разложена по отмытым мной тарелкам, а бокалы извлечены из горки. – Влезь на лестницу и достань с верхней полки за двенадцатым томом Толстого.
Сам Володя ходил, опираясь на палку. Ноги у него болели. Болезнь была опасная. Из костей уходила жидкость. Врачи просили его бросить курить. Но Соколов этого сделать так и не смог.
Я влез по приставленной к книжным полкам лестнице. Том Толстого прикрывал большую бутылку «Посольской».
Сразу скажу, что ею мы не ограничились. Ночь была длинная, и мне пришлось ещё пару раз передвигать лестницу и шарить за названными Соколовым книгами. Память у него оказалась отменной.
Сумбурный поначалу разговор постепенно выстроился.
– А ты заметил, – спросил Володя, – что Евтушенко и Куняев похожи друг на друга, как разнояйцовые близнецы?
– В каком смысле? – удивился я.
– В смысле их стихов, – пояснил Соколов. – У обоих нет того, что Толстой назвал лирической дерзостью, когда говорил о Фете.
– Ну, – сказал я, – она мало у кого есть. Толстой ведь определил, что лирическая дерзость – это свойство великих поэтов.
– Великих-невеликих, но у больших она есть! – не согласился с Толстым Володя. – А у Жени и Стаса пороху не хватает, чтобы стать большими. Они похоже начинают стихи и похоже заканчивают.
– Начинает Евтушенко обычно броско, – задумался я.
– И Куняев броско, – Соколов взял книгу и прочёл несколько начальных кунявских строф из разных стихотворений. – Чувствуешь, как мощно?
Звучало действительно обещающе.
– И что потом? – спросил Володя. – Кисель, размазня! Многословие, суесловие, какая-нибудь простенькая мораль, как в басне.
– Потому что оба публицисты в стихах, – сказал я. – Таких сейчас много.
– Рифмованной публицистики пруд пруди, – согласился Соколов. – Но таких, как Евтушенко и Куняев – только они. Причём очень похожи друг на друга. Оба были наделены даром и оба его профукали. Так и не научились удерживать в себе лирическое напряжение.
– «Учусь удерживать вниманье долгих дум», – процитировал я.
– Кто это? – спросил Соколов.
– Пушкин, – отвечаю. – Стихотворение «Чаадаеву». 1821 год. А после – в 1833-м, в «Осени»: «И думы долгие в душе своей питаю».
– Вот-вот, – обрадовано сказал Володя. – А эти оба расслабляются, и музыка уходит! Сколько раз – начинаешь читать, – в руках у Соколова всё ещё книга Куняева, он её листает, – смотришь, вдумываешься, а потом, – он бросает книгу на кровать, – чувствуешь, что тебя манили на голую блесну. А знаешь, почему они сломались?
– Почему?
– Потому что Женька вошёл в моду и стал зависеть от публики, – определил Соколов. – Гнал стих ей на потребу. А Стас ему безотчётно подражал. Оба погибли для поэзии. Оба стали, как тот пушкинский поэт, – и Володя со вкусом процитировал: – «В заботы суетного света / Он малодушно погружён». «Малодушно»! – Соколов даже зажмурился от удовольствия. – Волшебник Пушкин! Мало души! А кто, сталкиваясь с суетой, проявляет малодушие?
– Кто? – спросил я.
– Обыватель, – радостно ответил Володя. – Потому и банальны их концовки. Ради готовых ответов напрягаться не надо. Такие стихи, как выдохшееся пиво: пивом пахнет, а пьёшь – вода! Вот чего не понимают ни они, ни Кожинов, ни Глушкова.
В той первой своей статье, которая понравилась многим, Глушкова, раздавая тычки и зуботычины критикам и литературоведам, поучала их, так сказать, собственным примером – анализом стихотворения Фета. Анализ очень понравился Кожинову:
– Он мне давал его читать, – сказал Соколов. – Я ему тогда же сказал, что Глушкова ничего не поняла в Фете, сделала его бесчеловечным эгоцентристом. Достань вон с той полки Фета.
Я достал. Соколов нашёл нужное стихотворение. Прочёл:
За гробом шла, шатаясь, мать. Надгробное рыданье! — Но мне казалось, что легко И самое страданье!– «Казалось», понимаешь? У него и перед этим, там, где разговор о «гробике розовом»: «И мне казалось, что душа / Парила молодая». Это зачарованность неземной высшей жизнью. Смотри:
Вдруг звуки стройно, как орган, Запели в отдаленьи; Невольно дрогнула душа При этом стройном пеньи. И шёл и рос поющий хор, — И непонятной силой В душе сливался лик небес С безмолвною могилой. —Понимаешь? Он сейчас парит над землёй. Он в других сферах. Причём не утверждает, что страданье легко, но предупреждает, что ему это кажется: «Мне казалось». А что пишет эта (он употребил непечатное слово)? Что Фет здесь эстетически наслаждается жизнью. Ах, (ещё одной непечатное слово)! Хоронила ли она кого-нибудь? Я так и сказал Диме: это не человеком написано, а нелюдью!
– Да, Дима и сам восхитился строчками Юрия Кузнецова: «Я пил из черепа отца / За правду на земле», – сказал я. – Кожинов объясняет это воскрешением древних символов, следованием обычаям предков.
– Предки, – усмехнулся Соколов, – когда-то человечину ели. Съедали самого храброго, убеждённые, что его храбрость перейдёт в них. Господи! – он обхватил голову руками. – До чего дошли? До воспевания людоедства!
Дошли! Поэтому и к тем, уже отстоящим по времени годам следует отнести суждение Тимура Кибирова: «Как известно, наша цивилизация основывается на двух источниках, на Гомере и на Библии. В нашей культуре и то и другое было не то, что полностью вытоптано, но основательно подвинуто». Да, генезис бесчеловечия культуры и общества связан у нас с ленинским захватом власти, со сталинщиной. Но антигуманизм, пренебрежение к человеку были основательно подвинуты и позже – особенно проповедниками племенного превосходства, какими являлись, в частности, Кожинов и Глушкова. Понимаю, что будь они живы, они с возмущением отреклись бы от тех традиций, которые Кибиров назначил ответственными за нынешнее положение дел в нашей культуре и жизни: «Поэтому с таким мазохистским восторгом у нас были приняты новые правила игры, которые, я уверен, ведут прямиком к бездне». Но, наверное, не случайно, что и Кожинов, и Глушкова оставили в судьбоносных 90-х свои профессии, заделавшись один историком, а другая пламенным публицистом «Советской России» и «Правды». Один, стало быть, пошёл опровергать Карамзина, Соловьева, Костомарова, Ключевского и рассказывать истории, от которых дух захватывает у новейших Митрофанушек. Другая, оперируя понятиями толпы и народа, до небес превозносила советскую власть за новую выращенную ею общность – советский народ и проклинала тех, кто эту власть опрокинул, – толпа!
* * *
Как-то уж очень неубедительно ответил Путин тем, кто обнародовал заявление умирающего Александра Литвиненко, бывшего офицера госбезопасности, получившего политическое убежище в Великобритании и занимавшегося в самое последнее время расследованием обстоятельств убийства Анны Политковской. Литвиненко отравили каким-то неустановленным пока радиоактивным ядом. В больнице в присутствии жены он надиктовал записку своему приятелю, которую распечатали и которую Литвиненко успел подписать. В ней он объяснил, почему спешит успеть: «… Я уже начинаю отчётливо слышать звук крыльев ангела смерти. Может быть, я смог бы ускользнуть от него, но, должен сказать, мои ноги не могут бежать так быстро, как мне бы хотелось. Поэтому, думаю, настало время сказать пару слов тому, кто несёт ответственность за моё нынешнее состояние». Ближе к ночи он умер.
И вот – реакция Путина:
«Если такая записка действительно появилась до кончины господина Литвиненко, то возникает вопрос, почему она не была обнародована при его жизни». Возникать подобный вопрос не может, коль чуть ли не сразу после оформления записки Литвиненко скончался. «Те люди, которые сделали это, – не господь Бог, а господин Литвиненко – не Лазарь, – продолжил наш президент, – и очень жаль, что такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций».
Я уже удивлялся нетвёрдому путинскому знанию церковных обрядов. Ведь президент всё время демонстрирует свою причастность к вере. Оказывается, что он не слишком твёрд ещё и в Священном Писании. Не знает знаменитой третьей заповеди: «Не поминай имени Господа Бога твоего всуе»? А если знает, то для чего её нарушает? Ради маловразумительной метафоры? Евангелисты не оставили нам свидетельств о рассказах Лазаря, воскрешённого Христом, или о каких-либо его записках. Так что метафора президента кощунственна: он насмешничает над убитым!
А вот относительно сожаления, что для политических провокаций используются такие трагические события, как человеческая смерть, то не напоминать бы при этом об итальянской мафии следовало президенту и не рассказывать об убийствах политических деятелей на Западе. Путин, конечно, знает, за что Сталин удостоил звания героя Рамона Меркадера, отсидевшего срок в Мексике и получившего наконец свою звезду, приехав на жительство в Россию. Когда арестовали этого убийцу Троцкого, Сталин и его окружение тоже говорили о политической провокации. И тоже всякий раз не признавались, что приложили руку к уничтожению очередного сталинского противника, пока их за эту руку не хватали. Да и свежа ещё память о том, как отрицали путинские дипломаты нашу причастность к убийству Зелимхана Яндарбиева в Катаре. И о том, что, когда удалось за большие, очевидно, деньги убедить катарских чиновников отпустить офицеров ГРУ досиживать определённый им судом огромный срок в российской тюрьме, убийц встретили торжественно с ковровой дорожкой в аэропорту.
Напомнил нынче Путин и о погибших Поле Хлебникове и Анне Политковской: ведём, дескать, следствие, ищем убийц. Да только не верится, что найдут. До сих пор ни одно громкое дело до конца не расследовано. Всякий раз кивали в сторону Березовского, страшно демонизировали его личность. Его, дескать, рук дело. Для чего ему убивать? Чтобы Путина скомпрометировать, для чего же ещё? Нечто подобное только что высказал помощник президента Сергей Ястржембский, имея в виду присутствие Путина в Финляндии на саммите Россия – ЕС: «Не могут не настораживать бросающееся в глаза чрезмерное количество нарочито точечных совпадений резонансных смертей людей, которые позиционировали себя при жизни как оппозиционеры действующей российской власти, с международными событиями с участием президента РФ». А мне кажется, что никто не может скомпрометировать Путина больше, чем он сам своими заявлениями о погибших (Литвиненко, Политковская). Потому и читал я предсмертную записку Литвиненко с тоскливым ощущением, что всё в ней правда: умирающие не лгут:
«Вы можете заставить меня замолчать, но это молчание дорого обойдётся вам. Вы покажете свое варварство и жестокость – то, в чём вас упрекают ваши самые яростные критики.
Вы показали, что не уважаете ни жизнь, ни свободу, никакие ценности цивилизованного общества. Вы показали, что не стоите своего места, не заслуживаете доверия цивилизованных людей.
Вы можете заставить замолчать одного человека, но гул протеста со всего мира, господин Путин, будет всю жизнь звучать в ваших ушах. Пусть Господь простит вас за то, что вы сделали не только со мной, но и любимой Россией и её народом».
Справедливости ради, следует уточнить, что Путин реанимировал отношение к России и её народу, которое проявляло большинство её правителей.
Всего 7 лет на моей памяти – с 1988-го по 1996-й – народ России для её правителей имел какое-то значение. К народу прислушивались, от него зависели государственные институты, его волеизъявление уважалось. А всё остальное время, сколько себя помню, в стране царил блеф. Блефовали все, кроме немногих храбрых страстотерпцев, которых либо убирали в лагеря и психушки, либо выталкивали из страны. Иногда убивали, как переводчика Константина Богатырёва в 1976 году.
Ему проломили череп на лестничной площадке того писательского дома на Аэропортовской, где он жил. Я почти сразу после этого зашёл в гости к Фазилю Искандеру, тоже жившему в одном из писательских домов на Аэропортовской. Услышал подробности. Вахтёр – ши, дежурившей в подъезде, где была квартира Богатырёвых, в этот день на месте не было. Богатырёв вышел из квартиры, направился к лифту. В лифт войти ему не дали. Незаметно подкрались сзади и с силой ударили по голове тяжёлым предметом, обёрнутым в тряпку. А через несколько дней в «Литературной газете» выступает с лекцией международник из ЦК Виталий Кобыш. Рассказывает об убийстве Богатырёва. Был пьян, пил неизвестно с кем, кто-то из собутыльников и саданул его посудиной по голове. «А ведь кое-кто, – укоризненно говорит Кобыш, – пытается приписать это бытовое убийство нашим компетентным органам. Вот так и рождаются легенды об ужасном КГБ».
Знал ли Кобыш, что работали в газете и те сотрудники, что жили именно на Аэропортовской и как раз в писательских домах? А если знал, то что? Не стал бы врать? Стал бы.
А Владимир Войнович много лет потратил на то, чтобы доискаться правды. Его отравили 11 мая 1975 года в 480-м номере московской гостиницы «Метрополь». В московских гостиницах у КГБ были свои комнаты. Туда вызывали на беседу диссидентов, там инструктировали туристические группы, выезжающие за границу. Володю отравили очень серьёзно. Чем – он так до конца и не выяснил. Хотя в 1992 году добился резолюции Ельцина, чтобы показали чекисты Войновичу свой архив. Но дело об отравлении, как сказали Володе, было уничтожено. Ему предъявили акт об уничтожении. Правильно, конечно, он сделал, что не поверил в это. Но дела тогда так и не получил. А теперь наверняка не получит.
Много раз с гордостью писали у нас о том, что английский толковый словарь, поясняя слово «intelligentsia», указал «от русского – интеллигенция», подтвердив, что в России впервые это слово стало звучать не как «работники умственного труда», а приобрело значение нравственное. Гордиться и в самом деле было чем: при таких деспотических режимах вырасти людям, для кого понятие чести, совести, долга, любви к ближнему перевешивали всё, что связано с материальной выгодой, а нередко побуждали их пренебрегать ею! Ясно, что речь шла не о том, сколько наук одолел человек, сколько институтов он окончил. Речь шла о высоком строе души. Пушкинский Швабрин много очков даст Савельичу по части научных знаний. Но наши симпатии всецело на стороне Савельича, который никогда не продаст себя и не предаст другого, как сделает это Швабрин!
Конечно, вся большевистская идеология способствовала тому, чтоб любые нравственные основы были сломаны. Чтоб вытравлен был вековечный уклад жизни, затоптан, забыт. Читаю, что донские казаки недовольны последней киноверсией «Тихого Дона», которую снимал Бондарчук-старший, а завершил Бондарчук-сын: и в той сцене герои ведут себя не по-казачьи, и в этой. А уж постельная – совсем не в казацком духе. Милые вы мои! – думаю, – а сами-то вы давно ли в казаки подрядились? Вы – потомственные? Позвольте в это не поверить. Потомственных, настоящих большевики уничтожили чуть ли не сразу после захвата власти. А дальних их родственников в колхозы согнали, где и вытравили из казаков всё, что их нравственно отличало. «Кубанских казаков» смотрели? Нравится? Потому и нравится, что там казаки вроде вас – ряженые.
А героические офицеры с их понятием о корпоративной чести? Раньше одно только подозрение в личной честности, недоверие в своей среде побуждало офицера стреляться. А что такое нынешний офицер (не любой, конечно, но многие)? Обложил данью нижестоящих и угодливо носит её вышестоящим. Это уже не офицерство, но продажное чиновничество, типа того, что изобразил Александр Николаевич Островский в пьесе «Доходное место».
Окна моей квартиры выходили во двор. Он был не слишком широким: несколько небольших старых домиков прикрывали собой красное кирпичное здание Астраханских бань, которые стояли ниже уровня двора – к ним нужно было спускаться по ступенькам. Прошёл слух, что пару домиков собираются сносить, но не для того, чтобы расширить двор, а ради какого-то нового строительства.
По квартирам нашего девятиэтажного дома и примыкающего к нему слева, если стоять лицом к моему подъезду, четырнадцатиэтажного, тоже писательского, ходили несколько жён писателей, во главе с Люсей – женой Феликса Кузнецова. Собирали подписи под письмом на имя председателя Моссовета Промыслова с просьбой построить на освободившемся пространстве многоэтажный гараж. У меня тогда машины не было, но письмо я подписал: действительно это намного удобнее, чем плотно уставленный автомобилями двор.
В доме только и говорили, что о гараже. Говорили, что Феликс, который по своей должности первого секретаря Московской писательской организации был депутатом Верховного Совета РСФСР, побывал на приёме у Промыслова, что хозяин Москвы наложил нужную резолюцию и теперь нужно ждать строительную технику.
Она прибыла, но оказалась не очень солидной. Экскаватор был небольшим, ковш зачёрпывал неглубоко для возведения многоэтажного дома, и когда забор наконец сняли, все увидели четыре каменных бокса под одной крышей. Гараж, оказывается, строили на четверых. Один бокс занял Феликс Кузнецов, другой – спортивный комментатор Николай Озеров, который жил у нас в первом подъезде, третий – космонавт Георгий Гречко из пятого подъезда, а в четвёртый машину поставил переводчик Владимир Сергеев.
Почему Сергеев? Есть такой анекдотический тест на антисемитизм. Представляешь, говорят кому-то, шли несколько человек там-то и там-то и несли плакат «Бей евреев и велосипедистов». «А велосипедисты-то тут причём?» – попадается на удочку слушатель.
Причём тут Сергеев? Как он затесался в звёздную компанию, я не знаю. Можно было бы многозначительно похмыкать, но ещё старый лагерник Марлен Кораллов учил меня, что бросаться обвинениями в стукачестве нельзя: они должны быть строго документированы.
Как я сказал, к нашему дому в Астраханском примыкал другой писательский – четырнадцатиэтажный, выходивший в Безбожный (нынче Протопоповский) переулок. Дома были соединены аркой. Пройдя под аркой и свернув налево, вы оказывались перед дверями огромного магазина с большим торговым залом и обширными складскими помещениями. О том, что его хотели отдать книжной лавке писателей, свидетельствовала вывешенная поначалу красивая вывеска. Лавку задумали перенести с Кузнецкого моста, где небольшое её помещение находилось на втором этаже и давно уже было тесновато для стремительно пополнявшего свои ряды Союза писателей. Счастливчики, получившие квартиры в Астраханском и в Безбожном, замерли в радостном предвкушении.
Книжный дефицит в стране был не меньшим, чем продовольственный. То есть книг выпускали много, но хороших с каждым годом всё меньше. Бумагу съедала «секретарская» литература, о которой я здесь писал, и огромное количество – пропагандистская. Её покупали для подарков передовикам производства, которые поначалу её выкидывали, а потом складывали в стопки, перевязывали и относили в пункты макулатуры. Набравшие талонов за сдачу 20 килограммов получали право на покупку какого-нибудь специально для этого выпущенного романа Дюма или чего-нибудь другого из нашей или зарубежной классики. Да, в обычной продаже и таких книг не было, их выпускали ограниченным тиражом – к примеру, долго не удавалось мне купить не сокращённый, детский, а полный вариант «Гаргантюа и Пантагрюэля».
На второй – писательский – этаж вела деревянная лестница, на которой два дня в неделю, когда завозили товар, всегда стояла не слишком быстро продвигающаяся очередь. Что же до любых собраний сочинений, которые были тогда просто недоступны, то за подпиской на них спешили с первыми поездами метро и стояли в километровой очереди до открытия, а потом и до заветного прилавка на втором этаже. Опоздавшим, разумеется, ничего не доставалось. Если мне не изменяет память, то в последний раз я стоял, чтобы подписаться на 20-томное собрание сочинений Некрасова. А может, на полное собрание историка С. М. Соловьёва?
И вот тесное, крошечное помещение решили обменять на просторное, удобное для людей – хорошо?
Плохо! Первыми забили тревогу работники лавки Кира Викторовна Дубровская и Олег Леонидович Соколов, хороших отношений с которыми домогались многие, но лишь избранные могли посетить их крошечный закуток, откуда выходили со свёртками, направляясь к кассе. «Представляете, – говорили продавцы писателям, – что начнётся? Жильцы Астраханского и Безбожного всё подчистую сметут, пока вы будете добираться до проспекта Мира!»
Убедили. Наша газета опубликовала письмо, подписанное известными писателями. Лавка на Кузнецком, писали знаменитые, должна там и остаться. Это – памятник истории. Она помнит таких книгочеев, как А. Н. Толстой или Демьян Бедный.
Лавка осталась на своём месте, а новое помещение отдали под магазин детской книги, где он нынче приказал долго жить, уступив место бутикам одежды.
Справедливости ради следует сказать, что комфортабельные квартиры в наших домах давали писателям почему-то бесплатно, тогда как писательский городок в районе метро «Аэропорт» был кооперативным. Там за жильё люди платили свои деньги.
Но потому и разевали рты на наш каравай большие начальники, что был он бесплатным. Космонавт Гречко и ещё один космонавт (фамилии не помню) прожили в доме недолго: выжидали окончания строительства дома для них, космонавтов, в районе ВДНХ и туда перебрались. А вот заместителей министров в доме жило несколько, и замначальника уголовного розыска генерал милиции жил в нашем четвёртом подъезде, ездил на работу и с работы в машине с мигалкой.
Дом в Астраханском был построен на год раньше. Так что наши жильцы наблюдали за заселением дома в Безбожном.
Однажды к нему подъехало несколько длинных фургонов. Ящики, вынесенные из них грузчиками, были надписаны латиницей. И фамилия хозяина ящиков выведена латинскими буквами: Kausov.
Как раз в это время газеты сообщали о странном браке дочери греческого миллиардера Онассиса Кристины с неким Сергеем Каузовым, работавшим за границей клерком в нашей внешторговской конторе «Совфрахт». Самого Онассиса все знали главным образом благодаря его женитьбе на Жаклин Кеннеди, с которой он жил на принадлежавшем ему острове. После смерти миллиардера почти всё его состояние унаследовала его дочь Кристина. И вот – потрясающее известие: она так влюбилась в Каузова, что решила переехать с мужем в Москву.
Ордер на четырёхкомнатную квартиру был уже выписан поэту Валентину Сорокину. Он приезжал её смотреть. Она ему понравилась. Он готовился к переезду, прикидывал, какова парная в Астраханских банях, спрашивал меня, какую максимальную температуру пара я могу выдержать.
И вдруг – стоп, машина! Отбирают у Сорокина ордер. Государственная, объясняют, необходимость! А ты, дескать, не убивайся: вот тебе ордер на квартиру в дом на Ломоносовском проспекте. Не новая, конечно, квартира – за выездом жильца, но неплохая!
Можно себе представить состояние истового «патриота» Сорокина. Он и без того ненавидел инородцев, а здесь зубами скрипел от ярости: кто перебежал ему дорогу?
И хотя Каузов с Онассис прожили в браке немногим больше года, а в Москве и того меньше, квартира Сорокину так и не досталась. Наверное, в порядке исключения разрешили в ней Каузову разместить офис международной судоходной фирмы, который находится там сейчас. Всё-таки, пока были женаты Каузов и Кристина, они перевели в фонд КПСС немалые (а для того времени – огромные) деньги – 500 тысяч долларов. Может, хоть это обстоятельство слегка утешит патриотическое сердце Валентина Сорокина. Ведь тот союз писателей, в котором он один из секретарей, удержался на плаву благодаря золоту партии! Но, думаю, вряд ли это его утешит.
– Мне кажется, – сказал однажды Юрий Давыдов, оглядывая публику ресторана Центрального дома литераторов, – что раньше такие страшные шпановские рожи сюда бы и сунуть нос не посмели! Откуда их набралось столько?
– Эх, – говорю, – Юра! Да тогда и Союз был меньше. Когда я в начале семидесятых вступал, считалось, что в нём около пяти тысяч членов. А сейчас называют 10 тысяч. В два раза увеличился за десять лет!
– Размывают! – отозвался Юра.
И размыли! Я уже писал в «Стёжках-дорожках», что на моей памяти размывание это началось с создания Союза писателей РСФСР, его областных организаций, которые соревновались между собой. Как же, мол, так? В Орловской области уже пять писателей, а в Липецкой ни одного? Плохо ищете! Не заботитесь о творческих кадрах! Региональные совещания молодых писателей проходили чуть ли не в каждом областном центре. Получали рекомендации в Союз даже занимающиеся в литкружках. И продвигали рекомендованных. О качестве не заботились, рапортовали о количестве. Знали: у кого больше, тот больше и получит. Секретарей наиболее многочисленных организаций вводили в секретариат Союза. Постепенно переводили в рабочие секретари – а это московская квартира и номенклатурные права на уровне заместителей союзных министров. В Москве создали издательство «Современник». Специально для публикации периферийных писателей. Их не очень замечают, когда они печатаются у себя в областных изданиях. А в столице заметят! И пошло! По правилам в Союз писателей принимают на основании изданных книг! Вот они – книги.
– Какие же это книги? – говорю на бюро секции критики, когда был его членом. – Просмотрите содержание! Это одна и та же книга, дважды изданная – на периферии и в Москве. Причём непонятно за какие заслуги. Человек пером не владеет. Да и грамотностью: «Доблестный был наш русский княже». Что это за русский как иностранный? Ведь «княже» – звательный падеж древнерусского.
– Нет, – возражает мне председатель. – Названы книги по-разному. Представлены обе, а это свидетельство профессионализма.
Москвичу, конечно, или ленинградцу вступить в Союз было потруднее: книги на периферии им не выпустить! Но когда разрешили принимать без книги, особенно оживились редакционные работники. «Он очень часто печатается, – говорят, – всем известен». Потому и печатается часто, что имеет такую возможность. Работает, допустим, у нас, в «Литературной газете», отзываясь на все предложения начальства, которому сверху спускают директивы: написать рецензию на плохую книгу, раскритиковать талантливую вещь.
Не скажу, что такой всегда пройдёт в Союз по ковровой дорожке. Но бывали случаи и стремительного продвижения. Бюро не возражает и передаёт дело кандидата в приёмную комиссию. Та – за приём, и дело направлено на утверждение в московский секретариат. Утвердили. И российский секретариат оформляет документы. А с одним нашим работником процесс застопорился на первом же этапе: отказалось бюро признать его достойным членства в Союзе. Но не на того напали! Написал он возмущённое письмо в московский секретариат: зажимают, дескать, не принимают по идеологическим соображениям, не любят партийных критиков – и приказал секретариат приёмной комиссии разобраться. Ну, а после того, как и приёмная высказалась против, секретариат принял его в члены Союза своей властью.
А другой наш завотделом никак количеством взять не мог. До десятка статей не набиралось. Со всем начальством был в хороших отношениях. Говорили ему: пройдёшь бюро – дальше по рельсам покатишься. Но как его пройти? Председатель бюро руками разводит: я-то не против, но я ведь не один решаю. И вздыхает, проглядывая тощий перечень публикаций: «Перефразируя Толстого, твой список гол как-то…»
Но голь, как известно, на выдумки хитра. Пришел зав с предложением к руководству газеты: давайте устроим «круглый стол» по насущным проблемам текущей литературы, позовём на него членов бюро секции критики и литературоведения, дадим полосу или полторы. Что ж, одобрило руководство, дело хорошее.
«Круглый стол» удался. Пили кофе, ели печенье с конфетами. Зав, смущаясь, даже коньяку предложил: не хотите ли? «Кофе с коньяком, – оживились. – Недурно».
А на следующей неделе объявляет председатель бюро своим членам, что вот на приёме кандидатура такого-то. Он в «Литературной газете» заведующим. Надо его представлять? «Да знаем мы его!» – закричали. Приняли единогласно.
А через год этот наш зав сам вошёл в бюро, стал приёмные дела рассматривать. Не ограничились, стало быть, одним только приёмом неписателей в писательские ряды – стали выталкивать их наверх, в руководство.
* * *
Когда-то Вениамин Каверин зря порох тратил – убеждал бывшего своего товарища по старому литературному цеху Константина Федина, ставшего председателем Союза писателей СССР, поддерживать таланты, противостоять бездарностям. Но «чучело орла», как кто-то метко звал его за внешнее сходство, Федин уже являл творческую мертвенность, застылость. Он и сам кроме незавершённого скучнейшего «Костра» ничего не создал и до талантов других ему, судя по всему, не было никакого дела.
Или Николай Тихонов. Тоже герой соцтруда, тоже депутат, тоже, как тогда пышно писали, «видный общественный деятель». Его первые баллады напоминали стихи Гумилёва. Впрочем, Гумилёв ведь тоже был учеником Киплинга. «Орда», «Брага» – в этих ранних поэтических сборниках Тихонова ощущается лирический напор, пульсирует жизнь.
Но осыпать его стали всевозможными звёздами и премиями после того, как перестал он быть художником. Помню своё ощущение от его книги публицистической прозы «Шесть колонн»: неловкость – Тихонов в ней не всегда в ладу с русским языком. Тем не менее дочитать мне её пришлось: в «Литературной газете» я обязан был быть в курсе произведений, выдвинутых на ленинскую премию. Секретарю Союза писателей СССР Тихонову её как раз и дали.
Так и составляли секретариаты из растративших свой талант или никогда его не имевших. Уравнивали одних с другими, выпускали миллионными тиражами, поощряли монографиями об их творчестве, которые охотно брались писать подхалимы, и постоянно интервьюировали литвождей, среди которых были большие любители рассказывать о себе самые невероятные истории.
О лживых байках Михаила Алексеева или Егора Исаева я уже здесь писал. Скажу о Владимире Васильевиче Карпове, последнем первом секретаре Союза писателей СССР. Рассказывает, что он, разведчик, лично взял 79 «языков», то есть пленил и привёл к своим 79 живых фашистов. Мои товарищи-фронтовики смеялись, что же он раньше-то об этом молчал! Из скромности? А другие почему об этом молчали? Да если бы он действительно взял 79, горячились бывшие разведчики, об этом раструбила бы вся фронтовая печать! Это супер – подвиг, равный десяткам сбитых самолётов!
Воевал-то Карпов, наверное, храбро, раз получил в 1944 году звезду героя. Но на фотографиях он с двумя. Вторую получил от Сажи Умалатовой, той самой, которая при Ельцине щедро раздавала своим единомышленникам награды почившего в Бозе Советского Союза.
А в эпизод со штрафбатом, в котором начал в 1942-м войну Карпов, не верили лагерники. То есть в сам-то штрафбат верили, но не верили его рассказу, как он туда попал.
Вспоминал Карпов, что уже должен был в 1941 году получить диплом об окончании Ташкентского военного училища, когда поделился с кем-то из курсантов своим сожалением, что Сталина упоминают в печати гораздо чаще Ленина. Курсант из этого разговора тайны делать не стал. Карпова арестовали, дали знаменитую политическую статью 58–10 и угнали в Гулаг на лесоповал. Он атаковал из лагеря письмами Калинина, просился на фронт. И в конце концов добился своего.
«Липа!» – уверенно утверждали люди, хлебнувшие лагеря, такие как Юра Давыдов. Политическим Сталин не доверял, к штрафбату не допустил бы. В штрафники попадали только уголовники, которым предоставлялась возможность собственной кровью искупить своё преступление.
А о том, что Карпов был полностью и окончательно прощён, свидетельствуют Военная академия имени М. В. Фрунзе, которую он окончил в 1947-м, и Высшие академические курсы Генштаба, на которые тоже могли принять после тщательной проверки (Карпов был их слушателем в 1948-м). И его служба в Генеральном штабе после войны – лучшее доказательство, что не было на Карпове клейма политического заключённого: в Генштаб брали и вовсе просвечивая человека рентгеном!
Пописывал Карпов и когда работал в Генштабе. Учился в это время на вечернем отделении Литературного института. Наверное, поэтому его из Генштаба перевели на работу в аппарат Союза писателей. Так же в своё время из Главпура бросили на укрепление руководящих писательских кадров Михаила Алексеева и Ивана Стаднюка.
Писал Карпов о военачальниках. Получил государственную премию за документальную повесть о генерале армии Иване Петрове. Но это уже было в 1986 году, когда избрали Карпова первым секретарём Союза писателей. И потому не столько книгу его премией отметили, сколько его престижную должность.
Писал ли тогда новый первый секретарь свой труд о Сталине? Может, и писал. Но издать его при Горбачёве побоялся: знал, как относится к советскому диктатору молодой генеральный секретарь. Это уже много позже выпустил он нашумевшего двухтомного «Генералиссимуса». Как же так? – удивлялись. – Утверждал, что сел за критику Сталина, а сам накатал во славу диктатора сладчайший панегерик! Глупый был, – объяснял про себя в 2002 году Владимир Васильевич Карпов корреспонденту «Комсомольской правды», – «Сталин и понятия не имел, что творят, прикрываясь его именем».
Лично мне очень любопытным показался приведённый Карповым в своём повествовании документ 1942 года – предложение Сталина Гитлеру заключить перемирие. О таком сталинском предложении я и раньше знал, но с деталями его ознакомился впервые. Например:
«СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США, в течение последующих 1943–1944 годов вести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства…»
Я-то действительно о подобной готовности сталинского СССР не знал, но сейчас выписываю такие вещи скорее для тех, кто возмущённо воздымает вверх руки: как можно приравнивать Гитлера к Сталину! И для тех, кто недоумённо пожимает плечами: кто бы мог подумать, что через несколько лет после того как Советский Союз одолел фашизм с его расовой теорией, ростки этой теории бурно заколосятся в стране-победительнице? Те же гитлеровцы могли об этом подумать. И, судя по их ответу Сталину, напечатанному в той же книге Карпова, приветствовали его предложение:
«Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством. Для этого полагалось бы первоначально отселить всех евреев в район Дальнего Севера, изолировать, а затем полностью уничтожить. При этом власти будут осуществлять охрану внешнего периметра и жёсткий комендантский режим на территории группы лагерей.
Вопросами уничтожения (умерщвления) и утилизации трупов еврейского населения будут заниматься сами евреи.
Германское командование не исключает, что мы можем создать единый фронт против Англии и США. (…)
Германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с чёрного на красный».
Не договорились, потому что Гитлер и Сталин по-разному видели переустройство мирового пространства – каждый хотел отхватить от него кусок побольше и не дать этого сделать другому.
А по поводу международного еврейства полное понимание, даже трогательная готовность перекраситься.
(Истины ради скажу, что многие мои приятели не поверили Карпову: откуда он взял эти документы? Сам их и придумал! Да, нигде кроме карповского романа я этих документов не встречал. И всё-таки в существование чего-нибудь подобного верю: недаром же после войны Сталин возмущённо опроверг уж не помню чьё мнение, будто Красная армия могла воевать за то, чтобы спасти малый народ от полного его истребления!)
И что же Карпов?
Здесь он не то что солидарен со Сталиным и Гитлером, но возражать им не берётся. Объяснил корреспонденту «Комсомольской правды», в чём видел главную опасность для России: «После того как Ленин был ранен Каплан, первой и главной фигурой в партии, правительстве, стране стал Троцкий». «Он везде и всюду, – продолжал Карпов, – начал насаждать своих, так сказать, единомышленников и…» «Хотите добавить – и соплеменников?» – догадывался корреспондент. «Да, – подтверждал Карпов, – в первую очередь соплеменников!» «Опять, – восклицал корреспондент, – вечный еврейский вопрос?» «Сионистский! – строго поправлял бывший первый секретарь. – Евреев нельзя путать с сионистами. Среди первых есть порядочные люди…» – «А среди вторых?» – «Нет! – Владимир Васильевич продемонстрировал непримиримость. – Истинная цель сионистов – Россия, они мечтают захватить её и основать на её месте своё государство». «Просто всё у вас, Владимир Васильевич, получается, – вздыхал корреспондент. – Сталин, значит, ни в чём не виноват, а главный враг человечества – сионист. Конкретно – Лев Давидович Троцкий». «Куда попрёшь против фактов и… актов?» – разводил руками Карпов.
А генералиссимус у Карпова «был очень талантливый человек. Во всём» (из того же интервью). Как у Павленко или Вишневского. Эх, дорого яичко к Христову дню! Вот бы в то время выпустить книгу Карпову! Не просто сталинскую получил бы, но высшую – I-й степени! Впрочем, его «Генералиссимуса» и сейчас удостоили I-й степени новой литературной премии «Александр Невский». И немудрено, что отметили высокой наградой. Ведь сопредседателем комиссии по присуждению этой премии является не кто иной, как сам председатель Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев, доктор исторических наук, профессор, академик нескольких академий (творчества, например, Петровской, Российской словесности, Международной Славянской. Вы о таких до сих пор не знали? Так знайте: есть и такие!). А уж Ганичев – истовый поклонник Сталина, чего не скрывал и не скрывает. По Ганичеву, наиболее ценным в диктаторе было «удивительное, прямо-таки фанатичное отстаивание интересов державы». «Далеко не все государственные деятели, – добавлял он, – боролись за интересы своих стран, как Сталин боролся за интересы СССР» («Наш современник», 1995. № 5).
Ещё один обожатель Сталина, упомянутый здесь Иван Шевцов в своё время шумно и торжественно извещал о распаде Союза писателей: «Он раскололся на две группы: русскую, патриотическую, и русскоязычную, космополитическую».
Ну, против того, чтобы называть тот союз, где я состою, русскоязычным, возразить нечего: действительно все его члены пишут на русском языке. А вот чохом объявлять его космополитическим я бы не стал: разные входят туда люди, в том числе и те, кто грезит, как писал Пушкин, «о временах грядущих»: «Когда народы, распри позабыв, / В единую семью соединятся».
Что же до «русского, патриотического», то Валерий Николаевич Ганичев возглавляет его уже больше десятилетия. Но он не только его председатель, он заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, заместитель Председателя Всероссийского общества охраны памятников и член Общественной палаты РФ. Прежде писательством не занимался, хотя к мастерам слова, работая в комсомоле, тянулся. И в Николаевском обкоме, и в ЦК, и в журнале «Молодая гвардия», и в одноимённом издательстве, и на посту главного редактора «Комсомольской правды», откуда его перебросили в «Роман-газету». В то время, вспоминает Валерий Николаевич в интервью газете коренных малочисленных народов Севера «Илкэн» (2003, № 8 (43), август), он «стал задумываться о том, что это такое за явление – молодёжная пресса, в том числе и зарубежная. И постепенно, набирая материал, в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1978-м – докторскую на ту же тему». «С этих исследований было положено начало школы изучения молодёжной прессы, – добавляет Ганичев. – Потом по этой теме было защищено более 20 диссертаций». То есть не скромничает – рубит правду-матку о себе: проторил своими диссертациями дорогу целому направлению по изучению комсомольской прессы! Основал школу! Воспитал учеников и последователей! А для чего ему скромничать, если партия удостоверила его огромные заслуги – наградила орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями. Да, было время, когда комсомольский функционер, не щадя, так сказать, живота, боролся за коммунистические идеалы. А нынче в поднесённом ему писателями адресе по случаю его семидесятилетия о коммунистической партии и о ленинском комсомоле ни слова: «Мы прекрасно понимаем, как трудно быть подвижником Православия и Патриотизма, сколь нелегок подвиг служения русской литературе, и, сознавая это, благодарны Вам за Вашу верность и неизменную преданность общим идеалам возрождения русского общества во всех исторических составляющих».
Лесть начальнику простительна. Особенно учитывая, что он является сопредседателем жюри многих литературных премий и наград. Но в данном случае лестные для Ганичева слова подкреплены церковными наградами – орденами преподобного Сергия Радонежского II степени и св. благоверного князя Владимира II степени. Удивляться этому тоже не будем, если подсчитаем, сколько дипломов, грамот и премий получили из рук Ганичева высшие церковные иерархи. Ганичев не скупится, и епископат не скупится. Охотно преклоняет ухо к Ганичеву как к своему заместителю Глава Всемирного Русского Народного Собора патриарх Алексий II, который поддержал его ходатайство канонизировать русского флотоводца Фёдора Ушакова как святого.
Ушаков – одна из центральных фигур творчества Валерия Николаевича. Поэтому можно понять его удовольствие, которое он засвидетельствовал на сайте Союза писателей России () в дневниковой записи от 7 марта 2003 года, слушая выступающих на конференции Арзамасского педагогического института:
«Следующий день был Ушаковский. Большая аудитория заполнена студентами, и первый доклад то ли по романам В. Ганичева «Росс непобедимый», «Флотовождь», «Святой и праведный адмирал Ушаков», то ли по жизни, подвигам, святому служению Ушакова делала размашистыми мазками, касаясь исторического фона, особенностей стиля автора романов, возвышенных качеств характера адмирала, Светлана Ивановна, преподаватель филфака. А за ней представили XVIII век её студентки».
Удовольствие, стало быть, двойное. И от того, что говорят об Ушакове, и от того, что говорят об Ушакове в освещении писателя Ганичева.
Разумеется, любому автору любопытно услышать, как понимают «особенности его стиля» другие. «Размашистые мазки» не лучший, правда, способ постичь стилевые особенности, но, как замечал когда-то Евгений Винокуров, «не важно, как говорят, важно, что хвалят».
А хвалили, судя по записи, не скупясь:
«Доклады были обстоятельны, анализ тщательный, факты выверены. Всё перемежалось биографическими подробностями. Некоторые из них я уже успел позабыть, но студенты нашли их в различных моих интервью, беседах.
Поблагодарил за хорошее знание истории, за то, что прочитали романы, поняли смысл, вывели ушаковскую составляющую».
Что такое «ушаковская составляющая» в художественном тексте, мне не совсем ясно, но трудно, конечно, удержаться, чтоб у тебя от таких похвал не вскружилась голова! Тем более, если ты сопредседатель жюри по присуждению Большой литературной премии России. Кому же её давать, как не тем, у кого отслеживают даже биографические подробности? Понятно поэтому, что именно первой степенью этой премии наградил Ганичев собственные романы «Росс непобедимый», «Адмирал Ушаков» и повесть «Дорожник». Последовал примеру академика Алфёрова, поделившего «Русский Нобель» между собой и немцем Клаусом Ридле Ганичев тоже взял себе не всю премию, а половину, отдав другую Юрию Лощицу.
А «Росс непобедимый» получил ещё и премию С. Аксакова. А ещё удостоили Ганичева премией «Прохоровское поле». Деньги, конечно, не Бог весть какие большие – премия региональная, белгородская. Но считается почётной: на её вручении кого только не увидишь – и бывших политиков, например, Николая Ивановича Рыжкова, и нынешних, к примеру, Сергея Михайловича Миронова. Словом, столько пришлось мне читать похвальных слов писателю Ганичеву, что в конце концов они меня заинтриговали. Как говорится, все хвалят, а я не читал. Открыл роман «Адмирал Ушаков», прочитал первый абзац и застыл ошарашенный:
«На берегу реки Мокши сидел старый человек в морском мундире. Последние предосенние прозрачнокрылые стрекозы трепетали над ним, некоторые садились на потёртые эполеты, передыхали и вспархивали, когда человек шевелился. Ему было душно, он расслаблял рукой расстёгнутый воротник и, глубоко вздохнув, замирал, вглядывался слезящимися глазами в ладошки небольших волн, похлопывающих речку. Что виделось ему в этом мелководье? Что прозревал он сквозь наплывавшую влагу? О чем думал? Может быть, и ни о чём. Казалось, его мысли не нужны были никому. Ни этим густобородым монахам из Санаксарского монастыря, ни улыбчивым робким крестьянам, ни плотным соседским помещикам, с почтением раскланивающимся с неразговорчивым стариком. Им были далеки его думы. А он и не выстраивал их в ряд, не готовил к передаче потомкам, не хранил откровения в потаённых уголках, постепенно растворяя во времени драгоценные и неповторимые открытия, стирая в памяти известные только ему пути и ходы в сложной шахматной игре воинской морской жизни».
Можно ли что-нибудь понять из этого вязко-рассудительного повествования? Думал ли о чём-нибудь этот «старый человек в морском мундире» или всё-таки не думал? А если ни о чём не думал, то о каких мыслях идёт речь? Кому в таком случае они могут понадобиться или не понадобиться? А с другой стороны, мыслей (или дум) у него, оказывается, было много. Но он не хотел их выстраивать (почему?), не готовился их передать потомкам (почему?) И сколько времени ему пришлось провести на берегу реки, чтобы растворить в нём («во времени») все свои драгоценные и неповторимые открытия? И может ли человек, аки компьютер, стереть в памяти некие «ходы в сложной шахматной игре воинской морской жизни»? Как тут не вспомнить Зощенко: «Чего хотел сказать автор этой художественной прозой?»
Возразят, можно ли судить о манере художника по одному абзацу? «Да возьмите вы любых пять страниц из его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем», – горячился герой Булгакова. А в данном случае и пяти страниц не надо. Уже первый абзац выдаёт, что мы имеем дело не с писателем, а с писателем по удостоверению. Как шутили раньше, он же не писатель, он член Союза писателей. А в данном случае – его председатель.
Так что прав оказался И. М. Шевцов, отказавшийся считать свой союз русскоязычным. Уж коль скоро сам его председатель в таких напряжённых отношениях с русским языком…
А вот насчёт того, что ганичевский союз «патриотический», то Шевцов и не скрывает, что вкладывает в это понятие. В том бывшем Союзе писателей, который долго отказывал Шевцову в приёме, доминировала, как он пишет, ненавистная ему «просионистская» группировка. Она, дескать, вечно ставила ему палки в колёса, встречала его «патриотические» романы злобной критикой.
Ах, до чего ненадёжна стариковская память! Помнит Шевцов, к примеру, о фельетоне Зиновия Паперного, но забыл, чем он заканчивался. А заканчивался он искренним удивлением фельетониста, что роман «Тля», который выдаёт весьма поверхностное представление Шевцова о природе и смысле живописи, предваряет восторженное слово художника Александра Ивановича Лактионова. «Если б обнаружилось, что не читал Лактионов этого романа, – примерно такой была конечная фраза фельетона, – мы бы этому не удивились». И ведь обнаружилось! В следующем же номере «Литературной газеты» было напечатано письмо Лактионова, где Александр Иванович засвидетельствовал: конечно, он романа не читал! Предисловие написал сам Шевцов, а он, Лактионов, подписал его по дружбе!
Не одни, стало быть, «сионисты» (читай: евреи!) травили русского писателя. Порой от его книг и друзья открещивались, как чёрт от ладана.
Проглядывая сайты их Союза, нашёл я и литературную премию имени М. Н. Алексеева. «Неужто, – подумал, – решил подражать Солженицыну?» Но оказалось, что премии Алексеев не учреждал. Её учредило саратовское правительство в честь почётного гражданина Саратовской области Михаила Николаевича Алексеева. Забавно, что среди прочих получил её Михаил Лобанов. Получил, как официально об этом объявлено, «за публикации, посвящённые творчеству М. Алексеева».
Напоминает знаменитый анекдот о решении жюри конкурса на лучший проект памятника Пушкину: второе место дали за Сталина, читающего Пушкина. Будем теперь ждать, когда одарит саратовское правительство премией Алексеева самого Алексеева, доведя до конца анекдотическую ситуацию. Ведь первую премию в анекдоте присудили Сталину, читающему Сталина!
Но, конечно, Алексееву не поспеть за Ганичевым. Того даже за интервью, которое он дал руководителю пресс-центра своего союза, наградили лауреатством. А то, что его наградила «одна из самых популярных американских русскоязычных газет «Русская Америка»» (впервые о такой слышу!), по мнению ганичевского пресс-центра, «ещё двадцать лет назад вызвало бы реакцию однозначную – осуждение общим собранием коммунистов с последующим исключением имярек из рядов…» Исключили бы, конечно. Да только вряд ли двадцать лет назад коммунист-функционер Ганичев захотел бы связываться пусть и с русскоязычной, но всё же американской газетой! Разве только с такой, с какой позволено было иметь дело. Похоже, что «Русская Америка» – как раз из тех. Не осведомлена даже, что обычно гонорар за интервью платят тому, кто его берёт, а не тому, кто его даёт. (Бывают, конечно, исключения, но для мегазвёзд, к которым многократный академик и член Общественной палаты всё-таки не относится.) И, стало быть, перепутала газета адресатов, вручая свой диплом лауреата!
Ах, какие они сейчас все храбрые – антибольшевистские, антисоветские! Забыли, кому писал Солженицын в день исключения его из Союза писателей? «Посмотрите циферблаты! – ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжёлые занавеси! – вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это – не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией».
Ничего, конечно, они не забыли. Просто понапрасну понадеялся Александр Исаевич на их страх перед историей. Попугались, конечно, не без этого. Но не истории, а сиюминутного настоящего. А когда выяснилось, что ничто им не угрожает, занялись тем же, чем и прежде занимались.
Учредило Международное сообщество писательских союзов (Михалков, Бондарев, Феликс Кузнецов и другие) вместе с Союзом художников России, издательством «Советский писатель» и Педагогическим открытым университетом имени М. А. Шолохова международную премию имени Шолохова. Вот уже который год объявляют лауреатов: Михалков взял премию, и Бондарев взял, и Анатолий Иванов, и Проскурин, и Михаил Алексеев, и Сорокин, и Куняев, и Проханов, и художники из руководства своего Союза. Увенчали и политических деятелей. Не только отечественных, таких как Зюганов или генерал Варенников. Но главным образом – международных. Тут каждое имя знаковое: Слободан Милошевич, Радован Караджич, Александр Лукашенко, Фидель Кастро Рус. Наконец, совсем недавно – любимый вождь северокорейского народа маршал Ким Чен Ир.
Кстати, северокорейский диктатор, как и Ганичев, академик Международной академии Меценатства. Я поначалу думал, что Ганичев туда избран как председатель президиума регионального общественного движения «Добрые Люди Мира». Но похоже, что она из тех академий, куда выбирают не за творческие или научные заслуги.
Меня самого приглашали однажды избираться в Международную академию педагогических наук. «Членом-корреспондентом?» – спросил я. «Можно и сразу академиком, – сказали, – но это будет стоить в два раза дороже». «Так у вас выбирают за деньги?» – удивился я. «Что вас удивляет? – сухо ответили мне, – мы же новая организация. Нам нужны деньги! А у вас зато будет почётное звание!»
Был у нас с Юрием Кузнецовым слушатель Высших литературных курсов – Валерий Хатюшин, который писал стихи. «Стихи! – фырчал Кузнецов. – У нас в Краснодаре любой член литобъединения пишет лучше!»
– Знаешь, – сказал он мне по телефону перед самым обсуждением Хатюшина, – я сегодня на семинар не приду. Ты уж проведи обсуждение этого графомана сам.
– Но почему? – взвился я. – Здесь ведь и говорить нечего. Стихи чудовищны. Приходи. Он тебе больше поверит.
– Он верит только Сорокину, – сказал Юрий Поликарпович. – Сорокин его и взял на курсы. Я был против категорически.
Хатюшин печатался в основном в журнале «Молодая гвардия» у Анатолия Иванова. Потом он стал там работать. Стихи его были не просто плохи, от них исходила какая-то звериная злоба.
Семинар я провёл один. Никто ничего хорошего Хатюшину о стихах не сказал. На том и расстались.
А спустя некоторое время узнаю, что он стал нынче дважды лауреатом. Дали ему премии Есенина и «Золотое перо России». Хотел сказать: и на здоровье. Но сами подумайте, стоит ли желать здоровья тому, кто злорадно назвал «возмездием» события 11 сентября 2001 года, когда самолёты террористов обрушили два нью-йоркских небоскрёба, убив тысячи ни в чём не повинных людей (в числе которых оказались и русские), кто в нечеловеческой своей ненависти принялся радостно отплясывать на трупах:
С каким животным иудейским страхом С экранов тараторили они!.. Америка, поставленная раком, — Единственная радость в наши дни. И не хочу жалеть я этих янки. В них нет к другим сочувствия ни в ком. И сам я мог бы, даже не по пьянке, Направить самолёт на Белый дом…Дело не в том, что из-под «золотого пера России» выплеснулось нечто непотребное, хвастливое и дикое: такие герои обычно других науськивают, а сами, как заметил Марк Твен, идут в бой с песнями позади всех и бегут с поля битвы с воплями в первых рядах. Дело в том, что подобные стихи сильно расходятся с Уголовным кодексом.
Молодёжь насмешливо называет антифашистов «антифой». К ним относятся как к чудакам. Быдляки своё дело делают: учат цинизму. Небезуспешно.
Только что отпраздновали столетний юбилей великого русского интеллигента академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Он выписал в своей книге «Заметки и наблюдения» слова Блаженного Августина: «Единственным признаком благородства скоро станет знание литературы». Лихачёв умер семь лет назад. Что для него значила эта фраза? Какое время он ею характеризовал? Близкое к нынешнему? Или то далёкое, когда оказался он в концентрационном лагере в Соловках по обвинению в антисоветской деятельности? Но о лагере он писал недвусмысленно: «Интеллигенция в условиях Соловков не сдавалась. Она жила своей, часто скрытой от посторонних глаз, духовной жизнью, собираясь и обсуждая разные философские проблемы». Речь, стало быть, о том, каким ощущал Дмитрий Сергеевич время в последние годы жизни.
Знание литературы – единственный признак благородства? Я бы сейчас добавил к эпитету «единственный» ещё и «реликтовый». Как сообщило только что «Эхо Москвы», более трети москвичей не читают книг. Опрос, проведённый Левада Центром, показал, что только 23 процента горожан называют себя постоянными читателями. Нелюбовь к чтению, считают нынешние психологи, воспитывается с детства. Дальше цитирую радиостанцию: «Родители практически не читают книги детям, а в школе учителя требуют от ребёнка быстрого чтения. Этот процесс превращается в экзекуцию».
* * *
Хорошая книга – лучшее оружие тотального наступления против быдляка. Быдляк это чувствует. Поэтому все силы приложит, чтобы не раскручивали хорошую.
Я уже не раз здесь вёл речь о специфике нынешнего образования. Вот и руководитель моей кафедры Валентин Иванович Коровин много горьких слов сказал в «Литературной газете» (№ 38, 20–26 сентября 2006 года) о нашем студенчестве, о том, как отбирают у них часы на освоение языка и литературы, как заставляют филологов изучать математику, что, конечно, есть издевательство над людьми, выбравшими себе совершенно определённую профессию. Много верного сказал Коровин и о труде преподавателей, которые сейчас поставлены на грань потери квалификации: в два раза урезали часы на основные курсы! В превозносимой Коровиным Болонской системе преподавания действительно немало привлекательного и для студентов, которым помогают материально грантами или недорогой ипотекой, и для преподавателей, которым прилично платят, раз в четыре года отправляют в годовой отпуск для пополнения научного багажа, оплачивают заграничные командировки, предоставляют пенсионные льготы. Прекрасно! И всё же иные постулаты Болонской системы представляются мне весьма сомнительными. Например:
«Болонья требует от преподавателей раз в пять лет менять специальные курсы. Если, например, сегодня я читаю лекции о лирике Пушкина, то в следующее пятилетие я должен подготовить курс о прозе Чехова».
Я вспоминаю, как слышал от Льва Кривенко, Бориса Балтера, Юрия Трифонова, Евгения Винокурова, Константина Ваншенкина, что они заслушивались в Литературном институте лекциями о Пушкине Сергея Михайловича Бонди. Я слушал в МГУ темпераментные лекции пушкиниста Бонди лет через 15 после них. Могу себе представить, что было бы с Сергеем Михайловичем, если б ему предложили почитать студентам курс о Чехове, а потом, может быть, перейти к советской литературе!
В том-то и штука, что настоящий специалист свой курс не на пять лет готовит. Можно, конечно, читать общие курсы по истории литературы: знакомить студентов и с Достоевским, и с Толстым, и с Чеховым. Но на разработку курса по творчеству каждого из них порой и жизни человеческой не хватит. Если, конечно, не застывать над однажды достигнутым, а продвигаться дальше, уточняя реалии и детали, фиксируя новое, что тебе в этом художнике, в этом его произведении, в этой главе этого его произведения открывается.
С. М. Бонди был специалистом, а, к примеру, Василий Иванович Кулешов, написавший учебник по истории русской литературы X–XX веков, специалистом не был. Никогда прежде не занимался ни древнерусской, ни литературой XVIII или XX веков. Каким мог быть его учебник? Таким, каким и был, – поверхностным, перечислитель – ным, официозным, скучным.
«Образованность и интеллектуальное развитие – это как раз суть, естественные состояния человека, а невежество, неинтеллигентность – состояния ненормальные для человека. Невежество или полузнайство – это почти болезнь. И доказать это легко могут физиологи» (Д. С. Лихачёв. «Заметки о русском»).
Я писал здесь о мимикрирующих. Писал об одарённых людях, готовых ради выгоды унизить (проклясть) свой дар, съёжиться, чтобы не дай Бог не выделяться, вступить в союз с некомпетентными, но влиятельными. И о тех писал, кто, ничего толком не усвоив и не освоив, продвигается по службе, как сапёр по минному полю, комфортно обслуживая начальство, умея создавать впечатление своей исключительной нужности, полезности, ценности.
Специалисты всегда были костью в горле советского режима. Знаменитое сталинское «незаменимых у нас нет» означало, что режим предпочитает полузнаек.
Бессильные постичь истину, они научились ею пренебрегать. А тот, кто отказывается поклоняться истине, неизбежно становится мифотворцем.
Поэтому только на моей памяти было обожествление не просто Сталина и любого его преемника, но и тех, на кого указывает в данный момент верховный правитель. Стахановцы, гагановки, целинники, ударники коммунистического труда. Но, пожалуй, самая громкая компания по обожествлению людей сопровождала полёты в космос.
Космонавты стали верховными жрецами, кладезями мудрости, высшими авторитетами. К ним не просто прислушивались, их слова благоговейно ловили и цитировали не меньше, чем классиков марксизма-ленинизма. Выше них был только первый (генеральный) секретарь. А уже остальные члены политбюро во времена ранних полётов (Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Терешкова, Быковский) – на одном с ними уровне. Хорошо помню статью Николая Грибачёва в «Литературной газете» 1963 года. Он писал о поэтах, которых, на его взгляд, недооценили. А вот лучшие, героические люди нашего времени – космонавты, торжествующе заключал статью Грибачёв, этих поэтов ценят. Такие козырные карты крыть было нечем.
Огромные очереди за автографами космонавтов выстраивались в творческих домах Москвы. И кто стоял? Литераторы, художники, архитекторы, работники искусств. А как почтительно внимали космонавтам в Академии наук! Точно всех охватила горячка, какое-то помешательство в лихорадочном сотворении кумиров. И верно! Какой неприглядно убогой выглядела бы жизнь в родной советской стране, если бы не постоянно действующий наркотик – мы выше всех, быстрее всех, могучие, непобедимые.
Сейчас стрелки общественного поклонения переведены на олимпийских чемпионов. Наверное, нет в России человека, кто не знал бы Александра Карелина, видного партийного деятеля («Единая Россия»), депутата Государственной Думы, крупного учёного, доктора наук.
Трёхкратный олимпийский чемпион по классической борьбе, он и в диссертациях остался верен спортивной специальности. Тема его кандидатской: «Методика обучения контратакующим действиям от бросков прогибом», докторская – «Система интегральной подготовки высококвалифицированных борцов».
Имеют ли научную ценность подобные работы? Контратакующим действиям от бросков прогибом (в моём школьном детстве их называли «суплесом») в московском дворце «Крылья Советов» (недалеко от метро «Белорусская») обучал юных борцов в конце 50-х бывший ещё до войны трёхкратным чемпионом страны, а потом ставший тренером после тяжёлого ранения на финской войне Василий Люляков. Заслуженный мастер спорта, профессионал очень высокого класса, он не мог, разумеется, по инвалидности выступать на ковре, но тренером оказался отменным. Подготовил немало чемпионов СССР, РСФСР, Москвы. На его ковре любил разминаться первый (в СССР) олимпийский чемпион 1952 года и первый (в СССР в 1953 году) чемпион мира (потом ещё раз в 1958 году) Борис Гуревич, который тоже охотно делился своим борцовским опытом с подростками. Допускаю, что можно обобщить все эти контрприёмы, написать о них какую-нибудь методическую брошюрку. Что же до интегральной подготовки, то вряд ли Карелин оперировал здесь математическим понятием, а второе значение слова «интегральный», как и указывают все словари, – «цельный, единый». То есть докторская диссертация Александра Карелина воспроизводит систему единой подготовки высококвалифицированных борцов. В таком случае ей действительно цены нет! Представляю, на сколько языков мира она переведена! Кто же откажется от универсальной шпаргалки по подготовке борцов высокой квалификации?
Вот только утвердил бы ВАК такую шпаргалку, не будь её автор трёхкратным олимпийским чемпионом? Сомневаюсь. Как сомневаюсь, что учёный совет института разрешил бы заниматься подобной алхимией обычному смертному.
А живущий в Австралии абсолютный чемпион мира в полусреднем весе боксёр-профессионал Костя Цзю, член партии «Единая Россия», поступил на заочное отделение Екатеринбургского института физкультуры, социального сервиса и туризма. Болельщики счастливы! А Костя? И Костя рад, конечно. Говорит, что пишет диссертацию на тему физического воспитания. Трудно будет ему в институте, признаётся Костя, многое подзабыл. Но над диссертацией всё-таки работает. И здесь уже сомнений не возникает: будет, будет Костя Цзю доктором наук!
В Екатеринбурге (совпадение?) сейчас проходит VII съезд «Единой России». Только что делегаты приняли в свои ряды олимпийских чемпионов Светлану Журову и Антона Сихарулидзе. Чтобы внести их в предвыборный список, чтобы стали они депутатами.
Конькобежке Журовой за победу на Туринской Олимпиаде присвоили звание подполковника. Она работает в Управлении по конвоированию Федеральной службы исполнения наказаний. А фигурист Сихарулидзе, оставив любительский спорт, тоже не бедствует – открыл в Петербурге ресторан «Сфинкс». Так для чего им депутатство? «Спортсмены уверены, – сообщает Независимое информационное агентство, – что они своим авторитетом смогут внести значительный вклад в пропаганду здорового образа жизни, являющегося одним из приоритетов в национальном проекте " Здоровье»».
Очень любопытно, правда? В других странах депутаты заняты законотворческой деятельностью, а у нас они собрались пропагандировать здоровый образ жизни, как в былое время гимнасты пропагандировали в утренние часы на телевидении аэробику (показывают ли её сейчас? Помню, как негодовал «совесть нации», писатель, народный депутат СССР В. И. Белов, наблюдая за девушками в трусах и в майках: «У нас на Вологодчине коровы откажутся доиться, если увидят подобное зрелище!»).
А с другой стороны, чем ещё дать им заниматься, если нелёгкую ношу законотворчества взвалила на себя кремлёвская администрация и вовсе не собирается от неё освобождаться? «Россия должна говорить, что делает, а не делать, что говорят», – строго отчеканил недавно в журнале «Эксперт» замглавы президентской администрации Владислав Сурков. И сразу же зазвучало в ушах нечто знакомое, имперское – то ли «Правь, Британия!», то ли «Германия превыше всего!»
А ведь – поди ж ты! – угадали Журова и Сихарулидзе, куда рулит один из отцов-основателей обновлённой «суверенной» демократии. «Сбережение народа может стать центром и средством обновления, – подтвердил Сурков. – Программой гуманизации политической системы, социальных отношений, бытовой культуры. Навыком бережного подхода к достоинству, здоровью, имуществу, мнению каждого человека».
Ну, что касается достоинства, имущества, мнения – высокий чиновник, очевидно, имеет в виду то далёкое время, когда суды будут независимы, милиция станет охранять граждан, а граждане станут тем самым электоратом, от которого зависит власть. Что же до здоровья, то, судя по всему, он считает вполне позволительным разрешить депутатам пропагандировать здоровый образ жизни уже сегодня.
Для того хотя бы, чтоб отвлечь внимание граждан от вечных скандалов в ведомстве министра здравоохранения Зурабова, где то бюджетные потоки иссякают, не пройдя намеченного русла, то перечень бесплатных лекарств для пенсионеров сжимается, как шагреневая кожа, то исходит такой нацпроект, от которого хватаются за голову действующие врачи. Поэтому здоровье не следует путать с бережным подходом к здоровью каждого человека, о котором сказал кремлёвский администратор. «Каждого человека» – это прямо по тому анекдоту: «Чукча знает, какого человека! Чукча видел этого человека!»
Нет, не дурно, если депутаты станут пропагандировать здоровый образ жизни. И сами развлекутся, и граждан оградят от оболванивания, невежества, шарлатанства.
Помните, как возмущалась Галина Павловна Вишневская новой постановкой «Евгения Онегина» в Большом театре? А ведь такого рода интерпретация классики сейчас привычна. Режиссёр Александр Тигель, поставивший в театре Станиславского и Немировича-Данченко «Травиату», сумел по-новому воплотить на сцене оперу Джузеппе Верди: «Сначала поскидывали бюстгальтеры пошловатого вида девицы, виляющие задницами так, будто они с рождения страдают двусторонним вывихом тазобедренного сустава. А затем сняли штаны и три бравых тарзана…» («Московский комсомолец», 28 ноября 2006 года).
Что говорить, опоздал со своей новинкой Тигель, нам и не о таком приходилось здесь писать. Но ведь не боится повториться, знает, что игра на низменных инстинктах пользуется всегда большим спросом.
Да и не просто игра, но откровенное проявление таких инстинктов. Без всякого стеснения. Выглядевший в прошлом порядочным человеком актёр Александр Ширвиндт на встрече директора Федеральной службы безопасности Н. П. Патрушева с деятелями культуры озабоченно обращается к председательствующему (см. Минутко И. А. «Юрий Андропов. Реальность и миф»): «Я совершенно не ортодоксально мыслю, но мне кажется, что престиж ФСБ, уважение и понимание её деятельности, должен строиться в том числе и на боязни общества перед этой структурой… У людей должна быть опаска… Вы согласны?» Патрушев, конечно, согласен: «На то и щука в озере, чтобы карась не дремал». И всё-таки святее папы быть Ширвиндту не позволяет: «Но если серьёзно, думаю, должно быть, прежде всего уважение. Честному человеку не нужно бояться ФСБ». Что же до многолетнего партнёра Ширвиндта по сцене – Михаила Державина, то его готовность усваивать уроки быдляка не менее удивительна. Хотя ко всему, конечно, привыкаешь, но всё-таки оглушила встреча Державина с Путиным, который вручил актёру орден. Рассказывал актёр президенту, «что утром прилетел из Сочи. Кто-то из знакомых произнёс на весь самолёт: " Надо, чтобы самолёт прилетел вовремя, потому что Михаилу Михайловичу будут вручать награду в Кремле». «И вдруг, – с неожиданным удовольствием вспоминал Державин, – пассажиры спросили: «А кто вас будет награждать?». Я говорю: «Владимир Владимирович». А они мне в один голос: «Попроси, Михалыч, чтобы Путин возглавил страну в третий раз»» («Московский комсомолец», 9 октября 2006 года).
Путин мог и не читать рассказа Чехова «Толстый и тонкий». А «Михалыч» не читать его не мог. Не мог не помнить убийственной чеховской иронии:
«Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило».
Об интеллигентах ли писал здесь Чехов? Нет, конечно. Вот и я не назову тех, о ком веду здесь речь, интеллигентами. Не могут интеллигенты так низко себя вести! Другое дело – работники умственного труда. Они – могут!
А что до настоящих интеллигентов, то мне на них везло. С одним из них я сблизился и, можно сказать, подружился, несмотря на большую возрастную разницу. Мне тогда было 24 года, а Владимиру Михайловичу Померанцеву – 58.
Его статью «Об искренности в литературе» я прочитал, учась в университете. Но знал о ней и связанной с ней скандалом гораздо раньше. Отец моего школьного друга Яков Лазаревич был в курсе всех литературных новинок и литературных скандалов. Я знал, что за статью Померанцева и ещё за несколько опубликованных в журнале «Новый мир» материалов был снят с работы (в первый раз – в 1954 году) главный редактор журнала известный поэт Александр Трифонович Твардовский.
Яков Лазаревич давал мне читать эту статью. Но в то время я её до конца не дочитал. Книг, о которых там шла речь, я почти не знал. И статья Померанцева мне показалась нудновато-назидательной, проигрывающей другой статье, за которую сняли Твардовского. Она называлась «Дневник Мариэтты Шагинян», автором её был Михаил Лифшиц. Под пером Лифшица Шагинян предстала не просто поверхностным, но удивительно невежественным автором. «Настоящая беда, – писал М. Лифшиц, – заключается в том, что писательница готова рассуждать на любую тему, совершенно не зная её».
Потом-то я понял, как был не прав в оценке статьи Владимира Михайловича. Перечитывая её позже, я удивлялся себе, каким невежественным дураком нужно было быть, чтобы не оценить её сразу. Ведь Померанцев говорил о вещах, которые и сегодня актуальны:
«Задача критика не только в том, чтобы раскрыть патриотизм писателя и актуальность освещённой им темы. Критик должен оценить роль книги в литературе, сказать, что нового вносит она сравнительно с прежними… Мы знаем имена многих писателей, знаем их книги, но вовсе не знаем, чем обязана им литература, что они дали ей».
По-моему, именно за такие вещи на Померанцева тогда и накинулись. Ведь по существу он бил по всей советской, досоветской и, как теперь видно, постсоветской критике.
Некогда Белинский произнёс фразу, которая уводила (и увела!) русскую литературу и русскую критику с того направления, какое задали ей Пушкин, Лермонтов и Гоголь. В восьмой статье о Пушкине Белинский сказал: «Зло скрывается не в человеке, но в обществе…»
Эти страшные слова освободили человека от любых его пороков, возложив ответственность за них на общество. А литература эту ситуацию стала изображать и выражать, побудив критику подтверждать или опровергать воссозданную в произведении писателя реальность.
Долго теоретизировать не буду. Укажу только на поклонение Белинского Гегелю и на то, что Маркса и Энгельса называли «младогегельянцами». А возвращаясь к критике, как её понимал Померанцев, скажу, что он выступал против подмены литературного анализа произведения социально-политологическим. Кстати, сам Владимир Михайлович здесь же выступил и превосходным критиком: показал, почему никакого отношения к литературе не имеют не только книги прочно забытого теперь С. Болдырева или изредка поминаемых С. Бабаевского, М. Бубеннова, но и роман Э. Казакевича «Весна на Одере». И наоборот: почему «Районные будни» В. Овечкина надолго останутся в литературе, несмотря на их злободневность. И всё же на Померанцева набросились не только за его конкретные оценки. Его яростно атаковали тогдашние критики, не владевшие искусством литературного анализа (увы, и в сегодняшней критике с этим не намного лучше!). «Нет, товарищ Померанцев, – восклицала, к примеру, Л. Скорино, – Ваши теоретические предпосылки не верны, а оценка явлений литературы, если говорить напрямик, узка и жеманна: у Вас получилась искажённая картина литературы, потому что Вы подошли к ней с идеалистических позиций…»
Сегодняшнему читателю мало о чем говорят эти «идеалистические позиции». А в то время это было очень серьёзным политическим обвинением. Померанцева топтали. Называли «антисоветчиком», «клеветником». Его громили в «Правде» и в других официальных органах печати, проклинали на состоявшемся в 1955 году Втором съезде советских писателей, призывали исключить из Союза.
Из Союза писателей его не исключили, но без куска хлеба оставили. Перекрыли любую возможность печататься. Попробовал Владимир Михайлович, юрист по специальности, устроиться куда-нибудь юрисконсультом, но его слава бежала впереди него. Никто брать на работу опального писателя не желал.
Владимир Михайлович не очень любил вспоминать то голодное для их семьи время, когда его жена Зинаида Михайловна, добрейший человек, с золотыми руками, вынуждена была шить очень красивые фартуки и продавать их с помощью знакомых. Но кое-что из его воспоминаний о тех годах перепадало мне и Пете Гелазония, ответственному секретарю журнала «Семья и школа», где Померанцев благодаря Пете был введён в редколлегию.
В командировку по российской глубинке его никто не посылал. Поехал сам. Жил у родственников, ездил по колхозам, встретил одного очень толкового председателя, о котором написал небольшую книжку.
Но кто её издаст? Хлопотали боевые товарищи Владимира Михайловича, майора, великолепно владевшего немецким и потому служившего во фронтовом агитпропе, забрасывавшем противника листовками и карикатурами. Хлопотали за Померанцева и его сослуживцы по послевоенной Германии – демобилизовали Владимира Михайловича только через несколько лет после окончания войны. Словом, кто-то вышел на Николая Грибачёва, который работал тогда у Фурцевой, первого секретаря Московского горкома партии, советником по культуре.
Грибачёв позвонил в издательство «Знание», обычно выпускавшее небольшие книжечки многотысячными тиражами. Но книжку Померанцева решено было выпустить тиражом в одну тысячу.
Разумеется, Владимир Михайлович был рад и этому: во-первых, хоть небольшие, но деньги, а во-вторых, выход книжки автоматически сигналил другим редакторам: с публикаций этого автора запрет снят.
Словом, всё уже было готово. Тираж отпечатан, один экземпляр, как водится, был послан в цензуру (Главлит), откуда прислали какие-то замечания.
Ознакомившись с ними, Владимир Михайлович категорически отказался их учитывать.
– Что-то серьёзное? – спрашивали мы с Петей.
– В них не было никакого смысла, – ответил Владимир Михайлович, – чрезмерная перестраховка.
– И что дальше? – интересовались мы.
– А дальше – вот, – и Владимир Михайлович клал на стол самостоятельно перепелетенную книжечку. – Я переплел верстку. – объяснял он. – Книжку не пропустили и не выпустили.
Мы ахали: но как же так? Неужто нельзя было прийти к какому-либо разумному компромиссу?
– Есть вещи, – строго сказал Владимир Михайлович, – по которым никакой разумный компромисс невозможен. Точнее, он неразумен. Потому что без самоуважения жить на свете становится невыносимо.
Я впитывал его уроки. Насколько впитал, не мне судить. Но что быдляк никогда ни о чём не договорится с интеллигентом, знаю точно. Интеллигент органически не способен воспринять уроки бессовестности, сервильности, желания холить собственные амбиции. А ничего другого интеллигенту быдляк предложить не может. Он не приучен отступать. А здесь приходится. Потому, наверное, и не прерывается человеческая жизнь на земле, что в вечном своём столкновении с интеллигенцией обречён быдляк вечно ей проигрывать!
Другой бы сдох к пятнадцати годам
Благодарю Тебя, Господи, что со мной этого не произошло! Но смерть в пятнадцать лет кажется совершенно невероятной. Однако немного позже – через два года мне пришлось хоронить одноклассника. Точнее, одноклассницу Валю Сытую. Она умерла от опухоли мозга.
На Валеру Потапова смотреть было страшно. Он плакал, не скрываясь. Все знали, что они с Валей не просто дружили, но любили друг друга. И как быстро Валя Сытая сгорела! Вот же она – на коллективной фотографии нашего 9 класса «В»: спокойная, смотрит в объектив строго, не как Потапов – он чему-то тихо улыбается…
15 лет мне исполнилось в 1955 году. А это – второе полугодие восьмого класса и первое девятого.
Восьмой класс я встретил в новой школе – в 653-й на Шаболовке, бывшей женской. Ввели совместное обучение. Поэтому поначалу мы не очень жалели об оставленной своей 545-й школе – интерес к одноклассницам заглушал все другие чувства. Ребята в основном были знакомыми, с одними мы и прежде вместе учились, с другими жили в соседних домах, а вот девочки – нет. Ну, кроме Зины Баласановой: она жила в 8 корпусе, как и я, только не в моём подъезде, а в подъезде Сашки Комарова, старший брат которого, студент Физтеха, оказался в одной компании с актрисой Людмилой Касатки – ной. Сашка принёс в класс фотографии, которые ходили по партам, вызывая восхищение особенно у девочек: надо же, Сашкин брат знаком с самой Касаткиной! Фильм «Укротительница тигров», где она играла Леночку Воронцову, как раз в это время шёл и в «Ударнике», и в «Авангарде», и в «Шпульке», то есть в клубе шпульно-мотальной фабрики, куда, правда, ходили менее охотно: слишком много набивалось в зал шпаны.
Да, вот кто ещё из девчонок жил поблизости – Зойка Сидорова. Высокая, худая, малоразговорчивая. В лицо-то я её знал и прежде, но держались мы, как незнакомые. Да и в школе особого интереса она у меня к себе не вызывала.
Очень смешно было наблюдать за Маринкой Браславской, будущей серебряной медалисткой, будущей первой женой моего дружка Марика Быховского. Чёрные продолговатые глаза Марины смотрели, казалось, на доску и вдруг скашивались – на миг, оглядывая нас с Мариком, сидящих на одной парте. А Сашка Комаров и Валера Емелин, смеясь, говорили, что вот так же стреляла она глазами и на их парту.
Мы и в 9-м сидели, ещё не перемешиваясь: мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Хотя сблизились намного короче, особенно после уроков по физкультуре.
На первых уроках физкультуры у всех были деланно-постные лица: трусы и майки, скрывая, открывали сокровенное: бёдра, оформившиеся или полуоформившиеся груди. Ребята держались заправскими знатоками: «А Толстая в порядке!», «а Зайцева вполне!», «а как тебе ножки Лукашиной?» Хулиганистый Юрка Барабанов время от времени поправлял в трусах плавки, объясняя нашему физкультурнику – директору школы: «Резинка ослабла». Все фыркали.
Но обвыкли. Привыкли друг к другу. Осмотрелись по сторонам. И вдруг оказалось, что мы, ученики 545-й, намного сильнее подготовлены, чем другие.
Я уже говорил, что 545-я называлась эспериментально-базовой школой Академии педнаук РСФСР. Мы выступали в роли подопытных кроликов. Очень сильные учителя пробовали на нас свои новинки, и если дело шло, эти новинки академия продвигала в другие школы. Наши педагоги были одновременно и сотрудниками академии. Кто-то, работая с нами, собирал материал для своей диссертации, у кого-то учёная степень уже была.
В шестом классе случилось несчастье – во второй четверти умерла наша математичка: грузная старуха, которая всегда была готова до ночи с тобой сидеть, пока ты не поймёшь, что она объясняет. Целую четверть ей не могли найти подходящей замены. А когда нашли, новый учитель пришёл в ужас: все сильно отстали в алгебре. Математик предложил нам не заглядывать пока в учебник, а работать по его программе. Программа оказалась чудодейственной. По-моему, на выпускных экзаменах (а мы сдавали выпускные за каждый класс) почти не было четвёрок. И в годовых оценках по алгебре преобладали пятёрки. Мы не только не отстали от других, но на следующий год почти всем классом записались в математический кружок, оказавшийся ужасно занимательным!
Контраст с уроками Нины Васильевны, математички из новой школы, был разителен. Материал она объясняла, постоянно заглядывая в книгу, а иногда и читая из неё. Мёртвый язык методического пособия гасил и без того не слишком яркий интерес к тому, что происходило на уроке. К тому же иногда создавалось впечатление, что тебя оставили на второй год: видимо, программа, по которой мы учились в седьмом классе, опережала эту. Мы сидели в тоскливом ожидании звонка. Едва он раздавался, нас как ветром сдувало с парт.
И не радовали нас пятёрки, которые неизменно нам ставила Нина Васильевна. Она нами была довольна, а мы ею – нет.
И вот – первый в моей жизни конфликт с администрацией.
Договорившись с другими, я сел писать письмо Аверьянову, нашему директору школы, учителю физкультуры. «Мы пришли в школу получать знания, – писал я. – Но от такого учителя математики мы их не получим».
Аверьянов вызвал меня, Марика Быховского, Сашу Комарова, Валеру Емелина, ещё несколько мальчишек, подписавших письмо. В его кабинете сидели Марья Георгиевна, наш классный руководитель, и Нина Васильевна. Нина Васильевна смотрела на нас скорбно. «Что вы хотите?» – спросил Аверьянов. «Об этом мы вам написали», – сказал я за всех. «Чем мы-то перед вами виноваты? – наступал Аверьянов. – Нина Васильевна педагог опытный, не первый год в школе работает. До сих пор на неё жалоб не поступало».
– Да и кто жалуется? – взвилась Марья Георгиевна. – Яйца курицу учат. Эти из 545-й вообразили себя белой костью.
Марья Георгиевна была учительницей географии. В классе она ходила, опираясь то на палку, то на указку. Она прихрамывала. И, наверное, была психически неуравновешенным человеком. Поначалу она ошеломила всех, когда, вступив с кем-то в дискуссию, повышая и повышая голос, вдруг истошно закричала: «Молчать!» – и со всего размаха ударила палкой по столу. А когда ещё и ещё раз повторилась эта сцена, мы оживились. Устанавливали очередь желающих провоцировать Марью Георгиевну. Едва начинался урок географии или классное собрание, как очередник с самым невинным видом задавал Марье Георгиевне глупейшие вопросы, от которых она быстро раскалялась: «Молчать!» – и палка с грохотом обрушивалась на стол. Мы покатывались со смеху, от чего она сатанела ещё больше, орала и била, била по несчастному столу.
Особенно смешно было на уроке географии, когда она держала в руках указку. Указка ломалась, и Марье Георгиевне приходилось водить по карте довольно толстым, обутым в резину, концом своей палки. «Где? где?» – вскакивали мы с мест, всем видом показывая, что хотим абсолютной точности, какую, конечно, не могла дать резина, которая закрывала собой внушительный кружок географического пространства. Это Марью Георгиевну снова выводила из себя. «Молчать!» – орала она, обрушивая на стол палку.
– Ну не все из 545-й, – возразил тогда Марье Георгиевне Аверьянов. – Дубасов, например, не подписал письма.
Нина Васильевна кисло улыбалась. Женя Дубасов звёзд с неба не хватал. В 545-й он еле переползал из класса в класс. «Ich bin… Ich bin…» – лепетал он однажды на уроке немецкого, пытаясь составить какую-то простейшую фразу. На что потерявший терпение учитель Михал Михалыч отозвался: «Ихбина, дубина, полено, бревно! Немецкий язык надоел мне давно». Класс взорвался от хохота. Михал Михалыч наверняка не связывал «дубину» в этом стишке с фамилией Женьки. Но с тех пор к Дубасову приклеилась кличка, похожая на дразнилку, – «Ихбина-дубина».
– Белой костью они себя не воображают, – сказала Нина Васильевна. – Но ребята действительно очень сильные в математике.
– Вот и взяли бы шефство над отстающими, – предложил Аверьянов. – Письма писать каждый может, а вот другим помочь.
Ах, лукавил, лукавил директор. Теперь-то издалека мне это особенно ясно. Далеко не каждый посмел бы тогда написать письмо, подобное нашему. Да и мы посмели, потому что не понимали, что это опасно. Но и опасность уже не была такой страшной, как ещё два года назад.
Вдруг почти исчезло со страниц газет имя Сталина. Передовицы писали о ленинском принципе коллективного руководства. Что значило «коллективное»? Кто там есть кто? Как значительно позже прочитал я в «Скотном дворе» у Оруэлла, «все животные равны, но некоторые животные равнее других». Какое животное равнее других в этом коллективном руководстве?
Ответ на этот вопрос был дан в самом начале 1955 года, когда на сессии Верховного Совета СССР зачитали письмо Маленкова о том, что он признаёт свою ответственность за тяжёлое положение дел в сельском хозяйстве и в связи с этим просит освободить его от обязанностей председателя Совета Министров СССР. Освободили. А через месяц отстранили и Кагановича от руководства промышленностью.
Сталин, который легко перехватил власть у ленинских соратников, опираясь на партийный аппарат, обязанный своей карьерой должности верховного аппаратчика – генерального секретаря ЦК, в дальнейшем утратил интерес к этому посту. Не совсем, разумеется. На последнем при его жизни – XIX съезде он согласился стать первым секретарём. Контроля над партией не утратил. Но и во время войны, и после неё ему явно больше нравилось быть главой правительства – председателем Совета Министров. Очевидно, из-за престижной легитимности. Не в стране, конечно. Порабощённая и изнасилованная им страна готова была покориться любой его прихоти: хочешь быть генералиссимусом – будь им, хочешь подписываться только председателем Совета Министров – сделай одолжение! Но принимать в должности главы правительства зарубежных государственных деятелей оказалось очень удобно. Как и общаться с ними. «Маршал Сталин» – величали его во время войны Рузвельт и Черчилль. Маршал-то он, конечно, маршал, но официальное коммюнике извещало о встрече президента США и премьер-министра Великобритании с председателем Совета Министров СССР.
Неудивительно поэтому, что Маленков, считавшийся наследником Сталина, когда сели соратники усопшего вождя делить места под солнцем, схватил себе то, которое считал первым, – главы правительства. Можно, конечно удивиться тому, что он не оставил за собой при этом и должность секретаря ЦК, а почти сразу же ушёл с неё. Но в тот момент, как во время ленинского правления, вождём считали главу правительства. Очередное – апрельское снижение цен назвали «маленковским». Обрадовались: преемник продолжает дело вождя, который после денежной реформы 1947 года, ограбив население обменом строго определённой суммы старых купюр на новые и подняв цены на продукты до уровня коммерческих, в разы выше государственных, потихоньку каждый год их уменьшал – на 15 %, на 10 %, на 7,5 °/о. Маленков шарахнул щедро: цены на фрукты снижены на 50 %! Очереди за яблоками в Москве стали километровыми. Фрукты мгновенно исчезли с магазинных прилавков.
А что до секретариата ЦК, то и сами сталинские соратники его поначалу всерьёз не принимали. Руководить им поставили Хрущёва, которого для этого освободили от должности первого секретаря московского горкома. Чтобы сосредоточился на работе в секретариате, – объясняли это освобождение. Нуждалось, как видите, оно в объяснении. Первый секретарь Москвы – большая шишка, а секретарь ЦК далеко не всегда и в президиум-то (политбюро) входил. Впрочем, в президиуме Хрущёва оставили.
Это только через полгода избрали Хрущёва на пленуме первым секретарём. Но такое избрание меньше привлекло к себе внимание людей, чем выступление Маленкова на сессии Верховного Совета СССР о необходимости перейти к преимущественному производству предметов потребления. До сих пор граждан приучали к другому: нет, дескать, выше и почётней задачи, чем крепить оборону. И вдруг – резкая перемена курса: не тяжёлая промышленность и не военно-промышленный комплекс получат больше из бюджета, а лёгкая промышленность и село!
Не рассчитал Маленков, что после такого заявления Хрущёву будет очень легко сковырнуть его с должности: разозлённые генералы и маршалы готовы были в клочья разорвать главу правительства. Но этого Хрущёв им сделать не позволил. Председателем Совета Министров назначил маршала Булганина. А Маленкова в правительстве оставил – министром электростанций.
Однако когда нас прорабатывали за письмо в кабинете директора школы, Маленкова ещё не сняли. И всё-таки прежние стереотипы треснули. Поэтому, хотя и вызывали в школу родителей, но отпустили с миром, чего, конечно, не сделали бы при Сталине. Коллективное письмо при нём – это находка для КГБ: вполне можно шить дело об антипартийной (или антикомсомольской) организации!
Попробовали мы взять шефство над двоечниками. Мне достался Валера Потапов. Но ничего у меня не выходило. Он был органически не способен к математике. И вообще дубоват. Много рассказывал о Германии, где жил несколько лет после войны с работавшими там родителями. «Каждый день, – говорил он, – летали над Берлином американские самолёты». «Для чего?» – спрашивал я. «Шпионили», – уверенно отвечал Потапов. «А наши не шпионили?» – «Наши – нет! – уверял Валера. – Я за всё время ни одного нашего самолёта не видел». «Так ты ведь жил в советской зоне оккупации», – говорил я. «Мы и в другие зоны ездили, – отвечал Потапов, – в Берлине это просто!» «Ну и где лучше: у нас или у них?» «Вот это вопрос, – удивлялся Потапов, – у нас, конечно, в сто тысяч раз!» И перечислял преимущества: их квартира занимала целый этаж, немка-экономка, немка-уборщица, немка, гулявшая с ним. «Нянька», – говорил о ней Потапов. «Что же она тебя языку не выучила?», – удивлялся я. «Неспособный я», – вздыхал Потапов. «А как же ты с немцами-то общался?» «Никак, – отвечал Валера, – вокруг жили наши. Я с ними и общался».
Я спохватывался: он же пришёл ко мне за помощью! Начинал снова объяснять ему математику, но ничего из этого не получалось.
А вот у Сашки Комарова, который взялся помогать Зине Баласановой, жившей этажом выше, дело пошло на лад быстро. А ведь и Зина была туповата. Стало быть, не только в учениках дело, но в учителях. Из меня учитель выходил неважный.
Сашка вообще был очень способным к математике и физике. После школы он легко поступил в Физтех, где, как я уже говорил, учился его брат. По слухам, он потом работал в Дубне, в Институте ядерной энергии, баллотировался в Академию наук. Но проверить слухи я не могу: ни с кем из наших общих знакомых я давно уже не вижусь.
Сашка был из тех, кого можно назвать фанатом любимого дела. Таких мне приходилось встречать не так уж часто. Помню, когда учился в университете, позвал к себе своего сокурсника Борю Гражданкина послушать записи песен Булата Окуджавы. Они тогда только-только расходились по Москве на магнитофонных плёнках. Боря, который увлекался лингвистикой, слушал очень внимательно. И когда отзвучала последняя песенка, сказал:
– Какой чудесный московский выговор!
– А песни? – спросил я.
– Песни хорошие, – похвалил Боря. – Но выговор, – он даже зажмурился от удовольствия, – но старомосковское «аканье»!..
Вот так же и Сашка Комаров. «Ну чего же здесь непонятного? – охотно объяснял он физическую задачку каждому желающему. – Смотри, как красиво она решается».
Что его связывало с Емелиным, кроме того, что жили они в соседних подъездах, я не знаю. Валера Емелин был чуть ли не единственным учеником нашего класса, который жил с родителями в отдельной квартире. Его отец был крупным офицером госбезопасности. В прежней 545-й школе подобных детей было немало: недалеко находилась какая-то секретная научная лаборатория, сотрудники которой жили и в наших домах, и в районе Мытной, Люсиновской, Хавской. Но в 653-ю из этих детей перешёл только Валера Емелин, большой меломан. У Емелиных в квартире стоял радиокомбайн, не просто радиола, как у многих, но ещё и редчайший тогда магнитофон, и тоже редкие для того времени небольшие динамики, расположенные в разных углах комнаты. «Стерео», – с удовольствием объяснял Комаров, когда и я оказывался в емелинской квартире. Валера особенно любил оперу Леонкавалло «Паяцы». «Ариоза Канио», – почти молитвенно произносил он, когда начиналась ариоза. Но Сашка Комаров, прослушав одну, другую пластинки Емелина, начинал скучать. «Поставь лучше вот эту», – протягивал он другу принесённую из дома пластинку Утёсова. И крутил головой, подпевая: «Ведь ты моряк, Мишка, а это значит…»
А с Мариком Быховским мы подружились рано. Уже в четвёртом классе я приходил к нему в гости. В большой (по сравнению с нашей) девятнадцатиметровой комнате жило много народу. Яков Лазаревич, отец Марика, его мама Людмила Александровна, старший брат Вова, сестра Юля, Марик и бывшая когда-то то ли няней детей, то ли домработницей Галя, которую давно уже все считали членом семьи. Людмила Александровна сочиняла рассказы, которые изредка печатала, подписываясь: Людмила Добиаш, учительница. Она и в самом деле когда-то преподавала, но я её учительницей уже не застал. Рассказы читал, и они мне нравились. Была она религиозна, ходила в церковь, соблюдала посты. Всех это, кроме Якова Лазаревича, почему-то смешило. Впрочем, чему здесь удивляться? Атеистическая пропаганда своё дело сделала. В Донскую церковь, расположенную неподалёку от нас, ходили одни древние старухи, которых, как мы считали, всё равно не перевоспитаешь – что с них, неграмотных, возьмёшь? Но к тому, что образованная, не старая ещё женщина, писательница верила в Бога, мы всерьёз не относились.
Наши смешливые взоры Людмила Александровна встречала радушно. Она вообще была очень добрым человеком. Интеллигентным в том значении этого слова, о котором я здесь уже много раз говорил.
Яков Лазаревич заведовал лабораторией во Всесоюзном научно-исследовательском институте электроэнергии (ВНИИЭ). Когда я женился, нашим соседом по лестничной площадке оказался начальник главка министерства электростанций Виталий Александрович Вершков. «Быховский? – переспросил он меня, когда речь случайно зашла о Якове Лазаревиче, и ответил: – Конечно, знаю. Его все знают. Очень дельный работник!»
Этот человек оказался как бы моим духовным отцом. Многое он сумел мне привить. Передал любовь к поэзии – с его подачи я прочитал несколько имеющихся у него дореволюционных «чтецов-декламаторов», знаменитую антологию Ежова и Шамурина, знал наизусть многих поэтов Серебряного века, читал книги, которые при Сталине предпочитали выбрасывать: за их хранение можно было получить лагерный срок. Честный и чистый, Яков Лазаревич, казалось, ничего не боялся – до самой своей смерти снабжал нас с женой самиздатовскими или тамиздатовскими вещами.
Однако нашей убеждённости в том, что он никогда и ничего не боялся, он не подтверждал: «Ну как не боялся? Ещё как боялся!» Вспоминал довоенное время, говорил, что поколение его детей даже представить себе не может, каково тогда жилось. Страх сидел в подкорке. Жизнь была на грани сумасшествия. Приходили в НИИ на работу и с изумлением, которое постепенно притупилось, видели снятую табличку с двери очередного начальника отдела. Никто ничего ни у кого не спрашивал. После работы все срывались и целыми отделами ехали на футбол на стадион «Динамо». Вели себя оживлённо, кричали, шумно радовались забитым голам. «И я, равнодушный к футболу, – говорил Яков Лазаревич, – тоже был охвачен этим психозом. Это как бы позволяло забыться, забить себе мозги, чтобы не думать о том, что происходит в жизни. Был жуткий страх!»
Я не знаю, сохранилась ли в актовом зале бывшей нашей 545-й школы почётная доска, на которой золотыми буквами писали фамилии золотых медалистов, а серебряных – серебряными. Если сохранилась, то под 1952-м годом вы прочитаете: Быховский В. Я. Это старший брат Марика. Человек феноменальной одарённости, лауреат премии имени А. Н. Баха – почётной награды президиума Академии наук, он в конце концов стал заместителем директора Института биохимии имени А. Н. Баха и наверняка был бы избран в Академию, если б не ранний его инсульт, из которого он не выбрался.
Любимица Якова Лазаревича Юля вышла замуж за пасынка академика Бардина – Володю, участника антарктических экспедиций, который писал недурные стихи, печатавшиеся в «Юности» и в других литературных изданиях. Их брак оказался недолгим. С Юлей, чья дочка – ровесница нашего сына, мы с женой иногда с удовольствием видимся. Живём неподалёку, по разные стороны Гоголевского бульвара.
С Мариком мы расстались после того, как закончили МГУ, он – химический, я – филологический. И расстались, как оказалось, навсегда.
Кажется, ещё Василий Аксёнов остерегал в одном из своих ранних романов: «Не возвращайтесь, ребята, в детство. Не сможете!»
Меня в детство не тянет. Хотя вспоминаю я сейчас о нём не без удовольствия.
Как и я, Марик любил поэзию и, конечно, читал те книжки, которые давал мне его отец. Мы крепко дружили, помогали друг другу, поддерживали друг друга во всём. В девятом классе основали мы с ним сообщество, составив из начальных букв наших фамилий его название «Крабы», написали устав, по которому могли подсказывать только его членам.
Пижон и второгодник Лёнька Лобанов, тянувшийся к нам, вступать в «Крабы» решительно отказывался, за что и поплатился: какие знаки ни подавал нам, стоя у доски, какими ужимками ни просил о помощи, он её не получил. Обиделся он тогда на нас страшно. Но мы были непреклонны: подсказываем только членам сообщества!
Удивительно, что с Лобановым, с которым мы в школе приятельствовали, но не больше того, наши пути пересекаются до сих пор. Когда я женился и через короткое время стал бывать в компании старшей сестры жены и её мужа, оказалось, что они дружат с Лёнькой. Причём сблизились давно на почве модных тогда поветрий – любви к джазу, вечеринкам, ресторанам. Я и сам отдал им дань. Вот – смотрю на фотографию нашего 9 класса «В»: сидит Лёнька Лобанов с модным коком на голове, и у меня на голове кок, и у Марика. У всех у нас есть узкие брюки, но только Лёнька позволил себе сузить ещё и брюки от школьной формы, за что его не раз тягали к Аверьянову, но Лёнька стоял насмерть, и наш директор махнул на него рукой.
Нагловатый, красивый, остроумный Лёнька сразу стал кумиром наших девочек в классе, но относился к ним свысока, предпочитая подружек постарше, которых много было у Инны, сестры моей жены. Так что с Инной они были знакомы ещё раньше, чем я встретил свою жену. Инна, студентка Медицинского института, была замужем за своим сокурсником Володей Кузьменко, который тоже был очень компанейским. Он оказался талантливым хирургом, защитил обе диссертации, стал заведующим кафедрой. Несколько лет назад он умер. Неожиданно, потому что был моложав, работоспособен. А с Лобановым и его женой Инна видится по-прежнему. А значит, иногда с ним встречаюсь и я.
Окна нашего с женой дома смотрели на старый шестиэтажный дом. А окна нашей квартиры – на окна квартиры, где жил двоюродный брат Володи Кузьменко, тоже Володя (домашнее имя Вадик) Ананченко, тоже врач, но не хирург, а кардиолог. Нам сказали, что Вадик женился.
«Бывают странные сближения», – по-пушкински назвала интеллигентная и насмешливая Нана Дмитриевна Козлова, главный редактор газеты «Физика», страницу альбома, подаренного мне на шестидесятилетие. Альбом составлен с большим вкусом и юмором из переданных Нане Дмитриевне моей женой фотографий. Да, «странные сближения» порой ошеломляют. Секретарём комитета комсомола нашей школы была Ляля Буковская, блондинка с длинной толстой косой, учившаяся на класс помладше нашего. Помню, как читала она на комсомольском собрании доклад Хрущёва на XX съезде партии о Сталине. Так вот, когда Вадик появился с молодой женой, я обомлел: он пришёл с Лялей. Обомлел и Лёнька Лобанов, увидев её. Совсем недавно на вечере по случаю семидесятилетия покойного Володи Кузьменко довелось снова увидеть эту семейную пару. Мне-то кажется, что Ляля почти не изменилась со школьной поры, но так всегда кажется, если наблюдаешь человека более-менее постоянно.
* * *
Снова смотрю на фотографию 9 класса «В». Наши с Мариком коки на голове – уложены руками парикмахеров давно уже снесённой гостиницы «Гранд-Отель». Тогда это была самая модная в Москве парикмахерская. Стрижка, мытьё головы, укладка, бриолин, одеколон «Шипр». В школе на нас косились, учителя – неодобрительно, девочки – с пониманием.
Это было в разгар борьбы против западного влияния, названного «стиляжничеством». По улицам шныряли дружинники. Могли порезать узкие брюки, насильно обрить наголо. Но нас Бог миловал. А вот с Аллой Николаевой, хорошенькой курчавой брюнеткой из класса Ляли Буковской, случилась большая неприятность.
Стриженная по последней моде – под мальчика, Алла вместе с несколькими одноклассницами отправилась по выданным им Лялей пригласительным билетам на вечер встречи с будущими целинниками в клуб «Новатор». После торжественной части, на которой выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Николаевич Шелепин, начались танцы. Алла танцевала с упоением до тех пор, пока её не остановили дружинники и не пригласили следовать за ними.
В комнате, куда её привели, сидели Шелепин и его свита. Шелепин посмотрел на Аллу грозно и брезгливо: «Я скажу вам как мужчина: вы непристойно уродливы!» Алла заплакала. «Раньше надо было думать!» – сказал Шелепин и велел кому-то из холуёв позвонить в школу и потребовать созыва комсомольского собрания.
Юля Быховская, сестра Марика, когда ей передали, что сказал Алле Шелепин, возмутилась: «А я б ему ответила: какое вы имеете право смотреть на меня как мужчина!» Но Алла была младше и не так находчива. Аверьянов вызвал Аллиных родителей. По поводу Аллы собирали совместное заседание партбюро школы и комитета комсомола. Каким-то всё-таки образом обошлись без комсомольского собрания. Скорее всего, Шелепин про Аллу забыл. Да и вряд ли он про неё вообще помнил. 1955 год был очень неустойчивым для партийного и комсомольского руководства. Непонятным.
Выходит, не зря я усомнился, что Трайчо Костов мог перед казнью написать покаянное письмо, где признавался, что шпионил в пользу фашистской Югославии. Не зря не верил, что Ласло Райк был агентом кровавой клики Тито-Ранковича.
Этому я не верил, но не верить художникам Кукрыниксам мне и в голову не приходило. Они изображали маленького толстого человечка, летящего по воздуху. С его головы свалилась маршальская фуражка, а на заду красовался чёткий отпечаток подошвы сапога с маркой изделия «Made in USA». А из газеты «За социалистическую Югославию», которую я брал в читальном зале библиотеки, я узнавал о сотнях тысяч политзаключённых, об ужасных пытках в гестаповских застенках руководителя службы госбезопасности Александра Ранковича, о множестве трупах – умерших от голода людей, которых ежедневно подбирают и свозят в крематорий. Как я мог не верить таким вещам? Ведь это писали сами югославы!
И вдруг оказалось, что все врали. И журналисты (югославы и не югославы), и карикатуристы. Не было в Югославии фашизма. Не стояла во главе страны кровавая клика. Была там, как и у нас, единственная партия, которая называлась Союзом коммунистов Югославии. Её председателем был президент страны маршал Тито.
Народ немедленно отозвался на крушение сталинского мифа. Яков Лазаревич со смехом прочитал нам ходившее по рукам четверостишие:
Дорогой товарищ Тито, Ты нам друг и брат! Нам сказал Хрущёв Никита: «Ты не виноват!»Потом я узнал о конфликте из-за Югославии между Хрущёвым и Молотовым. Молотов не хотел нормализации отношений. Старый аппаратный волк чуял опасность: сегодня один сталинский миф развеем, завтра – другой. А там, глядишь, и о самом Сталине вопрос встанет: если столько вранья при нём нагородили, то сам-то он знал об этом или не знал?
Впрочем, конфликт был недолгим. Почувствовал Молотов грозящую ему опасность и озаботился о своей шкуре. Начал своё выступление на пленуме ЦК 9 июля 1955 года, который обсуждал только что закончившийся визит Хрущёва и Булганина в Югославию, со смиренного покаяния: «Считаю правильным упрек, что с моей стороны, как министра иностранных дел, не было принято достаточных мер для улучшения советско-югославских отношений… Я не сразу согласился с целесообразностью поездки советской делегации в Белград». «Но, – поспешил заверить Молотов, – у меня не было сомнений в том, что встреча руководящих советских и югославских деятелей назрела и необходима». «Это не верно», – жёстко отреагировал Хрущёв. Ну как же, взмолился Молотов, он считает эту встречу и подписанную на ней декларацию «большим достижением и хорошим результатом работы нашей делегации». «Которую мы одержали в борьбе с тобой», – непримиримо уточнил Хрущёв. «Это неправильно», – Молотов чуть не плакал. «Это точно», – отрезал Хрущёв.
Привыкший к полной покорности первому или генеральному, пленум молчал. Хрущёв явно набирал силу. Он становился вождём. Остальным нужно было действовать предельно осторожно. Так что мог ли помнить о какой-то школьнице-стиляжке комсомольский вожак Шелепин, когда и бывшие сталинские соратники не знали, что будет с ними дальше, и никто этого не знал. А главное, случись что с ними – кто бы их стал защищать?
С другой стороны, и сам Хрущёв пока что не до конца определился, как распорядиться сталинским наследием. Хотя насчёт того, что делать с Германской Демократической Республикой, у него, кажется, колебаний не было.
Ах, как сокрушается, как винится в своём дневнике Черчилль: кому мы с Рузвельтом поверили!
А чего сокрушаться? Сталин был хозяином своего слова, как в том анекдоте: хочу – даю, хочу – возьму назад! С лёгкостью заключил соглашения с бывшими союзниками о разделе зон влияния. В Венгрии и Югославии 50 % будем контролировать мы, 50 % – вы. В Болгарии – у нас будет 75 %%, зато в Греции у вас – целых 90! Согласился и с тем, что управлять Польшей должно коалиционное правительство: справедливо! Одно находилось в изгнании в Лондоне, но ему подчинялась армия Крайова. Храбро воюет, ничего не скажешь! Позже, в 1944-м, ей на помощь подошла армия Людова, а её сформировали эмигранты, находящиеся в Москве. Так что присылайте лондонских – договоримся!
Ну и за чем же дело стало? Ждали 15 министров, которые должны были прилететь в Москву. И не дождались! На Западе, правда, утверждали, что самолёт с этими министрами в московском аэропорту приземлялся. Но мало ли о чём болтают буржуазные писаки! Не прилетал самолёт! Из Лондона вылетел? Ну а в Москве его никто не видел! Кто его знает, почему – может, авария?
И что прикажете нам теперь делать? Коль скоро не прилетели ваши, правительство в Польше будет состоять из наших.
Да-да! И о свободных выборах мы договаривались с союзниками. Проиграли коммунисты в Венгрии в 1945-м? Точно ли проиграли? Как говорится, доверяй, но проверяй! Проверили! Ну, конечно, наглая и грубая подтасовка! Провели новые выборы – свободные – под строгим нашим контролем – совсем другое дело!
А разве мы препятствовали тому, чтобы в 1946-м президентом Чехословакии переизбрали Эдварда Бенеша, который после отставки в 1935 году своего друга, первого президента этой страны Томаша Масарика занял этот пост?
И не оспаривали мы права чехословацких министров подать в отставку в феврале 1948 года. Ничего не имели и против решения президента Бенеша оставить министром иностранных дел Яна Масарика, сына первого президента. Разумно! – очень популярен был Масарик в Чехословакии!
Через месяц убили Масарика? Гнусное, ничем не оправданное преступление! Помогли госбезопасности Чехословакии провести самое тщательное расследование! Ну, а что президент Бенеш вынужден был уйти, так мы-то здесь причём? Чехословацкий парламент принял новую конституцию. Народ её одобрил, а Бенеш подписать отказался. Жаль, что не прислушался к народному мнению! Пришлось коммунисту Клементу Готвальду соглашаться стать президентом!
Как видите, не хотят народы Румынии, Болгарии, Польши, Албании, Венгрии, Югославии жить по-вашему! Хотят по-нашему! Причём же тут нарушение договорённостей?
А что наши представители вышли в марте 1948-го из Союзной контрольной комиссии по наблюдению за соблюдением соглашений по Германии – мы и сами этим опечалены. Но что же нам оставалось делать? Безучастно наблюдать, как проникают шпионы и диверсанты из Западной Германии в Берлин, в его советскую зону оккупации? И Варшавская конференция наших друзей из только что созданных стран народной демократии подтвердила: на такие вещи равнодушно смотреть нельзя. Потому и пришлось в июле объявлять железнодорожную и автомобильную блокаду Берлина. Долго её держали, заставляя бывших союзников добираться до Берлина по воздуху. А когда они собрались устроить обсуждение берлинского вопроса в ООН, мы воспользовались своим правом «вето». Всё – по международным правилам, которые мы уважаем!
«В этой войне, – раскрывал свои карты Сталин бывшему соратнику Тито Миловану Джиласу, автору книги «Разговоры со Сталиным», будущему антикоммунисту, – не так, как в прошлой, – кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может».
А союзникам туманил мозги: блюдём, блюдём договорённости! Не сомневайтесь!
Горько сетовали бывшие союзники: кому поверили? Но в наивных несмышлёнышах ходить отказались. Поэтому когда СССР и его сателлиты объявили в январе 1949 года о создании Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), в ответ заключили в апреле тот самый Атлантический пакт (НАТО), которым до сих пор у нас детей пугают.
Врубились на Западе – поняли, о какой экономике пекутся в сталинском лагере, как его ни называй, хоть исправительно-трудовым, хоть социалистическим. И какой благотворительностью – взаимопомощью повязывают тех, кого приучают дружить не с кем-то, а против кого-то!
Не надеясь больше на ООН, бывшие наши союзники установили в том же апреле 49-го новый статус оккупации Западной Германии, разработали для неё конституцию и 23 мая объявили, что собираются создать новое государство – Федеративную Республику Германия (ФРГ).
Сталин ответил мгновенно. Новая конституция для советской зоны оккупации разработана уже через неделю – 30 мая!
Так и пошло! 20 сентября провозглашена Федеративная Республика Германия – 7 октября провозглашена Германская Демократическая республика (ГДР).
А берлинский кризис? Официально он разрешён 6 мая 1949 года подписанием совместного коммюнике всех заинтересованных сторон, подтвердившего особый статус Западного Берлина. Однако ещё три с половиной месяца тянули со снятием блокады. Последний самолёт по воздушному мосту пролетел 30 сентября 1949 года. Организаторы моста подсчитали, что за время берлинской блокады было совершено 277 264 полёта!
До самой смерти Сталина наша страна официально находилась в состоянии войны с бывшим врагом.
С этого и начал действовать Хрущёв в 1955-м.
В январе появился указ Президиума о прекращении состояния войны с Германией. С одной стороны, наконец-то – армия может возвращаться домой. А с другой, Германия ведь оккупирована не только нами. Что мы будем делать со своим куском?
Все помнили, что сделал с ним Сталин, поэтому в мае бывшие наши союзники тоже объявили о конце оккупации Западной Германии (ФРГ) и приняли её в НАТО.
Западную Германию приняли в НАТО 9 мая, а уже 14-го СССР, Албания, Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния и Восточная Германия (ГДР) подписывают в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающий образование единого военного командования со штабом в Москве и размещение советских войск на территории стран-участниц. Формально, как видите, Варшавский пакт стал ответом на вступление Западной Германии в Атлантический блок. Но просчитывал ли ситуацию Хрущёв? Если да, то на нём лежит ответственность не только за подавление народного восстания в Венгрии, объявившей в 1956 году о выходе из Варшавского договора, но и за наши танки в Чехословакии, раздавившие «пражскую весну».
Впрочем, был Хрущёв правителем невероятно импульсивным – действовал, чаще всего не задумываясь о последствиях. Сейчас его занимала Германия, поделённая прежде на четыре зоны оккупации между странами-победителями. Так же была поделена и Австрия. Ещё со сталинских времён шли переговоры о ненормальности подобного положения. Ведь прежде было решено, что такая оккупация временна, что её задача – очистить страны от фашистской идеологии, провести там под международным контролем свободные выборы и передать целостные территории новым правителям.
В том же мае Хрущёв подписал договор о восстановлении независимой Австрии и вывел из неё войска. Договорились, что Австрия останется вне блоков – нейтральной. Но с Германией этого не получалось. Разумеется, прежде всего из-за двух Германий, возникших фактически из-за политики Сталина. Но ведь после смерти тирана вполне можно было договориться об объединении страны. На это Хрущёв не пошёл. И не потому, что ФРГ приняли в НАТО, а потому что помнил о том, что произошло в ГДР в июне 1953 года.
В Берлине рабочие, строившие дома для новой номенклатуры, объявили забастовку, протестуя против решения правительства поднять их трудовые нормы на 10 %. Но, видно, так осточертела берлинцам советская администрация, что к экономическим требованиям были добавлены политические: отставка правительства, свободные тайные выборы, вывод из Восточной Германии советских войск. Такие лозунги оказались привлекательными для всей территории, находящейся под нашей оккупацией, – уже на следующий день бастовали 1000 предприятий, волнение охватило 700 городов и населённых пунктов.
Подавили восстание быстро – советские войска и сотрудники немецкой «Штази» (аналог КГБ) стреляли на поражение. Танки рушили дома. Жертв после себя оставили много.
Потому и действовал Хрущёв на опережение, что не верил восточным немцам. В НАТО Западную Германию приняли после нашего одностороннего объявления о конце оккупации. А что оно могло означать? Только то, что мы собираемся и дальше хозяйничать в ГДР и ни о каком объединении двух Германий договариваться не будем.
Что ж, Запад с этим смирился. Западная Германия тоже. В сентябре к нам прилетел канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, с которым договорились о восстановлении дипломатических отношений. Ну а с другой Германией дипломатические отношения были пустой формальностью.
В 1972 году поехали мы с женой в ГДР в составе туристической группы Союза писателей. Тоже не обошлось без приключений. Старые большевики – члены выездной комиссии наотрез отказывались рекомендовать жену к поездке, хотя вместе с ней был на заседании заместитель главного редактора журнала «Пионер» (потом редактор легендарной «Учительской газеты») Владимир Фёдорович Матвеев. «Работает она у нас, – объяснял комиссии Матвеев, – деньги получает по договору. Вот и договор», – показывает. «Но это же нештатная работа!» – устанавливают старики. «Полуштатная», – поправляет Матвеев. «Всё равно. Она не работает в штате, – говорит комиссия. – Рекомендовать к поездке не можем».
Бились-бились мы с ними, а потом всё мне надоело. Ну, не поедем в Германскую Демократическую Республику, невелика беда.
В Союзе писателей оформлением загранпоездок занималась Таисия Николаевна, про которую говорили, что она майор КГБ. Ну, майор не майор, но ведомство называли точно. «Ничего не могу поделать!» – говорила она мне.
Надо сказать, что в писательском союзе престижными считались поездки в «настоящую» заграницу. Съездить в страны соцлагеря желали немногие. И то потому что у кого-то там книжка вышла: рассчитывали потихоньку получить гонорар, у кого-то жили хорошие знакомые. Так что в такие туристические поездки даже старались завлекать. Положено было ехать группой из стольких-то человек. Если едут меньше, путевка дорожает: на всех раскладывают недобор. А от подобных вещей и навострившиеся было ехать могут раздумать.
Итак, отказали жене. Решил я больше этим не заниматься. Прихожу и объявляю Таисии Николаевне: «Мы не едем». «Может быть, вы поедете без жены?» – спрашивает. «Да нет, – говорю, – вычёркивайте нас из списка».
Таисия Николаевна встала из-за стола, прошла в угол комнаты, открыла там дверь, которую я считал дверцей какого-то внутреннего шкафа, и поманила меня. Мы вошли в небольшую комнатку, которая кроме этой двери имела ещё одну, параллельную. Таисия Николаевна плотно закрыла обе двери, усадила меня в кресло, села за маленький столик и тихо сказала:
– Вы поедете.
– Без жены, – говорю, – нет.
– Вы поедете с женой, – сказала Таисия Николаевна, – но о том, что ей не дали характеристику, вы никому не скажете. Обещаете?
– Конечно, – обрадовано подтвердил я.
– Никому, – повторила Таисия Николаевна. Мне стало смешно.
– А жене можно? – спросил я.
– Жене можно, – не отозвалась на юмор Таисия Николаевна. – Но предупредите её, чтоб она никому никогда об этом не рассказывала. И завтра утром приходите на инструктаж в гостиницу «Метрополь», – она назвала номер.
– А вы успеете оформить до завтра? – спросил я.
– Всё уже оформлено, – успокоила меня Таисия Николаевна.
Поездка была прекрасной. Пять дней в Лейпциге, может, и многовато, хотелось посмотреть и другие саксонские города, но нам показали ещё только Дрезден с его страшными развалинами в центре. Во время войны он подвергся массированной бомбардировке союзников. Таким его и сохраняли в ГДР – как памятник англо-американского разрушения. «Варварства», – объясняли коммунистические гиды, предпочитавшие не вспоминать о действительно бессмысленном варварстве, учинённом гитлеровцами в Англии, где они стёрли с лица земли город Ковентри. А родина Лютера и Баха Тюрингия нас покорила не промышленным Эрфуртом, но маленькими городками со сказочными домиками, крытыми красной черепицей, – чудесными домами не виданной нами тюрингской архитектуры, когда несущие балки строений являются и элементами декора: Эйзенах, Мюльхаузен. Зелёный Веймар, весь в старинных парках, – родина Лукаса Кранаха, Гёте, Шиллера. Потсдам (это уже не Тюрингия, это так называемая земля Берлин) тогда не был ещё запущен, как несколько лет назад, когда я был в Германии в последний раз. А чтобы попасть из него в Восточный Берлин, автобус сделал внушительный крюк.
Видели мы знаменитую Берлинскую стену, возведённую по приказу Хрущёва в одну ночь в 1961 году и продлённую вверх проволокой, через которую пропустили ток. «Представляете, – рассказывали, – скольких разъединили: кто-то был в гостях у знакомых в Западном Берлине, кто-то там заночевал. Проснулся, а домой попасть нельзя. Трагедия многих людей, многих семей!»
Год, в какой мы приехали в ГДР, был первым, когда восточногерманские власти разрешили гражданам Западного Берлина посещать своих родственников. Мы видели такие встречи на пропускном пункте у Бранденбургских ворот. Слёзы, объятия.
– А что это за шлагбаум перед воротами? – спросил я.
– Это не шлагбаум, это мощная металлическая балка, – объяснили мне.
И сказали, что её установили недавно. Незадолго до нашего приезда городской автобус, сильно разогнавшись, заставил отскочить охрану и умчался в Западный Берлин.
– Эмигрировать задумал шофёр, – смеялись, – но из пассажиров почти никто назад не вернулся.
Поднимались мы на телевизионную башню, откуда видны улицы Западного Берлина. Празднично освещённые, они резко контрастировали с темноватыми восточноберлинскими.
И при этом нас, привыкших к очередям и скудным магазинным полкам, поражало изобилие товаров даже в маленьких немецких городках. А уж универмаг на Александрплатц, неподалёку от известнейшей берлинской улицы Унтер Ден Линден, сами немцы очень хвалили. «Здесь можно купить всё, – говорили они нам, – от гвоздя до машины!»
– Ничего удивительного, – объяснял Юрий Давыдов. С ним и с его женой Ирой мы очень сдружились в этой поездке. – Восточная Германия – это витрина социализма, приукрашенная для Запада.
После кончины ГДР я не раз бывал в объединённой стране. Но в Берлин снова попал только в 1997-м. Жил в гостинице в западной его части недалеко от метро «Курфюрстендамм». Прошёл Бранденбурские ворота с запада на восток, потом с востока на запад, потом ещё раз с запада на восток, потом ещё раз с востока на запад. Я наслаждался свободным проходом, вспоминал металлическую балку, хмурых пограничников. Но восточная часть Берлина, где мы были двадцать пять лет назад, показалась мне грязноватой. Некоторые участки были отгорожены – экскаваторы рыли землю. Мне объяснили, что немцы подсчитали, что дешевле многие постройки коммунистических властей снести, чем их реставрировать. А к сносу намечали немало домов. И не только в Берлине.
– Хорошо, конечно, что мы воссоединились, – говорил мне известный славист Вольфганг Казак, у которого я гостил под Кёльном. – Плохо только, что восточные немцы стали другим народом: ленивым, вороватым, завистливым. Должно пройти ещё много времени, пока мы снова станем одной нацией.
О том, что Булганин и Хрущёв поехали в Восточную Германию, я узнал на даче в Катуаре, куда выезжала мать с детским садом и где мы снимали комнату почти в конце посёлка, недалеко от детсадовской территории.
По той же Киевской железной дороге, но значительно дальше – в районе станции Зосимова Пустынь, перед Нарой, – отец год назад получил садовый участок, и я раза два в неделю ездил туда поливать огород. Визит Булганина и Хрущёва, о котором я услышал по радио, меня интересовал не очень. А вот поездки в Зосимовку я ждал с нетерпением. Потому что ездил туда не один.
Первая любовь? Да нет, любви не было. Н. З. была старше меня на два года, опытнее и, можно сказать, руководила мной.
Она однажды после долгого вечернего нашего сидения на катуаровском пруду, устав от обниманий и поцелуев, предложила искупаться голыми, благо никого поблизости не было. Никого не оказалось и в шалаше, который соорудили мы – несколько ребят – сыновей работников детсада. Там, кстати, мы, прячась от взрослых, выпивали с Вовкой Моруковым.
В Зосимову Пустынь ездили с Н. З. на паровике. Она ела крупную клубнику, щедро созревавшую на отцовских грядках, и много рассказывала о себе.
Была она дочкой уборщицы детсада, жила в подвале дома в Верхне-Михайловском переулке. «Я – дворовая», – говорила она. Что это значит, я не понимал. «Ну, компании люблю дворовых ребят», – объясняла она.
Оборвался наш роман, когда я услышал от неё: «А как тебе ребята-разбойники?» «Кто это?» – не понял я. «Ну, те, которые на дело ходят», – объяснила она. «На какое дело?» – внутри у меня всё похолодело. «На настоящее!» – с вызовом сказала она. «Ты про воров? – уточнил я. – Они тебе нравятся?» «Смелые – очень!» – сказала Н. З.
Она звонила мне в Москве, предлагала встретиться, но мне не хотелось больше её видеть.
И всё-таки позже, когда я шёл с приятелями радиомонтажниками по Малому Калужскому переулку, я её увидел. Спутник Н. З. был значительно старше её и выглядел устрашающе, словно только что вышел из тюрьмы. Я вовремя отвёл глаза, чтобы не встретиться с ней взглядом…
А девочки из класса меня не привлекали. Хотя Галя Лукашина, неоднократная второгодница, игривая и разбитная, регулярно снабжала меня интригующими сведениями. «Ты нравишься такой-то, – говорила она, – действуй!» Но действовать мне не хотелось: такая-то мне не нравилась.
У Лукашиной были обширные знакомства. Многочисленных своих подруг она охотно знакомила с ребятами из класса. «Хочешь с ней что-нибудь иметь?» – спрашивала она.
Не сегодняшние, конечно, свободные нравы. Но, как видите, и не слишком строгие. Юность брала своё!
* * *
Ничего, разумеется, хорошего не выходило из того, что мы, ребята из 545-й, вернулись в новой школе отчасти к тому, что уже знали.
У моей жены в недооценённой, по-моему, повести «Родные» (она под названием «Прощайте, перелётные птицы!» напечатана года четыре тому назад в «Юности», но кто сейчас читает этот журнал?) маленькая девочка размышляет над непонятными ей, услышанными от взрослых фразами «ему дали пять лет», «он получил десять лет»: «Каково бабушкиному аккомпаниатору, грузному пожилому мужчине, притворяться пятилетним ребёнком?»
В том-то и дело, что безумно скучно притворяться. «Зачем в учебнике математики для 5-го класса бесчисленные упражнения: «8 + 6», «9 + 4»? – спрашивает журналист А. Минкин («Московский комсомолец», 4 декабря 2006 года). – Сложение однозначных чисел – это первый класс. Что делается в душе и уме пятиклассника, когда его заставляют впадать в детство? Отвращение? Возможно. Скука? Неизбежно. И как результат – полное тупое равнодушие». А каково нынешним старшеклассникам снова зубрить зазубренное несколько лет назад по русскому языку? «Это рабский и бессмысленный труд, пожирающий время и нервы», – снова цитирую А. Минкина. Вот и мы скучали на уроках. А скука – коварный противник усвоения нового. Ты словно в полудрёме. Получаешь, получаешь свои пятёрки, а потом – батюшки, о чём тебя спрашивают? Есть это в учебнике? Есть, отвечают, и на уроке об этом говорили! Может, и говорили, да ты-то не слушал: уже и привычка такая выработалась.
В прежнюю свою школу я ходил с охотой. С предвкушением интереса, который вызовет в тебе увлечённый своим предметом учитель. В новой школе энтузиастов своего дела среди педагогов было не много. В 545-й я привык к урокам-беседам. В 653-й, как правило, перед каждым учеником во время урока лежал учебник. Учителя заставляли читать из него чуть ли не вслух, а потом вызывали к доске повторить прочитанное.
В школе действовали кружки. Я записался в химический. Ходил в него год, толок в колбе разные смеси, поджигал их на горелке, но химию так и не полюбил.
С большим удивлением я обнаружил среди старых своих бумаг грамоту чемпиона школы 1955 года по шахматам. Ведь шахматами я никогда особенно не увлекался. А потом вспомнил: действительно такой турнир проводили. По круговой системе: проигравший – выбывает. Девочки выбыли первыми. А я как-то исхитрился выйти в финал и кого-то из ребят победить. Видно, не было в школе сильных шахматистов.
А стенгазета была. В классе мы её выпускали, кажется, раз в две недели. А для школьной, которая называлась «За отличную учёбу», раз в месяц вставляли в деревянный трафарет новые заметки. Стихи туда и туда писал не только я. Писал их и Женя Д., мой одноклассник, любитель изящного.
Сейчас объясню, почему я не называю его фамилии. Мы обмени – вались тетрадками со стихами, коллекциями открыток с репродукциями: у меня их было мало, а его родители помогли ему собрать довольно приличную. Он размещал их в альбомах по системе: «античная живопись», «живопись эпохи Возрождения», фламандцы, классицисты, передвижники и т. д. Приносил он и альбомы с марками, но их я разглядывал из вежливости: марки меня не интересовали.
Девочки, как мухи, облепляли его альбомы. Меня несколько раздражало, что он говорил с ними, томно кокетничая, словно передразнивая их ужимки.
Я встретил его в 13-м троллейбусе, когда ехал на работу в «Литературную газету». Трамвай по Цветному бульвару уже не ходил, а 13-й троллейбус, кажется, ходит и сейчас. Мы вместе вышли: оказалось, что работаем напротив друг друга на разных сторонах бульвара. Он – в издательстве «Искусство».
Я заходил несколько раз в его редакцию, где работала моя знакомая Саша Денисова, жена детского драматурга Льва Устинова. Саша давала мне рукописи на внутренние (для редакции) рецензии. А теперь выяснилось, что и Женька Д., мой одноклассник, устроился сюда работать. Я пришёл к ним с бутылкой. Женька царил за столом, шутил, рассказывал вполне приличные анекдоты.
Совсем немного времени прошло, когда Саша испуганно сказала мне, что Женя арестован. За что – сказала ещё через некоторое время, когда был оглашён приговор: за гомосексуализм. Саша очень удивлялась: кто бы мог подумать? Такой компанейский мужик! И женщинам в редакции нравился, и ухаживал за ними красиво.
А я вспомнил ещё со школьных времён его, выражаясь по-есенински, «изломанные и лживые жесты». Всё-таки действительно кокетничал он, как девчонка, и в девичьем обществе чувствовал себя как рыба в воде.
– За что же его посадили? – спросил я Сашу. – Он кого-нибудь совратил?
– Нет, – ответила она. – В уголовном кодексе есть статья про гомосексуалистов. Их как гомосексуалистов и сажают.
Лёнька Лобанов, когда у нас зашёл о Женьке разговор, сказал, что ничуть этим не удивлён. У Жени Д. была разбитная двоюродная сестра, которая охотно знакомилась с его приятелями. Познакомилась и с Лёнькой. И рассказывала ему, что знакомиться с её подружками брат отказывался, зато оживлялся, когда она представляла ему своих кавалеров.
Я ничего о нём больше не знаю. Не встречал его, не видел. Но что ему жизнь сломали, убеждён.
Как сказала Фаина Григорьевна Раневская, узнавшая о подобном случае: «Что же это за страна, в которой человек не хозяин собственной ж…»
В школе мы с Женей писали эпиграммы, скетчи, какие-нибудь поздравления именинникам. У кого были лучше, судить не берусь. Наверное, у обоих не слишком хорошие, коль ни из него, ни из меня поэта не вышло. Да мы и не соперничали. Но относились к творчеству друг друга серьёзно.
Не сохранились мои детские тетрадки. Жаль. Потому что были на полях стихов Женькины замечания. А в его тетрадке мои. Мы писали друг другу, как Пушкин на полях Батюшкова (о чём, конечно, то есть о пушкинских замечаниях, в то время не подозревали!): «Здорово!», «здесь я бы вместо того-то написал бы то-то!», «эти строки надо доработать!».
А по школьному радио читали то мои стихотворные фельетоны, то Женькины. Оба были те ещё моралисты: высмеивали то, чем грешили сами: прогульщиков, грубиянов, матерщинников. Сказывалась, разумеется, советская атмосфера, разлитая в обществе: думай, как хочешь, а пиши, как надо. Я и в печати поначалу следовал этому правилу. Но быстро понял его порочность: перестал быть официантом советского официоза.
Но в чём у меня действительно было преимущество перед Женькой, это в начитанности. Женька не читал того, что читали мы с Мариком. Да и вообще читал мало. Поэтому Анна Александровна, наша учительница литературы, отличала не его, а меня. А после одного сочинения, которое задала нам написать на свободную тему в форме диалога, уверенно сказала: «Ты будешь писателем!»
С этим моим сочинением долго носились. Его поместили в школьной стенгазете. Посылали на какой-то районный литературный конкурс (правда, никаких премий я не получал). С одной стороны, меня это радовало. А с другой – удивляло: почему не носятся так с моими стихами?
Тем более что диалог я написал очень быстро. Ещё по дороге из школы домой я его продумал, а дома сразу же и записал. Телефон в нашей коммунальной квартире висел в коридоре. Если ты на кухне, то не хочешь, но услышишь, о чём говорят Витька, Ира, тётя Лена, тётя Катя или моя мать. Слушая, я каждый раз поражался сумбурности живого разговора. За каких-нибудь пять-десять минут о чём только не говорили собеседники. Я фиксировал и свои разговоры. И тоже находил их далёкими от стройной логики. Вот эту сумбурность я и передал. Назвал сочинение: «Разговор по телефону» – и начал:
– Ты понял, о чём нам задали писать сочинение?
А дальше, ответив на этот вопрос, пошёл перескакивать с темы на тему и закончил диалог, заставив собеседников перелететь от недавних гастролей французского театра «Комеди Франсез» к проходящей сейчас неделе французских фильмов, на которой я успел посмотреть «Красное и чёрное» и «Плату за страх».
– Скорее всего, ты будешь драматургом, – сказала мне Анна Александровна. Не угадала. Драматургом я не стал.
Написал о сочинении и снова подумал о преступлении нынешних властей перед будущим России. Видите, в каких разнообразных формах нас заставляли выражать свои мысли. Мучились, конечно, многие, но учились, учились их формулировать. Пусть не все научились, но их этому учили!
А что сейчас? Читаю курсовые вечерников филологического. Вот – о «Капитанской дочке». Гладко, складно, но… Не оставляет меня мысль, что где-то я именно это уже читал. Вспоминаю. Снимаю с полки книгу Н. Н. Петруниной. Списано слово в слово.
А вот – о «Моцарте и Сальери». Ну, здесь с первой же страницы становится понятно, откуда списано – со старой, устаревшей работы Д. Л. Устюжанина.
– Нет, – говорю студентам, – аттестовать не могу.
– Почему? – спрашивают.
Да, вот так выражаясь их языком, – внаглую: «Почему?»!
– Потому что, – отвечаю, – мне хотелось знать ваше мнение об этих произведениях Пушкина, а не тех литературоведов, у кого вы списали работы.
– И у кого же? – кривятся в улыбке.
– Идите, – говорю, – в деканат и скажите там, что я у вас курсовые не принял.
Молодая поросль филологов… Правда, эти, возможно, учатся, как я уже здесь писал, ради второго образования.
А если всё-таки пойдут преподавать? Легко представить себе, каких специалистов они подготовят!
Впрочем, нынешним властителям на это наплевать. Их вообще не волнуют вопросы, связанные с образованием.
А иначе для чего ввели рекрутчину для выпускников институтов? Они будут служить не так уж много времени? Да хоть месяц! Считайте, что даже в этом случае значительная часть мужского контингента училась зря: в сегодняшней армии вышибить мозги «деды» могут и за неделю!
Только что сообщили об уникальной инициативе министра Фурсенко: проблему мигрантов можно решить с помощью студенческих стройотрядов!
Всё гениальное просто! Безработица в стране жуткая. Деревня спивается. Бомжи чуть ли не вокруг каждой городской скамейки гнездятся. Жалко их, конечно! Но не желает коренное население работать, потому и приходится строить дома руками мигрантов. Неужели не ясно?
Ясно, что захотели бы работать и местные, если б платили им полновесными деньгами, да страховки оформляли, да начальники отвечали бы за их безопасность. А мигранты за регистрацию на всё согласны.
И всё же как уменьшить приток мигрантов? Фурсенко решил проблему: те же дома и особняки могут возводить студенческие стройотряды. Пусть студенты отрабатывают свои стипендии!
Забавна эта перекличка фамилий Фурцева – Фурсенко! Тем более забавна, что она подкреплена, подтверждена анекдотом, который ходил некогда о невежественном министре Фурцевой: «Надо бояться не министра культуры, а культуры министра». Пора, давно пора бояться не министра образования Фурсенко, а образования министра Фурсенко. А если отойти от игры словами, самая пора бояться образования (и культуры) всей теперешней властной верхушки.
Ведают ли они, что творят? Понимают ли, что уничтожая, например, гуманитарное образование, выбивают опору из-под государственного стояка? А ведь тревожное «SOS» зазвучало не сегодня и не вчера. Сегодня оно набирает силу, посылая уже апокалипсические сигналы. Вот, к примеру, недавнее (30 октября 2006 года) выступление в «Русском Журнале» крупного и очень трезво мыслящего учёного Анны Ивановны Журавлёвой: «Со всей убежденностью утверждаю, что филология как наука и гуманитарное (в традиционном значении слова) образование имеют самое прямое отношение к национальной безопасности России».
Казалось бы, на такие слова, как «национальная безопасность России» власти должны бы отзываться, как добрые прихожане на звон церковного колокола. А уж прочитав у той же А. И. Журавлёвой: «Падение качества гуманитарного образования, языковой культуры, нарастающий разрыв с классической традицией, сформировавшей нравственные устои российского общества, – это настоящая угроза целостности и безопасности Российского государства», – начать самим бить в колокола, потому что аргументы, которые приводит Анна Ивановна, неотразимы:
«Российский человек исчезает не оттого, что в его кровь вливается кровь «чужаков». При минимальном знакомстве с русской историей всякий вспомнит, что это далеко не новость. Российский человек исчезает при размывании его культурной идентичности. Модернизация образовательных технологий не должна вести к утрате национальных традиций в образовании. Русский язык и литература, как и история, – основные школьные дисциплины, способствующие социализации новых поколений, формирующие их менталитет».
В 1955-м речь об утрате национальных традиций в образовании ещё не шла. Много грехов на душе у коммунистических правителей, но такого греха, как не дать детям углубиться в тексты Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Л. Толстого, Чехова, – они на свою душу не взяли. Оболгали, конечно, их творчество статьями, монографиями, учебниками, имеющими отношение не к литературе, а к социологии. Некоторых классиков вообще не допустили к школьникам – Достоевского, Лескова. Но ведь не выкинули на свалку всю русскую литературу, дали в неё вчитаться и, стало быть, иметь возможность хотя бы про себя – для себя не соглашаться с лжецами!
Провальных сочинений я у своих одноклассников не помню. Грамотой владели не все, но даже вечно пишущие с грамматическими ошибками Галя Толстая, Тоня Мерзлякова, Юра Барабанов слогом владели. Не в высокопарном, конечно, значении, но в самом обычном: умели связно выражать свои мысли. Много ли, мало ли, но читали все!
Не было компьютеров и сотовых? Были телевизоры, сбегали с уроков посмотреть какой-нибудь фильм. Помню, чуть не полкласса вместо урока физкультуры смотрела в «Ударнике» «Терезу Ракэн». Аверьянов потом рвал и метал. На первом этаже вывесили огромное бумажное полотно: «Позор прогульщикам» – и наши имена крупными буквами. Плакат висел недолго. Юрка Барабанов его сорвал и сжёг в своём дворе. Всех опрашивали: кто это сделал? Но кому охота была доносить?
Давно уже слышу недоумённое – от либералов, радостное – от коммунистов: так что же, выходит, тогда было лучше, чем теперь? Не радуйтесь и не возмущайтесь: лучше не было.
Наши руки были скованны, наш энтузиазм строго дозирован. Самостоятельность не поощрялась. Простенькую заметку в школьную или в классную стенгазету внимательно читал Шалва Валентинович, парторг школы. Он правил даже Надьку Монахову, очень старательную, усидчивую, всегда и во всём соглашавшуюся с каждым учителем.
Как и Маринка Браславская, она окончила школу с медалью. Но в отличие от Маринки, выцарапала медаль сумасшедшей зубрёжкой и благоговейным к старшим поведением. Отвечала она бесцветно, но правильно. Задачи решала верно, писала грамотно. Но интересовал ли её какой-либо предмет больше других, для всех так и осталось тайной. Куда она поступила после школы, я не знаю.
Так вот даже у Надьки Шалва Валентинович находил крамолу. «Не мы, ученики, – говорил он, занося ручку над заметкой, – а мы, советские ученики, – он вписывал слово. – Не нас должно волновать, а нас, советских учеников, учащихся 653 школы, должно волновать», – и снова вписывал. А уж мои или Женькины сатирические стихи на свет проглядывал. «Не слишком ли ты увлёкся критикой? – спрашивал он меня. – Может, припишешь что-нибудь жизнеутверждающее». Я горячился: «Это же сатира!» «Ну и что?» – удивлялся Шалва Валентинович.
Эренбург, как известно назвал это время «оттепелью». Да, какой-то весенний сквознячок иногда взбадривал тяжкий унылый дух, хорошо нами, «советскими школьниками», ощущаемый. Но мир по-прежнему оставался затхлым. Скучные казённые комсомольские собрания. Бесцветные политинформации, которые делал кто-нибудь из нас, назначенный Марьей Георгиевной. Обычно мы повторяли то, что слышали в радиопередачах или читали в газетах. И вдруг объявили об обмене визитами кораблей британского и советского флотов. Британские корабли бросили якорь в Ленинграде, советские – в Портсмуте. Вчерашние враги решили мириться? Хрущёв и Булганин разъезжали по миру, чего никогда не делал Сталин. Только что посетили Индию, Бирму и Афганистан. Причём министра иностранных дел Молотова они с собой не брали. Дядя Миша сказал мне, что ходят слухи о разногласиях между Молотовым и Хрущёвым. Слухи наверняка основывались на той перепалке на пленуме ЦК, о которой я рассказывал. Стенограммы пленумов не публиковались, но языки всем не отрежешь! Слухи подтвердились уже через пару месяцев, когда вместо Молотова министром иностранных дел стал Шепилов.
Оживилась и культурная жизнь в стране. О гастролях театра «Комеди Франсез» и о неделе французских фильмов в Москве я уже здесь писал. Яков Лазаревич дал нам с Мариком прочитать в журнале «Театр» пьесу Виктора Розова «Вечно живые», с действительно очень живыми диалогами без нудной назидательности, которой так отличались спектакли в театрах, куда нам устраивали коллективные школьные походы. Появился новый журнал «Юность». А в нём – повесть неизвестного Анатолия Гладилина «Хроника времён Виктора Подгурского». Ничего похожего на прежнюю унылую серятину: правдивые ситуации, тематика, которая действительно нас интересовала, раскованность стиля.
Ну не улыбка ли это судьбы? Дочитали мы повесть, порадовались ей, и почти тут же приходят в школу наши соседи – работники телевидения (мы находились совсем рядом с Шуховской башней). Говорят, что им нужны ребята, которые были бы зрителями на встрече с редакцией журнала «Юность». Анна Александровна отобрала человек пятнадцать. Аверьянов с Шалвой Валентиновичем напутствовали, как нам себя там вести. И мы отправились на встречу.
Её обещали показать в записи. Мать предупредила родственников. Телевизоры стояли у нас и у тёти Кати. У тёти Лены телевизора не было. Дядя Мотя лежал на кровати и храпел. Ему нужно было завтра рано вставать на работу. Тётя Лена убрала со стола пустые водочные бутылки и вместе с Ирой пошла к нам. Пришёл и Витька. Сперва все насмешничали: «Чего же тебя нет за столом? Ты зачем под столом прячешься?» За столом сидела редакция. Но вот – стали показывать зрителей. Я несколько раз мелькнул среди других. И вдруг меня показали крупным планом. Несколько долгих секунд держали в кадре: я слушал выступление Виктора Розова. Мама бросилась звонить тёте Лизе, дяде Мише – все видели, все меня поздравляли. Витька сказал, что за участие в массовках на киностудиях платят деньги. «Ты узнай, – советовал он мне, – может, тебе выписали что-нибудь». Мать насторожилась. «Ну где мне об этом узнавать? – спросил я. – Да и неудобно это». «Неудобно по потолку ходить, – сказал Витька, – а деньги получать очень удобно. Никогда не помешают».
Я посоветовался с Мариком. Яков Лазаревич меня высмеял: «Ну что ты, о каком гонораре может идти речь? Чушь, конечно. Никуда не ходи». Я и не пошёл. Но в 10-м классе послал стихи не просто в «Юность», а на имя Николая Константиновича Старшинова, которого Катаев представлял на телевидении как заведующего отделом поэзии. Отозвался, как я рассказывал об этом в «Стёжках-дорожках», поэт, консультант журнала, Евгений Храмов.
* * *
Ой, чувствую, что не удержусь я в границах 1955 года. Да и как в них удержишься, когда 55-й подготовил 56-й – исторический, как бы ни принижали его значения нынешние знатоки. Доклад Хрущёва о Сталине вскрыл тот гигантский гнойник, который многие годы отравлял страну. В школе растерялись. Мы осмелели и выломали из деревянного трафарета нашей школьной газеты «За отличную учёбу» двойной профиль Ленина-Сталина (профиль Сталина в таком медальоне был слегка отодвинут вправо от ленинского). «Кто вам это разрешил? – гневался Шалва Валентинович. – Немедленно восстановите всё, как было!» Но восстановить мы не смогли бы, если б и захотели. Мы этот профиль разбили. Да и не захотели бы мы его восстанавливать. А заказать другой Шалва Валентинович не решился.
– Это вам так не сойдёт, – грозился он. – Вы ещё за это поплатитесь.
Как в воду глядел.
Комсомольское собрание было посвящено награждению комсомола орденом Ленина за освоение целины. Нам было предложено послать по этому поводу благодарственное письмо в ЦК партии. Такое письмо было делом привычно ритуальным, его зачитала наша учительница немецкого Зоя Михайловна. Оставалось только проголосовать. Уже произнесли: «Кто за то…», как я прервал рутинное представление.
– А почему, – спрашиваю, – мы должны благодарить за награду ЦК партии, когда награждает Президиум Верховного Совета? Давайте туда и пошлём наше письмо.
Тут же поднявшийся из-за стола на сцене Шалва Валентинович стал объяснять залу, в чём моя ошибка:
– В нашей стране руководящей и направляющей силой общества является коммунистическая партия. Высокий орден комсомолу дали по её предложению. Поэтому…
– Тогда надо это как-то отметить в письме, – сказал я. – Благодарим, дескать, за предложение наградить комсомол.
– Текст письма согласован с райкомом, – сказала Зоя Михайловна.
– Но по конституции, – вступил в дискуссию Марик Быховский, – высшим органом является Верховный Совет. Красухин прав.
Если благодарить ЦК, то за его предложение Президиуму Верховного Совета.
Сейчас сам пожимаю плечами: из-за чего было лезть на рожон? Так ли уж важно, куда посылать верноподданническое письмо? Но вот тянуло во фронду, как под освежающий душ, – хотелось называть «кошкою кошку» – нелепостями очевидные нелепости.
Страшно напугала учителей эта дискуссия. Тем более что в райком пошла не привычная резолюция «принято единогласно», а «принято большинством. Против голосовало…» не помню сколько, но помню, что не только мы с Мариком. Я ещё в заключение напомнил Шалве Валентиновичу и Зое Михайловне о демократическом централизме в уставе комсомола: до голосования все имеют право на своё мнение.
Зоя Михайловна, которая к тому времени стала нашим классным руководителем, жила в доме Марика. Встретив меня во дворе, она сказала, что я выступал, как троцкист. И пояснила, что если б собрание согласилось со мной, была бы принята троцкистская резолюция.
Как видите, не только сегодня вошло у многих в привычку всё валить на Троцкого. Сталинский «Краткий курс» и его тоже повсеместно изучаемая биография «Иосиф Виссарионович Сталин» своё дело сделали.
– Доигрались! – зловеще сказала классу Зоя Михайловна через несколько дней после того собрания. – Всю нашу комсомольскую группу вызывают на бюро райкома.
Там пришлось ждать. Бюро занималось персональными делами. Когда нас, наконец, вызвали, лица у хозяев были разгорячёнными.
– Пойдём по алфавиту, – сказал секретарь. Называя фамилию и слыша от Зои Михайловны: «Он (она) не при чём», он добрался до Марика: «Быховский», – сказал он. И, посмотрев на молчащую Зою Михайловну, весело предложил: «А ну, герой, покажись людям!»
Марик встал.
– Так чем тебе советская власть не нравится? – спросил секретарь.
– Я не говорил, что она мне не нравится, – сказал Марик.
– Но думал об этом, – закруглил секретарь, – и подстрекал других голосовать против советской власти.
– Против советской власти никто на собрании не выступал, – сказал я. – Мы говорили, что по конституции высшим органом власти…
– А со знатоками конституции мы ещё разберёмся, – пообещал секретарь, прерывая меня. – Ну что, – предложил он членам бюро, – какие будут мнения?
Первое же оказалось самым грозным. Я потом всласть насмотрелся на подобных истериков. Этот брызгал слюной, стучал кулаком по столу, кричал о врагах и закончил: «исключить из рядов комсомола как врага советской власти».
Кажется, этого не ожидала даже Зоя Михайловна. Она робко вставила, что демагогия в выступлении Быховского, конечно, была, но врагом советской власти он себя не показал.
– А на чью мельницу он лил воду своей демагогией? – не унимался свирепый. – При Сталине его бы…
Эта проговорка и решила Марикину судьбу.
– Мы говорим сейчас не о том, что было при Сталине, – необычно мягко (видимо, перепугался) сказал секретарь. – Какие ещё будут мнения?
Народу за столом сидело не так уж много, но Марика обсуждали очень долго. Так что ни на кого больше у бюро времени не хватило.
– Итак, – подвёл черту секретарь. – В порядке поступления ставлю на голосование два предложения. Кто за то, чтобы исключить Быховского Марка Яковлевича из рядов ВЛКСМ. Голосуют не только члены бюро райкома, – объяснил он нам, – но и комсомольцы класса.
За это предложение проголосовал тот, кто его внёс. Все остальные были против.
– Кто за то, – продолжил секретарь, – чтобы объявить Быховскому Марку Яковлевичу строгий выговор с занесением в учётную карточку. – И первый поднял руку.
Я смотрел на ребят. Руки они тянули неохотно, трусливо. Марина Браславская как-то быстро взмахнула рукой и тотчас её опустила. «Кто против» – спросил секретарь, не глядя на нас. Я поднял руку. «Кто воздержался? – секретарь смотрел в какие-то бумаги. – Итак, принято единогласно».
– Нет, – сказал один из членов бюро. – Есть и против.
– Кто? – вскинулся секретарь.
– Я, – объявил о себе я.
– Фамилия? – спросил секретарь, обращаясь к Зое Михайловне.
– Красухин, – сказала она. Секретарь записал.
– Ладно, – пообещал он, – разберёмся. А пока что большинством голосов принимаем решение объявить Быховскому строгий выговор с занесением. Все свободны.
Марик шёл со мной очень подавленный. «Надо же, – говорил он мне, – ни у кого больше не хватило смелости хотя бы воздержаться». «Что поделать? – отвечал я. – Боятся». И в самом деле – вот как с детства действовала на людей общая атмосфера бездушия, лжи, устрашения в стране!
Заканчивая свой рассказ об этом эпизоде скажу, что нас с Мариком он сблизил ещё больше, что долго я ждал вызова в райком, а потом решил, что секретарь забыл о своём обещании разобраться. Зря решил. Потому что когда становился на комсомольский учёт на заводе, Игорь Штаркман, секретарь комитета комсомола, спросил, за что я получил строгача с занесением. «Я его не получал», – удивлённо ответил я. Но Штаркман показал мне мою карточку. «Значит, мне его дали в моё отсутствие», – ответил я и рассказал Игорю о том бюро. «Плевать, – сказал Штаркман, – ты ведь рабочий, так что клади на это с прибором». Я так и сделал. Больше об этом выговоре мне нигде никто не напоминал.
А меня эта история отшатнула от класса, от школы. Неприятно стало туда ходить, неохотно давал я теперь свои стихи для газеты, вышел из её редколлегии, в которой состоял чуть ли не с самого начала моего перехода в новую школу, а потом и вовсе потерял интерес к учёбе.
Учился я легко. Почти всегда был отличником. И, наверное, получил бы медаль. Учителя на это надеялись. Но в десятом – выпускном классе я практически перестал учиться.
Прогуливал уроки. Гулял по Нескучному саду, ходил в кино, бродил по книжным магазинам. А потом выучился играть в преферанс и увлёкся им до сумасшествия.
Мне даже во сне стали сниться разные комбинации: вот я не даю партнёрам поймать меня на мизере (то есть всучить хоть одну взятку), вот хитроумно сам кого-то ловлю. Я играл с ребятами из нашего двора, чаще всего такими же прогульщиками, как и я. Компания была более-менее постоянной.
На деньги? Разумеется. Кто же согласится играть бесплатно! По две копейки за вист. Где брал деньги? Не у родителей, конечно. Удавалось потихоньку продавать какой-нибудь плохонький, имевшийся у нас роман в букинистическом. Тогда принимали любые книги. Стоили они мало. Но мне для разгона хватало.
А потом попёрло невероятное везение. Я всё время выигрывал. Частенько посиживал на выигрыш с ребятами в чешском баре в Парке культуры имени Горького. Но следил за тем, чтобы всё не потратить. Чтобы оставалось на новую ставку.
Прямо-таки сюжет «Пиковой Дамы»! Похоже, конечно. Но по ночам мы не играли. Собирались иногда у меня – до прихода с работы отца. Он, от природы не слишком вежливый, заставая нас за картами, вообще смотрел волком, ни с кем не здоровался, а с ходу бросал: «Ну и долго ещё будете играть?» Мы забирали недописанную «пульку» (рисунок, показывающий, как меняется твоё игрецкое положение после каждой сдачи) и уходили куда-нибудь доигрывать.
А чаще всего мы играли у Юры Намитниченко. Он жил с разведённым отцом вдвоём в большой комнате. Отец, инженер какого-то НИИ, приходил поздно. Юра уже кончил школу, он был на год старше меня. Артистичный, обладавший незаурядными математическими способностями, он без труда поступил в МФТИ, но первую же сессию завалил. И понятно: надо же было учиться, а не играть! Его отчислили.
На следующий год он легко поступил в МАИ и так же легко из него выскочил. Игромания подавляла в нём всё остальное, а человеком он был слабовольным.
Ещё одним почти постоянным моим партнёром был Васёк Головачёв. С Юрой они очень дружили. Васёк пытался поступить в институт землеустройства, а Юра взялся сдать за него математику и физику. Переклеили фотографии. За письменную работу по математике Ваську поставили «отлично», а на устной физике Юру поймали. Не помню, каким образом обнаружили подлог. Вызвали милицию. Юрин отец и Васина мать бросились на выручку. Дело замяли.
Последний раз я видел Васька на моём пятидесятилетии в ресторане ЦДЛ, куда пригласил друзей и родственников. Он сказал, что по-прежнему видится с Юрой.
Раз в год, рассказывал Васёк, собирается у кого-нибудь из бывших игроков старая компания, и они весь день играют в преферанс. Но только раз в год. Один день в году.
А тогда мы играли взахлёб. Школу я, конечно, закончил. Но обрадовал лишь учителей литературы и истории – любимых моих предметов. Остальным учителям я особой радости не доставил.
Так и завершилась для меня учёба в 653-й школе, в которую я пришёл почти что в пятнадцать лет. Именно этот возраст – пятнадцать лет – остался в памяти наиболее ярко. Остальное слегка подёрнуто дымкой. Игра в преферанс запомнилась острее учёбы в 10-м классе. До сих пор звучит в ушах наш гимн, который мы с Юрой Намитниченко сочинили как акростих на его фамилию, потому что чаще всего играли у него. И пели на мотив утёсовского «Раскинулось море широко»:
Напрасно с надеждой расклада я ждал, А был для меня он не в жилу: Мизер мой партнёр на три взятки поймал И вырыл в «горе» мне могилу. Тут снова решил я судьбу испытать — На «бомбе» играл восьмерную. Играл, но, увы, мне пришлось проклинать Четвёртую «бомбу» тройную. Едва я опомнюсь, стучится беда На смену несчастиям снова… Как чёрный король, я один навсегда Останусь, наверно, бланковым!Приступая к разбору со своими студентами «Пиковой Дамы», я обязательно знакомлю их с правилами игры в штос.
– Без этого, – объясняю, – вы многого не поймёте. Понтёр (допустим, Германн), играющий против банкомёта (допустим, Чекалинского), достаёт из своей колоды какую хочет карту, ставит на неё деньги и ждёт, куда ляжет та же карта у банкомёта: направо – банкомёт выиграл, налево – проиграл. Это необходимо знать, чтобы понимать, что все три назначенные Германну старой графиней карты выиграли: все они у Чекалинского легли налево.
– Не мною, – продолжаю, – было замечено, что рассчитывая «утроить, усемерить» свой капитал, Германн мыслит, как заядлый картёжник: утроить – выиграть пароли (в учетверённую по сравнению с первоначальной ставкой сумму выигрыша входит и собственная первоначальная ставка), усемерить – выиграть паролипе (чистая прибыль определяется так же: восемь ставок минус своя).
– Один из игроков, Сурин, сетует в пушкинской повести, что не выигрывает, хотя играет мирандолем. Что это значит? – спрашиваю. И отвечаю: – Это значит, что он играет очень небольшими суммами, осторожничает. А другой, – говорю, – удивляется твёрдости Сурина, который ни разу не поставил на руте, то есть ни разу не поставил крупной суммы на одну и ту же карту, которую не меняет в течение всей игры. Всякий раз поставивший на руте, проигрывая, платит банкомёту оговоренную сумму, которая, естественно, возрастает с каждым проигрышем, но понтёр упорствует в своём выборе карты (только она и никакая другая) и, если в конце концов на неё выпал выигрыш, смелый игрок с лихвой отыгрывается.
А теперь вернёмся к нашему гимну – печальной жалобе игрока-неудачника. В нём тоже кое-что требует разъяснения для непосвящённых.
«Не в жилу» – неудачный расклад для объявившего «шестерную», «семерную» и так до «десятерной» игру (то есть что он обязуется взять 6, 7, 8 и т. д. взяток), потому что партнёры сделают всё, чтобы дать ему меньше. Чем меньше он возьмёт, тем больше запишет штрафа в своей «горе» – специальном штрафном поле на разрисованной «пульке». А объявившему «мизер» партнёры наоборот стараются всучить взяток побольше: он обязывался не взять ни одной. «Три взятки» на мизере – это действительно многовато: отыграться трудно, пропал, – не случайно речь о «могиле».
Игра на «бомбе» удваивает сумму выигрыша или проигрыша, на «двойной бомбе» – учетверяет, наконец, «тройная» очень мощная: ставки повышены в восемь раз! Четыре «тройных» – это значит, что идёт невероятно крупная игра!
«Бланковый» король (по-другому: король-бланк) – единственная карта этой масти, которая у тебя на руках. Как правило, она тебя отягощает. Умные партнёры никогда не дадут тебе взятку под этого короля или обязательно тебе её всучат, если ты объявил «мизер». Образно говоря, бланкового короля можно уподобить андерсеновскому – голому.
Вот таким голым королём и ощущаю я себя тогдашнего, переносясь памятью во времена, когда учился в выпускном классе, а потом ещё полгода бездельничал, то есть играл, то есть бездумно растрачивал лучшее время жизни.
Мог и остаться этим голым королём.
А я вам пережить меня не дам
Но ведь не остался же! Не смог быдляк восторжествовать над моей жизнью. Удержимся и сейчас, даст Бог!
29 июня – 9 декабря 2006 года





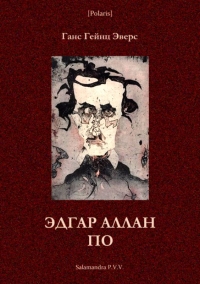

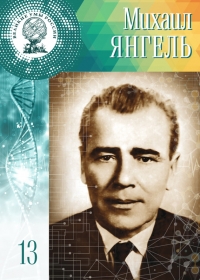

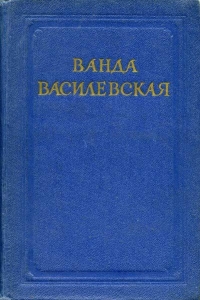
Комментарии к книге «Комментарий. Не только литературные нравы», Геннадий Григорьевич Красухин
Всего 0 комментариев