Илья Суслов
Мои автографы
РАССКАЗЫ ОЧЕРКИ ЭССЕ
ЭРМИТАЖ
1986
Илья Суслов
МОИ АВТОГРАФЫ (Рассказы, очерки, эссе)
Ilya Suslov
MOI AVTOGRAFY
("My Autographs." Stories, sketches, essays.)
Copyright 1986 by Ilya Suslov
All rights reserved
Library of Congress Cataloging in Publication Data
Suslov, II'ia Petrovich.
Moi avtografy.
Title on verso t.p.: My autographs.
I. Title. II. Title: My autographs. PG3488.U73A6 1986 891.73 '44 86-4669 ISBN O-93892O-64-2 (pbk.)
Cover photo by Lev Nisnevich
Published by HERMITAGE
P. O. Box 410, Tenafly, N. J. 07670, USA
OCR и правка Давид Титиевский dosik41@km.ru Хайфа, Израиль 16 марта 2005 года
Библиотека Александра Белоусенко
СОДЕРЖАНИЕ
ШПИОН НИКОДИМОВ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Шпион Никодимов 7
Плюралист Франек 12
БРИЗ VS. ОВИР 15
Бедные родственники …17
Миссис Берковиц 21
Жмых 25
Буська 29
По дороге в Барнаул 31
Шейгиц 33
Чашка кофе 36
Вишня 39
Моя полиция 42
Клиент …45
Пуэрто-риканский этюд 46
Тили-тили-тесто… 48
Кто? 50
Двести лет 53
Марьина роща 55
Папины часы , , 59
Пожар 62
Иметь и уметь 64
Потери 67
Реклама 78
Гроб с музыкой 80
Мастер Милованов 84
Папина победа 86
Юрочка 89
МОИ АВТОГРАФЫ
Мои автографы 101
Шестьдесят шестой сонет 103
"Орало радио на площадях..." 105
Нервы 107
Площадь круга 108
Стишок о демократии 111
"Отдайте это им обратно!.." 114
Осеннее 116
До свидания, мальчики 117
Мабукин 118
Дантес 121
Выговор 122
"Лестница" 123
Виза 125
Ночной звонок 127
Снимается кино 128
Два часа 129
Копчик 131
Юбилейное 133
Тени забитых предков 135
ЭССЕ, ОЧЕРКИ, РЕЦЕНЗИИ
Кто же остался в лавочке? 143
Эссе о цензуре 146
Эссе о бутылке 158
И битвы, где вместе 165
В эфир 182
После концерта 184
Моя Олимпиада — 84 188
Случай? 191
Читая Евтушенко 194
"Стена" 197
"Скоки" 199
Русские таки здесь 202
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 207
шпион никодимов
и
ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
шпион никодимов
Посвящается ИЛЬЕ Л.
"Я страдала, страдать буду всегда, милый, по тебе,
Кари глазки не забуду, в какой бы ни был ты стране".
Из русской песни
Леша даже не представлял, что есть такие глухие углы. Он знал, что есть в России совсем дикие места, но что такие, как это, даже не мог себе представить. Скособоченные домики, насквозь промокшие от дождей, столетиями их поливавших, с заколоченными фанерой крышами, с узкими грязными тропками, ведущими к домам от немощеной горбатой улицы. Домики эти стояли здесь с незапамятных времен, с петровских, видимо, и никто к ним с тех пор не притрагивался. Вот только свет провели. Был в городе дымный заводик, где трудилось местное население, и дым из его трубы прокоптил все вокруг до липкой черноты. Заводик тоже был ровесником Петра Первого, только продукцию теперь выпускал другую, да дали ему для важности номер: почтовый ящик 1424. Все знали, что выпускает он какие-то насосы, а куда те насосы шли, пожалуй, и директор заводика не знал.
Протекала мимо города речушка, но рыбы в ней давно не было, а ребятишки ходили купаться километров за пять вверх по течению, чтобы не мараться в мазуте и отходах, которые спускал в речку насосный заводик.
Леша жил уныло и скучно. Он приехал сюда из Москвы после института. Аспирантская тема забросила его в эти края, потому что здесь, в глубинке, он надеялся записать старые русские песни, не испорченные фольклористами, приспосабливающими народное творчество к требованиям цензуры и советской власти. Леша и сам знал, что можно, а что нельзя использовать в диссертации, но в своем архиве он хотел бы иметь подлинные песни и частушки. В областном центре ему сказали, что живет в Зареченске бабка, знающая всю эту "чепуховину", но живет она нелюдимо, одна, пьет и не желает ни с кем разговаривать. Мол, приезжали уже сюда люди из Института фольклора, да ничего у них не получилось. Не хотела бабка проклятая с ними даже разговаривать. Так и уехали не солоно хлебавши. И у вас, молодой человек, шансов немного. Что вы все там, в Москве, с ума что ли посходили, тянетесь за всяким устаревшим барахлом, за иконами да частушками. Делом, делом надо заниматься, план выполнять! А то эта русская мода кончится, а план с области еще никто не снимал. Все балуетесь, а народ теперь другой пошел, ему бы только напиться да урвать побольше. Мочи нету, все домой тянут, в охране теперь больше людей, чем рабочих на предприятиях, а все равно не углядишь, стыд один. И добро бы уж молодежь баловалась, Так нет же, солидные взрослые люди. А уж о бабах, простите, о женщинах и говорить не приходится. Так всю себя обложит, что никакой обыск не помогает. И злые все, как черти. А вы говорите частушки. Какие, к черту, частушки...
Леша снял угол у слесаря Никодимова. Никодимов жил один, жена его бросила и уехала с демобилизовавшимся сержантом на великую стройку коммунизма в Сибирь. Никодимов сильно пил и скучал по жене. Он очень обрадовался Леше и удивлялся его интеллигентному языку и наивности.
— Ты, Леш, совсем как нерусский, — говорил Никодимов. — Вроде все говоришь правильно, а про что — непонятно. В общем, ты, Леш, того, в общем...
И Леша скучал невыносимо, потому что говорить с Никодимовым было и впрямь не о чем. Разве что о бутылке: при таких разговорах Никодимов оживлялся, светлел лицом и довольно связно вспоминал, где, когда и с кем он выпил последнюю бутылку.
Тетя Настя, та самая бабка, которую рекомендовали в области как хранительницу и знатока старинных песен, долго не пускала к себе Лешу, говоря, что некогда, не до того, чем баловством заниматься, лучше на огороде покопаться, потому что зима идет и, если загодя картошку да свеклу в погреб не сложить, никто о ней и не побеспокоится, и иди откуда пришел, мил человек, не до тебя.
Леша ее и так обхаживал, и эдак, и ведра с водой из колодца доносил, и конфеты в ларьке покупал, и бутылочку белой особой показывал. Не хотела петь тетя Настя, хоть кол у нее на голове теши.
А Никодимов все не понимал причину Лешиного приезда. Никак у него не укладывалось в голове, что Леша приехал за песнями.
— Ну, за какими такими песнями? — спрашивал он. — Глупости это все, в общем. Что ты с ними делать будешь? Хочешь песню, включай радио. Вон Зыкина с Кобзёном этим поют. Вот тебе и песни. Что эта тетка, Настя-то, знает? Она ж неграмотная. Она и слов-то настоящих не знает. Не, Леш, ты, видно, по другому делу приехал. Из области тебя послали, узнать, как мы тута пьем, план выполняем, верно? Наливай по новой.
Леше надоело это тупое Никодимовское непонимание и подозрительность, и однажды вечером он сказал ему:
— Верно, Никодимов, тебя не проведешь. Все ты обо мне правильно понял. Да не очень. Я, Никодимов, разведчик. И послан я сюда узнать кое-какие вещи про завод, на котором ты работаешь.
Это какой ты разведчик? — спросил обескураженный Никодимов. — Из гебе, что ли?
Нет, Никодимов, — сказал Леша, приблизив свое лицо к слесареву. — Не из гебе я, а американский разведчик. Ты "Голос Америки"слушаешь? Вот они меня и послали.
Будет тебе, — сказал побледневший Никодимов. — Что меня, дурака, разыгрываешь? Думаешь, если я пьяный, то меня, в общем, можно на мушку брать?
Нет, Никодимов, — сказал Леша, бросая на слесаря огненные взгляды, — не шучу я, такими вещами не шутят, а хочу я, Никодимов, чтобы ты помог мне в моей работе. А за это ты всегда у меня получишь на бутылку, А за особо важное задание — на две. Подумай, Никодимов, крепко подумай.
Ты что ж, хочешь, чтобы я шпионом стал? — сказал Никодимов. — Это как же у тебя язык повернулся на такое, а?
Эй, брат, — сказал Леша. — Ты взгляни на себя и жизнь твою. Разве это жизнь? На работу, с работы, бутылка, спать, опять на работу. Какой у тебя интерес в жизни, Никодимов? А я тебе предлагаю настоя- щую жизнь, как в кино.
Леша говорил Никодимову что-то очень убедительное, а сам думал о письмах, которые он будет посылать в Москву друзьям о шпионских приключениях слесаря Никодимова, и как все там животики надорвут, читая их. И жизнь его в глухомани показалась не такой уж гнусной и скучной.
А чего тебе надо на нашем-то заводе? — вдруг спросил Никодимов. — Насосы они и есть насосы. Какой в них прок?
Значит, договорились, Никодимов? — сказал Леша. — Слушай внимательно. Есть у нас сведения, что на заводе вашем испытываются новые масла для смазки. Их сюда секретно прислали. Даже директор ваш про это ничего не знает. Вы этими маслами станки смазываете. Принеси мне ту тряпку, которой станок обтирают после смазки. Вот тебе и первая бутылка.
И Никодимов принес тряпку. И жизнь его изменилась до неузнаваемости. Он помолодел, на лице его появилось выражение осмысленное и значительное. Он и впрямь зажил какой-то своей внутренней жизнью. Даже бутылку, которую ему ставил Леша, он пил со значением, а однажды сказал тост: "За нашу победу!"
За какую победу? — поинтересовался Леша.
Не, Леш, это ты не понял, в клубе кино показывали, "Подвиг разведчика" называется, старое кино, про войну, в общем, так там наш, в немца переодетый, такой тост говорит: "За нашу, в общем, победу!" А на самом деле это он про нашу победу говорит, в общем, не про ихнюю, а про эту... нашу...
Тут Никодимов совсем запутался, и Леша поскорее налил ему следующий стакан, чтобы выйти из этой деликатной ситуации.
Леша красочно описывал свои похождения в письмах к друзьям и все старался расколоть упрямую старуху тетю Настю. И она сдалась.
Однажды днем она впустила его в свой домик. Леша пристроил свой магнитофон, и тетя Настя, сев на продавленный диван, стала потихонечку петь. Леша не надеялся, что она знает какие-то старые песни, которые были бы ему не известны, да так оно и вышло, песни были известные, но в тети Настином исполнении они вдруг приобрели новый смысл. Наивность и беспомощность строк этих песен поразили его, но тетя Настя переживала их, как личную трагедию.
Для кого я жила и страдала
И кому я всю жизнь отдала?
Как цветок ароматный весною,
Для тебя я, мой друг, расцвела.
Ты поклялся любить меня вечно,
Как голубку лаская меня.
А теперь, насмеясь бессердечно,
Ты на век мою жизнь погубил.
Голосок у тети Насти был тоненький, но каждое слово она выводила с такой серьезностью, с такой старательностью, с такой грустью, что слушать ее было наслаждением.
Нет у меня, девицы, отца с матерью,
Только есть у меня мил сердечный друг,
Только есть у меня мил сердечный друг.
Да и тот со мной не в ладу живет,
Не в ладу живет, все ругается,
Не в ладу живет, все ругается.
Где ж твой муж, тетя Настя? — спросил Леша.
Известно где, в тюрьме, — отвечала она. - Зашиб маленько начальника цеха по пьяному делу. От водки все горе.
А дети?
Дочка была. Выросла и уехала. У нас здесь тяжко. И скушно для молодых. Вот они и убегают куда глаза глядят.
Пела она и песни явно литературного происхождения, только она об этом не знала, они были для нее свои, народные.
Красавица встала,
Ничего не знала,
Правой ручкой обняла
Да поцеловала.
Леше было жалко времени, которое он потерял в этом городке, да что ж поделаешь, золото под ногами не валяется, достать новую песню так же трудно, как золотой самородок.
Дома Никодимов ждал его, потому что жаждал получить новое задание: не было денег на бутылку.
Вот что, — сказал ему Леша. — Я получил шифровку, что твой напарник со второй смены, как его...
Колька Звонарев...
...Колька Звонарев нарушил слово, данное нашей организации.Придется его убрать.
Ну, ты уж совсем... с ума сошел, что ли? — сказал испугавшийся Никодимов. — Одно дело тряпки тебе за пол-литра приносить, а это, в бщем, что же получается? Как это убрать?
Это дело непростое, Никодимов, — сказал Леша. — И будут у тебя после него поллитры на всю твою жизнь. И еще внукам достанутся, если ты их заведешь. И поймать тебя будет нельзя, потому что... Видишь этот бутерброд с килькой? В нем яд, действие которого длится полгода. Через полгода твой предатель Звонарев тихо уйдет в другой мир. Вот тебе аванс на три бутылки.
Ах, что же ты наделал, Леша!..
Ты уже в Москве, и давятся от смеха твои друзья и подруги в кафе "Националь", и совсем забыл ты маленький городок Зареченск с Никодимовым и тетей Настей, а Никодимов не спит. Каждую ночь бьет его дрожь из-за бутерброда с килькой, который он скормил несчастному Кольке Звонареву во время пересменка. И нету у Никодимова никакой мочи. И жизнь ему не в жизнь. И даже пить не хочется. Пропал ты, Никодимов, продал свою жизнь шпиону-разведчику, верно в газетах о них, гадах, писали. И по телеку показывали.
В милиции с разинутыми ртами выслушали бестолковую историю, которую Никодимов, плача и трясясь, рассказывал молоденькому лейтенанту. Связались с органами. Через два часа нашли Лешу. Леша привел приятелей с письмами, говоря, что от скуки и пошлости жизни подшутил над простодушным Никодимовым.
И был закрытый суд. Пошел Леша в тюрьму на полтора года за злостное хулиганство.
А Никодимов получил пятнадцать лет. За измену родине. И не вздрагивайте. Подумайте лучше. Ведь так оно и было.
Ах ты, ворон, черный ворон!
Что ты вьешься надо мной?
Аль мою погибель ищешь?
Черный ворон, я не твой...
ПЛЮРАЛИСТ ФРАНЕК
Когда Франек появился в нашем конструкторском бюро в Вашингтоне, я просто не находил себе места от радости. Еще бы, Франек говорил по-русски не хуже меня! Он сказал, что вообще-то он белорус, но сейчас приехал из Индонезии, где прожил несколько лет, и привез оттуда жену и ребенка.
Мы работали рядом, и Франек советовался со мной о тех или иных узлах конструкции, которую мы проектировали. Он не любил вспоминать о своем прошлом, но я чувствовал, что его брак с индонезийкой подходит к концу: он резко и отрывочно говорил с ней по телефону и часто бросал трубку.
Однажды во время работы я услышал, что он мурлыкает какую-то песенку, склонившись над чертежами. Я прислушался: это была песенка на идиш.
Откуда ты знаешь эту песенку, Франек? — поинтересовался я.
Папа научил, — сказал он. — Еще тогда, в Белоруссии. А вообще-то я по жене буддист. У нас, буддистов, жизнь — страдание. И после смерти мы не попадаем, как некоторые, в рай или в ад, а просто переходим к другой форме страдания. Понимаешь?
Понимаю, — сказал я. — Только зачем тебе это нужно? Ты уже достаточно настрадался, начиная с Белоруссии и кончая экзотической женой с Суматры. Ты как Миклухо-Маклай.
Не богохульствуй, если не понимаешь, — сказал Франек. — До чего же вы все тупые и невежественные, выходцы из Советского Союза! Вам бы все осмеять. Циники!
Однажды Франек пришел на работу мрачный и сосредоточенный. На его пальце было массивное золотое кольцо с таинственными письменами и эмблемой.
— Буддизм изжил себя, — сказал он. — Масоны — вот кто сможет перестроить этот мир, погрязший в пороках и ненависти. Только всемирная любовь и братство могут спасти несчастное человечество. Я стал масоном. Поскольку это секрет, никому об этом не трепись. Понял?
Понял, — сказал я. — Ты ушел от своей азиатской жены. Что будет с ребенком?
Алименты, — пробурчал он. — Алименты. И это тоже часть всемирной любви и братства между народами.
Масон Франек часто ходил в бары для одиноких и проповедовал девушкам, которых ему доводилось провожать, основные принципы франкмасонства. Одна из них ему очень понравилась. Она приехала в Вашингтон из Сирии и училась в университете. Франеку понравилось, что в баре она ничего не пила, как некоторые, и вела себя очень скромно и достойно.
Ты очень заостряешь, — сказал он мне однажды, когда я разговорился с ним по поводу событий на Ближнем Востоке. — Палестинцы имеют право на свою землю, с которой их согнали твои проклятые из-раильтяне. Вообще — все это часть масонского заговора и всемирного еврейства против миролюбивых сил арабского Востока.
Франек, иди выпей чего-нибудь, — сказал я, — а то ты в трезвом виде несешь такую околесицу, что уши вянут.
Я не пью, — сказал он грустно. — Нам Аллах не позволяет...
Франек! — воскликнул я. — Ты перешел в магометанство! Что случилось с белорусским ребенком, которого папа учил петь еврейские песни?
Я женюсь! — сказал он. — Сайда изумительная женщина!
И углубился в Коран, который он читал исключительно в рабочее время.
Он больше не откликался на имя Франек, потому что взял себе новое — Абдул Карим.
Абдул Карим! — кричал я. — Передай рейсфедер, если Аллах тебе это позволяет!
Возьми, нечестивый, — отвечал Абдул Карим и с презрением от меня отворачивался. — Мы вам, суки, покажем Кемп-Девид!
Сайда, так ловко заманившая и обратившая моего Франека, решила показать его своему папе в Дамаске, где папа в феске и белом халате ведал нефтяными делами.
Назад Франек вернулся грустный-прегрустный.
Сайда, конечно, замечательная девушка, — сказа он, — но ее папа! Когда он меня увидел, он сказал, что немедленно позвонит Ясиру Арафату, чтобы тот подготовил парочку террористов на мою душу. Он ска- зал, что только через его труп Сайда будет принадлежать израильскому агрессору, замаскировавшемуся под масонствующего буддиста. Когда я его спросил, с чего он взял, что я израильский агрессор, он ответил, что это написано у меня на носу. И только мой американский паспорт и хорошее отношение к дочери лишают его удовольствия вонзить вот этот кинжал в мое грязное шакалье сердце! Ну я тебя спрашиваю!
Абдул Карим! — сказал я. — Не расстраивайся. Мы найдем тебе другую девушку, из Ирана, скажем, и ты вольешься в ряды сторонников айятолы Хомейни и будешь строить новую жизнь на берегу Персидского залива, защищая его от иракских агрессоров и их американских покровителей.
— Не смей больше так меня называть, — потребовал он. — Я очень разочаровался в мусульманстве. Зови иеня снова Франеком...
Франек пришел на работу окончательно потерянный и несчастный.
Ты не можешь себе представить! — сказал он. — Это не уместится в твоей голове! Я познакомился с девушкой...
Франек, скажи скорей, кто она: баскетболистка, буддистка, сектантка, коммунистка? Не томи душу!
Дурачок ты ! — сказал Франек, — Она еврейка. Ее зовут Джей. Но я же умный — я сразу пошел знакомиться с родителями. Они ни в какую! Нам не нужно католиков в доме! Этого нам только не хватало!..
Постой, постой... Почему католиков?
А, я забыл тебе сказать... Когда немцы пришли в Белоруссию, моя мама приняла католицизм.
Но зато папа учил тебя петь на идиш.
Но у евреев национальность считается по маме! Ты что, забыл? Если мама католичка, то и ты — католик. А девушка Джейн просто восхитительная! Ну, что мне делать?
И Франек ушел в себя.
— Тебе повезло, - сказал я. — У меня есть друг, рабай Толик, он тебя научит, как поступить. В крайнем случае, он сделает тебя евреем, у него для этого есть все инструменты. Идем к моему другу, рабаю Толику.
И мы пошли.
— Ребе, — сказал Франек. — Я хочу жениться. Я умею петь песенки на идиш. Я люблю Джейн. Кто я — еврей или не очень? Я прожил трудную, но интересную жизнь. Я прошел огонь, воду и медные трубы. Теперь я чувствую зов крови. Об этом мне говорил еще папа, старый белорусский партизан, который увез меня в Польшу. В Польше я был католик, ребе, по маме. Потому что если бы мама в Белоруссии не догадалась стать католичкой, ее сожгли бы в Треблинке. Я был буддистом и мусульманином, я был масоном и демократом-либералом, я был всем и ничем! Потому что жизнь научила меня ассимилироваться. И теперь я хочу прийти к своим истокам. Сделайте меня евреем, ребе, потому что я хочу Джейн и ее родителей.
Рабай Толик до эмиграции в Америку был искусствоведом и писал статьи о кино в журнал "Советский экран". В Америке он отрастил шикарную длинную бороду, закончил теологический факультет и привез из Израиля очаровательную ребецин, отбив ее у безбожника мужа. Он ездил из штата в штат и учил еврейских эмигрантов из России оставаться или становиться евреями. Это была трудная миссия, потому что он имел дело с такими, как я и Франек, безродными космополитами, у которых еврейство теплилось на самом донышке души, если душа не испарилась окончательно под влиянием Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и примкнувших к ним русских патриотов и антисемитов.
Поэтому рабай Толик очень обрадовался затянувшемуся раскаянию буддиста Франека и охотно простил ему отклонения от генеральной линии хасидизма. Он выдал Франеку справку о том, что его мать, перешедшая в католичество, сделала это под влиянием смертельной опасности, нависшей над ней и ее семьей, а на деле всегда была Цилей Абрамовной, а не Кристиной Ивановной, как ее называли враги рода человеческого. Он позвонил также родителям хорошенькой Джейн и убедил их в чистокровности и благочестии Франека, чья еврейская сущность будет продемонстрирована Джейн немедленно после свадьбы. И рабай Толик показал Франеку чрезвычайно острый нож, который и довершит возвращение Франека в еврейское лоно.
— Мазелтов! — сказал Франек. — Мазелтов! И ни пяди земли палестинской организации освобождения!
БРИЗ VS. О В И Р
Я инженер. Институт, завод. Вся жизнь на заводе. Зарплата как у всех: сто сорок плюс прогрессивка. Не густо. Жена, дети, конечно. Надо подрабатывать. Чем, спросите? Кто как. Кто левую работу делает после работы, кто кое-что выносит с предприятия, поторговывает. У кого жены спекулируют. Особенно кто в области торговли и снабжения. Мы с женой так не умели. Она техник. Я другим путем подрабатывал — рационализаторством и изобретательством. Так у меня башка устроена. И перед людьми не стыдно. Дело это в Союзе копеечное. Изобретателям платят плохо, хотя экономия производству от нас огромная. Не любят у нас изобретателей. С ними возни много. Пока у нас в БРИЗе двадцатку вышибешь — состаришься. Но я не роптал. Ни одна блоха не плоха. Лучше мало, чем ничего.
Пришло время — все поехали. Сами знаете куда — в Израиль, в Америку. Поехали. Ну, и мы поехали. Пошел я в дирекцию просить справку для ОВИРа о том, что завод никаких материальных претензий ко мне не имеет. Я так подгадал, чтобы в платежную ведомость попали деньги за одно из моих изобретений. Завтра зарплата, последняя, быть может, так хорошо бы и за изобретение получить, сами знаете, как нужны деньги перед отъездом.
Справку для ОВИРа мне выдали и даже с работы не уволили, я потом работал почти до самого отъезда. Уже паспорт у меня забрали и визу выдали, а я все работал и работал. Дурной был. Завод любил. Да и ребята ко мне хорошо относились. "Гриша, — говорили, — не забывай родной завод в своем капиталистическом далеке". Я и не забываю. По правде вам сказать, таких ребят я больше нигде не нашел. Ну, ладно, не о том разговор.
Итак, справку выдали, а ведомость платежную задержали, где мое изобретение числилось и где за него деньги были выписаны.
Почему, — спрашиваю, — по какому праву, если не секрет?
Гриша, — говорят, — должны мы кое-что выяснить в Москве насчет твоего изобретения. А также по поводу твоего вознаграждения. Насчет суммы, в общем. Понятно?
Понятно, — говорю, — но поторопитесь, потому что деньги эти мне позарез нужны. Изобретательские деньги, — говорю, — святые, грех их не получить. Я мозг себе проел с этим внедрением, помните?
Очень даже все помним, Гриша, — отвечают, — но такие уж появились государственные соображения.
Я жду разрешения от ОВИРа, а сам иногда захожу в дирекцию, напоминаю о должке. Не отказывают, но и не дают. Причины находят. Одна другой смешнее.
Но вот и день пришел, когда надо в Москву ехать, визу в ОВИРе получать, с завода увольняться.
У директора в кабинете и парторг сидит, и профорг. Свои ребята, много крови мы друг у друга попили за все эти годы, сроднились, поседели на выполнении и перевыполнении, на внедрениях и на приписках. Свои ребята.
— Гриша, — говорит директор, — откровенно тебе скажу, как коммунист бывшему коммунисту: хоть и положены тебе эти деньги за изобретение, но дать я их тебе на дорогу в сионистскую эту страну у меня рука не поднимается. Не дам, и можешь подавать на меня в суд!
Посмотрел я на них. Сидят, желваками ходят, глаз не поднимают, по щекам румянец гуляет. То ли ненавидят, то ли завидуют. Я им говорю:
— Братцы, это вы совершенно напрасно так делаете. Я завтра в Москву еду, буду оформлять свои документы в голландском посольстве. Это посольство, ребята, представляет интересы советских граждан еврейской нации, которые выезжают в эмиграцию по просьбе тети из Израиля. И выходит, ребята, что если вы мне не заплатите деньги в родных наших рублях, то придется мне их получить в иностранной валюте, а что это значит, я вам сейчас объясню. За каждый рубль, что вы мне не додадите, я получу десять долларов. Такой сейчас курс пошел. Прикиньте, какой урон вы нанесете стране. Мы ведь с вами считать умеем. А ведь мы всегда за экономию боролись. Что же вы теперь делаете?
Побелели, в лицах изменились, рты раскрыли.
Директор говорит:
— Ты что это, Гриша, сейчас изобрел? Это что за рационализация такая?
Парторг говорит:
— У меня это просто в голове не умещается! Он рассуждает не как советский человек, а как неизвестно кто!
Профорг говорит:
— Не горячись, Гриша, не пори горячку! Твои изобретения могут дорого обойтись родине. За что ты ее так, родную? Она ведь тебе и образование дала, и считать научила, и изобретать заставила. И теперь выпускает тебя на историческую родину, к тете твоей, о которой ты так тепло рассказывал последнее время. А ты придумываешь рацио- нализации, как перехитрить нашу неконвертируемую валюту.
Директор встал из-за стола, пожал мне руку и дал конверт с деньгами.
— Вот, — сказал он, — как ни жаль отдавать родные деньги, но давай расстанемся друзьями, потому что если все будут лезть в голландское посольство, то вся наша экономика может полететь к чертовой матери! Не поминай лихом!
На те деньги я купил жене сережки с жемчужинками. Они были такие маленькие, что их даже пропустили на таможне.
И теперь жена их всегда носит. Они ей напоминают о моем изобретательстве и о моей изобретательности.
БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ
В Остии меня сначала подселили к одной семье, приехавшей чуть раньше: муж, жена, двое детей. Муж был взлохмаченный, озабоченный, небритый. Он все время таскал какие-то тюки, какие-то самовары, детей. Жена его неподвижно сидела в середине комнаты на табурете и молчала.
Фаня, сделай мне яичницу, Фаня, — просил измученный муж.
Куда мы едем, Ося? — спрашивала жена, не вставая с табуретки.
Ну, в Америку, — отвечал он.
Но куда именно в Америку?
Ну, к твоему дяде Нохему.
И кто мой дядя Нохем?
Ну, он миллионер...
Так почему я должна тебе делать яичницу? — спрашивала жена и смотрела на мужа снизу так, как обычно смотрят сверху.
Ах, как мы надеялись на родственников! Всю жизнь честно отвечавшие на вопрос в анкетах: "Есть ли родственники за границей?" — Нет, мы и впрямь так думали. Какие могут быть родственники, когда из-за этих паршивых родственников, удравших в Америку до и после революции, сажали, убивали, не принимали и увольняли.
Но теперь...
Папа, почему ты не был такой же умный, как твои родственники, уехавшие в 21-ом году? Ты представляешь, кем бы я уже был, если бы ты уехал?
Не морочь голову, кто тогда об этом думал?
Твой дядя Фима об этом думал! Он думал, а потом уехал. Теперь он, наверное, миллионер. Если жить в Америке с 21-го года, то, откладывая в банк по 500 долларов в год, можно спокойно стать миллионером.
А ты прав, — сказал папа однажды. — Давай найдем дядю Фиму. Зачем ему столько миллионов? Может быть, он увидит бедных родственников из России и подарит нам... ну, пусть не миллион, но сто тысяч он может нам подарить?
Зачем тебе сто тысяч, папа? Что ты будешь с ними делать?
Не волнуйся, — сказал папа, пожевав губами. — Если он мог знать, как тратить свои миллионы, то я найду, куда истратить сто тысяч. И вообще — при чем тут деньга? Просто мы хотим найти родных в этой стране. Как можно жить без родных и близких? Это у тебя одни деньги на уме. Сам иди и заработай. Умник.
И папа стал искать дядю Фиму.
Выяснилось, что дядя Фима в 21-ом году отметил свое 40-летие. Стало быть, ему сейчас должно было быть около ста лет, что маловероятно даже в Америке. Фамилия дяди Фимы к моменту отъезда из России состояла из шестнадцати слогов, что было невыносимо даже для его местечка, что-то вроде Каценеленбогеншварцкопф. Поэтому полицейские власти Америки, принимавшие беженцев из Европы, попросту сокращали трудные фамилии до первых трех-четырех букв, и гордые Белоцер-ковские становились просто Белами, а Каценеленбогеншварцкопфы — просто Кацами. Если он стал Кацем, то каким: Кацем или Катцем? И Кацем ли вообще?
—Папа, а если он не стал миллионером? Просто жил-жил, да умер. Безработным. Или продавцом в Бруклине. Или сапожником в Кливленде.
—А, ты ничего не понимаешь, — сердился папа. — У него же, наверное, есть дети. А детям уже никто не мешал здесь быть миллионерами. Америка — страна чудес. Тут даже такой олух, как ты, мог бы стать миллионером.
И папа поднял на ноги всю справочную службу в Соединенных Штатах, все общины, все телефонные книги. И пришло письмо, что папин родственник дядя Фима живет... ну, только представьте себе! — в десяти милях от нас, в маленьком зеленом соседнем городке Мэриленда! Вернее, не сам дядя Фима, дядя Фима давно умер, а его внук. И у него есть жена и пятеро детей. И он готов повидаться с родственниками из России.
Папа ходил гордый и надменный.
Что я тебе говорил? — спрашивал он. — Кто ищет, тот всегда найдет. Так уж устроено в Америке.
Папа, — сказал я, — меня немного смущают его дети. Если у него пятеро детей, то это значит, что ему самому не хватает, где ж это видано, прокормить такую ораву? Либо он хасид, а они делают столько детей, сколько угодно Богу. Пять — пять, десять — десять! Сколько получится. А хасиды редко бывают миллионерами: они не работают по субботам и не ездят на машинах. Папа, тебя ждет скромный кошерный ужин...
Ты можешь замолчать? — спросил папа. — Ты трещишь без умолку, у меня из-за тебя раскалывается голова. Но детей у него многовато...
Наш родственник, внук дяди Фимы, действительно, оказался раба-ем!
Когда мы, красиво одетые, при галстуках и с тортом в руках, приехали в тот городок, Нормана (так его зовут) не оказалось дома.
Он сейчас на демонстрации, — сказал один мальчик, выглянув из двери. Четверо других, включая девочку, с любопытством смотрели на новоявленных родственников из дальней России.
Вы из Кей-Джи-Би? — поинтересовался один.
—Нет, мы из Роквилла, — огрызнулся я. — Где папуля? Папуля где? Папуля ходил по кругу с десятком-другим своих прихожан вокруг
большого белого особняка. Они несли плакаты и иногда выкрикивали лозунги. Я прислушался.
"Джус фор Крайст ар нот джус!" — выкрикивали они.
Что они кричат? — строго спросил папа.
Они говорят, что евреи, которые за Христа, — не евреи.
Не понимаю, — сказал папа. — Если он за Христа, то, конечно, он не еврей. Что же об этом кричать?
Стало быть, есть евреи, которые за Христа.
Это странно, — сказал папа. — Либо — либо.
—Твой родственник тоже так думает.
Папа взял у кого-то плакат и тоже стал ходить по кругу, крича: "Джус фор Крайст ар нот джус!". И я стал ходить вместе с папой, чтобы исправить его произношение. И это была первая демонстрация в нашей жизни, в которой мы участвовали. И наш родственник-рабай очень нами гордился. И папа все время объяснял прохожим на идиш, что, действительно, как же это может быть: евреи за Христа? Либо ты за Христа, либо ты еврей, не правда ли? Прохожие пожимали плечами и уходили, потому что, во-первых, не понимали папиного идиша, а во-вторых, говорили они, нам бы ваши заботы.
Потом рабай отвел нас домой и угостил кошерным ужином. Он рассказал, как трудно сегодня уберечь детей от влияния растленной музыки и ТиВи, как либералы и демократы доводят страну до точки, что уже дошло до того, что молодежь организует такие богопротивные сборища, как "Евреи за Христа", что жить с каждым годом труднее, но чтобы мы не боялись, потому что Америка все еще Америка. И он подарил нам новые ермолки и просил приезжать в гости. Папа был вне себя.
Ну, как же так? — возмущался он. — Фима уехал сюда в 21-ом году! За это время каждый дурак стал миллионером. А этот Норман остался бедным рабаем! Уму непостижимо!
Папа, — сказал я. — Не нервничай. Потому что если бы все стали миллионерами, то в мире не осталось бы людей. Кто-то должен остаться, чтобы все мы чувствовали себя людьми. Вот ты сегодня, папа, первый раз выступил за свои убеждения, и я тобой ужасно горжусь!
Какие еще убеждения? — подозрительно спросил папа. — Нет у меня никаких убеждений!
Как? Ты же утверждал, что евреи, которые за Христа, — не евреи! Теперь ты отказываешься?
Я думал, что этот Норман — настоящий родственник! Почему не покричать вместе с родными? Но он подарил мне ермолку! На что мне его ермолка, у меня самого их десять штук. Родственники называется...
Ах, пала, — сказал я. — Ну, подумай сам. Человек жил-жил, работал-работал, копил-копил, и нажил свой миллион. А тут сваливаешься ему на голову ты и другие "родственники" из такой далекой России и стара- ешься у него отобрать эти деньги. Это, по-твоему, справедливо? Он для тебя их копил? Ты же типичный экспроприатор. Это у вас во время революции так грабили богатых. Если сам не умеешь заработать, отними у тех, кто сумел. Ты, наверное, скрытый революционер, папа. Ты, случайно, не большевик?
Я тебе сейчас дам такого большевика, что ты долго будешь поправляться, — сердито сказал папа. — Но с другой стороны, ты, пожалуй, прав. Раз уж мы уехали так не вовремя, не в 21-ом году, то придется доживать наш век без миллиона. Хотя, с другой стороны, уехать оттуда — всегда вовремя. А то действительно: родственники, родственники! А где мы были, когда они зарабатывали свои миллионы? Мы их клеймили и обзывали проклятыми капиталистами! А теперь пришли на все готовенькое,
Бедные наши родственники!..
МИССИС БЕРКОВИЦ
Ты все-таки приехала. Это кстати. А то сидишь одна целый день, не с кем слова вымолвить.
Он еще в больнице?
А где ему быть, если у него нашли рак? Ну, не совсем рак, но похоже, что рак. Зачем я за него пошла? Если бы я знала, что у него будет рак... Мне делали предложение люди и поздоровее и побогаче. Так мне нужно было взять этого.
Мама, перестань! Неужели ты не понимаешь, как это противно звучит?
Конечно, ты приехала делать мне замечания. Все считают, что я умная и интересная женщина, одна ты так не считаешь. Почему?
Я тоже так считаю. Только ты не умеешь придерживать язык.
Деточка, не учи меня, я уже взрослая тетя. Ты лучше подумай о своем поведении.
А что я сделала?
Ты вышла за этого гоя. Перед людьми стыдно.
Перед кем тебе стыдно? И что значит "за гоя"? Я сама гойка с этой точки зрения. Ну, какая я еврейка? И какая ты еврейка? Ты бывшая коммунистка.
Типун тебе на язык. Что ты орешь на всю квартиру? Еще услышит кто-нибудь, сраму не оберешься. Почему у тебя такой длинный язык? Скажешь тоже... Просто я была активная и любила жизнь. Знаешь, ка- кая я была хорошенькая в юности? Глаз нельзя было оторвать. И потом — все тогда делали революцию, и когда мои братья побежали в Россию делать революцию, не могла же я быть в стороне.
Могла, могла... Все нормальные люди побежали в Америку, а твоя семейка почему-то побежала в Россию.
Но Польша тогда была Россией, милочка. И это было так волнующе — делать революцию.
Ну вот вы и наделали...
Кто ж мог тогда знать... Я тебе рассказывала, как я познакомилась с твоим папой?
Э-э-э...
Ничего с тобой не случится, если ты послушаешь еще раз. Вечно ты не даешь слова сказать. Я сижу тут одна, он в больнице, некому будет глоток воды дать перед смертью!
Мама, не заводись. Расскажи, как ты познакомилась с папой.
На Арбате была фотография. А я была — бутон, я не преувеличиваю — бутон. И фотографу так понравилась моя фотография, что он выставил ее в витрине. И твой папа проходил по улице и увидел меня в витрине. В меня нельзя было тогда не влюбиться! Я и сейчас хоть куда. Перестань так глупо улыбаться! Ты не знаешь, что мне сказал мистер Штейн недавно на вечере в Джуиш Комьюнити Сентре? Он сказал: "Миссис Берковиц, вы роскошная женщина". Вот что он сказал.
И ты сказала, сколько тебе лет?
Я похожа на сумасшедшую? Или ты и впрямь хочешь меня опозорить перед всеми? Ну что за гадкий у тебя язык! Всю жизнь ты была такой! Потому что ты неблагодарная!
Мама, перестань.
Это ты перестань. И не делай мне замечания. Все считают, что я умная, интересная женщина. Так ты хочешь отравить старой маме последние дни ее жизни. Это хорошо? У тебя никогда не было тонкости. А я провела мою жизнь с настоящими людьми. Они читали книги.
Какие книги они читали?
Неважно. Они были начитанные и интеллигентные люди. С ними было приятно разговаривать. И все утешали меня и хорошо ко мне относились. Когда твой папа заболел, как я страдала! Как я страдала!
Это он страдал.
Нет, это я страдала! Потому что он был нечуткий человек. Он всю жизнь думал только о себе. И он пил. Да, да, он пил как лошадь. Каждый день. Кто это мог перенести! Он, видите ли, ревновал! Как он мог ревновать, если ничего не мог дать женщине! А у меня были запросы! Я хотела жить красивой интересной жизнью. А он не прочел ни одной книги! Да, да, он не прочел ни одной книги в своей жизни! Он знал олько одно — деньги!
Ну а как бы мы жили, если бы он не зарабатывал деньги и не рисковал, как он рисковал?
—Деньги — не главное! Жизнь дается один раз, и прожить ее надо... Ты забыла? Тебя же тоже этому учили в школе. Как быстро вы все забываете! Хорошее вы забываете, потому что у вас на уме одно плохое.
Я помню, мамочка, я помню. Я помню, как просила у тебя денег, когда училась в школе.
И что, я тебе не давала?
Давала, только рука с деньгами у тебя никогда не разжималась. Ты сначала меня учила, что такое деньги и как трудно они даются.
Они таки трудно давались. Только ты об этом ничего не знала. Ты знала одно — давай, давай!
Неправда.
Ты для этого сюда приехала, хамить и говорить маме гадости? Можешь ехать обратно в свой вонючий Нью-Йорк, если тебе не дорога мама и ее здоровье. Ты убить меня приехала!
Мама, перестань!
И ты перестань! Что за манера вставлять слова в самый неподходящий момент! Ты всегда была такая. Вот так ты себя вела, когда я нашла в Канаде Якова. Ты даже не захотела с ним встретиться. А он, быть может, там уже миллионер. Из-за тебя я потеряла самого близкого и дорогого мне человека!
Мама, не смеши меня! Ты его никогда не видела. Твой двоюродный братец убежал в Канаду шестьдесят лет назад! "Самого близкого и дорогого..." Не будь лицемеркой.
Вот! Вот ты вся в этом! Я потеряла мужа, я потеряла братьев, я потеряла всех. Так ты мне отказываешь в такой малости —встретиться с единственным живым родственником. Сейчас я, быть может, потеряю и этого мужа. Он был такой замечательный! Мы с ним имели общие интересы, мы читали одни книги. Так у него, возможно, рак, на черта мне это нужно?
Нечего было твоим братьям лезть в эту революцию. Сталин и убил их за это.
Потому что они были настоящие ленинцы! А Сталин был идиот, он не мог отличить, кто друг, кто враг.
Все он мог отличить. И ваши ленинцы были такие же сталинцы, как он сам.
С тобой невозможно разговаривать! Особенно о политике. У тебя совершенно промытые мозги. Как у твоего дорогого папочки. Он тоже каждый день болтал глупости. Я удивляюсь, как его не взяли в те годы! Он совершенно не мог сдерживаться. И если кто-нибудь думал не по его, то он просто зубами скрежетал. Вот так: у-у-у! У тебя очень миленькая кофточка. Ты не могла мне купить такую же?
Я тебе привезла.
Правильно. Первое, что ты должна сделать, — это одеть хорошо свою маму.
Если с ним что-нибудь случится, ты должна переехать в Нью-Йорк. Там все мы. Там внучек Олежка.
Он не внук, милочка, он правнук. Ты, конечно, всерьез думаешь, что я приехала в Америку сидеть с твоим внуком? Ты хочешь, чтобы все узнали, сколько мне лет? Ты хочешь меня заживо похоронить, правда? А я еще женщина, мне же нужен мужчина. Извини, что я тебе это говорю, но ты уже сама взрослая и все должна понимать. Ты думаешь, я зря сделала эту дорогую подтяжку лица? А посмотри на мои зубы. Никто не верит, что это протезы. Все-таки здесь умеют делать такие вещи, хотя это обошлось мне в кругленькую сумму.
Мама, это мне обошлось в кругленькую сумму...
Какая разница? Разве мы не одна семья? И разве неприятно видеть свою мамочку такой молодой и подтянутой? Иногда так хочется чего-нибодь вкусненького, но я буквально убиваю себя: нельзя. Ни одного лишнего фунта. И разве мне можно дать мои годы? И смотри не проговорись! Когда мы пойдем в Джуиш Комьюнити Сентер, я скажу, что ты моя племянница, которую я когда-то усыновила. Нет, не усыновила, а удочерила.
Обматерила.
Очень остроумно. Ты совершенно не думаешь о будущем своей мамы.
Ой, мама, тут в супе волос!
Ой, извини, на кухне так темно.
Но я же купила тебе очки, почему ты их не носишь?
Пусть старики носят очки! Надел очки — пиши пропало!
Кто тебе это сказал? Я всегда ношу очки.
А что ты — молодая? Посмотри на себя! Ты за собой совершенно не следишь. В твоем возрасте женщины выглядят намного моложе. И все из-за очков.
А вот и наоборот! Очки скрывают морщинки у глаз. Они как раз молодят.
Да? Я об этом не подумала. Подожди, я примерю. Так хорошо?
Гораздо лучше.
Нет, они все-таки напоминают о возрасте.
Ты же можешь попасть под машину.
Мне не надо ходить по улицам. Он все сам приносит. Я делаю вид, что не понимаю цен в магазине. Он все приносит сам. Он, конечно, золото. Жалко, что у него рак.
Это еще неизвестно.
Все известно. Он же старый, ему уже семьдесят три.
Мама, ты на четыре года старше!
Да? И я так выгляжу? Ну, еще раз посмотри! Выкусила?
Ой, мама, что тебе сказать...
Ты лучше послушай, как я поездила по Европе. Я тебе не рассказывала? Он таки раскололся на эту поездку. А на черта мне муж, который не дает мне путешествовать? Для этого я уехала из России, чтобы сидеть в этом вонючем Бостоне? Что тебе сказать? Европа — это-таки Европа. Я поехала с Нюркой, чтобы было с кем поговорить. Муж ее рвал и метал. Но она железная. Ты обещал мне красивую жизнь в Америке? Где она? Сидеть в твоей лавочке день и ночь — это жизнь? Для этого я все бросила? Хочу в Европу. И она его таки допекла. А я своего. И это была чудесная поездка. Все было так романтично. Лувр. Собор Парижской матери...
Богоматери...
Ты лучше слушай. И не забывай, что это я дала тебе образование, что ты такая умная. Собор Парижской богоматери, Лувр. Чудо, чудо. Так эта Нюрка увлеклась шофером, который нас возил. Ну не проститутка? Форменная проститутка! И они спали каждую свободную минуту! Прямо у нас в отеле. И не с кем было слово сказать. Нюрка вообще неграмотная женщина. Она увидела Эйфелевскую башню и спросила: "Зачем здесь поставили эту вышку?" Ну, подумай: Эйфелевская башня для нее — вышка! Потому что она совсем не читала книг! У них в Кременчуге никто не читал книг. Так что эта поездка была выброшенные деньги. Я устала как лошадь. Ну, подумай сама, у меня до этого было несколько предло-жений, зачем я взяла этого, если у него рак? Тут у одного умерла жена. И она ему сказала, что если она умрет, то пусть поскорей женится, чтобы не оставаться одному. Через месяц он мне об этом рассказал. И я сказала, что подумаю. Но тут подвернулся этот. А у того было гораздо больше денег. Он каждый год ездит в Израиль. Ты думаешь, что Израиль проиграет эту войну? Ты знаешь, он хотел купить кондоминиум во Флориде. Так теперь он лежит в больнице. Не дай бог, что случится, я же одна туда не поеду. Я должна жить там, где интеллигентные люди, где читают. Я напишу завещание, что когда я умру, этот кондоминиум останется тебе. А ты пока будешь за него платить. Идет? И ты поможешь маме, и мама поможет тебе.
Мама, при твоем образе жизни ты еще получишь мой кондоминиум.
Грубиянка! Ты хочешь, чтобы я умерла. А я живу! Живу! А ты так, прозябаешь. И жди после этого благодарности от родной дочери!..
ЖМЫХ
Ну как же вы еще не были в Израиле? Стыдно! Что значит "нет денег"? Ни у кого нет денег, однако, люди крутятся, находят возможность и едут! Ну, а как не посмотреть историческую родину, как не прикоснуться к камням предков? Я серьезно советую — езжайте, не пожалеете !
—Я лично? Конечно, был! С целой группой. Нас принимали, как царей! Министр абсорбции говорил речь, заслушаться можно! Он сказал, чтобы мы не валяли дурака, а скорее переезжали в Израиль, потому что это наше место! А для таких, как Семен Григорьевич, он сказал, у нас будет не только ласка, но и любовь, потому что родина не забывает подвигов.
—Кто Семен Григорьевич? Я, конечно! Кто же еще Семен Григорьевич? Все-таки, когда есть память, когда помнят то, что ты сделал, пусть вольно или невольно, какие-нибудь сорок лет назад, — это трогает до глубины души! А потом — ну, что я такого сделал, чтобы об этом при всех говорить? А видите — министр помнит! Потому что это такая стра-на: "никто не забыт и ничто не забыто!"
—Вам действительно интересно? Слушайте, я не собираюсь строить секреты: что было, то прошло. А с другой стороны, если уж они помнят, то что, я должен забывать? Хотя почему меня тогда не расстреляли, ума не приложу! Это было во время войны. Мы уже освободили Румынию, и я там немножко засиделся, потому что был к тому времени капитаном интендантской службы, и надо было собрать трофеи и брошенную румынами и немцами технику и оприходовать всякое барахло — хозяйство! И все это валялось на складах, и никому до этого не было дела, потому что армия уже ушла вперед.
И я жил припеваючи. Припеваючи — это когда не стреляют, не убивают, не бомбят. И население хорошо относится к освободителям: так тогда называли нас, оккупантов. Всем хочется есть, и все предлагают деньги за консервы. И ты их кормишь и кормишься возле них сам.
Я же был боевой офицер, стало быть, мне был положен ординарец. Васька, хороший гойский парень, не нахал, неглупый, понимал все с полуслова. Гойский гешефтмахер. Он там крутился среди населения, менял, обменивал, торговал. Обеспечивал будущую жизнь.
Однажды пришел ко мне.
Семен Григорьевич, — говорит, — товарищ капитан! Нашел на базаре турка. У турка есть контрабандный шоколад. Я пробовал. Толстый, как подошва, вкусный, как баба. Отдает почти за так. Возьмем?
Возьми, — говорю я. — Попадешься — расстреляю! Дело ведь простое. Меня в это дело не путай. Я советский офицер, а не спекулянт.
Через несколько дней приходит Васька.
Семен Григорьевич, товарищ капитан, есть покупатели на шоколад. Только они со мной разговаривать не желают, потому что я для них простой солдат. Они хотят офицера из ваших.
Из каких "ваших"?
Васька мнется, ручками разводит, никак не примерится сказать, что у него на уме.
Понимаете, товарищ капитан, они из ваших будут, евреи называются.
Принеси свой шоколад.
Васька приносит ящик. Смотрю: золотая и серебряная обертка, орлы выгравированы, таки шоколад. Васька развернул пачку, дал попробовать кусочек: "Пальчики оближете!"
—Зови своих евреев.
Входят двое. Не наши, румынские. В тапках, с бородами, в черных длинных пальто. Евреи. Разговаривают на идиш.
—Чем могу служить, любезные хаверим? — говорю на идиш.
Засуетились, засмеялись, обрадовались, смотрят на меня, как на Сталина. Деньги Ваське сунули, ящики с шоколадом забрали, тысячу спасибо сказали. Через два дня приходят два старика. Евреи, но интеллигентные. Грустные.
Очень извиняемся, пан капитан, но вышло маленькое недоразумение. Так дела не делают. Извольте денежки назад.
Что такое? Где сукин сын Васька? В чем дело?
Так что шоколад в конце концов оказался не шоколад! Это сверху лежало несколько пачек шоколада. А внизу — жмых!
Какой жмых! Что такое жмых? Там ведь и обертки с золотом, и орлы. Как же жмых?
Мы, конечно, все понимаем, товарищ капитан, — печально говорят евреи, — и на старушку бывает прорушка, но деньги есть деньги, а нам надо детишек кормить. У нас детишки есть, немцами недобитые. Не ожидали, — говорят, — что офицер, еврей, пойдет на такое дело. Извольте денежки назад.
Я бросаюсь искать прохвоста Ваську. Сидит в кабаке, пьет. С такими же, как сам, прощелыгами.
Сержант Никутькин, — говорю я, — одевайся, пойдем в трибунал, я тебя, сучья нога, судить буду! Где деньги от евреев?
Нету денег! — говорит Васька. — Пропил я их за ваше здоровье. А чем плох тот шоколад?
Я тебе дам шоколад, выродок! Ты зачем жмых за шоколад продал?
Побелел Васька, забожился, заклялся, зарыдал, в грудь себя стал ударять, что был там шоколад, он сам видел, да и морда у того турка была честная, усатая, чистая. Что отдал ему Васька еврейские деньги, а заработок оставшийся пропил с ребятами из комендатуры и двумя девочками, цыганочками, да вот и они сами, посмотри, Семен Григорьевич, товарищ капитан, разве можно было удержаться?
Вернулся я к тем двум евреям, а там уж и третий сидит, маленький, нахмуренный, сосредоточенный.
Все, думаю, донесут в комендатуру, снимут с меня погоны и отправят в штрафной кровью смывать Васькин шоколад. А сам говорю:
—Успокойтесь, товарищи евреи. Деньги, конечно, Васька пропил, такая уж у них гойская натура, но мы что-нибудь придумаем. Соберу я другим путем деньги и верну вам. Договорились?
Маленький, нахмуренный говорит:
Мы видим, что вы, капитан, к этому мошеннику не имеете отношения. Но деньги есть деньги, И негоже, чтобы Красная Армия -освободительница вела себя так же гнусно, как немецкие захватчики и их румынские прихвостни. Давайте иначе уладим наше дело. Вы нам под эти деньги другой товар дадите. У вас ведь склады, а вы их начальник, верно? И на этих складах никакого учета нет, поскольку вы еще ни чего не приходовали. Это нам доподлинно известно. Что же вы хотите, любезные?
Они переглянулись, и нахмуренный сказал:
Оружие. Там у вас на складах трофейное немецкое оружие. Оно у вас на этом складе сгниет, а нам оно нужно позарез. Вот мы и будем в расчете. И забудем про несчастный жмых, как будто его никогда не было.
Зачем же вам оружие? — удивился я. — Вы же евреи. Евреи стрелять не умеют, они в Ташкенте отсиживаются, не про меня будь сказано.
Они с презрением на меня посмотрели, а потом сказали:
—Семен Григорьевич! (Я аж вздрогнул, откуда они все знают!) Мы сейчас боремся за свою страну, за Палестину, и без этого оружия нам каюк! Так что вы еще выполните свой еврейский долг, который вам никогда не забудется!
Я так прикинул и этак. С одной стороны — трибунал, и с другой стороны трибунал. Но оружие это немецкое, действительно, валяется штабелями, и пока мы его оприходуем, война может кончиться. Но ведь это, прямо говоря, политическое дело: помощь иностранной армии во время войны. Расстрел! Там расстрел, тут расстрел и здесь расстрел! Ну, Васька, попадись мне, убью к чертовой матери вот из этого пистолета! И тут расстрел...
—Вы не волнуйтесь, Семен Григорьевич, — говорят евреи. — Мы грузовик подгоним, все погрузим, а вы только дверь откройте, да часовому прикажите отвернуться. Мы это мигом! Раз-два, и готово! А? Что скажете?
И на другой день подъехала машина с евреями, переодетыми в советскую форму (не иначе, как Васька продал!), я открыл дверь склада, приказал часовому смотреть в небо и считать вражеские самолеты, если они прилетят, и не прошло получаса, как нагруженная машина исчезла за углом.
А для меня кончился покой. Я уж думал остаться в армии после войны, потому что была у меня офицерская косточка, но очень я боялся, что узнает кто о моем еврейском деле, и пиши пропало!
Я демобилизовался, уехал в маленький украинский город и всю жизнь там проработал по снабжению. А когда пришло время уезжать, погрузил семью, попрощался с родиной и поехал в Америку.
И вот такая встреча в Израиле. Я уже давно забыл про ту историю, а они все помнят! И говорят, что без того оружия им труднее было бы драться за свободный Израиль. Так что, что ни говорите, но никто не забыт, и ничто не забыто...
А Васька? Что Васька! Ваську убили на той войне. Через две недели и убили. Подорвался он на мине на базаре.
Так когда вы едете в Израиль, скажите пожалуйста?
БУСЬКА
Васю Гвоздева я знал давно. Он крутился в наших ди-пишных лагерях в Германии, веселый такой подросток, не дурак выпить, погуже-ваться, побегать за девчонками, русскими и немецкими. В Россию ему возвращаться было незачем: отец его во время оккупации был бургомистром и ушел с немцами в Германию в конце войны.
Потом я встретил его уже в Америке, в начале пятидесятых. Вася рвался к образованию. Но, как назло, он к тому времени женился на избалованной, богатой и истеричной американке, которая устраивала ему скандалы и заставляла вести пустую светскую жизнь: шляться на скучные "парти", заводить ничего не значащие разговоры со знаменитостями на этих вечеринках и играть в гольф, который Вася ненавидел. Было у них много стычек и побитой посуды, потому что Вася хотел учиться и добиться чего-то в американской жизни.
И добился. Стал человеком, ушел от своей американской жены, встретил русскую женщину, женился на ней, купил дом и собаку.
Вот про собаку эту и пойдет разговор.
Она была из породы сенбернаров, здоровенное лохматое чудовище весом в двести килограммов, ленивое и глупое. Она любила неподвижно лежать в гостиной, и все должны были через нее перешагивать, потому что она занимала три четверти комнаты. Да и перешагнуть через нее было нельзя. Слон, а не собака. Ее звали Буська.
У Васи был странный двор. Он крутой горкой взмывал вверх, а там, вверху, на склоне был другой участок, принадлежавший другому хозяину этого чикагского пригорода. И там жила другая собачка, маленькая нежная болонка, которую Буська не любил. Когда болонка просовывала свою мордочку сквозь дыры в сетке, разгораживающей участки, Буська срывался с места и, кряхтя и роняя сопли и слюну, взбирался на горку, где рявкал и рявкал на болонку, пока хозяин не уносил ее в дом. Но каждый альпинист знает, что взбираться наверх гораздо легче, чем спускаться вниз. Буська, здоровенная разжиревшая ленивая скотина, совершенно забывал об этом правиле. Наверх к болонке он еще кое-как добирался, а вот вниз — никак не мог. Поэтому он садился на свою широкую жирную задницу и съезжал вниз, губя траву, ломая кустики и, набирая скорость под действием своего чудовищного веса, въезжал прямо в гостиную Васи, где уже доламывал стулья, лампы и столики со всякой всячиной. Я бы этого Буську давно убил или подарил врагу.
И вот однажды у Васи была большая вечеринка. Это он получил большое повышение по службе и хотел отпраздновать событие в кругу близких друзей. Мы собрались в гостиной с бокалами в руках. Но пройти было невозможно. Этот Буська лежал посредине и смотрел на всех, как солдат на вошь. И не шевелился. И мы не могли пошевельнуться, потому что Буська ни за что не хотел уходить. Мы уж его легонько, незаметно пинали ногами, и уговаривали, и покрикивали на него — Буська лежал, как изваяние.
И тут вошел Вася Гвоздев, веселый, с цветком в петлице, чуть постаревший с тех времен, когда я его знавал в Германии, с рюмкой водки в руке. Он увидел наше замешательство и недовольство и сказал:
— Не можете, лопухи? А ведь очень просто его отсюда прогнать. Смотрите.
Он приблизил свое лицо к Буськиной лохматой морде и крикнул:
— Буська, жиды!
Ах, что случилось с Буськой! Он вскочил на лапы, шерсть у него ощетинилась, показались клыки. Он заревел, как лев, и стал похож не на ленивого жирного сенбернара, а на поджарую, мускулистую овчарку. Глаза у него налились кровью... И он выскочил из гостиной во двор, как пуля.
Все смеялись. Все просто заливались от смеха. И Вася Гвоздев громче всех.
А я поставил свою рюмку на стол, посмотрел на их смеющиеся рты и ушел. И больше никогда не видел Васю Гвоздева и его собаку Буську.
ПО ДОРОГЕ В БАРНАУЛ
Жене Ч.
Один мой знакомый, не про меня будь сказано, служил разносчиком обедов в поезде Москва—Барнаул. Как я вспомнил это слово — Барнаул—и для меня тайна. Но он там работал, потому что его уволили из научно-исследовательского института, где он до этого служил старшим научным сотрудником, поскольку он, как дурак, подал заявление на эмиграцию, упирая при этом, что его бабушка была не Екатерина Васильевна Спиридошкина, а Эсфирь Ильяшевна Лапидус, вынужденная сменить все, что можно сменить, во время революции и коллективизации, которые она проводила под руководством других товарищей, тоже сменивших все, что возможно, и теперь проживающая в государстве Израиль под вышеупомянутым еврейским именем. Директор института, где работал мой знакомый, брезгливо выслушал бредни моего знакомого и тут же уволил его под предлогом сокращения штатов. Вот он и стал разносчиком обедов в поезде Москва—Барнаул. То есть он работал в вагоне-ресторане.
Один ублюдок назвал вагон-ресторан омерзительной столовкой, которая уезжает от отравленного ею человека со скоростью 40 километров в час. Яд действует не сразу, поэтому отравленный успевает сойти на своей остановке.
Вот в такую систему и попал мой знакомый (по блату, конечно, иначе кто бы его туда взял с бабушкой, поменявшей красивое имя Екатерина на безобразное Эсфирь?).
Его работа заключалась в том, чтобы разносить судки с горячей пищей по вагонам, где ее мог съесть, а по-нашему скушать, каждый желающий по цене один рубль за судок. Платали моему знакомому 70 рублей в месяц, что не так уж много даже для развитого социализма, можно просто ноги протянуть, но, как вы вспоминаете, не в этом дело. Никто не может прожить на 70 рублей, даже актеры, которым сколько ни давай, им все мало.
Но главный доход моего приятеля состоял в том, что директор того вагона-ресторана давал ему на каждую ходку двенадцать обедов казенных, а один — ему лично. Не для того, чтобы съесть, конечно, а для того, чтобы продать. Почему не съесть, вы поймете потом, если у вас хватит терпения прочитать эту историю до конца. За десять ходок наш юноша получал 10 рублей в день, то есть, грубо говоря, 200 рублей в месяц! И если прибавить сюда его зарплату, то он получал ничуть не меньше того брезгливого начальника, который его уволил из-за бабушки.
За что же, спросите вы, директор того вагона-ресторана платил моему знакомому такие неплохие, в сущности, деньги? И я отвечу: за аккуратность в исполнении своих обязанностей.
Тут вам захочется рассмеяться и сказать автору: Илья, не валяй дурака, я сам работал как черт, ночами не спал, план выполнял, красное знамя держал, с доски почета не сходил, а хрен мне платили такие деньги. Не загибай.
А я не загибал. Дело все в том, что наиболее важную часть обеда, уложенного в судки, составлял борщ (если вы помните, что это такое) с мясом. И действительно, в каждом металлическом судке с борщом лежал кусочек мяса, вес которого строго соответствовал раскладке (ага, забыли этот замечательный термин, собаки!). Пассажир хлебал борщ выданной ему металлической ложкой (иногда с дыркой посредине, чтобы не сперли), пытаясь в то же время сжевать плавающее в нем мясо. Но мясо почему-то было жестковато, и он его выплевывал (не на пол, мы же культурные люди), а обратно в тарелку.
Честно говоря, пассажир и не мог бы съесть это мясо, потому что его не варили, а лишь слегка поджаривали для цвета. И теперь вы уже, как умные люди, все понимаете. Мой знакомый, бывший ученый, а ныне разносчик обедов, собирал судки у отобедавших пассажиров и относил их обратно на кухню ресторана. Там вылавливали из судков кусочки мяса (не объедки, не дай бог, а кусочки, потому что их не ели, а только жевали!), они шли в котел, где их варили до, как бы это сказать, полуготовности, что ли, чтобы они совершили второй цикл: судок — пассажир — кухня. (Я всегда с негодованием слушаю антисоветские измышления западных советологов о научно-техническом отставании Советского Союза. Ну не гениальна ли технологическая линия в ресторане поезда Москва-Барнаул?).
На третий раз мясо все же съедалось. Говоря научно, это был тройной цикл прохождения продукта в процессе производства (надеюсь, я не слишком сложно все излагаю?).
Куда же девались остатки мяса, спросите вы? Ведь не сожрали его работники вагона-ресторана и их родственники? Так ведь и лопнуть можно. Да и опасно. Вынесешь мешок, а тут как тут ОБХСС, чтоб он сгорел! Нет, все не так. Просто на всех станциях к поезду бросаются люди в надежде купить что-нибудь. И в вагоне-ресторане они могут купить немного мяса. По закону. Есть такой закон, по которому директор вагона-ресторана может продать маленькие излишки своего товара. Вот он и продает. По накладной. Все чисто, как слеза ребенка. Там же можно купить спиртные напитки. Водку, например. Буфетчица Нюрка, в зависимости от жадности, нахальства и связей директора, очень аккуратно "достает" водку из запечатанной бутылки медицинским шприцем. Немного, всего процентов 25—30, и даже вы, искушенный алкаш, испорченный "смирновской" и "абсолютом", ничего бы не заметили, потому что водка в России всегда двух сортов — хорошая и очень хорошая. А поезд уже ушел.
—Но, — закончил рассказ мой знакомый (его все-таки выпустили, и он теперь снова старший научный сотрудник. Или средний, но обязательно станет старшим, зря что ли, он мучился в поезде Москва-Барнаул!), — предположим, что кто-то из пассажиров вдруг поднимал крик по поводу недоваренного мяса или разбавленного коньяка, тогда к нему приходил шеф-повар (шеф, потому что всегда был "подшофе", ну что за глупый каламбур, прости Господи!) и говорил:
— Хулиганничаете? Умного из себя строите? Оскорбляете при исполнении обязанностей? А вот составим протокол! А может, у вас бабушка и не Екатерина Васильевна вовсе?
И на следующей станции молодчика забирали в милицию.
А поезд уже ушел.
ШЕЙГИЦ
Товбины были благополучной московской семьей: папа инженер, мама бухгалтер и Леночка, которая училась играть на скрипке. Собственно, она училась не столько играть, сколько завоевывать призы на всесоюзных и международных конкурсах. Этому и учат в консерватории. И так бы они и жили, если бы Леночка не влюбилась. Это тоже полбеды, потому что рано или поздно все Леночки влюбляются. Даже те, которые играют на скрипке. Правда, им гораздо труднее, потому что, чтобы побеждать на всесоюзных и международных конкурсах, надо играть по десяти часов в день, и на личную жизнь почти не остается времени.
Но Леночка не просто влюбилась, а безумно влюбилась в Колю Жердакова, соседского парня, только что окончившего школу и не попавшего в институт. Поэтому у него было достаточно времени, чтобы бродить под окнами у Товбиных, вздыхать, ждать Леночку утром и относить ее скрипку в консерваторию и обратно. Во время этих прогулок Леночка и влюбилась.
Папа Товбин — инженер и мама — бухгалтер очень волновались. Потому что Коля, как вы уже поняли, был шейгиц, гой, сын уборщицы Нюрки из восьмой квартиры. Что общего у него и этой Нюрки может быть с Леночкой Товбиной, красивой еврейской девушкой из консерватории? И вообще, это такая дикость — Коля Жердаков! Что, нет хороших еврейских ребят? Так нет, ее тянет к этой антисемитке Нюрке, которая на всех перекрестках орет, что жиды во всем виноваты, что они и Сахарова энтого испортили, ведь чего ему, проклятому, не хватало? И зарплату, небось, огребал — пятьсот рублей, а может, и побольше, и квартира у него была чуть ли не четырехкомнатная, и машина. А ведь все ему мало! Вот и продался на еврейские денежки американским шпионам! Вот взять бы хворостину и погнать их всех в Палестину!
Вот в такого парня влюбилась их дочка! Перед людьми стыдно.
Товбины и так прикидывали, и эдак, и с Леночкой строго говорили, и с друзьями советовались, и родственников подсылали — не слушалась Леночка, хоть убей ее! А как убить единственную дочку, радость такую, лауреатку всех будущих конкурсов?
И Товбины решились на радикальную меру: уехать в Израиль. А там забудет Леночка и Кольку Жердакова, и мать его Нюрку, и никто не будет орать гадости на улицах и в газетах, и все равно все знакомые и друзья уже уехали, а там - как будет, так будет.
Но Леночка оказалась не робкого десятка, и даже не робкой сотни, она пришла однажды домой со своим Колей и сказала, что они расписались, и теперь Коля, как член семьи Товбиных, тоже подает заявление в ОВИР на выезд на родину предков — в государство Израиль. Выкусили?
* * *
Даже в аэропорту Лод в ушах Товбнных стоял крик уборщицы Нюрки во время их выезда из Москвы. Нюрка кричала, что жиды эти совсем распоясались, окручивают и забирают с собой русских детей, кро-винушку нашу родную, и Сахаров энтот с Солженицером проклятым совсем замордовали русский народ, и что же это делается, братцы, смотрите, как Кольку, мою сиротиночку, везут на войну с арабами этими несчастными, но отольются им слезы наши советские, чтоб они сгорели, окаянные!..
Тут мы пропустим несколько лет, потому что все было у Товбиных, как у всех: помучились, набегались, пристроились, язык подучили и зажили: папа инженером, мама бухгалтером, а Леночка на скрипке доучивается, к конкурсам готовится — всеизраильским и международным.
А где же Коля? Коля где? Не упустили ли мы мужа Колю в чужом, непонятном государстве Израиль?
Нет, не упустили. Коля все так же любит Леночку. Но скрипку за ней уже не носит. Потому что надо работать. И Коля работает ювелиром. Бизнес этот древний, еврейский, все ювелиры в Израиле — хасиды. Хасиды это такие евреи в черных костюмах и черных шляпах. И учится у них Коля изо всех сил. Потому что, если ты в бизнесе, то должен стать профессионалом. Любителей здесь не держат. Это вам не Москва.
И не может Коля отставать от хозяина, реб Шломо. Как реб Шломо скажет, так Коля и сделает. И черная шляга очень даже идет к Коли-ному лицу, опушенному славной рыжей бородкой. И пейсы у Коли не хуже, чем у лучшего ювелира в их фирме, Ахадона Кишона. И на иврите Коля шпарит не хуже любого сабры: очень он оказался способным по части иностранных языков.
По субботам Коля не работает. Он просит Леночку зажечь субботние свечи и прочитать над ними молитву перед обедом.
А Леночка очень сердится. Ей все это кажется диким и первобытным.
—Мы же современные интеллигентные люди, — жалуется она. — Что это ты напридумывал? Я же артистка, педагог! К лицу ли нам все это? Люди смеяться будут! Как это не пойти в театр в субботу? Ты меня хочешь, Колька, в гроб загнать? Для этого мы сюда выезжали?
Коля хладнокровно выслушивает Леночкнны речи и говорит ей:
—Ну скажи, Леночка, чем ты отличаешься от моей неграмотной и не образованной мамы Нюры, дай Бог ей здоровья! Зажги свечи, дорогая, скажи молитву. Барух ата Аденой...
Но Леночка (помните, какая она была решительная и не робкого десятка?) собрала вещи и ушла от Коли к тромбонисту Арону Вайсману, недавно приехавшему из Ленинграда. Но что-то ее там мучило, перед глазами все время стоял Коля, и было почему-то пусто и тоскливо в ее душе. Тромбонист Вайсман был современный и интеллигентный, но чужой.
И однажды Леночка позвонила Коле и сказала, что не может и не хочет больше без него жить. И готова теперь зажигать свечи хоть каждый день, и все молитвы она выучила наизусть, и хочет теперь только одного: ребенка от Коли. А международные и всеизраильские конкурсы от нее все равно никуда не уйдут.
И Коля простил Леночку.
И только однажды, сидя за субботним столом с Леночкой и Авивой (котороя родилась у них вскоре), он, почесывая свою роскошную рыжую бороду, сказал:
—Одного я не могу понять, Леночка, как ты могла выйти замуж за гоя?
ЧАШКА КОФЕ
Он пощелкал ножницами у моего виска и сказал:
И в этом все дело. Настоящий мастер отличается от простого парикмахера тем, что знает, где, как и сколько снимать. За это вы и платите пятнадцать долларов. Потому что мужчина начинается с головы. Где он кончается — это другое дело. Но начинается он с головы, и этот предмет должен выглядеть красиво.
Давно вы здесь? — поинтересовался я.
Давно. Когда поехала Рига, я был одним из первых. Чуть вправо головку, пожалуйста.
Семья, дети?
Жена, ребенок. Но у меня особый случай. Вы обо мне еще не слышали?
Нет. А что такое?
Мне кое-что выпало в этой жизни. Раечка, вы же видите, что клиентка жаждет расплатиться. Перестаньте точить лясы и не забудьте сказать спасибо... Это совершенно дикая история, но вам будет интересно... Вот здесь чуточку подправим... Видите, это уже совсем другая голова...
Ну так не тяните, рассказывайте.
Понимаете, там, в Риге, я был мастером номер один. Не два, не три, а именно номер один. Вы скажете, все эмигранты так говорят, все почему-то там были первыми номерами, доцентами, докторами наук, профессорами. Ну так я был профессором в своем деле. После меня женщины выглядели, как мисс Америка. Потому что я любил свое дело. И я умел обращаться с клиентками. В парикмахерской им надо поговорить. Потому что дома им не с кем разговаривать. Мужья не слышат. Они читают газету и смотрят телевизор. Футбол для них важнее. А мастер делает их не только красивыми, но и умными. Потому что он не спорит. Он слушает и иногда вставляет свои замечания типа "конечно", "кому вы рассказываете", "ах, как это правильно". И женщина уходит удовлетворенная. А я чувствую себя человеком. И если она уже рассказала все, что ее волнует, то не скупится на чаевые. Головку чуть влево, пожалуйста...
Как мы тут намучились сначала, не вам рассказывать, вы это знаете не хуже меня. Потому что без языка. Потому что первое время. Потому что надо всему переучиваться. Но если ты любишь свое дело, если ты знаешь, чего хочешь, то добираешься до своего места в жизни и можешь отложить пару долларов в банк.
И в один прекрасный день я купил этот салон. Вы знаете, сколько стоят эти зеркала? А кресла? Вам, кстати, удобно сидеть? У дантистов нет таких кресел. Можно было, конечно, купить подешевле, но клиент должен сидеть в моем кресле, как на троне, потому что для меня он — король! Вот сейчас вы король. Вам нравится? Всем нравится.
И, конечно, пошли дамы. У меня здесь "унисекс" — мы обслуживаем как женщин, так и мужчин, но дамы — это главное...
Пришла одна девушка. Не девушка, женщина, но выглядит, как девушка. И я сделал ей голову. Я хотел сделать ее красавицей, потому что до этого ей делал голову какой-то парикмахер, который брал с нее, как мастер. Самозванцы есть в любом деле, не мне вам рассказывать. Я ее попросил закрыть глаза. И когда она их открыла и посмотрела на себя в зеркало, то она себя не узнала. И я ее не узнал. Потому что я превратил ее в принцессу. И больше она никого не хотела знать. Она приходила ко мне каждую неделю, и я делал ей укладку, я ее стриг, мыл, я ее держал в форме. А она со мной разговаривала. И за это она меня полюбила. Вот здесь, за ухом, я еще немножко заберу...
Постойте, постойте, что значит полюбила?
Полюбила — это значит полюбила. Она стала приходить ко мне каждый день. И дожидалась, когда я кончу работу. И отвозила меня до мой в своей машине. И на утро приходила снова. И я не мог ее прогнать, потому что мне было приятно на нее смотреть. И в один прекрасный день ко мне в салон пришел маленький квадратный пожилой человек в черном костюме в белую полоску, сел на диван и стал за мной наблюдать. Я пригласил его в кресло, но он сказал мне по-еврейски: "Потом, потом, у меня есть время" и продолжал на меня смотреть. Поверьте, я чувствовал себя не очень-то приятно. А он сказал: Присядьте на минуточку, у меня к вам есть дело.
Мы сели вот на этот диван, он расчесал пальцами усы и сказал:
—Я приехал сюда из Колумбии. Это там, в Южной Америке. У меня там кофе. Много кофе. Все кофе Колумбии. И у меня есть дочь. Одна. Единственная. И она вас хочет. Она хочет, чтобы вы на ней женились. Ее зовут Ребекка.
Ребекка? Это та Ребекка, которую я сделал принцессой? И это ее папа?
Вы сошли с ума! — сказал я. — У меня жена, ребенок. Что значит женились?
Женились, — сказал он, — это значит, что вы разводитесь со своей нынешней женой и женитесь на моей Ребекке.
Честно говоря, мы с женой жили не так уж хорошо. И если бы не дочка, я даже не знал, как бы мы с ней жили. Потому что она меня не очень любила. Она очень любила деньги, которые я зарабатывал. И она все время хотела, чтобы я сменил профессию. Ей казалось, что меня окружает слишком много женщин. Но мне не хотелось менять ни того, ни другого. Так не беспокоит?
—Папаша, — сказал я, — может быть, у вас в Колумбии вот так делаются дела, но мы, слава Богу, живем в Америке, и у нас все по-другому. И я вас даже отчасти не понимаю...
—Дорогой друг, — сказал папаша, - я не привык, чтобы мне отказывали. Так уж я устроен. Если все дело в вашей бывшей жене, то позвольте мне это устроить. Дайте мне ваш адрес.
Я засмеялся и дал ему адрес. Я подумал, что будет очень хорошо дать урок моей Греточке, чтобы она поняла, что я парень хоть куда, что и у меня есть шансы, что даже в далекой Колумбии знают о моем мастерстве и обаянии.
Через два часа позвонила Грета и сказала, что она согласна дать мне развод! Потом трубку взял этот колумбийский дядька и сказал, что дело сделано, он сейчас ко мне приедет, и мы договоримся о дальнейшем.
Я ничего не понимал. Что происходит? Что творится с моей жизнью? Что он такое сказал моей Грете, что она согласилась меня потерять? И кто этот квадратный старик в белую полосочку, который влез в мою судьбу?
Он вошел в салон и сказал:
—Грета - настоящая женщина. Она сразу все поняла. Я ей сказал, что Ребекка хочет ее мужа. Вот чек на два миллиона долларов. Этого достаточно? И Грета сказала, что этого достаточно. Вы свободны. Те- перь скажите мне, вы сможете полюбить мою Ребекку? Скажу вам одно: она бриллиант. И в очень хорошей оправе.
И он похлопал себя по карману.
—Вы из Риги, — продолжал старик, — а я из Вильнюса. Я из Вильнюсского гетто. Туда нас они согнали. И я из Треблинки. Туда они нас перегнали. И там у нас с женой родилась девочка. Нет, нет, это была не Ребекка. Это была другая девочка. Там она и умерла. А мы остались живы. Я и жена. Оба остались живы. И после освобождения мы поехали в Колумбию. Почему не в Америку? Не знаю. Все поехали в Америку. А мы в Колумбию. И я работал день и ночь. День и ночь. В Колумбии тогда ничего не было. Только кофе. Хороший кофе. Лучший в мире. И я его выращивал. И покупал. И продавал. И сделал большой бизнес. Там у нас родилась Ребекка. Как мы над ней дрожали! Ведь мы уже потеряли одного ребенка. И все было посвящено Ребекке. Вся жизнь. Весь бизнес. И когда ей было восемь, ее у нас украли...
Кстати, вы хотите покороче или подлиннее? Я советую покороче... Он помолчал.
—Да.., Этот короткий старик мне очень понравился. В нем было что-то, что нам, с нашим прошлым, трудно понять. Вот, например, вы можете понять израильских солдат? Можете ли вы представить себя на их месте? А ведь они такие же евреи, как мы с вами. Только есть в них еще что-то, что нам недоступно. Смелость. Убежденность. Профессионализм. Они такие же и не такие... Так и этот старик.
Выкрали Ребекку. И прислали письмо о выкупе. Три миллиона. Прийти одному, без свидетелей. Если что не так, убьют девочку на месте. И он пошел. За городом пещеры. Там они ее держали. Пятеро. Он вошел, крикнул дочке по-еврейски: "Ложись!", она бросилась на землю, он вынул автомат и расстрелял всех пятерых. "Я не привык бросать деньги на ветер", — так он мне это объяснил. Он привык добиваться своего. Вот почему у него все кофе и все деньги Колумбии, а у нас с вами... Впрочем, каждому свое.
А что Ребекка? Где Ребекка во всей этой ситуации? — спросил я.
Ребекка? Как где? Здесь. Сейчас придет. Где ж ей быть?
И как вы живете?
Изуми-и-ительно! — протянул он. — Мы живем изумительно! Я даже не знал, что так можно жить. Мы живем душа в душу. И дочка моя часто у нас бывает. И дом у нас — загляденье. Во всей Пенсильвании не отыщется такого дома.
Так зачем же вы работаете, наследник колумбийского кофе? — язвительно спросил я.
Как можно не работать? — обиделся он. — Вы бы смогли не работать?
Ну занялись бы другим делом, акциями, например...
Да? А ну-ка посмотрите на свою голову.
Я посмотрел в зеркало. Это был не я! Моложавый сексуальный бог смотрел на меня в зеркало,
—И я должен бросить это и заниматься какими-то акциями? — спросил он. — Зачем?
Красивая молодая женщина вошла в парикмахерскую. Она подошла к парикмахеру и нежно его поцеловала. И столько в этом было!.. Я зашелся от зависти.
Она села в кресло, взяла в руки журнал и стала его перелистывать.
—Одно плохо, — сказал он добродушно. — Она хочет, чтобы я всетаки ушел из салона. Она боится, что придет другая женщина, которую я сделаю принцессой, и перекупит меня. За другие два миллиона. Хотите чашечку кофе? У нас настоящий, колумбийский...
ВИШНЯ
Иван Трофимович ехал умирать на родину. Чего только ни делали родные и друзья, чтобы отговорить его от этого "сумасшедшего", как они говорили, решения! "Ты совсем очумел, дед! — говорили они. —
Ты просто тронулся! Ну кому ты нужен? Кто тебя ждет? Ну, съезди, погляди на свою "ридну Полтавщину" и тикай назад! Ты что, забыл, кто там у власти?"
Иван Трофимович очень обижался на таких советчиков.
— Что мне осталось-то? — говорил он. — Ну, протяну я год, два. Зароют меня в чужую канадскую землю. Ни кола, ни двора. А там вишня цветет. Племяш пишет, шо хатку можно купить. Пенсию свою я выправил, туда переведу, а там, глядишь, и не пропаду. Много ли мне осталось? А вишня каждый день снится, мочи нету!
Иван Трофимович продал домик возле церкви в Квебеке, простился в баре со старыми товарищами, с которыми съел пуд соли на сталелитейном заводе, сходил на могилу к покойной Пелагее Саввишне, с которой намыкались и на работах в Германии, и в ди-пишных лагерях, да и здесь в Канаде споначалу... Ушла Пелагея, совсем его осиротила, никого и не осталось. А там вишня цветет, на Полтавщине...
И все вышло по-писаному. И хатку купил Иван Трофимович, и племяш оказался работящий и непьющий, и жинка у него была румяная да чернобровая, и деточки росли, босиком бегали, и сады за хатами зеленели, и вишня цвела, ох и гарно цвела, белым да розовым цветом, глаз не оторвать.
И односельчане приняли Ивана Трофимовича по-людски, никто слова дурного не сказал, а наоборот, что ни вечер, усаживались все на крылечке у старика, и рассказывал он истории и байки про чудную заграничную жизнь, про соседей и друзей, согнанных туда войной, про машины и станки, про заокеанское житье-бытье. И даже деточки заслушивались, все льнули к Ивану Трофимовичу: расскажи да расскажи, деда, про Канаду эту да про Квебек. И Иван Трофимович, сбиваясь иногда на английский, а иногда на французский, покуривая, все вспоминал да вспоминал.
Одно было странно: никак не умирал Иван Трофимович. Видно, отступила смерть перед белыми полтавскими хатками, да вишневым цветом, разливавшим покой в состарившейся его душе. Не шла смерть, и все тут! Ну и слава Богу!
Но не вечно же на завалинке сидеть, табачком тешиться, думал Иван Трофимович. Я еще хоть куда! Работать надо. Все работают, стариков зовут, приходите, мол, дедушки, подмога нужна. И к пенсии прибавка. И племяш, бригадирствующий уже какой год, тоже советует: иди в заготовители, иди в заготовители. Будешь у трудящих колхозников фрукты скупать, на базу сдавать, тут и зарплата, и прогрессивка за перевыполнение. И людям хорошо: им не надо потом фрукты на базар нести, и денежки в кармане. Подумай, дядька Иван Трофимович.
И Иван Трофимович так и устроился. Ездит по селам, личные приусадебные фрукты скупает. Транспорт через базу вызывает, накладные оформляет. И заработок имеет. Скажем, покупает вишню по тридцать
копеек за центнер, а на базу продает по тридцать пять. Пятачок этот рублями оборачивается, а к концу лета, глядишь, и тысчонку вышибить можно. И все хорошо. Государство фрукты копит, гниют они себе потихонечку на тех складах в промкооперации, а крестьянам не нужно придумывать, что с лишним урожаем делать — и все при деле. Даже Иван Трофимович.
Но однажды пришли за ним. Собирайтесь, говорят, гражданин Бондаренко, 1898 года рождения, по национальности украинец, возвращенец из капиталистической Канады, судимостей нет. Поехали в областной центр, будем вас судить за хищение социалистической собственности.
Иван Трофимович очень удивился, потому что никакими хищениями, а тем более социалистической собственности он не занимался, а работал заготовителем потребсоюза по перекупке государству фруктов, и в частности яблок и вишни, из расчета тридцать центов, тьфу ты, Господи! — копеек за центнер с перепродажей его государству по тридцать пять. Какие же это хищения? Нету у меня ничего похищенного, хоть всю хату обыщите. И все бумаги и накладные у меня тоже в порядке: вот тебе расходы, а вот приходы.
А где же те пять копеек, которые ты выручал за продажу?— смеясь, спросил милицейский началь- ник. — Где ж тот пятачок, что ты, гражданин Бондаренко, утаил от родного рабоче-крестьянского правительства?
Как где? — спросил недоумевающий Иван Трофимович. — В сберкассе, конечно. Где ж деньгам быть? У вас ведь никаких вложений делать не полагается. Вот они в сберкассе и лежат, под два процента.
И все смеялись. И следователь, и адвокат, и судьи. Народный заседатель чуть со стула не упал от хохота. Потому что Иван Трофимович все никак не мог взять в толк, что же он наделал.
—Это же бизнес! — говорил он виновато. — А как же иначе торговать? Покупаю по тридцать, продаю по тридцать пять. Как же без бизнеса?
И это слово "бизнес" вызывало у присутствовавших в суде неудержимый смех. Так со смехом и дали ему три года. У вас бизнес, а у нас — спекуляция!
Иван Трофимович отсидел три года от звонка до звонка.
А выйдя из тюрьмы, связался с канадским посольством и попросился обратно в Канаду.
Чтобы умереть на родной земле.
моя полиция
Когда я жил в Кливленде, мой друг Джек учил меня: "Америка — свободная страна. И ты в ней должен чувствовать себя хозяином. И начинай по капле выдавливать из себя раба. И только в одном случае ты должен чувствовать себя здесь, как в России: когда ты имеешь дело с дорожной полицией".
Это еще почему? — недоумевал я. — Разве тут полицейское государство?
Нет, - отвечал Джек. — Но полицейский здесь всегда прав. Если он тебя остановил за нарушение правил, не ори, не бей себя в грудь, ничего не доказывай, скажи просто: "Йес, сэр!", получи свой тикет и тихо уезжай.
—А если он не прав? Если он ко мне придрался? Джек насмешливо посмотрел на меня и сказал:
Ему незачем к тебе придираться. Ты ему ничего плохого не сделал.
А вдруг ему просто нужны деньги? А я тут как тут.
Дурак ты! — сказал Джек и был прав.
Я вспоминал уроки Джека каждый раз, когда меня останавливал полицейский. И каждый раз я что-то нарушал. И я смиренно говорил "йес, сэр!" и безропотно сносил все штрафы и нотации. Потому что знал, что на дорогах этой страны ежегодно погибает больше людей, чем в иных иностранных войнах.
Но все же было несколько случаев, которые были скорее исключением, чем правилом, но они случились со мной, как же мне с вами не поделиться?
Представьте себе чувства человека, впервые получившего государственную работу в Вашингтоне. Радости моей не было конца. Мои друзья устроили по этому поводу вечеринку, и там мы клюкнули, кернули, потом немножко назюзюкались, потом добавили, потом хватанули по маленькой, потом уже выпили как следует и в заключение тяпнули по рюмочке коньячку. И в таком настроении часа примерно в четыре утра я поехал на своей машине домой по пустынным улицам Вашингтона. Жизнь была прекрасна и местами удивительна, и все плохое, казалось, позади, а хорошее — вот-вот появится на следующем перекрестке. Такое, примерно, было настроение.
От дома моих приятелей до меня было миль двенадцать. Солнце еще не встало, но фонари уже погасили. Ты едешь в состоянии меж до и после.
И когда миль через девять я вдруг случайно посмотрел в зеркало, то увидел, что за мной по пятам с двух сторон движутся две полицейские машины с мигающими огнями. И я увидел руку полицейского,
настойчиво приглашавшую меня причалить к тротуару. И стал лихорадочно соображать, что мне делать дальше. Я не знал, как, почему и когда они ко мне прицепились. И почему сразу двое? И что я буду делать без прав в чужом городе, когда до работы можно добраться только на машине? И вся моя радость испарилась, как сон, как утренний туман, которому и впрямь было самое время испаряться.
Я остановился у самых дверей моего дома и вышел из машины. Они остановились поодаль и тоже вышли, отстегивая кобуры с пистолетами. Два здоровых лба. С засученными рукавами. Один остался у машины, а второй пошел ко мне, говоря, чтобы я ему сразу отдал права и эту желтенькую карточку, которая обычно лежит в "бардачке", забыл, как она по-русски. Я дал. Он сказал:
Ты пьяный? Я сказал:
Н-н-нет. Почему вы спрашиваете?
Потому что ты ехал по всем линиям сразу. Красного света для тебя вообще не существовало. Мы за тобой ехали десять миль, но ты нас не видел! Сумасшедший! Сколько дринков ты выпил?
Два, — сказал я. — Максимум пять.
Скажи гуд-бай своим правам, — сказал он.
Сэр! — сказал я. — Поставьте себя на мое место. Несчастный эмигрант, бывший продавец обуви из Кливленда, выдержал экзамен на государственную службу! Завтра он в первый раз выходит на работу, а сегодня друзья устраивают парти по этому поводу. Что бы вы сделали на моем месте? Если учесть, что сейчас четыре часа утра, и я никому не могу навредить, нельзя ли простить меня? Тем более, что я сейчас пообещаю, что никогда в жизни больше не сяду за руль, будучи под мухой. Ну, пожалуйста, не губите мою жизнь, сэр, тем более, что она начинается только завтра.
Полицейские с интересом слушали мою безграмотную галиматью на английском. Второй спросил:
Ты где живешь?
Вот здесь! — ответил я, с готовностью показывая на дверь. — И ехать больше никуда не надо! А, сэры?
Полицейский долго смотрел на мое лицо. Потом он отдал мне права и ту желтенькую бумажку и сказал:
—Поздравляю тебя с получением работы. И будь осторожен в следующий раз. И гуд лак!
Слезы выступили у меня на глазах. Я обнял его (а второй в это время вытащил пистолет, потому что я был неверно понят в эту минуту) и сказал:
—Если бы ты знал, как много ты для меня сегодня сделал! И не только потому, что не оштрафовал меня и не отобрал у меня права, но и потому, что теперь я ясно вижу разницу между словом "полиция" и словом "милиция". И за одно это — большое тебе спасибо!
Но он, кажется, ничего не понял, оторвал меня от своей груди и проследил за тем, чтобы я вошел в подъезд и сел в лифт.
* * *
А еще раньше, будучи в Лос-Анджелесе, я поехал со знакомой барышней в Сан-Диего. Мы мчались по потрясающим калифорнийским хайвеям и наслаждались окружающей нас природой. Вокруг росли пальмы, пыльные, как декорации в Большом театре, и редкие кустарники желтели там и сям по обочинам дороги. В машине кроме нас было двое детишек, дочки той барышни. И все было прелестно до той минуты, когда барышня сказала:
— Ах, какие чудные цветы растут у этой дороги. Я пойду и нарву их. И сделаю всем венки. Я умею замечательно плести венки.
И она остановила машину и стала собирать цветы, напевая какую-то славную песенку.
И тут, как из-под земли, выскочила полицейская машина. Кап вышел и спросил, не случилось ли чего с нами на шоссе и почему это мы остановились? Поскольку наш английский тогда был... ну, как бы это сказать... ну, не очень хорош... даже, я бы сказал, несколько отвратителен... а если уж говорить всю правду, го мы ни черта не понимали из того, что он говорил, то мы обратились к милым дочуркам барышни, которые уже шпарили по-английски вовсю и вызывали у нас ужасную зависть. Так вот, одна из дочурок объяснила полицейскому, что мама решила нарвать цветов, чтобы сплести венок. "Это так красиво", — объяснила малютка.
Полицейский просто задохнулся от негодования. Он все же сказал, что только самоубийцы и эмигранты способны останавливаться в месте, где останавливаться нельзя ни при каких обстоятельствах! И он требует, чтобы барышня немедленно прекратила это занятие и поехала скорей восвояси, а то он сейчас же выпишет "тикет", и тогда мы будем знать, как плести веночки на хайвеях!
И мы, мило улыбаясь и помахивая ему сорванными цветочками, поехали дальше, пока он не исчез из глаз. А когда исчез, барышня все же снова вышла на обочину дорвать тех цветочков. Потому что ей не хватало на венок, который она для меня хотела сплести. Наверное ей казалось, что в этом венке я буду похож на Юлия Цезаря. Или на кого-то другого, не такого благородного, но тоже красивого.
И тут показался тот же полицейский! Он смотрел на нас, выпучив глаза, и никак не мог понять, из какой больницы мы сбежали! И когда барышня, улыбаясь, пошла к нему с букетом ромашек (или незабудок, или как их там звали, эти цветочки), то он, бормоча что-то под нос, кинулся на обочину, дорвал для нас целую охапку цветов, бросил их в нашу машину и сказал:
— Не могу же я ехать за вами до самого Лос-Анджелеса! Уезжайте, ряди Бога, и не выводите меня из себя!
И теперь уж мы по-настоящему уехали, и девчушки сплели мне венок, и я в нем был похож и на Юлия Цезаря, и на поэта-лауреата с какой-то советской карикатуры.
А полицейский так и остался на хайвее с разинутым ртом, соображая, почему он не наказал барышню с ее цветочками и неуважением к закону, запрещающему срывать цветы удовольствия на дорогах, где скорость не менее 55 миль в час.
Наверное, он тоже был романтик. А может быть, его дедушка тоже когда-то эмигрировал в Америку, и он нам просто сочувствовал.
И все-таки, граждане, не нарушайте! И давайте пройдемте.
КЛИЕНТ
Нина работала в подсобке, когда туда заглянула белозубая Джейн и сказала:
—Там пришел один покупатель, роется в товарах, но я не вполне его понимаю. По-моему, он русский, иди помоги ему.
Нина прошла в торговый зал и сразу увидела пожилого благообразного господина, который копался в галстуках и джинсах, брошенных на прилавок.
Здравствуйте, — сказала Нина по русски, — можно, я вам помогу?
Ну что ж... — сказал господин, — очень буду признателен.
У нас сегодня замечательный "сейл", — сказала Нина, — вот, возьмите этот галстук. Он вообще стоит пятнадцать долларов, а сегодня — только пять. А вы давно приехали? Мы здесь с мужем уже почти год. И он уже устроился, и я. Мы сами из Киева. А вы откуда будете?
Я из Москвы, — подумав, ответил человек. — Из Москвы я.
Как интересно! Вы уже давно?
Порядочно, — ответил он, примеряя Нинин галстук.
Что ж я вас раньше не видела? — поинтересовалась Нина. — У вас с языком-то как? Усваиваете?
Усваиваю помаленьку... — Его, видно, начинала тяготить Нинина разговорчивость.
А вы приходите к нам, — сказала Нина. — У нас вечера, знаете, какие устраиваются! Кто у нас только ни выступал в клубе! Все лучшие эмигрантские силы — и артисты, и писатели, и музыканты! И для ста- риков... — Нина замялась, — ...ну, для пожилых людей у нас и английские классы есть, и билеты им продаем по сниженным ценам. Вы приходите, не так скучно будет. У вас семья есть? Дети у нас в еврейской школе, их там бесплатно учат. У нас...
У кого это "у нас"? — несколько раздраженно спросил незнакомец.
У нас — это русский клуб при "Джуиш комьюнити сентер". Почему ж вы не приходите?
Почему, почему... — сердито сказал господин. — Потому что я посол Советского Союза, вот почему!
И пошел к кассе, держа в руках уцененный галстук.
ПУЭРТОРИКАНСКИЙ ЭТЮД
Я сидел на пляже в Пуэрто-Рико. Океан сверкал всеми оттенками зеленого, небо было синее-синее, а песок желтый-желтый и мелкий-мелкий. Что касается ветра, то он нежно обвевал загорелые тела отдыхающих, его лишь условно можно было назвать ветром, это было дуновение Господне, вот как это было хорошо. Если учесть к тому же, что на дворе стоял январь, заметший снегом родной Вашингтон, то можно легко себе представить чувства человека, выбравшегося, наконец, в отпуск на пару недель, чтобы вот так, ни о чем не думая, поваляться на пляже у океана, пошиковать в отличном отеле, поплавать в бассейне, попить виски на льду и оставить пару-тройку честно заработанных долларов в казино и кабаре.
Возле меня сидел человек с грустным интеллигентным лицом. Он смотрел на горизонт, и легкое страдание иногда мелькало в его глазах. Я люблю заговаривать с незнакомцами. Никогда не знаешь, какую шутку сыграет с тобой судьба. А вдруг это то, что изменит твою жизнь? Сидит грустный джентльмен, ты с ним разговоришься, а он, оказывается, издатель, который и грустит-то оттого, что нет у него в портфеле рукописи, с которой он может выйти на сегодняшний рынок. А ты тут как тут. И вот он уже улыбается, пьет за твое здоровье и вынимает из плавок контракт, на котором тебе лишь нужно поставить свою красивую подпись и сумму прописью.
Хай! — сказал я. — Отличная погода, не правда ли?
Хай! — сказал он. — Хорошая погода...
А океан? — сказал я. — Это же чудо, отливает всеми оттенками зеленого!
Точно! — согласился он, — И песок желтый, и небо синее... —Ну?
Что ну?
Что же вы такой грустный? Хотите выпить?
Вы кто по профессии? — поинтересовался он.
Я? Эмигрант. Такая вот новая профессия. Эмигрант из России.
Тогда вы меня не поймете, — сказал он. — Я по профессии врач.
Ну почему? — обиделся я. — У меня жена тоже врач. И я ее иногда понимаю.
Я не о том, — сказал он, — Понимаете, я тут сижу, а дома — я из Чикаго — мой офис закрыт... И когда я думаю, сколько я там теряю денег, пока я здесь валяюсь, мне тошно смотреть на этот зеленый океан, на этот желтый песок и синее небо! И этот легкий ветерок тоже стоит мне поперек горла.
Сколько же вы зарабатываете?
А вот это невежливый вопрос. Сразу видно, что вы эмигрант. Но поверьте, если мне так тошно, то немало. Совсем немало...
Друг мой, — сказал я, — вы с ума сошли! Вы для того и зарабатываете прорву денег, чтобы потом поехать в такой райский уголок, как этот, пожить, наконец, в свое удовольствие и потратить их немного, а?
Умом я это понимаю, — сказал он со страданием в голосе, — но сердцем — никак! Это же ужас, сколько я теряю денег, пока сижу здесь и разговариваю с вами! Вот мы говорим уже пять минут, это же...
Он что-то подсчитал в памяти и со стоном упал на песок.
—Доктор, вы больны, — сказал я. — Вам надо пойти к врачу. Это какая-то совершенно немыслимая теория. Мне вас даже жаль отчасти.
И я отошел от него и стал разглядывать проходивших мимо девушек. И они были так хороши и привлекательны, что я даже не пожалел о том, что этот доктор не оказался издателем. Бедный, бедный доктор...
ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО...
Когда я вышел на улицу, ко мне подошла Люська Крошкина и сказала:
Борька, пойдем распишемся. Я говорю:
Как распишемся? Ты что? Она говорит:
Борька, в магазин для молодоженов привезли зеленые кофты. Я говорю:
Ну и что? Она говорит:
—В магазин пускают только молодоженов. Мы пойдем в загс, распишемся, я возьму справку, что я молодожен, пойду в магазин и куплю зеленую кофту.
Я говорю:
—Ну ладно.
Расписались. Люська стала молодожен и купила зеленую кофту. Потом развелись...
Подходит ко мне Галка.
Борька, мы комнату получаем. Я говорю:
Поздравляю. Она говорит:
Боря, мы одну комнату получаем. Я говорю:
Поздравляю. Она говорит:
—Боря, если я буду с мужем - нам две комнаты дадут. Пойдем распишемся.
Я говорю:
—Ну ладно.
Расписались. Галка получила квартиру. Развелись... Подходит Нина Собакина и говорит:
А я диплом получаю. Я говорию:
Поздравляю. Она говорит:
А у меня скоро распределение. Я говорю:
Поздравляю. Она говорит:
Борька, а я не могу уезжать из Москвы.
Я говорю:
Почему? Она говорит:
У папы будет инфаркт миокарда. Он сам говорил. Я говорю:
Жалко. Она говорит:
Жалко? Тогда пойдем распишемся. Я говорю:
Ну ладно. Расписались. Развелись...
Вдруг бежит Маша Кулебякина с четвертого этажа. Я говорю:
Маша, мне надо с тобой поговорить... Она говорит:
Ну чего тебе? Я говорю:
Маша, у тебя прописка в Москве постоянная? Она говорит:
Постоянная. Я говорю:
Я скоро институт кончаю... Она говорит:
Ну и что? Я говорю:
Пойдем распишемся. Я тоже хочу иметь постоянную. Она говорит:
Ну ладно. Расписались. Развелись...
Тут подходит Сергей Петрович - пенсионер и говорит:
—Вы что, с ума сошли? Что вы здесь затеяли? Я говорю:
— Почему с ума сошли? Что мы, маленькие, что ли? Нам уже по семь лет. Мы во взрослых играем...
1963 г. Журнал "Юность".
кто?
Всю жизнь я ломал голову над тем, кто все-таки принимает решения в Кремле? Кто придумал эту систему, которая гниет себе, гниет, но не сгнивает? Кто говорит: потрепались, теперь все! Будем делать так! Ведь не может быть, чтобы Хрущев все решал. Или Брежнев. Или даже Сталин. И уж не Ленин, конечно. Эти ребята были молодцами по части разрушения. Но придумать!
Давайте по порядку. Пришла революция. Весь мир насилия и денег разрушили до основания. Захватили власть. Теперь надо как-то жить. Есть. Покупать. Продавать. Заставить страну жить какими-то экономическими способами. А какими? Конечно, очень хочется сделать коммунизм: унитазы из золота. Но за это надо заплатить мастеру, который перекует золото на унитазы. А чем? Те, кто умел это делать, убиты или сбежали в Париж. Свои ничего не знают и ничего не умеют. Умеют только встать на трибуну и, поправив пенсне, крикнуть: "Даешь мировую революцию!" А что это значит, даже те, кто в пенсне, не понимают. Они для красоты так кричат.
Или другой пример. Поближе к нашему времени. Надо входить в Польшу. Входить или не входить? Сейчас или завтра? Всерьез или надолго? Это ведь вопрос очень важный. С далеко идущими последствиями. Ведь нельзя же себе представить, что Брежнев может его решить. Он и слов этих выговорить не сможет. А аппарат? — спросите вы. Конечно, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев — люди неграмотные, они таких вопросов сами решить не могут, но зато аппарат у них грамотный, он все понимает и дает свои рекомендации: мол, из государственных соображений сейчас самое время ввести наши войска в Афганистан, потому что... Тут они приводят статистические и эмпирические соображения, компьютерные расчеты и экономические выкладки. И Политбюро, пораскинув мозгами, принимает мудрое решение: ввести войска. Или наоборот.
Нет, не получается. Потому что аппарат у вождей —люди опытные. Они сами предлагать ничего не будут, потому что не угодишь — и полетишь колбаской по Малой Спасской. Не на тех напали. Да и не принято это в Кремле. Никто и не суется со своим свиным рылом в их калашный ряд. А лишь выполняет то, что приказано. Все до них и давно решено. Кто же решал?
Этот "кто-то" просто не дает мне жить. Ну кто, кто этот мудрец, этот геополитик, экономист, полководец, мастер кино и литературы, дипломат, финансовый гений? Ах, не томите, ну, скажите скорей: кто он, кто?
Молчат советологи. Молчат кремленологи. Молчат публицисты и специалисты из ЦРУ. Придется самим додумывать.
И воображение рисует такую картину.
Бывали ли вы в здании ЦК КПСС на Старой площади? Неужели не бывали? Я тоже не бывал. Поэтому давайте себе представим. У входа в ЦК стоят часовые с наганами, пушками, пулеметами и снарядами. Они проверяют пропуска. Поскольку они нас не заметили (мы ведь зашли туда лишь силой своего воображения), то мы проскользнули к лифту. Поднялись на пятый этаж, прошли по коридору до лестницы, спустились на три этажа, свернули вбок, поднялись на три ступеньки вниз и оказались перед маленькой дверью. Ни таблички, ни указания. Дверка. Мы тихонько ее открываем и попадаем в маленькую комнату. Стол завален газетами и журналами. Стены заставлены книжными полками. Окурки валяются по всей комнатке. Воняет подгорелым супом. В большом продавленном кресле сидит небритый старичок. Он читает журнал "Плейбой". Мы незаметно пристроились в углу. Ждем.
Внезапно книжный шкаф, как в кино, поворачивается вокруг своей оси, и в комнате появляется человек. Вы его сразу узнаете. Ну конечно, это вождь советского народа Л. И. Брежнев. Он хмур и озабочен. Старичок, как ни в чем не бывало, продолжает читать "Плейбой". Брежнев садится на стул около стола. Молчание.
Старичок поднимает глаза.
— Ну что опять, Леня? — спрашивает он. — Что ты опять натворил?
—Ой, Абрам Моисеич! — говорит Брежнев, заметно волнуясь. — Уж и что делать, что делать, ума не приложу. Ты только посмотри: тут этот... Китай, понимаешь, Сыктывкар, а тут, как назло, братья твои, сионисты проклятые. Ты тогда сказал: не посылать ракеты сирийцам этим. А дураки наши не послу- шались, послали. И теперь ракеты эти тю-тю... Нету, говорю, никаких ракет. Разбомбили к чертовой бабушке, сионисты твои проклятые. Теперь надо думать, досылать им ракеты или пока воздержаться? Слать десант на Бейрут или как? Ты лично как думаешь?
Брежнев внимательно смотрит на старичка.
Сколько раз я тебе говорил, Леня, — сердито говорит Абрам Моисеевич, — не пори горячку. Какой, к черту, десант? Они его разобьют в две минуты. Вы же, болваны, с афганцами справиться не можете, а это израильская армия! Сраму не оберетесь. Говорил вам: не лезьте в Афганистан. Не верите. Шапками всех закидаете! Не выходит, Леня. Они тебя самого закидают. Сиди и не чирикай. Американцы сами, без тебя спасут этого дурака Арафата. У них комплекс вины перед побежденными.
Какой комл... комп...
Не твоего это ума дело. Не мучайся. Десант не шли.
—Вот еще, Абрам Моисеич... С поляками-то как? Не верю я этому генералу, и рожа у него как каменная, и очки у него подозрительные. Не наш человек. Поляк какой-то. А с поляками, сам знаешь, держи ухо востро. Может, пустим туда пару-тройку дивизий, а, Абрам Моисеич?
И выбрось это из головы, Леня! И даже не говори мне такие глупости! Ну почему вы такие глупые, ничего не видите, не понимаете? Ни какого политического нюха! Вот и Никита тоже собирался скандалить из-за этих ракет у Кубы. Еле его, дурака, отговорил!
А генералы считают, что самое время...
Генералы твои, Леня, люди без среднего образования. У них одно высшее. Им только дай повоевать, медалей нахватать. Сиди тихо, Леня, недолго уже осталось. Не береди себе душу. Ты и так ослаб. А после тебя мне к новенькому привыкать, вводить его, болвана, в суть, это же целая работа. У вас же все как на подбор: один другого глупее. Иди, устал я, дай "Плейбой" дочитать.
До свиданья, Абрам Моисеич!
Пока, Леня.
Брежнев исчезает за книжным шкафом. Проскользнем туда и мы (вы не забыли, что все это — наше воображение?). Лифт уносит нас в кабинет Генерального секретаря. За столом постные старческие лица членов Политбюро и их помощников. Все держат в руках ручки и выжидательно смотрят на вождя.
Решение будет такое, — говорит Брежнев. — Десант пока посылать не будем.
А с Польшей? — робко шепчет кто-то в маршальских погонах.
И с Польшей пока погодим, — веско говорит вождь. — Предоставим польским товарищам самим решать наболевшие вопросы. И с Сыктывкаром пока не очень.
С Мадагаскаром, — тихо поправляет помощник.
Тем более. В таких делах нечего пороть горячку...
Я не знаю, тот ли это Абрам Моисеевич, который придумал при Ленине первые концлагеря и партраспределители, тот ли это Абрам Моисеевич, который придумал неконвертируемую валюту и коллективизацию, тот ли это старичок, что посоветовал Сталину убить Кирова, он ли придумал цензуру и социалистический реализм, он ли уговорил Освальда убить Кеннеди, он ли приказал открыть еврейскую эмиграцию?
Но если не он, то кто же, кто?
Может, кто знает?
ДВЕСТИ ЛЕТ
Сначала мне позвонили из Кливленда. Моя родственница сказала, что до нее дошел слух, что я погиб в автокатастрофе.
Глупости! — сказал я. — Ничего я не погиб, а наоборот, живздоров.
Очень за тебя рада, — сказала родственница. — А то кричат: погиб, погиб! Теперь будешь жить двести лет.
Почему это?
Примета такая. О ком сказали, что он умер, а он жив, тот живет двести лет. В крайнем случае, сто восемьдесят.
Потом позвонил брат из Лос-Анджелеса.
Ты живой ? — спросил он. — Это ты?
Вы что все, с ума сошли? Что вы меня хороните?
Позвонили из газеты, спросили, не погиб ли ты в автокатастрофе?
Ну и что ты сказал?
Что я мог сказать? Вот я тебе и звоню. Все в порядке?
Все в порядке. Жив. Здоров. Сравнительно.
Ну и будь здоров. Будешь теперь жить двести лет. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Потом позвонили из агентства "Ассошиэйтед пресс".
Мистер Суслов? Мой босс просил узнать, не погибли ли вы в автомобильной аварии?
Что происходит? — я уже испугался не на шутку. — "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
Грамотный! — сказал парень из "Ассошиэйтед пресс". — Читал Марка Твена. Я тоже читал.
Почему же это я погиб?
Пришло такое сообщение. Погиб Суслов. Поскольку партийный вождь Суслов умер давно, тут у нас кто-то подумал, что это вы. Рад, что вы живы. Пойду скажу боссу, чтоб не посылал эту новость по телетайпу. Мы еще тут все посмеялись: что там у них, в России, все Сусловы? Будете жить двести лет.
Я повесил трубку и задумался. Ведь нет же дыма без огня. Откуда пошел этот дурацкий слух? И не хочу я жить двести лет! Сами живите так долго! Что я буду делать в двести лет? На меня и так смотреть противно, а через сто пятьдесят лет я буду просто развалиной. Кому я нужен в двести лет? Глупые какие порядки!
Я пролистал все советские газеты за этот месяц. Я их читаю на работе. Все газеты и все журналы. Это ужас какой-то, а не газеты. Как всегда, читать там нечего. Скука дикая. Хотя я их теперь читаю без прежней ненависти. Как сказал Станислав Ежи Лец, "Постарела моя ненависть. Она превратилась в презрение". Я как-то пошел к моему главному редактору и попросил, чтобы мне выдавали молоко за вредность. Он спросил: почему? Я сказал, что я единственный в свободном мире человек, который по долгу службы читает все советские газеты и журналы. Даже "Труд". Даже "Советскую Россию". Даже "Правду". И работа это вредная и плохо отражается на здоровье. А в России на вредных производствах выдается молоко. Редактор засмеялся и налил мне виски. Что тоже неплохо.
Итак, я стал просматривать "Правду" и наткнулся на свою фамилию в траурной рамке! Посмотрел на фото. Нет, не я. Комсомольское лицо. Глаз прищурен. Блондин. И имя-отчество другие. Николай Яковлевич.
Вот меня с кем перепутали! Вот ему уже не жить двести лет. Счастливец! Член ЦК. Второй секретарь Ленинградского обкома. Трагически погиб. Ну ясно, попал в аварию. А может, не угодил кому.
Стал сравнивать его жизнь с моей. Почти ровесники. Он моложе на год. Он родился в Кировской области. А я в Москве. Он был членом КПСС с 1961 года. А я не был членом. Он кончил мореходку в Ленинграде и сразу пошел по партийной линии. А я не пошел. Но нас обоих роднит вот что:
"На всех участках работы Суслов трудился инициативно и творчески, отдавая силы, знания и опыт, большие организаторские способности совершенствованию деятельности парт..." Тут мы с ним расходимся...
А дальше у нас опять все одинаково, хоть бери этот кусок и ставь на место в моем некрологе через двести лет: "Суслову были присущи высокая принципиальность и ответственность за порученное дело, требовательное отношение к себе и другим, личная скромность". Отлично сказано!
Потом там же говорится, что у него было много орденов и медалей. Я тоже собирал значки.
Некролог подписан всем Политбюро и ленинградскими подчиненными покойного Суслова. Они врут, что "светлая память о верном сыне Коммунистической партии навсегда сохранится в их сердцах". Это уж слишком. Он же был вторым секретарем обкома, а не первым. Первый — тот навсегда. А этот — на некоторое время.
И все же я не хотел бы жить двести лет. А то еще доживу до полной победы коммунизма.
МАРЬИНА РОЩА
Начальнику 36-го отделения милиции города Москвы полковнику Пысину М. С. от участкового уполномоченного, младшего лейтенанта Кузина П. К.
Докладная записка
Настоящим сообщаю, что сегодня, 26 мая 1962 года, в луже у строительной площадки у дома № 26 по Сущевскому валу мною был обнаружен неизвестный спящий мужчина в состоянии сильного опьянения. Никаких документов при нем обнаружено не было, только к пиджаку была приколота бумажка с надписью "Гостиница "Националь". Неизвестный был доставлен мною в 36-е отделение милиции на вверенном мне мотоцикле. По дороге пьяный гражданин пел песню на неизвестном языке, впоследствии оказавшемся английским. Подвергшиеся допросу свидетели показали следующее:
В. Савостюк, 47 лет, беспартийный, слесарь домоуправления № 643:
"Я стоял в Марьинском универмаге, как всегда, у входной двери и держал в руке рубль на случай, если ко мне присоединятся другие товарищи, имеющие при себе такой же рубль. Поскольку с нынешней зарплаты одному трудно купить бутылку стоимостью 3 руб. 12 коп., то приходится проявлять дух коллективизации и преодолевать эту проблему сообща. Но это не по делу. А по делу же могу сообщить следующее: когда я стоял со своим рублем, в универмаг вошел пожилой гражданин с дамочкой. Увидев меня, стоящего с рублем в протянутой руке, он о чем-то пошептался с дамочкой, и та, волнуясь и переживая, вынула из сумочки рубль и дала его этому бородатому пожилому человеку. Он, держа рубль на мой манер, встал рядом со мной. Тут же, конечно, подбежал третий, знакомый мне по предыдущим разам, Колька Востряков, инженер типографии "Детская книга", находящейся через улицу, забрал наши два рубля и побежал за бутылкой в продуктовый магазин № 5, где у него знакомая продавщица, отпускающая Кольке водку безо всякой очереди по блату. Вернувшийся Колька, держа бутылку во внутреннем кармане пальто, знаком пригласил нас в подъезд дома № 24 по Сущевскому валу. По дороге в подъезд выяснилось, что примкнувший к нам гражданин не понимает по-русски, а наоборот, является иностранцем, что хуже всего — американцем, потому что показывая на нас с Колькой пальцем, говорил "рушен", а показывая на себя — "американ". Этот американ оказался неплохим стариканом, потому нам пришлось выдать ему единственный стакан из Коль-киного пальто, а то он мог бы побрезговать пить с нами из горла, что бы плохо отразилось на разрядке международной напряженности, о которой написано в газете "Правда". Как известно всем в Марьиной Роще, у Кольки выдающийся глазомер: он по бульканью может отличить сто грамм от ста пятидесяти и никогда не обидит партнера недоливом. Поэтому Колька налил неизвестному американцу 166 грамм, оставив нам в бутылке оставшиеся две трети. Американец стал смотреть, как мы с Колькой распиваем бутылку, и очень радовался нашему умению. Как известно всем в Марьиной Роще, Колька поднимает бутылку так, что донышко перпендикулярно смотрит в потолок и создает таким образом прямую линию между горлом и внутренней кишкой, по которой водка безо всяких потерь и остановок переливается прямо в прямую Колькину кишку. Самое замечательное при этом, что по скорости течения струи Колька точно определяет количество заглоченного: ровно 166 грамм. Оставшаяся треть идет мне, и тут уж вычислять ничего не нужно. Еще бы: Колька — инженер, ученый человек, это он на работе произвел такой расчет и увязал его с практикой.
Иностранец ужасно веселился, глядя на наши упражнения, и тут я, для укрепления мира во всем мире и дружбы между нашими народами вопреки проискам международного империализма, предложил тост за мир, считая, что советский человек никогда не должен терять свое лицо, ни в подъезде, нигде. И пожилой американ хлобыстнул свой стакан в один мах, что привело его в состояние буйного замешательства. Он так и остался с открытым ртом, выпученными глазами и красным затылком, потому что они там у себя на Западе привыкли к чему угодно, только не к "Особой", выпущенной в конце месяца. Мы-то к этой вони привыкшие, а они там нежные, не соображают.
После этого мы попрощались с новым зарубежным другом. Колька побежал налаживать машины в типографии "Детская книга", а я вернулся в вестибюль Марьинского универмага, потому что не далее как сегодня починил бачок в квартире гражданки Кацман, которая на радостях выдала мне трудовой гонорар в размере трех рублей. Не успел я принять исходную позицию, как неизвестный, но уже знакомый американ встал рядом со мной! Понравилось ему. И теперь у него в руке было два рубля! И не надо было дожидаться третьего! Тогда я, не скрою, сам побежал к знакомой продавщице в магазин № 5 и взял "Особую", которую мы и распили с иностранным товарищем в том же подъезде. Но что характерно, американец отказался пить из стакана, которого все равно не было, потому что его унес с собой в пальто инженер Колька, а выпил со мной прямо из горла, что сильно повысило мое уважение к американскому народу, борющемуся за мир против американского империализма. Я вежливо попрощался с американцем и пошел на работу, потому что обеденный перерыв давно кончился и домоуправ мог разволноваться, а волноваться ему нельзя, ибо он инвалид умственного труда".
Николай Востряков, инженер-механик типографии "Детская книга", член ВЛКСМ, 27 лет:
"ХХШ съезд нашей родной Коммунистической партии с новой силой поднял вопрос о моральном облике советского человека. Мы, советская молодежь, призваны отдать все силы и способности развернувшемуся соревнованию за досрочное выполнение пятой пятилетки, играющей огромную роль в деле благосостояния всех трудящихся. В то же время мы со всей бдительностью должны следить за происками международной реакции, покушающейся на самое святое: единство и идейность нашего народа. Вот почему 26 мая, в этот светлый весенний день, я вышел из проходной родной фабрики "Детская книга", чтобы набраться новых сил перед вводом в строй новой печатной машины — гордости нашего предприятия. Не лишним будет сказать, что я вышел в обеденный перерыв. В вестибюле Марьинского универмага я заметил неопрятно одетого человека с протянутой рукой. Сначала я подумал, что это один из тех опустившихся люмпен-пролетариев, которые марают свою рабочую честь, прося милостыню у таких же, как он, трудящихся. "Не дело это, товарищ!" — мелькнуло в моей голове. Но тут я увидел, что этот человек держит в руке рубль. Но что более поразительно: рядом с этим горе-рабочим стоял пожилой иностранец с рублем в протянутой руке! Я понял, что он иностранец, потому что стоявшия рядом с ним пожилая испуганная женщина что-то говорила ему по-английски, а он лишь улыбался и показывал себе на грудь, где была приколота бумажка с надписью "гостиница "Националь". О чем они говорили, я доложить не могу, потому что в институте проходил немецкий язык. Я посчитал для себя долгом, как советский человек, вмешаться в безобразную сцену, происходящую на моих глазах. Я подошел к нашему, отечественному пьянице и попытался воздействовать на его совесть. "Как тебе не стыдно! — сказал я. — Перед тобой иностранец, возможно, шпион зарубежной державы, а ты позоришь честь советского человека, предлагая ему выпить с тобой "на троих". Опомнись! Отсюда — один шаг до прямого пособничества врагу!" Но он меня не пожелал слушать, а увлек подозрительного иностранца в подъезд, где они и распили неизвестно откуда появившуюся бутылку.
Сейчас, когда трудящиеся всего мира усиливают борьбу за свое будущее и будущее своих детей, мне кажется совершенно нетерпимым, когда отдельные разложившиеся личности в нашем обществе проявляют политическую близорукость и распивают в подъездах "на троих" с классовым врагом".
Фаня Каган, консультант Союза писателей СССР по английской литературе, переводчица:
"Нашу страну посетил знаменитый американский писатель Джон Стейнбек. Это один из самых выдающихся писателей современности. Я была прикреплена к нему в качестве переводчицы, 26 мая, после встречи Стейнбека с молодыми писателями в редакции журнала "Юность", где Стейнбек проявил бестактность, назвав писателя А.Б.Чаковского "человеком с лицом лисы и душой хорька", он вдруг отвел меня в сторону и спросил, правда ли, что в Москве есть романтическое место, напоминающее по названию и поэтичности Булонский лес в Париже? Ужаснувшись, я сказала, что такого места в Москве нет. То есть все места в Москве поэтичны и романтичны. Тогда он вынул из кармана бумажку и произнес: "Марина росча". Хорошо зная английский язык, я сразу подумала, что он упоминает Марьину Рощу, название которой некоторым образом перекликается с Булонским лесом. Но так как я знала, что больше ничего общего между ними нет, я попыталась отговорить Стейнбека от поездки в этот дикий (зачеркнуто), запущенный (зачеркнуто) отдаленный район, славящийся хулиганством и пьянством. Однако он был неумолим, и нам пришлось отвезти его на машине Союза писателей в Марьину Рощу. В Марьинском универмаге Стейн-бек увидел какого-то пьяницу с рублем в руке и пришел в неописуемый восторг. Он подумал, что это какой-то древний русский ритуал. Он попросил у меня рубль и встал рядом с пьянчужкой. Я умоляла его не делать этого, но он лишь усмехался и просил меня подождать. В это время подбежал какой-то молодой человек, забрал деньги из рук Стейнбека и неизвестного алкоголика и умчался за бутылкой. Через минуту они втроем отправились в какой-то подъезд, где, видимо, выпили эту проклятую водку. Я не могла последовать за ними, потому что неудобно порядочной женщине ходить в такие места. Вернувшись, Стейнбек сказал мне, что ничего более увлекательного в его жизни еще не было, что Марьина Роща затмила для него все прелести Булонского леса и что он еще немного здесь побудет, но, поскольку он понятия не имеет, где его гостиница, а по-русски он не говорит, то пусть я напишу для него название гостиницы, а он повесит эту бумажку на свой пиджак. Пожелав мне счастливого пути, он вынул новый рубль или два и вновь встал рядом с тем пьяницей. После этого я его потеряла, и сколько мы с шофером, В. И. Гришиным, ни искали, следов Стейнбека обнаружить не удалось. К счастью, младший лейтенант Кузин позвонил в гостиницу "Националь", где все мы с ужасом думали об исчезнувшем Стейнбеке, и спросил, не потерялся ли у нас какой-нибудь иностранец? Каково же было наше облегчение, когда через полчаса товарищ Кузин привез к гостинице "Националь" бледного и вялого писателя и сдал его нам на руки со словами: "Заберите своего Хемингуэя!"
Я приношу свою горячую благодарность действиям советской милиции, сделавшей все, чтобы найти в Марьиной Роще замечательного американского писателя и друга нашей страны Джона Стейнбека".
Резолюция начальника 36-го отделения милиции города Москвы:
"В архив".
ПАПИНЫ ЧАСЫ
Л. К.
Когда папу прогнали из армии — это называлось демобилизация, — мы стали думать, что теперь делать. Папа ходил в райкомы и предлагал свои услуги. И его назначили директором дома отдыха. Мы решили, что это замечательно. Только что окончилась война, все военные вернулись домой, но кто из них вот так запросто стал директором дома отдыха? А папу назначили. И все мы поехали в тот подмосковный дом отдыха, где папа будет директорствовать.
Нас встретила бывшая администрация этого дома, хмурые и пожилые воры, которые объяснили папе, что прежнего директора посадили и что папу тоже посадят, если он не будет слушаться.
Что значит слушаться? — спросил папа. — Кто тут директор, я или вы?
Старичок, — сказали хмурые и пожилые, — ты в хозяйстве ни хрена не понимаешь, а мы на этом деле собаку съели. Будешь слушаться — хорошо заработаешь, не будешь — мы тебя упечем туда, куда Макар те- лят не гонял. Пойдешь за тем, прежним директором. Сам подумай, каково это — прийти с войны живым и сразу попасть в лагерь? Будешь слушаться?
А что надо делать? — спросил оробевший папа.
Ничего особенного, — сказали воры. — Надо только жить и жить давать другим. Понял?
Нет! — ответил папа. — Я и раньше так жил. Что ж тут особенного? Почему за это надо идти в тюрьму?
Не наш человек! — сказал самый хмурый, главный бухгалтер. — Не понимает. Зеленый больно. Даже учить его противно. Ты про накладные знаешь? Про учет? Про пети-мети?
А-а-а! — сказал папа. — Вы будете воровать, а я пойду в тюрьму. Так?
Правильно! — обрадовались они. — Соображает все-таки. Так ты с нами или как? Кто не с нами, тот против нас, это еще Энгельс сказал. Или Маркс, мы точно не помним.
Папа забрал нас обратно в Москву и сказал, что он еще не готов быть настоящим директором. И мы потеряли золотое место — дом отдыха, где жизнь была бы сплошным отдыхом, а еда бесплатная. Папа не смог.
Но ведь что-то надо было делать! Надо было кормить семью, нас. Мы разевали с братиком клювики и просили есть. Каждый день. По три раза. И клювики у нас были большие, как у орлов, хотя выглядели мы, как цыплята.
И папа научился чинить часы. То есть тогда он еще не научился их чинить, но научился их принимать у клиентов в часовой мастерской. Папа принимал часы как приемщик, а потом относил их в цех настоящим мастерам, и они ему говорили, что сломано и сколько это будет стоить. Папа возвращался к клиентам и говорил, что сломано и сколько это будет стоить. И на это мы жили.
Но потом папа решил разбогатеть. Он сказал, что часы — отличный бизнес, если его правильно вести. Мама говорила, чтобы он бросил эту затею, потому что это может плохо кончиться. Она говорила, что тюрьма в нашей стране та же самая — и для директоров дома отдыха, и для приемщиков из часовой мастерской. Но пала сказал:
— Кто здесь мужчина и кормилец? Отвечаю — я! Поэтому я лучше знаю, как заработать деньги и не пойти в тюрьму.
И папа купил у какой-то старушки с Арбата огромные бронзовые настольные часы. Это было чудо, а не часы. Они отбивали каждые четверть часа. На часах сидел бронзовый толстенький китаец, который каждый час поднимал руки, в которых были зажаты колпачки. Он поднимал правую руку — и под колпачком оказывался кубик. Потом он поднимал вторую руку — и под колпачком оказывался шарик! И пирамидка! И еще что-то, что я забыл! И китаец при этом кивал головой и улыбался. И так каждый час! Удивительные часы купил папа у арбатской старушки! И он хотел их потом продать за большие деньги в музей или спекулянту, который польстится на эти китайские фокусы. Но это еще не все! Папа нанял столяра-краснодеревщика-инкрустатора, который сделал для него напольные часы. И что это были за часы! Папа нарисовал эскиз инкрустации на дверце и на боках этих невиданных часов. На дверце различными породами дерева был инкрустирован пейзаж: солнце, море, облака и лодка под парусом! По бокам были инкрустированы березки, поле, горы и птички. Слева летел инкрустированный орел, а справа — инкрустированный соловей. И мастер на наших глазах врезал всю эту красоту на блестящие, отполированные доски, чтобы потом сделать из них корпус для напольных часов. И ни у кого в мире не было таких часов, потому что вся эта художественная работа производилась в нашей комнате. И папа платил мастеру большие деньги. Он решил, что продаст эти часы за очень большие деньги. Я думаю, что вы понимаете разницу между большими деньгами и очень большими деньгами.
И все мы мечтали, что когда папа реализует свой проект, у нас появится возможность пожить по-человечески: дать взятку в райисполкоме и выехать из нашей комнаты в коммунальной квартире в Безбожном переулке, где на кухне было четырнадцать примусов и соседок. И мама получит зимнее пальто с меховым воротником, которое она видела в комиссионном магазине, и я получу американскую куртку с капюшоном, от которой сойдет с ума Рита Скоробогатова из шестого корпуса, а брату мы достанем трехколесный велосипед, чтобы он мог покататься, когда ко мне придет в гости Ритка. Или Розка из четвертого корпуса, которая тоже была ничего себе.
И пришло время, когда часы были готовы. И папа стал приводить каких-то людей, чтобы показывать им товар. Люди осматривали часы со всех сторон, удивлялись китайцу, кивавшему бронзовой головой и показывавшему свои фокусы, трогали инкрустированное солнце и березки и предлагали свои цены, которые папа с негодованием отвергал.
И я привык к нашим часам, к их бою, медленному и мелодичному, к тому, как стояли они в комнате. Они стали частью нас самих, мы их любили и не ломали. Потому что если бы мы с братиком их сломали, то папа нас бы убил.
Но однажды вечером к нам ворвался покупатель. Он был возбужден необыкновенно. Это был толстый осипший дядька, хмурый и пожилой. Он был похож на всех толстых, осипших, хмурых и пожилых дядек, на тех, кто уговаривал папу жить и жить давать другим. Он сел на стул в середине комнаты и спросил, сколько папа хочет за этого китайца и за эти доски. Папа назвал сумму. Я не помню, сколько запросил папа. Но это была цена, которую он хотел заработать. Дядька насмешливо посмотрел на папу и дал ему вдвое больше. Папа упал. Он не привык к таким щедрым людям. И мне этот дядька сразу же показался не таким осипшим, не таким хмурым и не таким пожилым. В воздухе явно замаячила куртка с капюшоном. Берегись, Ритка! Теперь я точно прихвачу тебя в парадном! Никуда ты теперь от меня не уйдешь, лапочка, красивая, славная такая, чудная! И Розка тоже никуда не уйдет.
И всю ночь наша семья мечтала, как мы потратим эти свалившиеся с неба деньги. В тех местах, где стояли наши часы, были видны лишь пыльные пятна.
А утром по радио сообщили, что с сегодняшнего дня объявляется девальвация денег в нашей стране. И те, у кого было сто рублей, получит десять! В новой валюте. Хрустящие, манящие десять вместо ста. И папа понял, что проиграл свой часовой бизнес. И что тот паршивый, хмурый, пожилой дядька все знал о сегодняшней девальвации, вот почему он был такой щедрый. Что мы стали еще бедней, чем были до часов. И что папе никогда не удастся стать богатым в стране, где в один прекрасный день ты можешь получить десять вместо ста.
Так мы и прожили в бедности. А потом уехали в Америку. И поделом.
ПОЖАР
Я копался в саду с розами. Проклятые цветы. То есть, прекрасные, конечно, иначе зачем бы я ими занимался? Но когда вы их покупаете или нюхаете, это прелесть. А когда вам надо их окучивать, удобрять, подрезать, холить и коктейльхолить, то вы вспоминаете, что на каждую розу полагаются свои колючки. И эти колючки режут вам руки, течет кровь, это больно, черт возьми, земля у вас под ногтями и под носом, колени у вас грязные. Бросьте это занятие, лучше купите розы у лотошницы и принесите их жене, чтобы ей было хорошо, а вы уже проявили внимание, и розы стоят в хрустальной вазочке с каплями росы, и запах идет изумительный, и вы джентльмен до корней волос. Ой, проклятая, это я опять укололся. Розы — как жизнь: наверху красота, а внизу шипы и боль.
Возле дома остановилась машина, открытый "линкольн", девушка за рулем. Хм... Что ей нужно?
— Извините, сэр, как лучше проехать к Ричмонду?
Я оторвался от своих роз, морда грязная, потный, как жеребец, брюки в земле, под ногтями — ночи Кабирии, руки в крови до локтя:
Прямо, второй поворот налево, потом у светофора направо — и сразу 95-я дорога на север — вот и Ричмонд.
Спасибо.
Блондинка. Приветливое лицо. Зубки скалит. Вежливая.
Эй, а почему бы нам не прокатиться? Не покажете ли дорогу?
О'кей, — говорю я, — сейчас заведу мой "понтиак", езжайте за мной, у 95-й покажу вам поворот, только не пропустите...
Зачем же?— говорит она. — Чем мой "линкольн" хуже вашего "понтиака"?
Дорогая,— говорю я,— он, конечно, не хуже, но я еще не вполне понимаю, что бы все это означало? Ведь если я покажу вам дорогу на вашей машине, мне же потом возвращаться, а пешком я уже не при- вык...
Вы доктор? — спрашивает она.
Почему доктор? — я смотрю на свои руки, израненные розами, на брюки свои, которые хуже грязных джинсов, вытираю пот со лба. — Я не доктор, но вроде.
Поехали, — говорит она и открывает дверцу.
Тут я начинаю думать о статистике преступности в нашей Америке, о телевизионной программе "Твенти-твенти", где вчера рассказывали о маньяках, насилующих и убивающих наших детей. Мы с женой смотрели эту передачу с отвращением и ужасом. Три тысячи детей было изнасиловано и убито в прошлом году мерзавцами-нимфоманами. Показали интервью с некоторыми. Мерзкие, прыщавые суки, место им — на электрическом стуле, так нет, их сажают в тюрьму, если поймают, и они нагло и спокойно рассказывали, как они заманивают детей в свои сети.
С одной стороны, хорошо, что об этом говорят по телевидению, надо, чтобы дети и родители знали об опасностях, но ведь, с другой стороны, дети наши, маленькие дети, узнают о мерзостях жизни гораздо раньше срока и становятся маленькими старичками! И еще — нормальные взрослые будут бояться подходить к детям, гладить их по головке и говорить приятные слова — их могут принять за насильников! И все вместе это приводит к еще большей отчужденности общества! Ну не свинство ли?
Смотрю на девушку в машине. Но ведь я не ребенок. Меня трудно изнасиловать. Я здоровенный и седовласый. Что бы это значило?
—Я пойму дорогу и привезу вас назад, — говорит она. — Вы, надеюсь, меня не боитесь? Я слабая, беззащитная девушка.
И смеется. Грустно так смеется.
И я сел к ней в машину.
Она рванула так, что у меня дыхание захватило. Она точно знала, как выехать на 95-ю. И мы гнали со скоростью девяносто миль в час. И где-то после Спрингфильда, Вирджиния, она вдруг свернула на боковую дорогу и остановилась среди кукурузного поля.
—Так, — сказал я. — Что же будем делать дальше? Это что вы себе позволяете, милая? Вы ведь меня похитили. Это чистый киднэппинг. Я звоню в Эф-Би-Ай.
Она молча задрала платье до талии. Бедро было очень красивое, но обожжено. То есть это было обгоревшее бедро!
Что случилось, дорогая? — спросил я.
Это был пожар, доктор, — сказала она. — Это был пожар. У вас эта нога не вызывает отвращения?
Нет, — сказал я. — Красивая обгоревшая нога. Я видел много обгоревших людей. Я когда-то возглавлял отдел в Национальном институте здоровья, собиравший фонды для исследований в области ожогов. Я их насмотрелся.
Да? — сказала она. — А это?
И она распахнула платье на груди. Я вздрогнул, конечно. Потому что обычно это мы распахиваем платья на груди у женщин. Если уж нам так не терпится. И я их много нараспахивал в машинах за мою жизнь. Не говоря уж о студенческих годах. Ах, годы мои, годы, где ты, мой колледж, где наше студенческое мужское братство пятидесятых, когда мальчики были агрессивны, а девочки — любопытны, как черти? И наши "драйв-ин"ы, где смотрели кино прямо из машин, да нет, не кино мы смотрели, а распахивали платье на грудках наших девочек на заднем сиденье, о чем это я, перестань, Кен, ты же не мальчик. У тебя руки в крови из-за этих проклятых роз...
Грудь ее тоже была обожжена. Сплошная застывшая свиная кожа. Бедная.
—Ну что, доктор, — сказала она, —противно? Глаза ее были полны слез. Губы дрожали. Она ждала. Я молчал.
—С тех пор, как случился этот пожар, — сказала она, — у меня не было секса ни с кем. Все меня боятся. Все чувствуют отвращение. Но я же живая! Я живая! Я хочу мужчину! Если вам не противно, останьтесь со мной. Пожалуйста. Закройте глаза, приласкайте меня. Я же живая.
Я обнял ее и поцеловал. Потом еще. Потом я погладил ее по странно гладкой, неровной обожженной коже. А потом я, конечно, стал перетаскивать ее на заднее сиденье. Как в юности. Как в колледже.
Но она сказала:
—Не надо здесь. Поедем ко мне домой. Это здесь, за углом.
И мы приехали. И приняли душ. И она отмыла мои израненные розами руки. И я был счастлив, как никогда прежде. Потому что она была нежная и ласковая. И своя. Моя...
А потом она отвезла меня домой...
Я рассказал жене эту историю. Она мне не поверила. Она не поверила ни одному моему слову. И тогда я спросил:
Откуда, по-твоему, эти царапины у меня на руках, детка? И жена, засмеявшись, сказала:
Это розы. Будь осторожнее в саду в следующий раз, дорогой. Я буду.
ИМЕТЬ И УМЕТЬ
В России я не умел водить машину. Во-первых, она была мне не по карману. Во-вторых, я любил такси. В-третьих, у многих моих друзей были свои машины, и они возили меня куда надо. В-четвертых, я не хотел жить так, как живут мои приятели-автомобилисты: они были несчастными рабами своих машин, у них постоянно воровали "дворники", колпаки, зеркала. Воровали номера, колеса, части мотора. У одного украли руль. У другого — сиденья. Несчастные владельцы машин не отходили ночью от окон: все смотрели, очистили их машины, стоящие внизу, или еще нет. Все они были нервные и задерганные, с синими кругами под глазами от бессонницы.
А я любил спать и ни о чем не думать. Но когда пришло время эмигрировать, я понял, что без водительских прав мне не обойтись. Ну как же: все за границей ездят на своих машинах, не буду же я ходить пешком! Надо получать права.
Мой младший брат Миша был страстным автомобилистом, у него были и "победа" и "москвич", и "жигули", и "волга". В России же все наоборот. Там чем старее машина, тем она дороже стоит. Поэтому за старую "победу" ты можешь получить, как за новую "волгу". Отъездив лет десять на "победе", Миша находил на автомобильном рынке какого-нибудь туркмена и продавал ему за наличные свою старую предыдущую машину, чтобы купить новую, следующую. Туркмен приходил к Мише домой, в азиатском халате, надетом поверх пальто, просил Мишу дать ему бритву и аккуратно вырезал кусок халата, где у него были зашиты деньги. Если денег было мало, он вырезал другой кусок. Я это сам видел. Очень хорошая система хранения: получше, чем в сберкассе. Туркмен, видимо, следовал латинской пословице: "Омниа меа мекум порто", что в переводе на туркменский звучит как "все мое ношу с собой".
Я очень просил Мишу научить меня водить машину, а то я пропаду в эмиграции. Миша привез меня на своей "волге" в парк "Сокольники", показал, где руль, где коробка скоростей, где колеса, где что и попросил поехать вперед. Я поехал. Миша успел нажать на тормоз и сказал, что я тупой, бездарный, ничего не понимающий в технике дикарь. Что никогда в жизни я не осилю вождения, потому что если мне говорят "езжай вперед", то это не значит, что я должен ехать вбок и назад, а идотская манера находить телеграфные столбы там, где их нет, говорит лишь о моем безразличии к чужой собственности, в данном случае, к его "волге", и к чужой жизни, в данном случае, к его. Но, сказал Миша, не волнуйся, потому что когда мы эмигрируем, он возьмет на себя обязанности моего шофера, так что мы не пропадем.
Но я твердо знал, что без водительских прав на Западе мне делать нечего. Поэтому я решил добыть их любым способом. Я нанял одного водителя по пятерке в час, чтобы он меня учил водить. И он меня учил вовсю. Я уже мог выезжать на улицы и останавливаться у светофоров. И парень мне попался хороший. Он меня не оскорблял, как некоторые, не орал на меня, не обижал, и не обижался. Машина была казенная, платил я исправно. После урока он подвозил меня к одной рабочей столовой у Комсомольской площади, я вручал ему деньги, и он говорил: "По одной кружечке, за мой счет". Мы брали по кружечке пива, он доливал в них по четвертинке водки, и мы кайфовали, закусывали этот русский коктейль вонючими сардельками, которые ему подсовывала знакомая буфетчица. После "одной кружечки", разумеется, шла вторая, с другой четвертиночкой, неизвестно откуда появлявшейся, и домой я приходил за полночь, совершенно назюзюкавшийся, лыка не вязавший и забывший все водительские уроки предыдущего дня.
Я понял, что таким манером я не смогу сдать экзамен в ГАИ. И я решил подстраховаться. Через знакомого милиционера я нашел инспектора ГАИ, который "берет". И немного, всего сто рублей. Мне его показали издалека, а он запомнил мою фамилию. Запомнить ее было легко: вождь Суслов был тогда жив, кто ж не знал Суслова? Это теперь я остался один, без того Суслова, так что придется придумать, как заставить запомнить эту малопривлекательную фамилию. А тогда было просто.
На экзамен я пошел не один, а с братом Мишей. Я думал, что в трудную минуту он меня подменит, потому что он про машины знал все, даже лучше того сторублевого инспектора.
Меня вызвали на сдачу устного экзамена. На большом экране была нарисована дорожная ситуация, а я должен был нажать кнопку с правильным ответом. Ну вы знаете: слева идег трамвай, справа автобус, три ряда заняты другими машинами, вы стоите где-то здесь, что надо сделать, чтобы повернуть налево?
Мой инспектор стоял рядом. Он уже знал, что это я — тот самый Суслов. И он надеялся, что я буду нажимать правильные кнопки, а он потом получит свою сотню как бы ни за что. Не на того напал!
Трамвай, — сказал я. — Он, значит, идет слева?
Слева, — сказал он.
А я стою вот здесь?
Вот здесь вы стоите.
И надо повернуть вбок?
Налево.
Э-э-э...
Поторопитесь, Суслов, — сказал он, — там другие ждут.
Я нажал кнопку. Он поморщился. Я нажал другую. Он сделал злые глаза. Я нажал третью,
Вы ведь хотели нажать вот эту кнопку? — презрительно спросил он, нажав четвертую.
Конечно, — сказал я. — Эту я и хотел нажать. Палец не туда пошел. Нервы.
На экране появилось другое изображение, что-то с дорожными знаками. И я все время попадал не туда. Очень было обидно. Рассвирепевший инспектор, давно махнувший на меня рукой, сам нажимал нужные кнопки, не смущаясь присутствием своего коллеги, из чего я понял, что тот тоже зарабатывает на тупых кандидатах в эмиграцию. Наконец он меня выгнал и попросил готовиться к экзамену по вождению. Но я уже так разволновался, что забыл, что за чем надо включать при старте, и вообще чувствовал себя препогано. И когда меня выкрикнули, я подтолкнул к машине моего брата и сказал: "На этом фото ты на меня немного похож, иди сдай езду. Только не езжай слишком хорошо, а то они заподозрят". Миша, мысленно обзывая меня самыми нехорошими словами, сделал мое выражение лица, чтобы не подумали, что он не я, и полез в машину. В машине сидел мой сторублевый инспектор. Увидев Мишу, он просто почернел от негодования. Тут бы ему и прогнать нас обоих или сдать в тюрьму, но он только плюнул в окно и сказал: "Ну народ! Вот народ! Уму непостижимо! Они ж кого хочешь охмурят!" Но не выдал нас, не продал, не настучал. Потому что в таком случае он лишился бы сотни, на которую у него сегодня были свои виды.
А я получил новенькие международные права, которые давали мне право водить машину по всем европейским городам и американским весям. Я дико гордился своими правами и показывал их всем друзьям и знакомым. Я не знал только одного: мало иметь права, надо еще уметь водить машину! Я этого не знал, потому что сознание мое в ту пору было еще советское, дикое. Я думал, что достаточно получить бумажку, и ты уже человек. Я думал, что на Западе тоже все решает бумажка, как в Советском Союзе. Это теперь я такой умный, что решаюсь рассказать всем о позорном своем поведении при получении водительских прав.
К счастью, приехав в Америку, я быстро разобрался, что к чему, научился водить машину и получил нормальные человеческие права. На это ушло много времени, потому что толковее (в техническом смысле этого слова) я не стал, но я понял, что здесь, в Америке, лучше уметь, чем иметь.
И я встретил моего брата Мишу, когда его выпустили из России. Я встретил его на своей машине и посадил рядом с собой. И я вел машину сам, а Миша уважительно смотрел на меня и не мог мной налюбоваться. Потому что я все осилил и стал почти нормальным человеком.
ПОТЕРИ
Когда мы говорим о потерях, сразу всплывают такие горькие вещи, как потеря близких, потеря свободы, потеря родины. Мы как-то не привыкли вспоминать о тех мелких потерях, которые потом вырастают в более крупные, а иногда меняют нашу судьбу, ломают нашу жизнь.
Сейчас я сижу за машинкой, и на листе бумаге вдруг вырисовываются мои маленькие потери. Одни из них отделены от сегодняшнего дня сорока годами, другие случились недавно. Сыграли ли они роль в моей жизни? Что сломали они во мне, что изменили? Не знаю. Просто вспомнилось...
1942 год. Идет война. Мы с мамой едем "на картошку". Семьям военнослужащих разрешили посадить картошку на маленьком огородике под Москвой. И теперь мы ее убираем. Мне девять лет, а брату три. Мы идем со станции мимо огромного поля, окруженного колючей проволокой. У ворот стоит часовой с винтовкой. Тропинка к нашему огородику идет мимо этого поля. В поле работают женщины. И мы с братом видим, как из-под зеленых листочков они достают красную, как кровь, клубнику и осторожно кладут ее в большие эмалированные тазы. Клубника такая сочная, такая крупная — с маленькое яблоко размером, — что мы останавливаемся и смотрим. Мама нас подгоняет: надо успеть собрать два мешка картошки. Солдат с винтовкой видит наши лица.
— Настя, — кричит он, — дай пацанам по ягодке!
И мы впиваемся жадными зубами в пахнущую счастьем ягоду. Бабы с жалостью смотрят на нас и говорят:
— А больше не положено. Не про вашу честь.
Но нам и так хорошо. И клубничный вкус и запах остаются в душе навсегда. Запах детства.
Только чье же это было поле, окруженное колючей проволокой? Для кого растили бабы клубнику в самые страшные дни войны?
А мы пошли к своему огороду. И пока мы с мамой очищали от земли мелкую, как фасоль, картошку, брат мой сидел у опушки леса, окружавшего нас, и глазел на синее небо и зеленую траву. И мы не спускали с него глаз, потому что он был маленький и, по странности, не умел говорить. Я начал болтать чуть ли не сразу после появления на свет, а он как-то задержался и до трех лет молчал. Мы думали, что он так и останется немым.
И тут из леса вылез танк. И второй. И третий. И остановились у опушки. Я посмотрел на то место, где сидел мой маленький брат, а его там не было! И я испугался. Господи, как я испугался! Я подумал, что Мишу раздавило танком. Нет, это были не немецкие танки, это были наши, потому что на башнях были нарисованы красные звезды. Но как танкисты могут заметить малышку под деревом? Они раздавили Мишеньку! Бедного, немого, маленького!
И я помчался к лесу, крича: "Миша! Миша!" И мама моя, совершенно обезумев, тоже кричала и бегала по лесу. И танкисты, вылезшие из танков (это у них были учения), тоже искали моего братика, потому что под танками его не было. И когда, окончательно сорвав голос, плачущий и опустошенный, я бросился на землю, то под кустом увидел брата, который, улыбаясь, протягивал мне гриб (мухомор, конечно!). И я прижал его к себе и прошептал: "Мама, он жив, он жив!"
И три недели я не мог разговаривать. Я сорвал голос. И в доме у нас было два немых ребенка, что было, наверное, совсем неплохо для мамы, потому что я всегда трещал за двоих. Но ощущение потери сделало меня намного трусливее, и до сих пор у меня судорожно сжимается сердце в предчувствии потерь. И подсознание мое всегда отталкивает разговоры о болезнях, войне, автоавариях и авиакатастрофах. Оно боится того ужаса, который может охватить меня при мысли о потере близкого человека.
* * *
Я в девятом классе. Мне шестнадцать. Я люблю литературу и с упоением читаю наизусть Симонова. Повторяя его гневные интонации, я с ненавистью обращаюсь к противникам Советского Союза в капиталистическом мире:
Мой друг Самед Вургун, Баку покинув, прибыл в Лондон.
Бывает так: большевику вдруг надо съездить к лордам,
Увидеть двухпалатную британскую систему
И выслушать бесплатно там сто пять речей на тему,
О том, как в тысяча, дай память бог, каком
Там голову у короля срубили,
Как много сотен лет потом все о свободе сочиняли билли
И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы:
Свободными до умиления и их самих, и население..."
Я произносил эти лицемерные строки с таким презрением к английским лордам и их гнусным проискам по отношению к кристально честным сталинистам Симонову и Вургуну, что учителя мои и товарищи не могли удержаться от аплодисментов. Очень лихо я читал советские стихи! Я тогда не понимал их пошлости и низости. И с этим эстрадным номером меня послали в Ленинград на Всесоюзный конкурс художественной самодеятельности.
Представьте себе радость человека, который впервые один, без мамы, едет — и куда! — в Ленинград в составе московской делегации на смотр самодеятельности!
Это был поезд "Стрела", это был вагон для таких, как я, талантов, отобранных на районных, городских и областных смотрах, и каждый из нас вез то "Песню о Сталине", то "Стихи о советском паспорте", то заработанные в поездках в капстраны "гражданственные" стихи К. Симонова.
Поезд шел ночью. Мы купили на вокзале три бутылки водки, заперлись в купе с чудными девочками (квартет из Фрязино, поющий под популярных тогда сестер Федоровых) и всю ночь проорали под гитару (солист из Гнесинского института: в программе попурри на тему русских песен) модные тогда шлягеры:
На Бродвее чудном чистит негр ботинки,
И блестят у негра лишь белки у глаз.
Он влюбился в ножки маленькой блондинки
Машинистки Польдн фирмы "Джемс Дуглас"...
И что-то еще, что я забыл, потому что прошло каких-нибудь тридцать пять лет.
Но самое отвратительное (ах, как бы меня отлупила мама, если бы про это все знала): я потерял свой звонкий, чистый голос, призывающий к борьбе с поджигателями войны! Как же я буду выступать? И девочки из квартета тоже потеряли и могли петь только, как военный ансамбль Александрова, но ведь их не за это посылали! И у гитариста что-то сломалось в его гитаре, так что попурри не вытанцовывалось. И от трех бутылок ничего не осталось, потому что для нас, дикарей, свобода заключалась в том, чтобы без взрослых набуянить и напиться. А другой свободы мы не понимали. Некоторые и сейчас ее так понимают. Ну и дураки.
А участвовать в конкурсе надо было тем же вечером! Меня отпаивали горячим молоком, которое я ненавидел, заставляли пить сырые яйца, делали гоголь-моголь, который и сейчас вызывает у меня гримасу отвращения — ничего не помогало! Так я и вышел на сцену перед изумленным жюри, которое возглавлял знаменитый артист Николай Черкасов.
И когда я хрипел в микрофон строчки о том, как
первых три ряда молчат, молчат, чтоб не было беды,
молчат, набравши в рот воды, молчат четвертый час подряд!..,
это не было об империалистических акулах, испугавшихся длинных и невероятно жалких речей Самеда Вургуна и Константина Симонова, а было это о бедном Николае Черкасове и о несчастных слушателях, заполнивших зал тетра, где состоялся этот злополучный конкурс самодеятельности. Я помню лишь брезгливое и жалостное выражение на лице знаменитого актера, который во время моего чтения все переглядывался с членами жюри, и его пальцы, барабанившие по ручке кресла. Но, видно, неподдельная страсть и решительные жесты, которыми я сопровождал свою декламацию, произвели на них какое-то впечатление, и они выдали мне диплом какой-то степени. За наглость, как я сейчас понимаю.
А голос свой с той ночи я потерял навсегда. Иногда он ко мне возвращается, и некоторые женщины считают его "секси". Но перед ответственными выступлениями он пропадает, и я долго извиняюсь перед присутствующими за мои погибшие голосовые связки.
Но, впрочем, это все к лучшему. А то, не дай Бог, я стал бы актером или профессиональным чтецом-декламатором и до сих пор ранил бы чувства интеллигентной публики страстным чтением жалких агиток Симонова, Маяковского или кого-нибудь похлеще.
Так что это еще небольшая потеря.
* * *
Давай, я провожу тебя домой, — сказала она. - Ты ведь где-то здесь недалеко живешь.
Я не могу тебя пригласить, — смущаясь, сказал я. — У нас одна комната, все дома, да и соседи...
Ты не бойся, — сказала она. — Ты мне давно понравился.
Она мне тоже нравилась. Я только что поступил в институт. Вокруг меня был восхитительный, поразительный, возбуждающий, непривычный мир девчонок, которых от нас отлучили в школе. Это вы, счастливцы и негодники, учились в смешанных школах, а наша юность прошла раздельно: школы были мужские и женские, так что то, через что вы прошли, для нас было недостижимой мечтой. Ах, как нам хотелось этого! И как невозможно было это тогда! Мы влюблялись в девочек из нашего дома, из соседних домов, в девочек, проходивших по Первой Мещанской улице. Мы мечтали о них, мы мысленно спали с ними, но это были лишь мечты. Я ненавижу Россию за то, что она сделала с нами, подростками! Мы жили в двух изолированных мирах: они и мы. Но мы же были живые! Живое тянется к живому. Мальчики тянутся к девочкам, и ничем этого не вытравить! Да и надо ли?
А тут была живая девочка, правда взрослая, со второго курса, и я на институтском вечере сразу заметил ее, такую маленькую, жалкую, в тысячу раз стираном платьице, с дерзкими глазами, быстро выделившими меня из толпы более опытных сверстников. Хоть и притворялся я мужчиной, небрежно озирающим зал, интригующим, с папиросой "Беломорканал" в углу рта, с приятелями, смеющимися каждой моей шутке, а на душе скребло: ну где же, где, где та, которая...
Мне было семнадцать, и я был девственником. Так уж мне не повезло. С каким жадным вниманием слушал я рассказы своих товарищей о любовных победах! С каким презрением рассказывали они о девочках, которых удостоили своим вниманием? С какой завистью я слушал их враки! И вдруг та, маленькая, в стираном платьице, хочет меня проводить! Куда? Куда я с ней пойду? И что я буду делать? Домой нельзя. И в подъезд нельзя. Вы видели наши подъезды в бараках, построенных еще при Петре, переделанных тысячу раз под коммунальные квартиры, где жильцы входят и выходят каждую минуту? Вы видели эту грязь, вы нюхали этот запах кошек и мочи, эту убогость, эту нищету? А я хотел стать мужчиной! Я хотел обладать женщиной! И это была первая женщина, в чьих глазах я прочитал "не бойся!".
У меня до этого был случай, когда я мог это сделать. Это было в магазине на углу Колхозной площади и Первой Мещанской улицы, куда я пришел купить сыр и пельмени для мамы. Ко мне подошло существо в синем прорезиненном плаще до пят, в бигуди, прикрытых пестреньким платочком, с синими кругами под глазами, с красным, испачканным помадой ртом, и сказало: "Есть что выпить?" И оно разжало грязную ладошку, где лежало несколько карамелек. "Закусочка-то есть", — сказало оно. И ей-богу, я бы пошел с ней, потому что она была женщина, а я хотел женщину! Но что-то удержало меня, жалкие словечки: "Потом, в следующий раз" — сорвались с моих пересохших губ. И, черт меня возьми, как я жалел потом, что не пошел с ней! Я бы мог стать мужчиной!
А тут девчонка, студентка, маленькая, добрая, ушла со мной с того институтского вечера, потому что я подошел к ней, взял ее за руку, как настоящий мужчина, и сказал: "Ты пойдешь со мной!" И "Беломор" дымился в углу моего рта, и глаза мои были холодные и властные, как у Джеймса Кегни в фильме "Судьба солдата в Америке", и галстук мой был яркий, и на нем была нарисована обезьяна, взбирающаяся на пальму, и волосы у меня были мягкие и волнистые, и весь я был московская штучка, а она, вероятно, приехала из Вологды. Но только она уже была женщина, а я был шпрота-переросток, и желал ее всеми фибрами моей истосковавшейся души. Семнадцать мне было, семнадцать...
Я вижу сейчас брови родителей, читающих эти неприличные строки. Я вижу, как они, брови, поднимаются все выше и выше, и папа говорит маме, вытирающей посуду на кухне:
— Ну, знаешь, не ожидал! Что это с ним такое? Как мальчик, право. Спрячь это от ребенка. Рано ей это читать. Огорчил меня Суслов на этот раз. Все прямо как с цепи сорвались: секс да секс!
Это не секс, друзья. Это жизнь. Это память вернула меня туда, в детство, а о чем же мы мечтаем в детстве, в наши пятнадцать, семнадцать? О хороших отметках, конечно. О том, чтобы не огорчать маму и папу. О выборе профессии. Об общественной работе. И о том, как стать мужчиной. Или женщиной. Так уж мы устроены. Даже при социализме. Только социализм часто делает нас уродливыми мужчинами и уродли- выми женщинами. Он не приспособлен для счастья. Вот я и шел с моей девочкой по моему переулку и думал, куда мне с ней пойти.
Я жил напротив церкви. Это была действующая церковь. Она была чистая и покрашенная. Днем в ней толпились прихожане. А вечером там, на церковном дворе, было пусто. И я привел эту девочку на церковный двор.
Эй, скажет читатель, ты же говорил про потери, про что-то, что мы теряем, а потом находим. Куда же ты пошел? Не изменил ли ты теме? Нет, друзья, не изменил. Это я про потерю. Про то, как я потерял мою невинность. Про то, что мы все хотим потерять как можно раньше, да нельзя. Про то, что я помню, как я ее потерял. А вы помните? А ведь это было счастье. И несчастье в то же самое время, потому что советская власть так устроена, что самые счастливые моменты в нашей жизни обращаются в несчастье. Так уж она устроена, эта власть. Потому что нам с той девочкой некуда было больше пойти. Вот мы и пришли на церковный двор.
Я обнял ее и нежно поцеловал. А она прижалась ко мне и почувствовала, что я дрожу. И она опять сказала мне: "Не бойся, ты мне нравишься". И руки мои жаднющие стали шарить по ней, такой маленькой, цыпленку такому. И она сняла штанишки, фиолетовые такие штанишки, выпускаемые тогда великой промышленностью Союза, и стыдливо спрятала их в сумочку...
И вот тут я в тупике. Я и тогда был в тупике, потому что мы стояли, прислонившись к церковной стене. Но у русского языка есть свойство останавливаться, когда речь идет о сексе. Нет таких приличных русских слов, которыми можно было бы красиво описать то, что составляет жизнь мужчин и женщин. Я все думал, что это идет от цензуры. И понял, что не только. Это авторы стыдливо смолкают, потому что в языке нет приличествующих слов. И наоборот, есть всякая мерзость в нашем языке, которой и обозначаются все эти действия и явления. Вот почему все дружно набросились на литератора Лимонова, который не постеснялся облечь все любовные понятия и формы в матерные категории русского языка. Все кричат: ах, ах,как он посмел, порнография, матерщина, гнусности! А это не он. Будь у нас в языке более приличные выражения для этого, он бы ими воспользовался, уверяю вас. Не верите? Попробуйте сами. Сядьте, друзья, и опишите ваши переживания, действия и чувства, когда вы остались наедине с любящей вас женщиной, которую вы хотите. Сели? Ну, начинайте...
Теперь вы наконец-то поняли и меня, и любого другого писателя, который хочет вам рассказать о самом удивительном в жизни — о любви. Я не знаю, как это сделать. Но поверьте, все это было так, как вы себе представляете. Увидьте меня, жалкого, дрожащего, ничего не успевшего, ничего не понявшего, готового провалиться сквозь землю. И представьте себе ту девочку, гладящую меня по голове, с глазами, полными слез, приговаривавшую: "Ну что ты, что ты так разволновался? В следующий раз будет хорошо. Не плачь, милый".
Что же я потерял тогда? Девственность? Веру? Уверенность в себе? Нет.
Я потерял чувство, что власть, при которой я живу, справедлива. Потому что несправедливо, что людям там некуда пойти, когда они любят. И потому что влюбленные там бездомны и несчастны.
Вот что я потерял.
* * *
Таможенник лениво рассматривал содержание шкатулки с бижутерией, где жена держала свои колечки, бусы, серьги, всякую женскую всячину. Завтра мы должны были вылететь в Вену. Наша жизнь в России подходила к концу. Перед тем, как пойти к этому таможеннику, я спросил жену, не положила ли она туда что-нибудь неположенное. Нет, сказала она, там всякое барахло. Вот мы и сидели с таможенником в отдельной комнате в аэропорту "Шереметьево" и болтали.
Куда вы все побежали? — добродушно спрашивал он, перебирая колечки и цепочки. - Что вам тут не сидится? Думаете, там будет лучше?
Так ведь родственники! — отвечал я. — Тетя замучила. Приезжай да приезжай в Израиль этот! А с тетей, сами знаете, спорить нельзя. Как тетя сказала...
Да будет тебе! — сказал он. — Какая, к черту, тетя? Навыдумывали себе всяких теть. И нам теперь из-за вас работы невпроворот. Сижу вот с твоим хламом вместо того, чтобы делом заниматься, контрабан- дистов ловить.
А вот и ловите, — сказал я. — А то копаетесь во всяком дерьме, а у нас и так нервы на исходе. Вы же видите, что все эти вещи старые, никчемные.
А он все перебирал серьги и колечки и раскладывал их на две кучки.
Это что, серебро? — иногда спрашивал он.
Понятия не имею! — отвечал я. — Если серебро, там ведь должна быть проба.
Правильно, — соглашался он, — а тут пробы нет. Стерли, что ли?
Может, и стерли, — говорил я. — Не нравится — отложите. Мы теще отдадим. Теща за дверью страдает.
Ну вот, — говорил он. — Сами уезжаете, а тещу оставляете. Не по-людски это. Теща теперь убиваться будет.
А мы ее потом выпишем, — сказал я. — Вот устроимся и выпишем.
А ты декларацию подписал? — вдруг спросил он.
Какую декларацию? — испугался я.
Что не провозишь с собой нелегально золото, серебро, драгоценные камни?
Вы же видите, что не провожу.
—Подпиши вот здесь. И жену кликни, путь тоже подпишет. Я позвал из коридора жену. Она подписала.
—Ну так вот, — сказал он, взяв подписанную нами бумагу и положив ее в стол. — Хороший наш с тобой разговор кончился. Вот эти изделия, — он показал на груду жениных колечек и сережек, — сделаны из серебра и полудрагоценных камней. Таким образом, вы хотели нелегально перевезти изделия из драгоценных металлов за границу нашей страны. И теперь придется отвечать по всей строгости закона. Ясно, гражданин?
Я похолодел.
Я сразу понял, что завтра мне отсюда не улететь. Потом я представил себе суд, на котором меня пригвоздят к позорному столбу и упекут в лагерь. И вся жизнь моя в этот момент рухнула.
Что ж ты делаешь? — сказал я. — Ты же видел, что я тебе принес эту паршивую шкатулку, как она дома у нас стояла. Если там есть серебряные колечки, то не чужие же, не ворованные, а своим трудом за работанные. За них ведь мы деньги платили в магазине. В советском магазине. И стало быть, они нам принадлежат. Подарки тут всякие, от друзей, от бабушки...
Так вы же декларацию подписали, гражданин Суслов, — улыбаясь, сказал он. — Вот тут черным по белому написано, что никаких драгоценных металлов и камней с собой в государство Израиль не везете. Верно? Я же вас не заставлял это подписывать. Что же вы теперь возмущаетесь? Закон есть закон.
Ну так заберите их себе, раз у вас такие законы, — злобно сказал я. — Подавитесь этими камешками и колечками. Другие наживем. Тетя поможет.
А вот это уже нельзя! — сказал он сурово. — Это вы как бы оскорбляете меня при исполнении служебных обязанностей. Это мы сейчас специально оговорим. Выйдите в коридор, я вас вызову.
В коридоре стояла взволнованная жена. Я знал, что волноваться ей нельзя, через месяц роды. Я погладил ее по вздувшемуся животу и прошетал то, что мне хотелось бы проорать:
Ты зачем положила туда эти серебряные колечки? Ты убить нас хочешь, дорогая? Кажется, наше путешествие отменяется. Ты с кем шутки шутишь? С этой властью поганой? Ты что, не понимаешь, что мы у них в руках?
Какие колечки? — жена была вне себя. — Грошовые колечки, кому они нужны?
Молись, — сказал я, — молись.
Зайдите, Суслов, — позвал меня таможенник. - Мы решили конфисковать у вас изделия из драгоценных и полудрагоценных металлов в пользу советского государства. А вы уж напишите нам объяснительную записку, как вы дошли до жизни такой. Все норовите урвать у советского народа побольше... И скажите спасибо, что жена у вас беременная, а то бы я вам никогда не простил это ваше "подавитесь". Распустили языки, понимаешь... Не подавится наше государство, не беспокойтесь. Вы у нас раньше подавитесь. Смелые больно стали.
От его добродушия не осталось и следа. Он сидел за своим столом и подбрасывал рукой цепочки и колечки.
И я написал объяснительную записку. Я униженно объяснял, что только недоразумением и моим полным непониманием можно объяснить, что в шкатулку жены попало несколько колец и цепочек, впоследствии оказавшихся серебряными. И что брошка, подаренная бабушкой моей жене в 1950 году, содержала в себе, как оказалось, камень аметист, который мне лично казался просто стеклом. Но памятуя, что по древним поверьям аметист служит талисманом, удерживающим от пьянства, будет более гуманно со стороны таможенных властей оставить эту бабушкину брошку моей жене, чтобы она могла активно бороться с пьянством, в которое может впасть ее муж вдали от родины. Но если закон протестует против вывоза бабушкиной брошки с аметистом, то пусть уж таможенники оставят ее себе, потому что пьянство как социальное явление еще не искоренено и по эту сторону границы. В связи с чем прошу меня простить и не препятствовать моему завтрашнему отлету за пределы родной страны, поскольку мы с женой беременные и отказ может плохо отразиться на состоянии плода, что приведет к родам прямо на взлетной площадке Шереметьевского аэропорта.
Я уже не помню, что писал в той объяснительной записке. Поверьте, что она не была такой уж веселой и милой. В каждой ее строчке сквозил ужас, что нас не выпустят. Мне было так страшно, как никогда. У меня было чувство человека, которого приговорили к смерти.
Таможенник прочел мое объяснение, улыбнулся и вышел. Через два часа он вернулся и сказал, что власти конфисковали указанные изде-ли и разрешили мне вылет.
А теперь можете пожелать, чтобы мы подавились! — добродушно сказал он.
Чтоб вы подавились! — сказал я.
Счастливого пути! — сердечно сказал он.
P. S. Когда уезжал мой друг доктор, он вывозил с собой два чемодана книг и череп, который всегда стоял на его рабочем столе. Это был старый череп, служивший студентам наглядным пособием. Он переходил из поколения в поколение в этой семье докторов. Мой друг не помнит своего дома без этого черепа. Таможенник пропустил книги, а череп задержал.
Ну зачем вам этот череп? — спросил доктор. — Это же не мозги, а череп, он же за вас думать не сможет.
Тогда он пойдет как запрещенные к вывозу костяные изделия, — находчиво сказал таможенник. — Ишь до чего додумались: черепа наши вывозить!
* * *
И еще я потерял друга. Уже здесь, в Америке. Я его знал всю мою жизнь. И он был последним, кто махнул мне рукой у трапа, когда я уезжал. Я никогда не уговаривал его уехать со мной, потому что это глубоко личное решение. Я не видел его семь лет. А потом он решился и приехал. И я был счастлив, потому что думал, что он приехал для того, чтобы мы спасали друг друга от одиночества. Потому что он был моим зеркальным отражением. Там, в России. Зеркальным в том смысле, что он все делал гораздо лучше меня, и если я ошибался, то он все исправлял. Это было волшебное зеркало. И мне с ним было легко. И мы прожили жизнь рядом. А потом я уехал. Он за это время женился, обзавелся ребенком, и через семь лет я его встретил здесь, на аэродроме. И не было конца моему счастью. А потом вдруг выяснилось, что я его раздражаю. А потом я не полюбил его жену. А она меня. А потом нам не о чем стало говорить. То есть все как раньше, да не то. А потом он перестал звонить. И я перестал. И оказалось, что его как бы и нет. Так я его и потерял. Я все думал: почему? А потому, что прошло семь лет. И я, быть может, стал другим. Хотя мне кажется, что я не изменился. Даже не постарел, если внимательно по утрам смотреть на себя в зеркало. А морщины эти и мешочки под глазами — это от улыбок. Это следы былых улыбок, как учат нас мудрые французские пословицы. А так — все по-прежнему. А может, изменился? А может, я другой? Или он стал другим? Семь лет... А может, он не понимает, как и чем мы тут жили эти годы и хочет сам их пройти? Без меня? Без моих советов? А ведь я просто тороплюсь, чтобы он избежал моих ошибок. Вот и лезу со своими советами. А может быть, просто отпустить его на пару лет, пусть придет готовым? Но мне-то он не нужен готовый, мы же ждем наших друзей, чтобы помочь им. У нас ведь опыт. Наверное, им наплевать на наш опыт, они хотят сами все пройти, со своими ошибками, со своими трагедиями, со своими разочарованиями. Тогда зачем ему я? И зачем мне он? Когда он ко мне приходил, то непременно заставал меня в одном и том же кресле перед телевизором, в одной и той же позе: с рюмкой коньяка в руке. И его, наверное, тошнило от этого. А меня нет. Так уж я хочу. Я это заслужил: мое кресло и мою рюмку. И еще беседу с ним. Где я поделился бы с ним, почему я сижу в этом кресле с этой рюмкой. Но, видно, не судьба.
Я рассказал вам сумбурно об этой моей потере, потому что, как оказалось, я не один такой, потерявший друга. Все чаще давние эмигранты рассказывают мне о встречах со старыми друзьями, с которыми у них не нашлось общего языка. Тем приятнее мне встречать старых друзей, друживших еще в России, которые сумели сохранить это чувство и здесь, в эмиграции. Я видел таких людей и в Чикаго, и в Сиэтле, и в Кливленде, и в Лос-Анджелесе. И я счастлив за них, потому что их больше ничто не связывает с тем местом, откуда они уехали. Они забрали оттуда все, что смогли. Детей. Родителей. Друзей. А что еще надо человеку?
Прощай, дружок!
* * *
Потери, потери... Кто теряет, кто находит? Вот уж не думайте, что я кончу эти мемуарные воспоминания на такой горькой ноте. Не на того напали! Давайте лучше вспомним смешную песенку, которую перевел с финского — кто бы вы думали? — Владимир Войнович. Там были, между прочим, такие слова:
В жизни всему уделяется место.
Рядом с добром уживается зло,
Если к другому уходит невеста,
то неизвестно, кому повезло...
РЕКЛАМА
Покойный Эдди Рознер рассказывал: "Были на гастролях в Одессе. Странный город. Подошел к газировщице на углу. Спрашиваю: "У вас холодная вода?" Отвечает: "Чтоб твой труп был такой теплый, как эта вода!" Странный город".
А я не вижу ничего странного. Газировщица просто хотела хорошо отозваться о своей воде. Она хотела показать ее в самом лучшем виде. Она рекламировала свою воду. И если бы она приехала сюда, только дурак не взял бы ее в рекламное агентство. Она нашла рекламный образ.
Еще в России я интересовался рекламой. Во-первых, интересно. Во-вторых, я этим жил одно время.
Я просмотрел множество зарубежных реклам. Некоторые из них были потрясающи по выдумке и озорству. Под часами "Биг Бен" в Лондоне когда-то висела неоновая реклама: "Сейчас самое время выпить пиво "Стровайзер". В "Нью-Йорк таймс'е" были: две совершенно чистые страницы, лишь в уголочке микроскопическими буквочками было напечатано: "Ай-Би-Эм в рекламе не нуждается"...
Я изучал зарубежные образцы, потому что после подачи заявления на выезд нашел приработок: писать рекламу для телевидения от торговой организации "Союзторгреклама". Мы организовали чудесную команду: я — сценарист, мой брат — кинооператор, и еще один парень, тоже подавший на выезд, — режиссер. Независимая группа. Что надо, от-рекламируем так, что народ побежит и сразу все скупит. Мы его за нос приведем к рекламируемому товару.
А что же рекламировать в России, спросите вы, ведь товаров-то нет?
Правильно. Товаров нет, а реклама есть. Самая характерная советская реклама звучит так: "Храните деньги в сберегательной кассе!" И кто-то получил за нее деньги. Чем мы хуже? Начальство за нас очень ухватилось. Оно еще не знало, что мы подали... Оно думало, что мы пришли подрабатывать. Имена у нас были звонкие, писать мы умели и снимать тоже.
И мы сняли несколько реклам, которые смело можно было бы показывать даже по американскому телевидению. Про одну из них я и хочу рассказать. Заказ был такой: есть настольная лампа с гибкой шейкой. Вы ее ставите на стол и поворачиваете в любую сторону. Потому что шейка гибкая. Это был удивительный успех советской индустрии! На пятьдесят пятом году революции был придуман такой замечательный механизм! Даже расхотелось уезжать. А вдруг еще что-нибудь придумают! А вас уже нет. Вы не смейтесь, только представьте себе: стоит на столе лампа, и вы можете крутить ее в любом направлении! Чудо какое-то! Нет слов. Ох, уж я ее отрекламирую! Я придумаю так: сначала на темном экране появляется луч света, которым высвечивается буква "П", потом им же можно показать букву "О". И так буква за буквой появляется весь лозунг: "ПОКУПАЙТЕ ЛАМПУ С ГИБКОЙ ШЕЙКОЙ ФАБРИКИ "ДО ЛАМПОЧКИ". Потом камера поворачивается к источнику света, к этой самой, с гибкой шейкой, и все видят, как ею можно во все стороны вертеть. 30 секунд. Расходы минимальные. Все довольны. Народ бежит покупать лампу. Фабрику с названием "До лампочки" я придумал. Нет такой фабрики. Это я для смеху так назвал. Ту лампу выпустила другая фабрика. И как ее звали, я забыл.
Я пошел на студию и попросил мне показать эту лампочку с гибкой шейкой. Чтобы немного ее покрутить и посмотреть, нет лив этой шейке еще какого-нибудь сценарного решения. Редактор мне сказал:
Какая лампа? Ее еще не выпустили.
А чего ж мы ее рекламируем?
Ну ты, как ребенок,— сказал редактор.— Если бы ее выпустили, ее и рекламировать не надо. Дав-но бы все расхватали.
А чего же мы тогда рекламируем, если ее нету?
А план по рекламе надо выполнять? Вот мы и делаем в счет 1976 года.
Так на дворе же семьдесят третий.
Не смеши меня, — сказал он. — Тебе платят — вот и делай. С мягкой шейкой и без.
И я написал сценарий. И получил деньги. А эту лампу, может быть, уже выпустили. А, может быть, перенесли на следующую пятилетку. Потому что народ проживет и без этой дурацкой лампы. С гибкой шейкой.
Здесь у нас не так. Реклама преследует нас с утра до ночи. Некоторые ее просто не переносят. А я без нее уже не могу. Потому что благодаря ей я знаю, где и что мне купить. Потому что реклама отражает то, что есть на прилавке. Скажем, откуда вы могли бы знать, что у меня вышли три книги и готовится к печати четвертая? Для вас, на русском языке? Только из рекламы! Не верите? Читайте:
ПОКУПАЙТЕ НОВУЮ КНИГУ ИЛЬИ СУСЛОВА
"МОИ АВТОГРАФЫ",
ВЫПУЩЕННУЮ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ "ЭРМИТАЖ"
Славная, теплая, хорошая книга...
ГРОБ С МУЗЫКОЙ
Я мечтал об этом еще в России. Вообще мечтать в России очень хорошо. Ты переносишься в мечтах то в Париж, то в Америку, то к любимой, и тебе хорошо, потому что мечты твои невыполнимы, а кровь все равно сладко бьет в виски, истома окутывает тело, и ты там, там, в Нью-Йорке, под небоскребами, и звуки джаза слетаются к тебе изо всех дверей, из окон, с неба, и Гленн Миллер леденит кровь трубами своего оркестра, и Дюк Эллингтон бормочет "Караван", и хрипит Луи Армстронг свою "Долли", и невообразимо высоко визжит кларнет Бенни Гудмана.
Или, наоборот, ты бродишь по Елисейским Полям, по Монмартру и забредаешь в кафе, где Морис Шевалье, улыбающийся фарфоровыми зубами, ласково поет свои шансоны, и Эдит Пиаф, маленькая и страстная, задыхается от любви, и Ив Монтан, обняв Азнавура, шпарит с ним на два голоса "Осенние листья".
Чего только не увидишь в мечтах, бродя по нищим и кривым московским переулкам. Жизнь кажется тебе серой и монотонной, пахнущей щами и подгорелой картошкой, а все краски там, там, где музыка, где джаз, где веселье... И ты, бродя с другом по Первой Мещанской улице, напеваешь на два голоса полюбившуюся тебе песенку из американского фильма, как Монтан с Азнавуром, и все вокруг становится голубым и зеленым.
Я любил джаз с детства. Я не пропускал концертов Утесова, Рознера, Лундстрема, я смотрел все американские фильмы, где исполнялась джазовая музыка, — от "Джорджа из Динки-джаза" и "Серенады Солнечной долины" до "Судьбы солдата в Америке", где изумительные гангстеры Кегни и Боггарт убивали своих соперников под звуки джаза.
Эта музыка делала меня оптимистом в самые тяжелые, пятидесятые годы. И я никак не мог понять, почему она не нравится советской власти? Ведь это музыка, думал я, согревает сердце даже в самые скучные, голодные и холодные времена. А в газетах писали о том, что саксофоны — тайное оружие поджигателей войны, что джаз — это "музыка толстых", и тут же приводили идиотскую цитату из Максима Горького, который с отвращением описывал свои впечатления от джаза, услышанного им в Америке. Эфир и эстраду заполняли примитивные и жалкие песенки примитивных и жалких советских композиторов, со словами, настолько слюнявыми и бесполыми, что их противно было произносить. Однажды я не выдержал и написал письмо в газету "Советское искусство", которая и возглавила крестовый поход на джазовую музыку. Это был, кажется, 1950 год, и я учился в девятом классе. Я писал, что мне непонятно, что плохого в том, что у людей, слушающих джазовую музыку, улучшается настроение, разве не задача искусства приносить в жизнь радость и веселье, и почему нигде нельзя услышать джазы Утесова и Рознера?
К моему великому изумлению, газета разразилась огромной статьей, где было сказано, что "путаница в терминологии привела читателя И. Суслова к мысли о том, что существует так называемая джазовая советская музыка. Нет! — восклицала газета, — такой музыки нет и не может быть! А есть легкая музыка советских композиторов, воспитывающая слушателя, а не растлевающая его!" Я был молод тогда и никак не мог понять, как музыка может растлевать? Хотя, конечно, очень хотелось бы немножко порастлиться, а то все говорят: "разложение", "растление", а что это такое на самом деле, никто объяснить не может. (Об этой статье в "Советском искусстве" мне недавно напомнил профессор Фред Старр, написавший большую книгу о советском джазе.)
И вот, приехав в Америку, я решил написать завещание.
И ничего в этом нет особенного. Мы все должны это сделать. Мало ли что с нами может случиться. А у нас жены, дети, имущество. Завещание не помешает.
Но я написал завещание, в котором было сказано: "А за гробом моим должен идти джаз. И все должны смеяться и радоваться. И петь. Потому что жизнь прекрасна, даже когда нас уже нет".
Я это написал и ужасно позавидовал тем, кто придет на мои похороны. Подумать только, сколько прекрасных минут я им доставлю, а сам ничего этого не увижу! Потому что никто до такой глупости не додумается: пригласить джаз на свои похороны. Разве только Юз Алешковский, который как-то сказал мне, что и у него была мечта, чтобы на его похоронах играл джаз. Но Юз должен умереть позже меня: он здоровяк, не курит, не обращает внимания на суету жизни, у него полно сюжетов, которые он должен записать.
Я мечтал об этом еще в России. Я мечтал, что на мои похороны придут поиграть те музыканты, которых я знаю: и Леша Зубов, и Жора Гаранян, и Леша Козлов, и ударник Журавский, и братья Геворкяны, и Лукьянов, и Капустин, и Костя Бахолдин, и те бездомные, никому не нужные джазмены, которые нашли себе временный приют в кафе "Аэлита", которое я возглавлял, и Володя Шаинский, с которым я написал несколько песенок, и Никита Богословский, с которым я мечтал написать песенку, да так и не успел, и мой институтский дружок Эрик Рогов, игравший на банджо, и Юлик Бидерман со своим аккордеоном.
Я буду лежать в гробу, меня привезут на кладбище, и саксофон Гараняна издаст свой первый звук. Это будет хриплый протяжный звук с глубокими синкопами, и тут грянет барабан с тарелками, задающий темп, и вот уже включились тромбоны: там-паби-бам, таби-бам, и трубы, и рояль, ритмично заполняющий паузы (хотя откуда на похоронах рояль?), и контрабас, гармонизирующий это нечто (что это, блюз?), вот все уже ведут эту знакомую с детства мелодию, как это по-русски: "Мне декабрь кажется маем, и в снегу я вижу цветы", наивная, радостная, нежная, запавшая в душу мелодия. Почему она? Почему это находило отклик в детских душах наших, а не что-то другое?
Но нет уже никого из тех, кто мог прийти на мои похороны, все остались там, за чертой.
Я сижу в кресле у моего дома. На лужайке перед домом стоит мой гроб. Приходят друзья, родственники и знакомые. Лица у них постные, неулыбчивые. Они приносят цветы и кладут в гроб. Они говорят приятные в таких случаях слова.
— Угощайтесь! — говорю я. — Вон там, в баре, наставлено на любой вкус.
И все прикладываются.
Кто-то хочет начать траурный митинг и сказать речь о том, что эмигрантская литература понесла тяжелую утрату. На... году жизни скоропостижно скончался человек, который при других обстоятельствах мог быть Героем Социалистического труда, лауреатом государственных и Ленинской премии, депутатом Верховного совета 3-го, 4-го и 5-го созывов, членом КПСС черт знает с какого года, членом Союза советских писателей... Он мог быть кавалером всех орденов и медалей и закончить свой жизненный путь на Новодевичьем кладбище, но вместо всего этого он взял и эмигрировал в Америку. Почему он стал эмигрантом, а не заслуженным сукиным сыном, почему он променял привычный всем нам коммунизм на не известный никому капитализм, известно только Богу, но именно это обстоятельство дает нам возможность проводить его в последний путь именно здесь, среди таких же, как он, товарищей по судьбе. Мир праху твоему, Илюша!
— Ладно уж тебе, — говорю я. — Как это въелось в кровь: говорить пошлости про покойного. Приступайте к самому главному.
И начинает играть джаз.
Это пришли американские джазмены. Им не надо было прятать свое искусство, их не мучило государство за то, что они играют джазовую музыку, они развивались сами по себе и совершенствовали свое искусство, умирающее, надо сказать, искусство, потому что преданных поклонников того, старого, джаза почти не осталось. Его вытеснил рок. А рок — это музыка следующих после нас поколений. Мы для него слишком старые, слишком консервативные.
Ах, как они играют! Я смотрю на тех, кто пришел на мои похороны, и вижу радость на их лицах, я вижу, как они тихонько стучат в ладоши и отбивают ногами ритм. Я вижу, что они получают удовольствие. Как, наверное, было бы прекрасно, если бы я умел описывать музыку! Но я не умею. И профессиональные критики тоже не умеют. Они притворяются, что умеют рассказывать о музыке. Но ведь это невозможно, потому что как, скажем, объяснить прелесть английской прозы русскому читателю? Он все равно будет судить о ней по переводу. А музыка говорит на своем языке, его можно почувствовать, но объяснить нельзя. Давайте и мы, слушатели, помолчим минутку и послушаем джаз, пришедший на мои похороны:
Чувствуете, как это красиво?
Я вижу блаженные ваши улыбки, я вижу грусть в ваших глазах, потому что мы вернулись в детство. Уходя из жизни, мы возвращаемся в детство.
Потому что все самое дорогое осталось там, в детстве. Вот я и вернул вас туда.
До свиданья, до свиданья! Прощайте.
МАСТЕР МИЛОВАНОВ
Когда я работал в типографии, у меня в цехе был мастер Милованов. Никто не называл его по имени-отчеству, все звали его Милованов. И еще Милованыч. Потому что Милованов был хорошим механиком. Он умел чинить машины, которые то и дело выходили из строя, старые, разболтанные. На них сшивали книжные тетради, но книжки все равно рассыпались, потому что машины эти давно было пора выбросить на свалку. Но других не было, и в цехе из разных углов все время неслось: "Милованов! Милованыч! Сломалось!.." Милованов ходил от машины к машине, что-то подправлял, что-то смазывал, что-то сваривал, и цех работал, накручивал план по натуре и валу...
Милованов крепко выпивал, белесые его глаза были всегда с поволокой, отвечал он тихо, нескладно, и я все время боялся, что он попадет рукой в машину, и тогда хлопот не оберешься. "Милованыч, — просил я его, — ты, в общем, того, поосторожней, а то мне за тебя отвечать. Чего ж ты с утра-го? Дождался бы обеда, я б тебе компанию составил..." "Не трухай, Петрович, — говорил он. — Человек без бутылки, что корабль без паруса — может потонуть. Не трухай, все будет в порядке". И шел на очередной крик: "Милованыч! Сломалось!"
В цехе работали одни женщины, мы с Миловановым были для них "мужиками", поэтому с нами даже заигрывали, но мы не поддавались: в своем цеху неудобно, в других цехах девчонки не хуже, и не надо целый день мозолить им глаза.
Однажды я видел, как Милованов пьет. Он стоял у окна в комнате мастеров и не видел, что я иду по фабричному двору. Он достал бутылку, свинтил пробку и выпил ее одним духом. Он ни разу не поперхнулся, просто перелил водку в желудок, как будто у него не было горла. Так выливают воду из бутылки в раковину. Я догнал его по дороге в цех и сказал, что я все видел. Он презрительно усмехнулся: "Не трухай, Петрович! Человек без бутылки, что паровоз без колес — сразу с рельсов сходит". И пошел чинить машины.
Был конец 56-го года. Мы все ходили как помешанные. Мы зачитывались сборником "Литературная Москва", где впервые появились правдивые рассказы и стихи, обсуждали решения двадцатого съезда партии, покончившего со Сталиным, переживали за венгров, которых давили советскими танками. Насер захватил Суэцкий канал, началась война на Ближнем Востоке. Хрущев сказал, что если англо-франко-израильские агрессоры не уберутся к чертям собачьим, Советский Союз пошлет туда добровольцев. Мои друзья криво улыбались: какой дурак поверит в добровольцев, пошлют туда армию и растопчут всех, как в Венгрии...
Милованов появился в цехе лишь во второй половине дня. "Что случилось, Милованыч, ты заболел?" Он весь светился изнутри. Глаза его сияли, он был абсолютно трезв, на нем был чистый костюм, галстук, свежая сорочка. Он даже выглядел выше, чем обычно.
Я был в военкомате, Петрович, — сказал он.
Что ты там делал?
Газет не читаешь? — насмешливо спросил он. - Добровольцев хотят позвать в Египет. Вот я и зарегистрировался.
Я смотрел на него с изумлением.
Что ж ты там будешь делать?
Воевать, — ответил он. — Воевать.
Так ведь могут убить. Это же война.
А может, и не убьют, — сказал он задумчиво. — На той войне, видишь, не убили.
Я никогда не видел его таким. Речь его была внятна и тверда. Даже тон его изменился. Я не узнавал Милованыча.
Милованыч, — сказал я, — я тебя не узнаю. Что ты там потерял?
Не Милованыч я, — сказал он жестко, — а Анатолий Иванович. А что я здесь нашел? Ты знаешь, кто я был в армии, мальчик? Я был подполковник. Я был хозяин жизни. Нам, военным разведчикам, отдавали города на три дня. А потом уже, после нас, в город входили военные власти. Ты это понять можешь? Все было нашим: вино, консервы, женщины. Я же жил на войне! Жил так, как никогда ни до, ни после не жил! И кем я стал? Милованычем? Машины твои сраные чинить, грязных девок этих из Марьиной Рощи ублажать? Я, разведчик, подполковник... Там мое место. Там я снова жить стану. Все нашим будет. А то я сопьюсь со скуки и помру. Молодец Хрущев! Знает он нашего брата. Камня на камне, камня на камне!..
Он вдруг остановился и посмотрел мне в глаза. Я был поражен. Он усмехнулся и сказал:
—Не трухай, Петрович. Не боись. Мы там вашему брату-агрессору устроим веселую жизнь...
И прошел мимо, подтянутый, строгий, другой.
Но Хрущеву не пришлось посылать добровольцев в Египет. Война утихла. Милованов сжался. Он ходил по цеху с каменным лицом, ни с кем не разговаривал, все думал какую-то тяжкую думу.
Потом позвонила его жена и сказала, что он повесился в уборной.
ПАПИНА ПОБЕДА
Когда я в 74-м году приехал в Америку, бензин стоил 46 центов за галлон, а за свою первую машину я заплатил 25 долларов. Это был огромный "форд"-универсал, который прошел сто тысяч миль, но заводился с пол-оборота и возил меня всюду, куда надо. Его единственным недостатком были ржавые дыры на крыльях, но мне было на них наплевать, поскольку я не собирался приезжать на нем на прием в Белый Дом. А с дырами было даже веселее, потому что при езде они пели на разные голоса, чаще всего песни Новикова на слова Ошанина.
Мой "форд" честно прослужил мне целый год, а однажды спас мою жизнь. Я проезжал на нем по чудной улице в Шейкер-Хайтсе в Огайо, когда он вдруг остановился. И сколько я ни заводил стартер, сколько ни давал газ, он не хотел двигаться. Я вышел, чтобы открыть капот и посмотреть, что там случилось. Но в это время заднее колесо отломалось и покатилось по улице. И второе тоже отвалилось и поехало в другую сторону. Поскольку время было рабочее и на улице никого не было, я так и остался один с разинутым ртом, глядя на уехавшие от меня колеса. Это втулки сломались от старости. Я поцеловал мой "форд" в ветровое стекло и тепло с ним прстился. Потому что все могло быть по-другому: эти колеса могли отвалиться на хайвее, при скорости 60 миль в час, и тогда полиция долго собирала бы мои кости, остановив все движение, а ведь людям надо как-то попасть домой. А тут чьи-то кости, черт бы их побрал!
Но машина моя рассудила иначе и сначала остановилась, а потом уж растеряла свои колеса. Надо добавить, что она остановилась у телефона-автомата. Я подумал: к чему бы это? По телефонной книге я нашел автомобильную свалку и попросил ее хозяина убрать мой мусор с дороги. Приехал грузовичок с краном, мою бедняжку погрузили, шофер выдал мне 25 долларов и увез обесколесенный "форд" на кладбище. Так что выходит, что я год прокатался бесплатно, оправдав вложенный мной капитал.
Но эта история все-таки запала мне в душу, и когда приехал из России мой папа, я не решился купить ему машину. Во-первых, папе было 70 лет, во-вторых, он никогда до этого не водил машину, в-третьих, папа не умел читать по-английски и мог принять знак "стоп" за "давай скорей". Поскольку я не мог научить папу и вождению, и английскому языку и не мог сбавить ему годы, я сказал, что машину ему не куплю. Папа с брезгливостью на меня посмотрел и сказал, что видеть меня — преступление, а слышать — наказание. Что не для того он уехал из России, чтобы не насладиться благами свободы. А свобода, сказал папа, — это машина. И ты увидишь, неблагодарный ребенок, как я научусь водить машину! И без твоей помощи. Плевать я на нее хотел! Ишь ты, какой умный! Сам будет кататься, а старый папа должен ходить пешком!
Папа, — сказал я, — мне сорок лет. Прежде, чем сдать экзамен, я проездил и проучился сорок часов. Тебе семьдесят лет, ты должен учиться семьдесят часов. Кто с тобой будет возиться семьдесят часов?
Я не тороплюсь, — сказал папа, — у меня есть время. Это у тебя нет времени для папы. Вырастили их на свою голову. И мне не нужна твоя машина. Сам куплю. Почем тут машины?
Я сказал.
И ты пожалел 25 долларов для родного отца? — грозно спросил папа. — Я когда-нибудь жалел для тебя 25 рублей на твои паршивые пьянки и на твоих паршивых девчонок?
Папа, — сказал я, — как тебе не стыдно! Причем тут деньги! Я просто боюсь за тебя. Я же спать не буду, зная, что ты ведешь машину.
А я сплю, зная, что ты водишь машину? Я тоже не сплю. Так ты хоть будешь знать, что такое волнение. А то хочешь прожить как колобок, ни о чем не беспокоясь.
И папа стал потихоньку учиться. Он находил американских старичков, которым нечего было делать, и они с удовольствием учили папу премудрости езды. Заодно они учили его читать названия улиц и автомобильные знаки. Разговаривали они на идиш, что было для меня совершенным сюрпризом: я не знал, что папа знает идиш.
—Я не говорил на идиш пятьдесят лет! — гордо говорил папа. — При советской власти это было непри-лично. Но здесь это вполне прилично, и я сразу все вспомнил!
И в один прекрасный день папа выехал на улицу! Он свернул за угол на машине, которую я ему все-таки купил, и пропал! Конечно, машины за 25 долларов тогда уже не продавались, поэтому я купил ему огромный кадиллак за 50 долларов. (Если бы вы догадались уехать из России так же давно, как я, то тоже могли бы тогда купить машину за эти деньги, а не говорили бы: "Ну что он сочиняет? Где это видано: кадиллак за пятьдесят долларов?" Видано, видано, ничего я не сочиняю. Конечно, сочиняю тоже, но не в этом месте.)
Итак, папа пропал! Я думал, что он вот-вот появится из-за угла, а его все не было! Тогда я сел в свою машину и поехал искать папу. На душе у меня скребли кошки, я все помнил те мои колеса, уехавшие в разные стороны.
И тут в торговом центре за углом я увидел папу! Он с недоумением рассматривал "тикет", который ему дал полицейский.
В чем дело? — спросил папа сердито. — Почему он мне это выдал? Я ехал очень красиво, медленно, остановился у светофора, потому что был красный свет, въехал на стоянку и поставил машину вот сюда, где никого не было... Что, этот кап — хулиган, антисемит? Я так красиво ехал!
Знаешь, почему здесь пусто? — спросил я. — Потому что здесь нельзя стоять. Ты поставил машину прямо у гидранта! Тут даже все закрашено белыми полосами и написано: "Нельзя останавливаться никогда!" Что же ты встал?
Откуда я знал, что это гидрант? И что такое гидрант? — сказал папа. — Я думал, это столбик.
Теперь будешь платить за "столбик" 25 долларов.
Двадцать пять? Никогда! Я пойду в суд! - папа был вне себя.
И папа пошел в суд. В качестве переводчика он взял с собой моего сына. Этот восьмилетний хулиган говорил по-английски лучше всех нас, конечно, да и по-русски тоже.
Судья выслушал моего сына, рассказавшего о том, что дедушка не знал, что это гидрант и остановился не у самого гидранта, а чуть-чуть подальше гидранта, хотя гидрант был совсем не похож на гидрант, а на столбик, да и пожара все равно не было, так что дедушка никому не мешал, но если бы вдруг приехали пожарные, то дедушка обязательно уехал бы с этого места, чтобы не мешать им тушить пожар. И пусть поэтому судья отменит штраф. Потому что понаставили всюду гидрантов, машину негде из-за них поставить.
Судья выслушал перевод моего сына и спросил, есть ли у его дедушки 25 долларов?
Сын перевел. Дедушка рассердился.
Что он, с ума сошел? Откуда у меня 25 долларов?
Ты что, с ума сошел? — спросил мой сын у судьи по-английски. — Откуда у моего дедушки 25 долларов?
А 20 долларов у него есть? — спросил совсем не обидевшийся судья.
И двадцати у него нет, — сказал сынок, не дожидаясь объяснений дедушки. — Вы же видите, что он старичок из России. И не для того он сюда приехал, чтобы платить штрафы. Он их достаточно платил в Москве.
А пять долларов у него есть? - не унимался судья.
Папа пожевал губами и сказал, что пять долларов у него, вероятно, есть.
Мой сын пошел в кассу платить штраф, а судья подошел к папе и сказал ему на идиш:
—Поздравляю вас с пасхой. И в следующий раз будьте осторожнее. Папа так смутился, что готов был тут же доплатить сэкономленную им двадцатку. Но судья сказал:
— Не надо нам вашей двадцатки. Нам важно, что вы приехали к нам в Америку и привезли свою семью. И мой отец сделал когда-то так же. И может быть, ваш хулиганистый внук будет в один прекрасный день сидеть за моим столом и судить следующего дедушку из России, не могущего отличить гидрант от столбика. И приходите ко мне в гости на пасху, потому что для меня это будет большая честь.
И мой папа победоносно посмотрел на меня и сказал:
— Вот видишь, шлимазл, а если бы я не научился тогда водить машину, были бы у меня такие изуми-тельные и важные друзья? Слушайся папу, и все будет хорошо.
И теперь я стараюсь внушить эту мысль моему сыну.
Но ничего из этого не получается.
ЮРОЧКА
Мишеньке
Юрочке было пять, когда Борис уехал в эмиграцию. Это было довольно мучительно — оставлять Юрочку, хотя Борис и мать Юрочки давно развелись и жили своей жизнью. Юрочка, конечно, после развода остался с матерью, но Борис часто с ним виделся, привозил игрушки и гулял с ним по просторным черемушкинским дворам.
Уезжая, Борис просил мать Юры еще раз подумать о будущем сына, потому что, говорил он, со временем здесь будет только хуже, и если власть еще более ожесточится, то Юрочка не сможет получить ни образования, ни работы, в его анкетах будет фигурировать отец-эмигрант, да и национальность скрыть тоже не удастся, потому что знакомая школьная учительница рассказала ему, что в классных журналах на последней странице, там, где записаны данные родителей и ребенка и их адреса, заставляют ставить две маленькие буквы "с. е." или "л. р.", что для детей смешанных кровей, как в нашем случае, означает "скрытый еврей" или "ложный русский". Самое ужасное, говорила учительница, что дети узнали смысл этих аббревиатур и издеваются над теми, возле чьих фамилий они стоят. "Не ставь на мне крест, — говорил Борис, — еще может так случиться, что и тебе придется уезжать, и тогда у Юрочки в Америке будет отец, который все для него сделает". Но Юрочкина мать ему не верила и очень сердилась, что он уезжает, ведь Борис платил алименты и теперь по закону должен был уплатить их вперед, за все тринадцать лет, до совершеннолетия сына, а где же взять эту чудовищную сумму? После решения эмигрировать Борис потерял свою хорошо оплачиваемую работу и устроился в бюро проката домашних электроприборов, где ему платили втрое меньше. Борис считал, что пока он здесь, он будет выплачивать сыну ту сумму, которую платил раньше, но будущие алименты он будет собирать из расчета его нынешней зарплаты. Сумма все равно выходила огромная, но Юрочкина мать считала, что это несправедливо.
Где же я возьму такие деньги? - спрашивал Борис.
А где хочешь, — холодно отвечала Юрочкина мать. — Никто не заставляет тебя бросать своего сына и свою родину. Если уж ты решился на такое преступление, то отвечай за него, хотя бы деньгами.
И она подала в суд. Она хотела доказать, что Борис нарочно оставил свою работу, чтобы меньше платить алиментов своему сыну. Она сказала на суде:
—Этот человек решил уехать в Израиль и для этого перешел работать в какое-то глупое бюро проката чего-то.
И она поправила свои волосы, чтобы судья заметил ее красоту и элегантность. Она действительно была очень хороша и любила себя. Когда-то Борис любил ее тоже, но сейчас она ему казалась не такой уж красивой.
Судья поморщился и сказал, что это личное дело гражданина Полякова. Закон не запрещает гражданам менять место работы, вне зависимости от побуждений. А семейными делами разведшихся пар суд не занимается, это всецело зависит от согласия сторон. И если гражданка Полякова не согласна в чем-либо с гражданином Поляковым, ее бывшим мужем, то она просто может не дать ему письменную справку о том, что никаких материальных претензий к нему не имеет, и тогда гражданин Поляков поймет, каково это — бросать ребенка и уезжать в страну потенциального противника.
Борису было очень стыдно, что он не мог отдать Зине те деньги, которые она просила, но у него их не было. Он с трудом наскреб у друзей и знакомых денег на визы и отказ от гражданства, выпросил у одного человека денег на алименты, чтобы отдать их в долларах потом, в Америке, и уговорил-таки Зину принять их, получив в обмен желанную бумажку "об отсутствии с ее стороны материальных претензий".
Самолет взял курс на Вену.
В Америке у Бориса родился новый сын, Шурик. Он был очень похож на Юрочку, чьи фотографии висели в их доме. Шурик знал, что у него в Москве есть "бразер" и показывал его фото друзьям и знакомым. Зина запретила всякое общение между Борисом и Юрочкой. Она сказала Юрочке, что его папа уехал в долгую заграничную командировку и на деньги, оставленные Борисом, купила отличную кооперативную квартиру.
Через приезжавших в Америку друзей Борис узнавал, что Юрочка растет, что он очень умный и способный, что он уже под два метра, что джинсы, которые Борис ему посылал с разными оказиями, ему не подходят. Борис каждый раз отсылал в Москву весточку для Юры: учи английский. "Учи английский, — писал он, — потому что это даст тебе радость общения с мировой культурой". Письма эти попадали к Юроч-киной маме, и Борис совсем не был уверен, что она рассказывает о них сыну. "Она права, — думал он. — В конце концов, это ее ребенок, какое право я имею вмешиваться в их жизнь?"
Борис устроился в Америке. Он работал в мощной нефтяной фирме и был консультантом по русской топливной экономике. Конечно, он достиг этого не сразу, но время сделало свое дело. И немудрено: прошло почти десять лет, как он покинул Россию. Он совсем стал седой, но борода росла черная, и это сочетание делало его моложавым и привлекательным. Он лихо говорил по-английски на любую тему. Дома он по-прежнему говорил с женой по-русски, и лишь Шурик, который, казалось, все понимал, разговаривать по-русски уже не мог, а если и пытался, то нес такую грамматическую околесицу, хоть святых выноси. Поэтому с Шуриком лучше было разговаривать по-английски.
Но Юрочка все не выходил у Бориса из головы. Как он там? Что делает? О чем думает? Сначала Борис решил, что когда Шурик достаточно подрастет, он отправит его в Москву, в туристическую поездку, и там он отыщет брата и попробует его уговорить приехать к нему в гости. Это и романтично, и увлекательно. Да и ребята не будут чувствовать себя одинокими на этой планете. Так бы, пожалуй, и было, как он мечтал, если бы не эта командировка в Россию.
Когда президент компании вызвал Бориса и сказал ему, что надо готовиться к поездке в Россию для заключения большого и выгодного контракта, Борис испугался и сказал, что босс, вероятно, не понимает... Он ведь из России, беженец, туда еще никогда не пускали тех, кто эмигрировал, что это вообще опасно, потому что КГБ может устроить какую-нибудь провокацию, и это ляжет пятном на фирму. Что у него в Москве сын, а это вообще может осложнить все дело.
Президент сказал, что он уже обсуждал этот вопрос с Госдепартаментом и с советским посольством, что русские заинтересованы в этом контракте больше всех и что они не будут чинить никаких препятствий
в получении им въездной визы. И вообще он не представляет себе этих переговоров без Бориса, потому что Борис знает русских и не даст им обвести нас вокруг пальца.
В советском консульстве Бориса провели к молодому человеку со светскими манерами, который, радостно пожав ему руку, осведомился о цели визита.
Меня посылает в Москву моя фирма, — сказал Борис, — и я бы хотел получить определенные гаран-тии, что ваши органы не будут откалывать со мной никаких штучек и дадут мне встретиться с моими родными и друзьями. И с сыном, разумеется. Вы же знаете, что у меня там остался сын?
Мистер Поляков, — весело сказал молодой человек, — конечно, нам все о вас известно. Но в сложившихся обстоятельствах в контракте с вашей фирмой жизненно заинтересовано советское правительство, и мы решили, в виде исключения, разумеется, позволить вам посетить нашу страну. И я ручаюсь вам — он приблизил доверительно свое лицо к Борису — никаких конфликтов у нас не будет. Если, разумеется, вы не станете нарушать законов нашей страны. У нас и без вас достаточно неприят-ностей, — добавил он со вздохом. —Как вы понимаете, такая привилегия не будет предоставлена другим членам вашей так называемой "волны эмиграции". Желаю вам успеха.
Машина КГБ остановилась как раз за машиной Бориса. Борис знал, что за каждым его шагом ведется наблюдение, но агенты вели себя очень вежливо, никогда не выходили из машины и никогда не подходили к нему. Борис считал это в порядке вещей. Сейчас он остановил свою машину возле школы, где учился Юрочка, и стал ждать конца занятий. Он хотел посмотреть на Юрочку со стороны, он был уверен, что сразу его узнает.
Школьники высыпали во двор. Борис, держась рукой за сердце, готовое выпрыгнуть из груди, стал переводить глаза с одного на другого, стараясь понять, кто же из этих здоровенных парней его Юрочка. Вот этот! Конечно, этот. Матовые Зинины глаза с поволокой, чувственные губы. Неуклюжий. Хорошая улыбка. Американские джинсы. Длинный, как кочерга.
Простите, — сказал Борис, когда парень с ним поравнялся, — я думаю, что вас зовут Юра Поляков. Верно?
Верно, — сказал Юрочка, разглядывая незнакомого дядьку в элегантном сером заграничном костюме, с аккуратной черной бородкой и седыми длинными волосами. — А вы, собственно, по какому делу?
Дело у меня, конечно, есть, — сказал Борис, — но не здесь же нам его обсуждать. Не согласились бы вы со мной отобедать? Я приезжий... Зайдем в ресторан, поговорим...
А вы кто? — спросил Юрочка, хотя и побледнел немного.
А вот там я вам все расскажу...
Неудобно как-то... В ресторан, с незнакомым человеком... Давайте, я маме позвоню.
Позвоните.
Юрочка по автомату набрал номер и стал что-то говорить, показывая глазами на Бориса.
Мама просит вас к телефону.
Здравствуй, — сказал Борис. — Это я.
Я так и знала, — устало сказала Зина. — И что, он узнал тебя?
Не знаю.
И что ты собираешься делать? Хочешь закрутить ему голову? И как ты вообще сюда попал? Ты хоть легально здесь?
Да, да, не волнуйся. Я просто с ним познакомлюсь.
Куда вы хотите идти?
Не знаю еще. В какой-нибудь интуристский. У меня машина, не беспокойся.
Ох, не к добру все это, — сказала она. — Ты ведь только горе умеешь приносить.
Я привезу его домой вовремя, не волнуйся.
Он говорил, прикрывая рот рукой, чтобы Юрочка не слышал.
Мама не возражает, — сказал он. — Я рад, что ты думаешь о маме.
А вы кто? — уже с любопытством спросил Юрочка. — Откуда вы меня знаете?
Садись в машину, — сказал Борис. — Там разберемся.
Они ехали по Москве, а машина, которая ему мозолила глаза вот уже два дня, сидела у них на хвосте. Внезапно Борис припарковался к тротуару и, сказав: "Подожди секунду!" — вышел из машины. Он подошел к черной "волге", которая, конечно, остановилась вслед за ним, и постучал в стекло водителя.
— Вот что, — сказал он, — я прошу оставить меня в покое. Вы же видите, я встретился с сыном. Дайте мне спокойно с ним поговорить. Ваше начальство обещало, что никаких хвостов за мной не будет. В противном случае я сообщу о вашем поведении в американское посольство и в министерство иностранных дел.
А мы что? — сказал один из сидевших в машине. —Наше дело солдатское. Мы вас и не знаем.
Так вот знайте! — сказал Борис желчно. Он и сам удивился своей смелости. — Чтоб я вас больше не видел, договорились?
И поехал дальше. Машина с гебешниками исчезла из виду.
Юрочка с любопытством рассматривал ресторан. Ресторан был только для иностранцев, поэтому здесь было почти пусто и красиво. Бесшумно возникали официанты в белых накрахмаленных куртках, меняли блюда и столь же бесшумно исчезали.
Борис молчал. Он хотел, чтобы Юрочка сам стал спрашивать. Но Юрочка ел, поглядывая по сторонам, и тоже молчал.
Наконец, когда молчание стало совсем невыносимым, он сказал:
Я знаю, кто вы. Вы мой отец, правда?
Правда, Юрочка, — сказал Борис. — Правда.
В горле у него стоял ком. Он попытался откашляться и не мог.
Мама сказала, что вы уехали от нас в другой город, — сказал Юра. — Зачем вы уехали? Почему вы нас бросили?
Я не бросал вас, сынок, — сказал Борис. — Мы давно разошлись с твоей мамой, и я уехал в Америку. Я теперь там живу.
И что же вы теперь хотите? Хотите к нам вернуться?
Нет, — Борис внимательно смотрел на побледневшего сына. — Я не хочу к вам вернуться. Я приехал повидать тебя, узнать, как ты живешь и, если ты этого захочешь, пригласить тебя к себе в гости. У тебя там есть брат. Его зовут Шурик. Я хочу, чтобы вы познакомились и подружились.
Юрочка смотрел на Бориса настороженно и недоверчиво.
Я все-таки не понимаю, — сказал он. — Кем надо быть, чтобы оставить жену и сына и уехать неизвест-но куда? Почему вы ушли от мамы?
Юрочка, — сказал Борис. — Есть взрослый мир. Есть вещи, которых ты еще можешь не понять. Я не ушел от мамы. Мы просто не могли больше жить вместе.
Почему? — упрямствовал Юрочка.
А что мама тебе сказала об этом?
Мама сказала, что вы черствый, эгоистичный человек, что вы не обращали на нас никакого внимания, и как только представился случай, вы уехали из Москвы.
Наверное, это так и было, — задумчиво сказал Борис. — Это правда, сынок, здесь больше я жить не мог.
Глаза сына наполнились слезами.
Мы и без вас проживем, — сказал он. — Жалко только, у всех семьи как семьи.
Что же делать, Юрочка, — сказал Борис. — Ты — и моя семья, и мамина. Вот почему я здесь. Я хочу, чтобы ты меня понял и простил. Потому что я не хочу, чтобы ты меня потерял. Я думаю, что незнакомый отец — все-таки отец. Подружись со мной, Юрочка. Ведь ты уже большой и много знаешь. Я, наверное, плохой отец для маленьких детей. Мне с ними трудно разговаривать. А с такими, как ты, я смогу столковаться.
Вы специально из-за меня приехали?
Нет. Я член американской делегации. Мы заключаем сделку с Советским Союзом.
Какую сделку?
—Будем изготовлять для вас нефтяное оборудование.
Как странно: вы американец.
Мне самому странно.
А сколько лет моему брату?
Восемь.
Он тоже говорит по-русски?
Нет, он почти совсем не говорит по-русски.
А надолго вы приехали?
На четыре дня. У меня осталось только два дня.
Что же вы от меня хотите? — грустно спросил Юрочка. — Я ведь вас совсем не помню. У нас даже нет времени познакомиться.
А вот приедешь ко мне в гости, там и познакомимся.
А мама?
А мама тебя подождет здесь.
Вы что же, совсем ее не любите? Она ведь хорошая. И красивая.
Поздно, сынок. У меня там другая жена. Только ты у нас общий.
Как непонятно все в этом мире, — сказал Юрочка. — Живут люди, хорошие, вроде, люди, а потом расходятся. Вы ведь хороший?
Не знаю. Неплохой.
И мама хорошая. А вы ее не любите.
Не люблю, Юрочка. И она меня не любила. И жили мы с ней плохо. Когда-нибудь ты и это поймешь. Так у людей бывает.
Не смейте так говорить про маму!
Хорошо, не буду. Поел? Поехали дальше.
Они поехали в магазин "Березка", где Борис с удовольствием смотрел, как Юрочка рассматривает джинсовый костюм и ковбойскую шляпу, ремень с большой металлической пряжкой, часы с микрокомпьютером.
—Выбери себе что тебе нравится, — сказал Борис.
Ничего мне от вас не надо, — сверкнул глазами Юрочка. И они поехали домой.
Когда вы уезжаете?
Завтра.
А мы еще раз увидимся?
Не знаю, сынок, завтра очень важное и долгое совещание.
Зря мы встретились. Без вас мне было намного легче.
Я понимаю. Но не мог же я тебя не увидеть. Я ведь не умер. Я просто живу в другой стране.
А вам там хорошо?
Это трудный вопрос, Юрочка. Там, где человек свободен, хорошо. Я свободен. Ты еще не знаешь, что это такое. Но есть вещи, без которых трудно. Трудно без старых друзей. В моем возрасте нелегко найти новых. Трудно без своей среды. Без тебя.
—Вы сами виноваты, — сказал Юрочка. — Мы с мамой без вас жили и проживем. У нас все в порядке. Она тоже будет счастливая. Не меньше вас.
—Ну вот и доехали. До свиданья, Юрочка.
Борис обнял сына и хотел его поцеловать. Юрочка отстранился.
До свиданья, — сказал он. — Что передать маме?
Скажи, что я жду тебя в гости.
Юрочка вышел из машины и не оглядываясь пошел в подъезд. На душе у Бориса было горько и пусто.
Переговоры подходили к концу. Члены советской делегации, конечно, знали, что среди американцев есть один, хорошо знающий русский язык, но все равно забывались и обменивались между собой разными нелестными замечаниями относительно наивности и легковерности американцев. Борис с улыбкой слушал эти грубоватые шуточки и не давал возможности сформулировать условия контракта в выгодном для русских свете. Он предлагал свои балансирующие формулировки, и это раздражало русских. Они должны были все время советоваться со своими партийными боссами, ибо никто из них не имел права принимать решения, и в глубине души проклинали Бориса. Зато президент его фирмы не мог им нахвалиться. Он говорил, что Борис "грейт гай".
Самолет улетал сегодня вечером, и Борис едва выкроил время позвонить Зине.
Здравствуй, — сказал он. — Я хочу попрощаться с Юрочкой. Можно?
Его нет дома, — сухо сказала Зина. — К счастью, он больше понимает меня, чем тебя.
О чем ты, Зина? И какое это имеет значение? Скажи ему, что он очень красивый и умный. И отпусти его ко мне в гости, когда ему стукнет восемнадцать. Ему надо иметь тыл.
Прощай, — сказала Зина.
Прошло два года. Однажды раздался телефонный звонок. Человек, волнуясь, сказал, что недавно прилетел в США с советской делегацией и хочет поговорить с Борисом. Он будет ждать Бориса на углу Шестнадцатой улицы и Коннектикут авеню в двенадцать ночи.
Почему так поздно? И почему там?
Наша гостиница неподалеку от этого места. И я надеюсь улизнуть из номера, чтобы никто не заметил.
Борис с досадой повесил трубку. Он отвык от советских людей. Что ему надо? А вдруг он попросит убежища? Что тогда делать? Ночь. Куда идти? Но Борис поехал, что-то было в голосе этого человека.
На углу Шестнадцатой никого. Борис обошел все углы на этом перекрестке. Никого. Прождав полчаса, Борис решил ехать домой. Он уже садился в машину, как кто-то робко спросил по-русски:
—Борис?
Запыхавшийся мужчина со шляпой в рукe заглядывал ему в глаза.
Садитесь в машину, — сказал Борис, — так удобнее будет разговаривать.
Вы меня помните? — сказал человек. — Я художник Жарковский. Вы даже, может быть, видели мои работы в Манеже. Я специалист по ленинской тематике... Понимаете...
Человек мял шляпу, глаза его были растерянными.
— Понимаете... Наш сын. Я теперь думаю, что ему надо уехать. Он очень талантливый мальчик. Он пишет стихи. И он прекрасный художник. Его погубят там. Они убьют его талант. Он не такой, как им нужно.
Так в чем дело? — спросил Борис. — Эмигрируйте и дело с концом.
Я не могу, — сказал художник. — Понимаете, я к ним привык. И они ко мне привыкли. Я даю им их Ленина, а они платят мне за это хорошие деньги. Кому здесь нужен иконописец Ленина? А другого я уже ничего не умею. Я там притерся. Видите, выпускают даже в Америку. Но мальчика жалко. Ах, как жалко мальчика!..
Что же я могу для вас сделать?
Заберите его сюда. Здесь он получит образование. Здесь он кемто станет. А там он не жилец, поверьте, не жилец, — бормотал художник. Он был похож на безумного. — Ах, если бы она согласилась ехать, я бы, наверное, рискнул! Но она... Она не верит, что я здесь смогу пробиться, и она права, она права...
Как же вы сможете жить без ребенка? — жестко спросил Борис. — Вы себе представляете вашу жизнь, если он уедет? Ведь это навсегда
— Пусть! Пусть! — закричал Жарковский. — Мы там — конченые люди, а он... у него все впереди. Ему только семнадцать. Он здесь выживет.
Идите к себе, — мягко сказал Борис. — Вы возбуждены. Это Америка ударила вам в голову. Здесь не все так гладко и легко, как вы это себе там представляете. У нас миллионы художников, и чтобы пробить- ся...
Вы не поняли, — сказал Жарковский. — Вы не поняли... Я муж Зины. Это я о Юрочке говорю...
МОИ АВТОГРАФЫ
Что увозили мы с собой в эмиграцию? Мебель. Тряпки. Мыло туалетное и хозяйственное. Стиральный порошок. Пасту зубную. Колготки. Хохлому. Палех. Хрустальную вазу. Скатерти льняные. Пододеяльники. Книги. Мы любили книги. Мы выстаивали за ними в очереди, мы платили за них все деньги, оставшиеся до получки. Мы хвастались своими подписными изданиями и книгами по искусству, тяжелыми и красивыми. Мы вывезли зачитанную до дыр "Библиотеку зарубежной новеллы" и двухсоттомную "Библиотеку мировой литературы".
Почему Россия так любит книгу? За то, что она — источник знания? Как бы не так! Книга в России — это опиум для народа. Когда хочется уйти от паршивой советской действительности, берут в руки "Трех мушкетеров". Когда нет своей жизни, интересуются чужой. Мы такие интеллигентные и начитанные потому, что у нас не было своей жизни. Была серая, монотонная, спланированная от начала до конца тоска и скука. Вот мы и жили Мопассаном, потому что наши любовные приключения проходили в подъездах, на лавочках парков культуры и в коммуналках с фанерными стенками. И мы любили молча, молча, стискивая зубы, чтобы не услышала тетя Груша из соседнего подъезда. Вот мы и жили Туром Хейердалом, потому что знали, что никогда нам не пересечь Тихий океан на "Кон-Тики". Вот мы и увлекались "зарубежным детективным романом", потому что знали, что сыщик Тим Холт нисколько не напоминает нашего участкового, лейтенанта Колю. Мы нанюхивались литературой, как наркотиком, потому что она уводила нас в другую, разноцветную и прекрасную жизнь. Ах, Ремарк! Хемингуэй! Конан-Дойль!..
И потащили за собой наши книги. С ними нельзя было расстаться, мы, как наркоманы, уже были не в силах избавиться от этой привычки — читать! Ну как же не взять собрание сочинений Толстого? И Алексея тоже! Я не тронусь с этого места, пока ты не упакуешь Тургенева!
Зачем тебе там Тургенев?
Ах, ты ничего не понимаешь! Ты холодный, равнодушный, некультурный человек!
Плывут через океаны книги на русском языке. Уникальное явление! Сотни тысяч книг из прошлой жизни перевезено в Америку и Израиль, в Канаду и Европу. За них заплачены чудовищные деньги. Каждый томик — на вес золота. Посмотрите на наши квартиры. Как странно они напоминают наши старые квартиры. Полки, уставленные книгами. Сокровищницы человеческого гения. Когда вы в последний раз вытирали пыль с некогда любимых томов? Как часто за все это время вы подходили к своим книжным полкам? И что вы прочитали (или перечитали) из своих любимых авторов? Ах, Ремарк! Хемингуэй! Конан-Дойль! Сиротливо ждут они на полках, когда же к ним прикоснутся некогда ласковые пальцы, когда они снова зашуршат страницами, а в воображении читателя начнут мелькать шпаги Д'Артаньяяа, трубки Шерлока Холмса, бутылки скотча на столиках, за которыми расположились лаконичные герои Хемингуэя. Да ничего подобного! Наш некогда запойный читатель почему-то охладел. Он зажил своей жизнью! И теперь, если ему надо развлечься, он вместо Шерлока Холмса включает на всю катушку "Чарли'с энджелс", а вместо Д'Артаньяна — "Баретту".
Прощай, еще одна старая любовь!
Я был такой же. Я тоже вывез мою библиотеку. Я тоже построил книжные полки в моей "фэмили рум" и поставил на них моих старых друзей. Правда, одна полка у меня в постоянном употреблении. Нет, не подумайте, я не такой уж странный, нет, я читаю то, что при советской власти мне читать было не положено: эмигрантскую литературу.
И вот вчера я полез наверх и нашел там книги моих друзей. Это были сборники поэзии, книжечки, вышедшие в издательстве "Огонек", книги тех, кого я впервые опубликовал на 16-й странице "Литературной газеты", тех, с кем дружил и просто встречался. Писатели дарили мне свои книжки и писали на них свои автографы. Смешные и не очень, вежливые и саркастические, с ошибками и без. А меня обожгло: я как бы снова погрузился в ту, старую, такую уже далекую жизнь. Я видел лица моих друзей, я вспоминал их строчки. И мне захотелось о них написать. Конечно, это были "наши" люди. В России, как известно, интеллигенты разбиты на "левых" и "правых". Мне уже приходилось писать на эту тему. "Правые" не дарили своих книжек "левым". И наоборот. Но сегодня для меня никакие они не "правые" и не "левые". Они для меня — несчастные люди, обреченные на то, чтобы писать с оглядкой, с внутренним цензором, молча, стиснув зубы, чтоб не услышала тетя Груша. Некоторые уже ушли от нас. Вечная им память. Некоторые добились известности и даже славы. А других никто и не помнит. Но для меня они все — живые. И каждый был по-своему дорог.
Я не буду здесь выступать как критик или литературовед. Просто я вспомню что-нибудь о каждом, кого вспомню. Ведь я не видел их очень давно. Очень давно...
Боюсь только, чтобы эти воспоминания не показались слишком "яческими": я да я, я и советская литература, я и мировой прогресс, я и Пушкин. Просто это книжки с м о е й книжной полки и вызывают воспоминания, которые так или иначе связаны со мной лично. Я хотел не выпячиваться, а показать людей, которые могут быть интересны читающей публике, и то время, когда мы знали друг друга...
Полистаем мои книжки с автографами...
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СОНЕТ
Дорогому Илье Петровичу Суслову с искренним приветом.
С. Маршак. 19 мая 1964 года. Москва
Он умер через полтора месяца после того, как сделал эту надпись на книжке сонетов Шекспира в своем переводе. Я привез ему верстку его последней пьесы-сказки. Он жил в большом доме на улице Чкалова. Он беспрерывно кашлял тяжелым кашлем старого курильщика и курил, курил, курил, прикуривая одну сигарету от другой. Кажется, это были "Марлборо". Рабочий его кабинет был завален книгами и рукописями, к которым никто не смел прикоснуться.
—Читали последние стихи Твардовского в "Новом мире"? — спрашивал он своим быстрым, прерывистым характерным голосом. — Невероятно талантливо. Невероятно. Сейчас сяду писать ему письмо. Очень хорош, очень. И не понят до конца.
Я робел. Я вырос с его стихами. Для нас он был классиком. В журнале ему даже платили не так, как остальным: он получал два рубля за строчку, тогда как все остальные получали не более рубля сорока.
Вы читали сонеты Шекспира? — спросил он.
Конечно, Самуил Яковлевич.
А шестьдесят шестой — лучше всех! — сказал он.
Я перечитал шестьдесят шестой сонет уже здесь, в эмиграции, шестнадцать лет спустя.
66
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь.
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг
Когда мы заполучили, наконец, свободу слова, находим ли мы нужные слова? Все, что мы чувствуем, сказал до нас Шекспир. Но почему, почему Маршак ткнул меня носом в шестьдесят шестой?
" ОРАЛО РАДИО НА ПЛОЩАДЯХ..."
Илье без слов, потому что слова он може т сам.
Фазипь
Фазиль Искандер начинал как поэт. И очень хороший. Сейчас, после огромного успеха его прозы, мало кто это помнит. У него было открытое улыбчивое лицо, он умел слушать. Он был мастером перевоплощения. Вот только что он — уставший, средних лет писатель, и тут же — удивленный ребенок, понятия не имеющий, о чем его спрашивают. Наивные удивленные глаза, детские вопросы, восхищение умом собеседника ("Правда? Не может быть! Кто бы мог подумать!"). Разговариваешь с ним и думаешь, а отдает ли он себе отчет в том, что он написал? Однажды он пришел ко мне в комнату в журнале "Юность" и сказал:
— Вот получился стих. Хочешь послушать?
Орало радио на площадях, глашатай двадцатого века.
У входа в рай стоял морфинист под вывескою "Аптека". Гипнотизеры средней руки
на государственной службе. Читали доклады штурмовики
о христианской дружбе. И рано летели потом под откос,
слушая мерные звуки,
И те, кого усыпил гипноз,
и те, что спали от скуки. А скука такая царила в стране,
такое затменье рассудка, Что если шутка могла развлечь —
только кровавая шутка. Молчали надгробья усопших домов,
молчали могилы и морги.
И сын пошел доносить на отца,
немея в холодном восторге. Орало радио на площадях,
глашатай двадцатого века, Пока не осталось среди людей
ни одного человека.
А дни проходили своей чередой,
земля по орбите вращалась,
Но совесть, потерянная страной, больше не возвращалась
Мы помолчали.
О чем это, Фазиль?
Как о чем? Обо всем.
И ты собираешься это напечатать?
Конечно. Что ты так испуганно смотришь?
И кто тебя с этим напечатает?
Лицо его сразу приняло детское выражение.
А что тут такого?
Фазиль, не валяй дурака! Это самые обличительные стихи, которые мне приходилось слышать.
Обличительные? Кого я обличаю?
Советскую власть.
Правда?
Он взял рукопись и углубился в чтение, как будто никогда не видел этого стихотворения.
Я ничего этого не вижу, — сказал он. — Ну где тут про советскую власть?
Ну а что это, по-твоему? "...сын пошел доносить на отца"..., "скука такая стояла в стране...", "затменье рассудка.,.", "совесть, потерянная страной"...
Причем тут мы? — возмущенно крикнул он. — У нас разве так?
Фазиль...
Тут надо что-то делать, — сказал он. — А то и впрямь какой-нибудь псих вроде тебя так подумает. А если мы назовем это стихотворение так: "Германия 1934 года", а? Не переделывать же стихотворение из-за того, что у кого-то мозги набекрень?
Это хорошее название. Может и пройти.
Вот видишь, — обрадовался он совсем по-детски. — И никому в голову не придут всякие глупости.
Он ушел к редактору Полевому, потом вернулся, сунул голову в дверь и сказал:
— Спасибо за заголовок. Так оно и было напечатано.
НЕРВЫ...
Дорогому Илье в целях всемирного
засорения его библиотеки.
Ах, Ильюша, Илью-
Ша.
За тебя я налью.
Ша!
Твой В.
Я не буду расшифровывать имени этого моего друга. Поверьте мне на слово, что он — один из самых талантливых и остроумных писателей старшего поколения. Он вступил в литературу очень молодым и сразу приобрел большую популярность. Без него просто нельзя себе представить современную кинокомедию, пьесу, сатирическую песню, эстрадную миниатюру. Он был одним из немногих писателей-сатириков, начавших работать еще в сталинские времена, который сумел не только остаться на 16-й полосе "Литгазеты", но и быть примером для других, более молодых сатириков. Все, что он делал в самых разных жанрах ли-тературы, было в высшей степени талантливо.
Однажды в Доме литераторов вывесили объявление о путевках на заграничные поездки по сниженным ценам для членов Союза писателей. И мой друг поехал в какую-то скандинавскую страну. Я сказал ему:
—Поезжай еще куда-нибудь. Ты же выездной. Врагов у тебя нет. Тебя отпустят. Это же колоссальная возможность увидеть мир.
Он сказал печально:
—Нет, я больше никуда не поеду.
—Почему?
—Это слишком большая нагрузка на мою нервную систему.
—?!
—Понимаешь, — сказал он, — это так интересно! Ты живешь эти две недели непривычной, сытой, вежливой жизнью. Там так чисто! И оказывается, что к хорошему очень легко привыкаешь. И когда ты уже привык, тебе пора садиться в самолет, чтобы ехать обратно. В н а ш самолет, ТУ—114. И как только ты ступаешь на трап, тебя встречает наша стюардесса. И наша еда. И н а ш а обслуга. И ты уже не хочешь жить. И от этого чувства, что тебе предстоит снова во все это окунуться, я дал себе зарок — никогда никуда больше не уезжать. Ведь надо возвращаться — а это не для моих нервов.
ПЛОЩАДЬ КРУГА
Илюхе, которого я очень люблю,а он, дурак, ко мне не ходит!
Юрий Ряшенцев
С Юрой Ряшенцевым я дружил многие годы. Он был чертовски талантливый поэт и переводчик. Всю жизнь я просил его:
Юра, займись гражданской поэзией! С твоей техникой и пониманием поэзии ты заткнешь за пояс и Евтушенко, и Вознесенского!
Нет, — отвечал он, - это не мое. Я просто поэт. Не бывает гражданских поэтов. Бывает гражданская смерть. Гражданская война бывает.
Но ведь я хочу для тебя славы!
Не морочь голову, — говорил Юра. — Слава приходит не к гражданам, а к мастерам. Если я стану мастером, я и добьюсь того, что ты суетно называешь славой. И никакие тенденциозные стихи в этом не помогут.
Мы вели эти разговоры в его квартире, за столом, за которым, по некоторым предположениям, убили Распутина. Стол этот стоял в его квартире с незапамятных времен, когда В. И. Ленин разрешил именитым чекистам реквизировать для своих нужд мебель из дворцов. Отец Юры, старый чекист, ведший, по слухам, дело поэта Гумилева, взял себе мебель из дворца князя Юсупова. Юриному папе это не помогло, потому что его тоже ликвидировали в тридцатых годах. Юра представлял собой ярчайшую иллюстрацию к конфликту поколений: Гумилев был одним из его любимых поэтов...
Я помню пыльную Анапу, куда мы однажды отправились с Юркой летом. Мы были молоды и пили белое крестьянское вино. На каком-то столбе висела вывеска, которую мы никак не могли прочесть. Вывеска висела высоко, и мы никак не могли составить буквы. "Не в... не вло... не влю...", черт ее знает! Юра рассердился и полез на столб. Он сорвал с верхотуры эту ржавую железку и спустился вниз, как акробат. Там было написано: "Не влезай, убьет!"
Я сберег эту прелесть и привез в Москву. Она висела над моей кроватью долгие годы моего холостячества к смущению подруг, иногда приходивших ко мне "навести уют", как они говорили. Жаль, не взял ее с собой в Америку. Да теперь уж что!.. Старый, женатый... Как там у Гумилева? "Женаты мы, любовь нас не волнует..."
Первый сборник стихов Ряшенцева вышел в 1967 году. Он назывался "Очаг". Там было, между прочим, и стихотворение, посвященное мне:
ПРАЗДНИК. ТАНЦЫ НА ПЛОЩАДИ
Илье Суслову
Как мы кружимся — и я, и он, и все!
Вместо солнца — просто белка в колесе.
Над толпою — как мембрана — медный бас,
он проигрывает, проигрывает нас,
как пластинку, как пластинку, как тогда —
в патефонные далекие года.
Площадь круга... Площадь круга... Два пи эр...
— Где вы служите, подруга?
— В АПН.
— Вам не кажется, что мы сейчас в Гель-Гью?
— Вы банальны, друг мой, Грина не терплю...
Грины, Грэмы и Эльмары — все потом!
Солнце машет нам оранжевым хвостом.
Где часы и где минуты, где века?
Лишь полоска на руке от ремешка...
— Вам не кажется, что все идет кругом?
— Мы сейчас столкнемся...
— С другом иль с врагом? —
— Все мы кружимся — Господь нас пронеси, —
все немножечко вокруг своей оси.
На большом на барабане целый час,
как на лобном месте, распинают вальс.
— Загорел на вашей ручке ремешок...
Что со мной? Во мне проснулся пастушок,
и гусар, который спит во мне давно,
и кому еще проснуться суждено.
— Вам не кажется, что мне пора домой?
— О, конечно! Но нельзя же по прямой,
а вращенье в этой солнечной гульбе —
лучший способ возвращения к себе.
У этого стихотворения своя история, связанная, с другим литературным именем, с именем пародиста Александра Иванова...
Я уважаю Суслова И. П.
Интеллигента, гада и т. п.
Ал. Иванов
Саша Иванов был длинный и язвительный человек. Он обладал способностью вытащить у поэта самую слабую строчку и с ее помощью не оставить от автора камня на камне. Вот что он сделал с Юрой Ряшен-цевым по поводу стихотворения, приведенного выше:
Юрию Ряшенцеву
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ
Площадь круга... Площадь круга... Два пи эр. -Где вы служите, подруга? -В АПН.
Говорит моя подруга, чуть дыша:
— Где учился ты, голуба, в ЦПШ?
Чашу знаний осушил ты не до дна,
Два пи эр — не площадь круга, а длина,
И не круга, а окружности притом;
Учат классе это, кажется, в шестом.
Ну поэты! Удивительный народ!
И наука их, как видно, не берет.
Их в банальности никак не упрекнешь,
Никаким ключом их тайн не отомкнешь.
Все б резвиться им, голубчикам, дерзать.
Образованность все хочут показать...
ЦПШ - Церковноприходская школа.
СТИШОК О ДЕМОКРАТИИ
Тов. Илюше с уважением.
Ал. Безыменский
Вошел старый неряшливый человек — поэт Александр Безыменский.
Еще в самом начале в "Клубе 12 стульев" мы решили, что "старая гвардия" сатириков, насмерть запуганная Сталиным и умеющая лишь прославлять режим, критикуя только то, что неугодно этому режиму, не будет заполнять своими "позитивными" творениями нашу страницу. Мы полагали, что с них достаточно "Крокодила".
Некоторым из "стариков" все-таки нравилось то, что мы делаем, и они старались перестроиться и писать в нашем стиле. Лучше всех это удавалось В. Лифшицу, В. Бахнову, В. Массу, В. Полякову, Я. Зискин-ду. Ленчу это никогда не удавалось, но мы его все-таки иногда печатали: он был влиятельным, а мы боялись неприятностей. Приходил старик Рыклин, добрый и вялый. Он рассказывал истории про времена большой чистки, и мы удивлялись, что он сумел выжить тогда. Но Безыменский знал, что в "Клубе 12 стульев" ему делать нечего, и никогда не заходил.
Я встречал его раньше в Доме литераторов. Репутация у него была неважная. Он был очень знаменит в двадцатые и тридцатые годы, он тогда был из самых оголтелых. Его агитки, крикливо и небрежно написанные, очень нравились начальству. Его напускали на самых талантливых писателей тех лет, и он писал в стихах и прозе письма правительству, требуя "расстрелять, как бешеных собак, кровавую фашистскую троцкистско-зиновьевскую банду".
Мне довелось как-то взять в руки "Литературку" тридцатых годов, где печатались эти письма, и я увидел под ними подписи многих уважаемых ныне литераторов, которые не знаю, как бы себя почувствовали сегодня, покажи им эти кликушества. "Если враг не сдается, его уничтожают!" Если — по их логике — сам Горький мог, то что им оставалось делать?
Но Безыменский старался больше всех. Он был старый комсомолец, и на лацкане его задрипанного пиджака всегда висел комсомольский значок.
Он принес стишок.
Я прочел:
Зал озирая хмурым взглядом,
Был председатель зол и хмур:
"Пять человек избрать нам надо..."
Назвали пять кандидатур.
Дальше я не очень помню, но потом кто-то из зала крикнул, что пора подвести черту... И вдруг стихотворение кончилось так:
От демократии черта
Не оставляет ни черта!
Я посмотрел на него. Он безучастно смотрел в окно. Старый, много переживший человек.
Что с вами, Александр Ильич? — спросил я. — Не идут ли эти замечательные стихи вразрез с вашими убеждениями?
Нет, я так сейчас думаю, — сказал он.
Я сделаю все, чтобы это напечатать, — сказал я. — Только вот не знаю, пропустит ли Чаковский. Эта штучка посильнее, чем фауст-патрон.
Он усмехнулся.
Я пошел вниз к начальству.
Начальство прочитало.
Не надо нам этого, — сказало оно. — Это не для нас.
Да? — сказал я. - Вы уверены? Знаменитый рупор партии Александр Безыменский приносит стишок, призывающий к восстановлению ленинской демократии в низовых организациях, а вы считаете, что это не для нас? В первый раз есть возможность напечатать истинно партийные агита-ционные стихи, написанные истинно советским мастером, а вы считаете, что это не для нас? Это как понять? Много ли в последние годы я приносил вам вещей, где бы так по-партийному ставились вопросы, в духе Демьяна Бедного и позднего Маяковского? И вам это не надо? Да Безыменский просто напишет жалобу в ЦК, а вы знаете, чем обычно кончались его жалобы!
Начальство задумалось.
А если это будет понято как процедура выборов в Политбюро? — спросило оно.
Это кому же в голову придет так подумать? — спросил я. — Я, например, так не подумал. А вы подумали?
Не морочьте голову, Илья Петрович, — сказало начальство. — С другой стороны, Безыменский... На него так не подумают. Уж очень он был верноподданный.
Вот видите. Печатаем?
Пожалуй.
Я вернулся к себе и сказал Безыменскому:
Завтра вы проснетесь другим человеком. Вы написали замечательный стишок. Вам будут звонить люди, которые не разговаривали с вами тридцать лет. Что стоило вам раньше писать честные стихи?
Я думал, что я пишу честные стихи, — недоверчиво сказал он.
Наутро стихи появились в газете. Он позвонил мне в три часа дня и сказал:
Что вы со мной сделали? У меня с утра разрывается телефон. Все поздравляют. В чем же дело? Из-за малюсенького стихотворения...
Александр Ильич, иногда люди остаются в истории одной строчкой...
Я так рад, так рад... Я вам принесу еще.
Он принес еще одно стихотворение. Оно было похуже, там не было столь афористичного конца, но не менее острое.
Я пошел к начальству. Начальство сказало: нет. Я убеждал. Начальство было непреклонно. Я орал. Начальство тоже. Я вернулся ни с чем.
— Не пойдет, — сказал я Безыменскому. Он сразу потух, съежился, постарел.
Видите, что вы наделали в свои двадцатые-гридцатые! — безжалостно сказал я. — Ведь это вы лично и ваши соратники все так устроили. А теперь цензура бьет по своим. Как аукнется...
Кто же мог знать? — пробормотал он.
Он очень был похож в эту минуту на свои эпиграмму. Ходили по Москве ненапечатанные злые эпиграммы на разных поэтов и писателей. Я не знаю, кто их автор. Фольклор. Про Безыменского была такая:
Волосы дыбом, зубы торчком,
Старый дурак
С комсомольским значком.
Жестокая, злая шутка. Но в чем-то правдивая. Я смотрел на старого, проигравшего свою жизнь поэта, который не остался ни в чьей памяти, и повторял его строчку:
От демократии черта
Не оставляет ни черта...
"ОТДАЙТЕ ЭТО ИМ ОБРАТНО!.."
Илье, которого я люблю и надеюсь, что
он отвечает мне взаимностью
Гр. Горин
Гриша Горин был литературным вундеркиндом. Он начал писать в семнадцать лет. Он кончил медицинский институт и некоторое время работал на скорой помощи. Но призвание взяло свое, и вскоре он стал профессиональным писателем. Мы шутили по этому поводу, что медицина ничего не потеряла. Многие годы Гриша Горин писал в соавторстве с Аркадием Аркановым, тоже врачом по профессии. Собственно, это были их псевдонимы. Настоящая фамилия Горина была Офштейн, а Арканова — Штейнбок. Под такими фамилиями им выступать было не совсем, что ли, ловко, начальство не очень-то любило Штейнов, Эйнштейнов и Офшетйнов. Гриша стал Гориным. Мы читали его псевдоним как аббревиатуру: Гриша Офштейн Решил Изменить Национальность - ГОРИН.
Однажды Горин и Арканов поехали в Одессу — писать программу для Эдди Рознера. Они сидели в душном номере гостиницы и вымучивали репризы для конферансье. Настроение было противное, вентилятор не работал, у Арканова раскалывалась голова после вчерашнего... Аркадий вышел на балкон. Внизу спешили по своим делам одесситы.
—Товарищи!— мрачно крикнул в толпу Арканов.— Идите и возьмите почту, телефон и телеграф!
Толпа внизу, задрав головы, слушала призыв. Горин похолодел. Надо добавить, что он немного шепелявил, что доставляло ему не мало страданий.
Ты отюмел, Аркан! — сказал он. — Ты гронултя! Ну тто ты дделал? Тичат придет милития! Нат твядут и потадят! Как ты мог, дурак такой!
Ты так думаешь? —задумчиво сказал Арканов. Он вышел на балкон и крикнул:
—Товарищи! Одесситы задрали головы.
—Товарищи! Вы уже взяли почту, телефон и телеграф? Отдайте это им обратно.
Горин рассказывал мне эту историю грустно-грустно, сетуя на неосторожность Аркана и его легкомыслие.
Вот потему я такой вялый, — тихо сказал он.
Какой ты?
Вялый, вялый я...
Не слышу!
Вялый я, вялый! — заорал Гриша, и всем стало ясно, какой он молодой и здоровый. Он всегда был моложе других.
Многие завидовали его успеху. А надо было завидовать его таланту.
ОСЕННЕЕ
Корней Иванович Чуковский был не только блистательным детским поэтом. Он был литературным метром. Получить одобрение Чуковского значило войти в литературу. Он был уже очень стар, и нам в журнал "Юность" удалось заполучить его статью об Ахматовой. Я позвонил ему в Переделкино, чтобы сказать, что статью мы получили. Он попросил:
—Скажите Полевому, что кое-что уже напечатано в "Неделе" из этого материала.
Я, конечно, не сказал ничего, потому что Полевой мог из-за этого снять весь материал, а нам так хотелось напечатать мысли Чуковского об Ахматовой. Журнал благополучно вышел со статьей Чуковского, и однажды, придя на работу, я нашел у себя на столе конверт с маленькой запиской. Там было написано:
"Дорогой друг. Сегодня я беседовал с Б. Н. Полевым и обнаружил, что Вы не сообщили ему, что моя статья об Ахматовой в значительной своей части была напечатана в "Неделе". И тем поставили меня в ужасно неловкое положение. Я сообразил это лишь после того, как расстался с Борисом Николаевичем.
Пишу Вам из больницы. Здесь прелестно. Весна хороша даже в том случае, если это — последняя весна. Ваш К. Чуковский".
Я бережно храню эту записку. Она живое напоминание о гигантах, которыми оскудела наша страна, о последних могиканах российской словесности. И теплая волна заливает мою душу, потому что, читая эту записку, я прикасаюсь к вечности.
Корней Иванович Чуковский умер на следующий год в той же Кунцевской "кремлевской" больнице. И когда люди едут в Переделкино на могилу Б. Л. Пастернака, они непременно кладут цветы и на могилу Корнея Чуковского.
Говорят, он шутил так: "Когда я пишу хорошо, то подписываюсь полным именем — Корней Чуковский, а когда плохо, то сокращенно — Корнейчук"-
К счастью, он не умел писать плохо.
ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ.
Илье Суслову, хотя этого и не следовало бы делать по известным причинам. С любовью
Борис Балтер
Я уже не помню, почему мне не следовало тогда дарить книжку "До свидания, мальчики". Но я помню, как Борис Балтер появился в редакции "Юности", напечатавшей эту чистую и звонкую повесть. Он был старше многих из нас и побывал на войне. Он кончил войну командиром полка. В сорок первом он мальчишкой вывел свой полк из окружения, и его оставили им командовать. Он был, что называется, положительным человеком. На него всегда можно было рассчитывать, такую он излучал уверенность и спокойствие. Его постоянно окружали талантливые люди: Рассадин, Чухонцев, Заходер...
"До свидания, мальчики" была одной из ярких страниц тогдашней "Юности". Эта повесть будила какие-то чистые, "довоенные", чувства. Она как бы переносила тебя в старый переулок, где ты жил мальчишкой, в ней были запахи, ветерки, звуки, которые иногда застигают тебя в самом неожиданном месте. (Однажды на Багамских островах из какого-то ресторанчика пахнуло чем-то странно родным, и я сразу вспомнил коммуналку в Безбожном переулке, где я провел детство, и соседку тетю Шуру, и хулигана Манзуру, и сапожника дядю Мотю,..)
Боря всегда заступался за честных людей, которых била власть. Он подписывал все письма в защиту гонимых. Когда его вызвали в райком для объяснений и проработки, он просто вынул свой партбилет и положил его на стол. Это было не по правилам. По правилам его должны были исключить. Или добиться от него покаяния и признания неправильности его поступка: как посмел он подписать письмо в защиту того, кого власть избрала жертвой! И поскольку он не дал им себя исключить, а вышел из партии сам, то секретарь райкома помчался за ним вслед, приговаривая, что Борис Исаакович неправильно их понял, что зачем же так бросать билет, не положено, нехорошо, не по-партийному... Боря посмотрел на него и сказал, что он не может состоять с ним в одной партии.
Он не мог состоять с ними и в одной литературе. Больше его не печатали, он перебивался какими-то переводами, писал за каких-то казахских "классиков", которые подкармливали его подачками со своих байских столов. А потом он умер. И мы его не забудем.
МАБУКИН
Илье Суслову с пламенным бандитским приветом
Вас. Аксенов
С Василием Аксеновым я всегда влипал в истории. Я был редактором, а он — очень трудно проходимым писателем. Нам всегда хотелось его напечатать на 16-ой полосе "Литгазегы", а начальство ни за что не хотело его пропускать и привязывалось к каждой мелочи. Поскольку речь шла о газете, то все материалы должны были быть сданы по часовому графику. График был составлен так, чтобы все изменения в тексте происходили без ведома авторов. Такие изменения чаще всего сводились к выбросу тех кусков, ради которых и была написана вещь. И наутро взбешенный писатель видел в газете что-то совершенно противоположное тому, что он написал. Кто был виноват? Литсотрудник, готовивший материал. На него, невинного, чаще всего и обрушивался справедливый гнев "отредактированного" автора.
Так всегда было с Аксеновым. Он прислал нам прекрасный рассказ об интеллектуальном боксере. Рассказ был набран и поставлен в номер. Во вторник (перед печатью тиража) его прочел Чаковский.
Суслов — к Чаку!
Слушаю, Александр Борисович.
Чак любил кричать. Все думали, что он просто разорвется, когда он, дымя своей толстой сигарой, начинал кричать. Но мы-то знали, что он кричит горлом, а внутри — он совершенно спокоен. Он кричит, чтобы не было возражений. Это такая форма приказа.
Что вы мне подсовываете со своим Аксеновым? — кричал Чак.
А что там? Смешной, отлично написанный фарс.
Фарс? Фарс? И эти глупые уколы — тоже фарс?
Какие уколы?
Вы видите фамилию героя этого рассказа?
Да. Его зовут Мамлакатов.
Мамлакатов! Немедленно снимите этот рассказ! Где у вас глаза?
Что плохого в фамилии Мамлакатов?
Вы что, смеетесь? Ребенку видно, что Аксенов над нами издевается! Мамлакатов — от Мамлакат!
Мамлакат — чудная девочка, которую Сталин любил до войны носить на ручках. Она собрала столько хлопка до войны, что мы до сих пор ходим в ее телогрейках.
И вы туда же! Зачем эти экивоки? Кого мы хотим удивить? — кричал Чаковский. — Идите! Никаких Аксеновых, никаких Мамлакатовых!
А если изменить фамилию героя?
Уже нет времени. Я запускаю машины.
Александр Борисович, будет еще один скандал...
Ну, давайте фамилию. Только здесь же.
Мабукин! — сказал я. — Пусть будет боксер Мабукин.
Что такое Мабукин? — подозрительно спросил Чак.
Мабукин — это среднеарифметическое имя советского спортсмена, — сказал я. — Знаете, есть такие футболисты — Мамыкин и Бубукин... Этот будет Мабукин...
И Чак всюду поменял Мамлакатова на Мабукина.
Я, конечно, обманул Чаковского. Фамилия Мабукин возникла из анекдота, только что рассказанного кем-то в моей комнате. Анекдот был такой:
В одну только что освободившуюся африканскую страну приезжает советский посол. Все племя сидит у костра. Здесь и новый президент с женами и копьями, и совет министров в набедренных повязках. Президент говорит:
— А теперь послушаем, что нам скажет гость из великой северной страны.
Встает посол в шляпе до ушей, в костюме с галстуком.
Весь совецький народ, — говорит он, — с охромным воодушевлением...
На мабуку! — кричит племя, потрясая копьями.
"Что бы это могло значить?" — тревожно думает посол, но продолжает:
И мы, как и весь рабочий класс и трудящее крестьянство...
На мабуку! — кричит племя.
...И сисическое общество! — заканчивает посол.
На мабуку! — кричит племя.
Тут вождь (прошу прощения, президент) говорит:
—А теперь по старинному обычаю нашего народа мы должны погасить этот костер дружбы.
Все встают и начинают заливать костер натуральным, так сказать, способом. Наш посол тоже расстегивает ширинку и присоединяется к племени. Общий ропот.
Что они говорят? — спрашивает посол у вождя.
Они говорят, — отвечает вождь, — такой большой гость, из такой большой страны — и с такой маленькой мабукой!
Конечно, Вася Аксенов был в ярости. Но он ничего мне тогда не сказал, потому что, несмотря на это изменение, рассказ был напечатан и имел огромный успех.
В другой раз он принес мне главу из ненапечатанного романа.
Она была набрана и заверстана в полосу. Но во вторник (как я ненавидел эти цензурные вторники!) страницу перелицевали и у Аксенова появился "хвост" примерно в семьдесят строк, который нужно было сократить.
Как поступают в нормальных редакциях? Вынимают из номера рассказ, отсылают его автору и просят произвести необходимые поправки и изменения. Но то — в нормальных. Здесь же надо все делать как можно скорее, потому что на следующей неделе будет иной ведущий редактор, который снимет не только эти 70 строк, а весь рассказ. Надо спешить! И я "убил" эти строчки сам, чтобы рассказ влез в газету и вышел, черт возьми! И ничего не сказал автору.
На следующий день мы столкнулись в Доме литераторов. Аксенов был взбешен. Я никогда не видел добрейшего Васю в таком состоянии, он был готов меня убить!
Ну какое право ты имеешь лезть в мой текст? — спросил он.
Газета... сроки... — бормотал я.
Плевать мне на вашу газету и ваши строки! — жестко сказал он. — Не нравится — верните автору. Ну что ты меня искалечил?
Вася, я просто хотел тебя напечатать, — оправдывался я, но чувствовал себя препогано. Действительно, какое я имею право? Он мастер.Он сам знает, как ему быть и что ему сокращать. Если захочет.
Вмешался друг Аксенова Толя Гладилин. Он хотел смягчить Васин гнев.
—Понимаешь, — сказал Гладилин, — когда нас режут враги, то для этого они и поставлены. Но мы же свои. Нехорошо.
Я и сам чувствовал, что нехорошо. Но что было делать? Выбросить весь рассказ?
Я до сих пор не знаю, перестал ли Аксенов сердиться на меня. Я хочу, чтобы перестал. Ведь мы знакомы больше двадцати пяти лет. И вот он разделил нашу судьбу: советская Россия всегда убивала и изгоняла своих писателей.
ДАНТЕС
Спасибо, Илья Петрович, что Вы не стали моим Дантесом.
Лев Щеглов
Я уверен, что никто не знает поэта Щеглова. Но он принес в "Клуб 12 стульев" стихотворение, которое произвело на меня сильное впечатление. Это были стихи о человеческом достоинстве. Я подсунул их в рубрику "Ироническая поэзия" и, к моему удивлению, они были напечатаны. Надеюсь, что запомнил их правильно:
И задан был вопрос Дантесу
"Вам не тревожно ли, Дантес?
Когда вы празднуете мессу,
Вас не страшит ли гнев небес?"
"Нет, — отвечал он равнодушно,
— Вины своей не вижу здесь.
Была дуэль""Но он был Пушкин!"
"А я Дантес!" — сказал Дантес.
Когда на Страшный суд однажды
Иуда будет приведен, "Он был
Иисус!" — Иуде скажут. "А я
Иуда!" — скажет он
Теперь, перечитывая эти гордые строчки, я совсем иначе сужу об их смысле и радуюсь тому, что они были напечатаны. Это не грошовая победа — напечатать в советской печати такие стихи, это просто победа. И вспоминаю Льва Щеглова: где он, что он написал с тех пор, что напечатал? Высокий бородатый неухоженный парень... Да нет, теперь уже мужчина средних лет... Пусть ему будет хорошо.
ВЫГОВОР
Илье Петровичу Суслову - сердечный привет/ Рад преподнести Вам, дорогой товарищ по жанру, мою новую книжку.
Г. Рыклин
Это были его мемуары "Если память мне не изменяет". Рыклин был уже очень стар. Его довоенные и послевоенные фельетоны в "Известиях" и "Крокодиле" имели большой успех. Он в них всегда был на стороне сильного: он защищал диктатуру от народа. И был очень известным, потому что печатали его часто. Но в нем еще жил другой человек, добрый и мягкий. Судя по его писаниям, он был высоким, арийского типа спортсменом, любимцем молодежи и хозяйственников с толстыми кожаными потертыми портфелями. А в жизни Григорий Ефимович Рыклин был тихий милый старичок, сильно картавящий и бесконечно далекий от классовых боев, в которых ему пришлось размахивать прямо-таки буденновской шашкой. Он рассказывал мне:
—И вот пришла очередь до меня. Всех вокруг уже арестовали, а меня все щадили: говорили, что меня любил читать Сталин. Но я чувствовал, что уже близко. И чем больше я их прославлял, тем больше чувствовал, что вот-вот меня заберут. И вот меня вызывают. Я попрощался с женой и пошел в этот... как их?.. комитет. Я был тогда редактором "Крокодила". Что вам сказать? В ту пору он был очень воинственный. Он просто карал. Если про тебя напечатали в "Крокодиле", — пиши пропало! Тебя уже нет. И вот пришла моя очередь.
Все это рассказывалось тихим голосом, с ужасающим еврейским акцентом, с тем типичным местечковым произношением, при котором буквы "р" как бы не существует, и вместо "Кремль" произносится "Кхемл", а вместо "карал" — "кахал". Мне люб этот акцент, потому что я умею его пародировать, он напоминает мне моих родных, моих близких, бежавших, как и Рыклин, из черты оседлости царской России.
У меня всегда было очень плохое произношение, — продолжал Рыклин. — И я никогда не смог его исправить. Так вот я пришел к ним на комиссию. Моя песенка была спета. Ой, как они кричали! Они так кричали, а я так боялся! Когда они кричат, надо молчать. Я молчал. А потом один встал и предложил объявить мне последний выговор с занесением. И я вышел от них живой. Я вышел и сказал секретарше, которая сидела у дверей:
У меня плохое произношение, но у меня хороший выговор!
И до сих пор у меня в ушах стоит это сочно, старательно и вкусно произнесенное: "виговох".
''ЛЕСТНИЦА"
Илье от Жени
Я сдал документы в ОВИР и поехал в Коктебель, проститься с морем. Там было и грустно, и весело. Под навесами пляжа Дома творчества Союза писателей отдыхали члены и нечлены этой организации и их домочадцы. Я развлекался тем, что на пляже вслух читал газеты "Правда" и "Красная звезда". Если вслух читать то, что там написано, это дико смешно. Надо только читать с полной серьезностью. Под навесами пляжа стоял хохот. Все кричали одно: "Не может быть!"
Ну почему же не может быть? — спрашивал я. — Это лишний раз показывает, товарищи, что вы никогда не читали наших газет. Вот почему вам полезна моя политинформация. Слушайте, это новость с первой страницы: "Кемерово, 20, Корр. "Правды" А. Богачук. Успешно выполняет свои обязательства в честь 100-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина коллектив Томь-Усинской автобазы производ-ственного объединения "Кемеровоуголь". Еще в начале пятилетки по инициативе передовых водителей В. Дубенца и М, Яковлева развернулось соревнование за экономию топлива. Начинание передовиков поддер-жали более четырехсот работников предприятия. Коллектив автобазы внес в копилку пятилетки более четырех тысяч тонн дизельного топлива и 760 тонн бензина сверх плана".
Ну не может быть! — смеялись писатели, — Ну о чем это? Что они сделали-то, эти водители? Сколько они сэкономили?
Как что! — возмущался я. — Они дали в копилку сверх плана.
Ну и что?
Дураки вы, — говорил я. — Ничем вас не прошибешь. А люди успешно выполняют сверх и в честь. У них развернулось. У них начинание. А вы тут животы греете. Позор!
Евтушенко сказал:
Мне, кажется, дадут журнал. Будет называться "Лестница". Журнал творческих поисков.
Не дадут тебе журнал, Женя, — сказал я. - Ты ненадежный. Ты сегодня за, а завтра против.
Не знаешь ты, — сказал Женя. — Уже почти есть решение.
Тогда, — сказал я, — слушай состав редколлегии, который будет тебе помогать: по прозе — Кочетов, по поэзии — Фирсов, по критике — Идашкин, по публицистике — Юрий Жуков, ответственный секретарь — Василий Журавлев, для солидности — Шолохов, для равновесия — Гамзатов.
А тебя я возьму членом редколлегии по пессимистическим прогнозам, — зло сказал Евтушенко. — Вот всегда вы такие, леваки, вам бы все отрицать. А что взамен? Где выход-то?
— Помнишь, что сказал польский мудрец Станислав Ежи Лец? Он сказал, что выход чаще всего там, где был вход. Выход, Женя, это капитализм, — сказал я ему на ухо.
Он отшатнулся. Этого говорить было не принято. Это было неприлично. Это было дико. "Социализм с человеческим лицом" — это куда ни шло. Но капитализм...
Поэт резко повернулся и ушел, не попрощавшись.
"Зачем я его так? — думал я. — Ему, наверное, больно. Он идеалист. Фидель. Дядюшка Хо. Дедушка Ленин".
ВИЗА
Илюше Суслову с сердечной дружбой от автора.
Арк. Адамов
Аркадий Адамов хотел быть советским Конан-Дойлем. Он писал повести о доблестных советских сыщиках. Они ловили преступников и являли собой пример человека будущего, "смелых рыцарей правосудия", как о них писали в газетных рецензиях.
На фоне полной серятины, заполнявшей полки книжных магазинов, его книжки, где были хоть какие-то погони, приключения и события, были маленькой отдушиной: подростки читали Адамова, он был желанным гостем на страницах журнала "Юность".
Но я не о том. Я хочу рассказать, как я визировал его повесть "Личный досмотр". Когда она прошла всю редакторскую и цензурную правку, меня вызвал редактор "Юности" Б. Н. Полевой и попросил съездить в КГБ и завизировать будущую повесть в отделе литературы этого учреждения.
?!
Не удивляйтесь, такой порядок. Все, что написано о милиции, уголовном розыске и разведчиках, должно пройти цензуру КГБ. Зайдите на Лубянку и отдайте повесть Адамова полковнику Н. (забыл его фамилию, пусть будет Наумов*).
Я созвонился с этим полковником и на следующий день утром уже стоял в проходной Комитета государственной безопасности, держа под мышкой верстку детектива Адамова.
В проходной стояли два военных в форме. Я показал мое редакционное удостоверение и сказал, что меня ждет полковник Н.
Военный взял мое удостоверение, внимательно его прочитал, перевел глаза на мое лицо и быстро сравнил его с фотографией на удостоверении. Потом он ушел в будку и позвонил куда-то.
—Подождите вот здесь, — сказал он. — Полковник сейчас к вам спустится.
В КГБ начался рабочий день. Через проходную шел поток людей на работу. Пока я ждал цензора, мимо меня прошли сотни людей. Они доставали свои служебные удостоверения и показывали их военному при входе. И тот же внимательный взгляд с фотографии на лицо, сухое "пожалуйста", и человек поднимался по лестнице вверх, на свое рабочее место: обычное начало рабочего дня в обычном учреждении.
Но меня поразило одно: эти сотни людей, торопящихся на работу, ничем не отличались от тех, что заполняют любое советское учреждение — тетки с кошелками, мужчины, похожие на рабочих, подростки с длинными волосами, похожие на студентов, старушки с приятными лицами, какие-то летчики, таксисты, спортсмены, девушки с танцплощадки…
Было такое впечатление, что покупатели из "Гастронома" напротив, закончив покупки, устремились на улицу. Толпа. И лица из толпы. Но каждый доставал удостоверение КГБ и показывал его вахтеру. Минут через пятнадцать по широкой лестнице, ведущей куда-то наверх, спустился невысокий упитанный мужчина в хорошем английском костюме и пошел ко мне.
Я полковник Наумов, — сказал он любезно.
Я Суслов из "Юности", — поклонился я.
Я Наумов, — улыбнувшись, сказал он.
Суслов я, — повторил я не очень уверенно.
Я Наумов, — почему-то снова сказал он.
Я хлопнул себя по лбу и вынул редакционное удостоверение. Он внимательно его прочитал, метнул взгляд с фотографии на мое лицо, точно, как вахтер при входе, и отдал мне удостоверение.
Очень, очень приятно, — сказал он. — Ну что же, снова Аркадий Адамов хочет порадовать нас своим интересным произведением. Не вижу никаких причин для задержки. Адамов знает, что можно, а чего нельзя. Очень опытный писатель. Вам нравится?
Читателям нравится. Молодым.
Ну вот видите. Через пять дней милости просим, вернем вам Адамова с визой. Герои у него, как живые. Прямые, знаете, без скептицизма, не рефлектируют... Правильный он писатель. Верно на вещи смотрит. И в этой вещи, надеюсь, верен себе. Кстати, продлите ваше удостоверение. Оно у вас просрочено.
Через пять дней он вернул завизированную рукопись. Без всяких поправок. Аркадий знал своего читателя с Лубянки. И не подводил. Вот почему он и не стал Конан-Дойлем.
ночной звонок
Илюша! Спасибо тебе за все мной сочиненное.
С уважением, Борис
И опять не могу назвать его фамилию. Он был смешной и способный. Пробовал себя во многих жанрах и остановился на кино, выпустил несколько книжек, в том числе детских.
Меня поразила одна маленькая история, связанная с ним.
Я гостил у своих родных в Лос-Анджелесе. Мы сидели у их приятелей и выпивали. Раздался звонок.
Из Москвы! — сказал хозяин дома и пошел к телефону. Он долго говорил с кем-то, а потом сказал в трубку:
Тут у меня один человек. Он с тобой хочет поговорить.
Кто это? — спросил я.
Боря.
Я взял трубку и сказал:
—Але...
—Илюха, ты? — сказал Боря. Я просто опешил.
Боря, — сказал я. — Мы не виделись с тобой семь лет. Ты знаешь, что я живу в Вашингтоне, и ты звонишь человеку в Лос-Анджелес, с которым я раньше не был знаком. Ты и представить себе не можешь, что я окажусь у него в гостях, да еще в третьем часу ночи. Ну как же ты можешь меня узнать по коротенькому "але"?
Чудак ты, — сказал Боря, — а о чем мы здесь по-твоему разговариваем с утра до ночи?
И мне стало так страшно! Мы здесь, в эмиграции, живем худо ли, бедно — будущим. А они там живут нами. Они все в прошлом. Они помнят голоса, которые не слышали годами. Они живут нами, а не собой! Какая это трагедия — жить в стране с остановленным временем!
СНИМАЕТСЯ КИНО
На память. Почитывай.
Гр. Поженян
Григория Поженяна убили под Одессой во время войны. Имя его было высечено на памятнике боевой славы в этом городе. Он числился среди погибших, но оказался жив. На войне все бывает. И Гриша Поженян, коренастый силач, с которым лучше бы не связываться, потому что, как утверждали, "если уж он врежет, то не встанешь", стал поэтом. Он писал стихи и песни, выпускал сборники, а потом написал сценарий кинофильма, принятый к постановке на одесской студии. Ввиду исключительных заслуг Гриши Поженяна перед славной Одессой, высекшей его имя на обелиске в честь погибших защитников города, ему разрешили стать режиссером этого фильма.
Гриша приходил на студию, садился в режиссерское кресло и распекал свою группу. И, входя в раж, он употреблял словечки, от которых немного краснели молодые актрисы. И пожилые тоже. Они пожаловались руководству, что режиссер и поэт Поженян матюгается в рабочей обстановке, что несколько снижает общий уровень культуры, с таким трудом установленный в Советском Союзе вообще и на Одесской киностудии в частности. Начальство послало секретаря парткома студии проверить жалобу.
В это время Гриша, считавший, что настоящее кино делается сильными и грубыми во внешних проявлениях, но нежными в душе жрецами искусства, выдавал очередной пассаж, включавший много рискованных оборотов, чем вконец смутил партийного вождя. Вождь приблизился к разошедшемуся режиссеру и сказал, что как-то неловко при женщинах и нижестоящих по должности ругаться матом, что вот и в партбюро пришла жалоба, и не по-партийному так вот разевать рог и браниться последними словами...
Гриша тихо выслушал монолог секретаря и сказал:
Не по-партийному... М-да... Я бы очень хотел... Тут голос у Гриши несколько окреп:
...очень бы хотел...
И в голосе его появились просто-таки стальные нотки:
— ...чтобы во время съемок моего фильма в славной орденоносной Одессе...
И тут он проревел прямо в ухо напуганного секретаря:
— ...ваша партия ушла в подполье!!!
Говорят, так было. Я лично не видел эту сцену. Хотя очень хотелось бы.
ДВА ЧАСА…
ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ СУРКОВА
"Ты помнишь, Алеша..."
Случилось так, что однажды партия решила наводить мосты с капиталистическими странами. Эти мосты были нужны для того, чтобы облапошивать наивных буржуазных бизнесменов и заставлять их продавать Советскому Союзу новейшую компьютерную технику, хлеб и другие военные товары. На языке дипломатов это явление называлось "конвергенция", что, если перевести на более дубовый и понятный язык, означало, что мы, мол, вам, а вы, мол, нам. Короче, надо было навести идеологические мосты, по которым купцы с обеих сторон могли везти свои товары. И идеи. И идеи? А как же, - сказал кто-то. Они нам товары, а мы им свои идеи. И тогда мы их победим тихо, без пушек и танков, без бомб и подлодок.
Но писатели этого недопоняли. Они недопереоценили самого слова "конвергенция". Они решили, что это непонятное слово можно расце-нивать так: они нам везут по мосту дружбы и взаимопонимания свои товары и идеи, а мы им — свои. И поскольку наши идеи — самые лучшие и наваристые, то их идеи не выдержат конкуренции и бросятся с этого моста прямо в воду. Их идеи утонут в потоке наших, и все тогда будет хорошо. А под шумок можно будет съездить в Америку или там во Францию и купить там джинсы или автомобиль фирмы "Рено". Чтобы все удавились от зависти.
С этими мыслями писатели собрались на общее собрание московской писательской организации, чтобы воздать должное мудрости родной партии в смысле конвергенции. А Алексей Сурков стал разъяснять это заумное слово своим слушателям, потому что он был Первый секретарь Союза советских писателей. Там всегда так: кто Первый секретарь, тот все и разъясняет. А второй секретарь уже только слушает. Ну и остальные слушают.
Алексей Сурков говорит: "Конвергенция, товарищи, это когда мы несем миру свет наших идей. Ясно?" Какой-то недоучка из прозаиков, пишущих на военно-патриотическую тему, спрашивает: "А они тоже могут нести нам свет своих идей или как?" Сурков, не подумав как следует, отвечает: "Пусть несут, гады! Нам их идеи не страшны. Вот тебе, Коля, страшны их идеи?" Коля, тот прозаик из бывших полковников, военный такой патриот в отставке, отвечает: "Что вы, Алексей Александрович! Мне их идеи совсем не страшны. У них и идей-то нету. Так, глупость одна. Американская пропаганда с сионистским душком. Какие такие у них идеи?" И победно поглядывает на своего злейшего врага, писателя, пишущего на деревенские темы, Абрама Фогельмана, спрятавшегося под псевдонимом Артем Федорчук, мол, вот тебе, сучка сионистская, будешь знать, как по триста рублей за лист получать, в то время как мне только двести пятьдесят платят.
Алексей Сурков, совсем распоясавшись, говорит: "Так вот, товарищи, в лице конвергенции мы видим совершенно новое и растущее явление расширения торговых и культурных связей с зарубежными странами. Мы им, а они нам. И пусть видят, что нам не страшны всякие ихние Сэллинджеры-Меллинджеры! Мы им противопоставим Стаднюка, Фирсова и Кочетова, вот тогда они повертятся! Верно я говорю, товарищи?"
И тут раздался телефонный звонок. Сурков взял трубку, что-то забормотал, глазами заморгал и, кроме как "так точно", ничего сказать не может. Потом говорит присутствующим: "Вы тут посидите, а я мигом в ЦК слетаю, уточнения вам сделаю, как лучше понимать это новое и сложное слово "конвергенция". И уехал на машине в родной ЦК родной коммунистической партии родной.
Через два часа возвращается бледный, осунувшийся, заросший, взлохмаченный, серьезный, трезвый, увядший. Обычный.
"История складывается так, — говорит Сурков, — Конвергенция — это когда они нам хлеб, компьютеры, технические секреты и все такое, а мы им — наши идеи. А они нам свои идеи — ни в коем случае! Потому что тогда это будет гнусное вмешательство в дела социалистических стран. Это понятно? Я ясно излагаю? У тебя, Коля, еще вопросы будут, или ты все-таки закроешь поганый свой рот и не будешь лезть в дела, которые тебя совершенно не касаются?"
Тут я не могу удержаться, чтобы не рассказать старый солдатский анекдот, обидно напоминающий историю посрамленного Алексея Суркова.
Старшина собирает роту и говорит: "Начинаем сегодняшние политзанятия. Тема наших занятий сегодня будет вода. Вода, товарищи, кипит при 90 градусах... Чего тебе, солдат Рабинович?
Рабинович говорит: "Так что, товарищ старшина, вода кипит при 100 градусах..."
Старшина говорит: "Объявляю перерыв на два часа. Разойтись!"
Через два часа старшина снова собирает роту и говорит: "Тема наших сегодняшних политзанятий будет вода. Вода, товарищи, кипит при 100 градусах, как верно заметил солдат Рабинович, а не при 90, как я ошибочно указал. Это я спутал с прямым углом".
Вот так и Алексей Сурков, спутав что-то с прямым углом, целых два часа в своей жизни был за конвергенцию.
копчик
Юлиан Семенов прославился тем, что придумал Штирлица — советского шпиона, работающего в тылу у немцев. А после серии "17 мгновений весны" — этого звездного часа серой советской телематогра-фии — слава его стала воистину всенародной. Народ и партия полюбили Штирлица, умного, обаятельного, патриотичного и находчивого, и не давали прохода актеру Тихонову, игравшему эту роль. Особенно же полюбили Юлиана Семенова наши доблестные чекисты, труженики плаща и кинжала, им было лестно видеть себя такими положительными и славными, какими их вывел Юлиан Семенов. Автор не остановился на достигнутом и вновь оживил Штирлица в новом романе, публикуемом в журнале "Москва", где тонко проводит мысль о связях евреев с нацистскими преступниками. Народу и это очень понравится, и он скушает этот новый роман, как и всю развесистую клюкву Юлиана Семенова, не поморщившись. И начальство тоже будет благодарно писателю за выполнение социального заказа и даст ему медаль "За оборону Москвы".
Но Семенов не всегда был Юлианом Семеновым. Довольно большую часть своей жизни он был Юликом Ляндресом, сыном ответственного сотрудника Союза писателей СССР, с которым я был хорошо знаком, когда работал в журнале "Юность" в шестидесятых годах. Его кабинет и наша редакция располагались в одном дворе, и Семен Александрович Ляндрес частенько заходил к нам отдохнуть и поточить лясы.
Он вальяжно рассаживался в моем кресле, положив ноги на стол, и рассказывал всякие смешные истории. Однажды я ему сказал:
—Семен Александрович! Вот вы так развалились в кресле, ноги, по- нимаете, на столе, а у нас, между прочим, государственное учреждение. Придет посетитель из вологодских поэтов и настрочит донос, что у нас — американский притон. В Рязани и в Вологде именно такое представление об американских притонах — когда ноги на столе.
Он ответил:
Дорогой Илья! Если бы у вас был отбит копчик, как у меня, то неизвестно, как бы вы сидели в кресле. И я совсем не уверен, что вы нашли бы в себе силы положить ноги на стол. Скорее всего, вы бы их протянули. Так это больно.
Кто же отбил вам копчик? — спросил я, совершенно изумленный. — И что это за манера — отбивать копчики?
—Если бы вы, как я, работали в "Известиях" с Николаем Ивановичем Бухариным, — сказал Ляндрес, — вам бы не только копчик отбили, а вообще бы одно место оторвали. Что было бы, вероятно, очень правильно с воспитательной точки зрения, судя по всему. Но я, как видите, не только выжил, но и имею сомнительное удовольствие сидеть у вас в кабинете и вспоминать прошлое, которое так больно отзывается у меня в заднице. Так что, милый Илья, сидеть нормально я не могу вот уже четверть века. Надеюсь, что с моим Юлием этого не случится. Он мальчик способный и точно знает с кем быть. И точно знает о ком писать. И точно знает строить жизнь с кого.
—С кого?
—С товарища Дзержинс-кого! — процитировал Ляндрес. — И это — мой отцовский наказ. Потому что Юлик — нежный мальчик, он не выдержит, когда ему будут ломать копчик.
И вот теперь, после стольких лет, просматривая в советском журнале новый опус Юлиана Семенова о Штирлице, я думаю, что лучше: ходить с переломанным копчиком или с переломанным хребтом?
ЮБИЛЕЙНОЕ
Оглянуться не успеешь — и уже пора отмечать юбилей! Уму непостижимо, как быстро летит это проклятое время! Казалось, еще вчера я сидел в театре МГУ на Моховой, где гастролировал эстрадный театр "Синяя птичка", когда на сцену выбежал могучий брюнет, грудь колесом, сказал всем "Здрррасьте!" и стал выделывать такое, от чего все мы прямо катались по полу от смеха. Он пел куплеты, отбивал чечетку, выдавал репризы. Это была пародия, и это было искусство эстрады, той старой ушедшей эстрады, на смену которой потом пришли унылые агитки о "кое-где все еще встречающихся отдельных недостатках, мешающих нам строить и жить".
Красавца-брюнета звали Борисом Сичкиным, и скоро его узнала вся страна, потому что он снялся в тридцати фильмах и остался в памяти кинозрителей исполнением роли куплетиста Бубы Касторского в "Неуловимых мстителях". И теперь эмигрантская общественность будет отмечать юбилей Бориса Сичкина.
Борис вышел на эстраду, когда ему было четыре года. Четыре брата Сичкиных били чечетку, танцевали "Яблочко", "Барыню", "Цыганочку", "Вальс фантази". Вальс тоже шел под чечетку. Ноги спасли Бориса Сичкина от голода. В 1933 году Киев голодал. Украина умирала от голода. На Троицком базаре, когда расходились торговки и собирался "чуждый элемент" (так красиво называли тогда урок и проституток), Борис Сичкин развлекал присутствовавших и за это получал продукты (отнятые, разумеется, у торговок).
В 12 лет наш юбиляр выступал в ресторане "Континенталь" в том же Киеве и получал за это 25 рублей (в неконвертируемой валюте) и ужин. Потом пошла какая-то цыганщина. Наш юный артист полюбил цыганские танцы и ушел из дома в табор, с которым прокочевал почти год. (Каково это было маме и папе юбиляра? Вечно эти еврейские дети примыкают к чему-нибудь непотребному: к цыганам, к большевикам, к эстраде. Черт знает что!)
Зато теперь никто не мог лучше Сичкина танцевать "Цыганочку". Так и вижу его в малиновой косоворотке, в черных шароварах, в мягких прохарях (украденных, вероятно, у недорезанного нэпмана), в расшитой золотом жилетке. Глаз не оторвать! Цыган да и только! Увидевший его в таком удивительном виде руководитель Ансамбля народного танца Украины П. П. Вирский пришел в такой восторг, что сразу зачислил Сичкина солистом в свой знаменитый ансамбль и выдал ему персональную ставку. А отсюда — рукой подать до Краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Красной Армии, где Сичкин олицетворял силу, стойкость, мужество и мужественность советского воина-освободителя (в танцах, разумеется. Солист ансамбля Сичкин был неподражаем в танцевальной сюите "Взятие высоты № 546", где он первым врывался в блиндаж и мастерски расстреливал внешнего врага. Танцевальных сюит про внутреннего врага в го время еще не ставили).
Тут бы и дослужился Борис Сичкин до звания генерала, если бы хороший писатель, артист, клоун и режиссер Виктор Драгунский, которого вы впоследствии узнали по "Денискиным рассказам", не организовал театр "Синяя птичка". Это было в 1948 году. И Борис Сичкин пошел туда работать. Я хорошо знал этот театр и Виктора Драгунского и даже написал какую-то дурацкую песенку к одному из его спектаклей. Театр этот не очень жаловали театральные вожди, поэтому он выступал то в клубах творческой интеллигенции, то в университетских театрах. А иногда и на ведущих сценах Москвы и Ленинграда. Работать там было одно удовольствие. Ну, судите сами. Авторы: Драгунский, Давидович, Эмиль Кроткий, Бахнов, Костюковский, Михаил Светлов. А актеры! Тенин, Сухаревская, Весник, Юрий Яковлев, Санаев, Понсова, Карасев. И Сичкин, конечно. Общение с такими людьми не проходит бесследно. Я и сам испытал влияние многих из вышеперечисленных и смело отношу себя теперь к творческой интеллигенции. То же самое произошло с Борисом Сичкиным. Это вам не ансамбль Александрова: "Направо! Шагом марш! Кто там шагает правой, сукин сын? Левой, левой!"
В 1954 году "Синюю птичку" закрыли. На черта им "Синяя птичка", когда есть "Синяя птица"? И без всяких там подозрительных фамилий!
Оттанцевав и отпев положенное в любимом театре, Сичкин стал балетмейстером и поставил в этом качестве спектакли "Свадебное путешествие", "Четвертый позвонок", "Проснись и пой" в театре Сатиры, юбилейную программу Л. Утесову, множество номеров на эстраде. Попутно он снимался в кино. А кроме того, он был душой другого, "домашнего", эстрадного театра "Крошка", который появился на смену "Синей птичке" в ЦДРИ. Вот паршивцы: их гонят в дверь, а они влезают в окно. С эстрадой всегда так. И еще я помню, что Сичкин был душой и заводилой всех актерских капустников, появлявшихся в Доме актера, ЦДРИ, Доме кино, Доме архитектора. Попасть на эти хулиганские спектакли, где никакая цензура не могла вымарать антисоветскую суть, было невозможно. Но и удовольствие они доставляли огромное.
Думаю, что без Сичкина в Москве намного грустнее: уехал веселый выдумщик, актер, "мотор" подъяремной веселой жизни, которую время от времени устраивала себе замученная актерская молодежь...
ТЕНИ ЗАБИТЫХ ПРЕДКОВ
Сколько раз я зарекался, что никогда не буду встречаться здесь с приезжими, которых знал по прежней жизни! Что ничего, кроме разочарования и боли в сердце, это не принесет. Что общего языка с ними найти не удастся, потому что я эмигрировал, а они нет, и если они даже понимали меня или дружили со мной там, в той жизни, то уж здесь, в Америке, они никогда не раскроются, застегнут души на все пуговицы, будут цедить слова, боясь своих и наших стукачей.
И все же тянуло повидаться, поболтать, послушать, посмеяться. А может быть, тут было подсознательное желание доказать им, что вот видите, не пропал я, не сдох, не сгнил, а наоборот, живу и радуюсь. И пишу. Пишу то, что хочу. Пишу правду. А вы?
Так и попал я в университет Джорджа Вашингтона, где состоялась встреча с группой советских писателей. В их числе были Валентин Катаев, Феликс Кузнецов, Григорий Бакланов, Нодар Думбадзе. Я знавал их там. И хотел увидеть снова. Со времени моего отъезда многое изменилось. Критик Феликс Кузнецов стал крупным литературным начальником: секретарем союза писателей. Это ему потом поручили разгромить альманах "Метрополь", организованный Василием Аксеновым. Очень мне хотелось с ним пошептаться, чтобы узнать, сам он на это пойдет или все-таки заболит у него душа, когда его назначат Фаддеем Булгариным советской литературы. Григорий Бакланов стал членом редколлегии журнала "Октябрь". Разве не интересно поговорить с бывшим новомирцем, превратившимся в октябриста? Нодар Думбадзе получил Ленинскую премию и стал литературным вождем Грузии. Он был добрый, веселый парень и хороший писатель, что с ним стало? Как сильно он изменился?
И, конечно, Валентин Катаев... Я пришел в журнал "Юность" в тот день, когда Валентин Петрович из него ушел, мне не пришлось с ним работать. Но меня всегда тянуло к нему. Я понимал, как талантлив Катаев, я понимал, что он — задушенный мастер. Но он всегда был литературным метром. Счастливцы Ильф и Петров! Над ними всегда высился Катаев. Мало того, что он подсказал им сюжет "Двенадцати стульев", он еще прошелся по их рукописи рукой мастера! Перечитайте его ранние рассказы, они сияют до сих пор! А чистота его интонаций в "Белеет парус..."! А как благороден, страшен, возвышен его маленький рассказ "Отче наш", написанный во время войны! С одним этим рассказом он бы остался в русской литературе! Но, по-моему, Валентин Катаев так испугался советской власти, так проникся ощущением смертельной опасности, от нее исходящей, что на пятьдесят лет остановил свое перо. Мастера сменил прислужник. Я даже не могу упоминать тех вещей, которые написал этот, испугавшийся, Катаев. И вдруг — о чудо! — что-то случилось в душе его, и на стол к изумленному читателю попали "Святой колодец", "Алмазный мой венец", "Уже написан Вертер". Катаев показал всем, и прежде всего себе, какой он прозаик! Последний могикан серебряного века русской литературы, выплеснутой революцией и сожранный ею же, он с наслаждением старика, которому уже нечего бояться, дал волю своему воображению и подарил нам золотые россыпи настоящей катаевской прозы. К этим книгам многие относятся плохо, считают Катаева литературным неудачником, всю жизнь завидовавшим Ивану Бунину, бросавшим комья грязи вслед своим современникам, ушедшим из жизни — Олеше, Маяковскому, Зощенко, Пастернаку, Асееву, Есенину... Говорят, что он в "Вертере" позволяет себе антисемитские выпады, сваливая большевистский террор первых лет революции на евреев, дорвавшихся до власти. Наверное, они правы, эти критики. Меня же интересует то, как написаны эти вещи. На фоне умершей русской прозы последние книги Катаева кажутся мне памятником русскому языку. Да, Катаев пишет о травленную прозу, но ведь это проза! Кого можно поставить сегодня рядом с ним? У него были все задатки великого писателя и, кто знает, может быть, в его столе лежит вещь, которой суждено будет возвести Катаева в ранг великих, если только прошлый страх не задушит это произведение до того, как оно выльется на бумагу.
Я подошел к нему на этой встрече в университете Вашингтона и тихо поздоровался. И он узнал меня! "Как Миша?" — спросил он. — Как живет Миша? Хорошо ли ему?"
Миша — это мой брат. Когда-то он вместе с режиссером Мосфильма Борисом Ермолаевым создал сценарий по рассказу Катаева "Отче наш". Пробить его было невозможно, потому что это рассказ о еврейской женщине с ребенком, которая не пошла в гетто, куда согнали всех евреев этого городка. Она ходит из дома в дом, из квартиры в квартиру, и никто ее к себе не пускает. На утро немецкий грузовик подбирает трупы людей, замерзших в ту январскую ночь на улицах оккупированного городка. Среди них — женщина с ребенком. Теперь представьте себе эту историю, написанную пронзительным и честным катаевским языком, и подумайте о том, мог ли фильм на эту тему выйти, даже и в начале шестидесятых годов!
Мог! Потому что Миша Суслов и Борис Ермолаев при поддержке Катаева пробили этот сценарий! Была создана группа, на двери Мосфильма появилась табличка "Отче наш". Как, спросите вы, неужели советская власть проморгала фильм о евреях? Не заболела ли она, голубушка?
Не заболела. Поэтому в один прекрасный день, придя на работу, киногруппа не нашла двери с табличкой "Отче наш". Сняли табличку. И фильм закрыли.
Но Катаев помнил те времена и не забыл Мишу Суслова, эмигрировавшего в Америку.
И я рассказал ему, как мы все тут живем, что поделываем. Он смотрел недоверчиво, а потом сказал:
Знаете, я тут был в Библиотеке Конгресса и видел рукописи Фолкнера. Они все изуродованы цензурой.
Как это?
Они во многих местах перечеркнуты, множество слов выброшено. Илья, цензура повсюду.
Валентин Петрович, — сказал я, — давайте подумаем, кто же это мог лезть в рукописи Фолкнера? Сенаторы? Президент?
Не знаю, не знаю, — сказал он желчно. — Вычеркивали, вот и все. Так что нечего все валить на советскую власть.
Ну, Валентин Петрович, дорогой, вы же сами не верите в такую чушь. Зачем кому-то править Фолкнера? Кому это выгодно? У нас здесь литература отделена от государства.
А вот правили, правили! — упрямо повторял он.
Валя, замолчи! — не выдержав, крикнула его жена Эстер.
И он примолк. Только желваки у него ходили, да глаза цепко перебегали по нашим лицам.
В большой университетской комнате, где славянский факультет принимал советских писателей, было много народа.
Мой старый дружок, переводчик Союза писателей, увидел меня и побледнел. Я пошел ему навстречу, очень уж приятно было его увидеть, обнять. Но он шепотом сказал:
—Осторожно, он смотрит. Встань передо мной, спиной ко мне, поговорим.
Я сначала не понял, кто это он, кого он так боится. А потом увидел: это был начальник иностранной комиссии Союза писателей, старый заслуженный кагебешник.
Я встал спиной к моему приятелю, и так мы с ним разговаривали.
Он шепотом спросил:
Это ты? Неужели это ты?
Это я, — сказал я, улыбаясь во все стороны, — что это с тобой?
Ты жив! Ты жив! — бормотал он. — Тебе не плохо? Не плохо тебе?
Мне не плохо. Мне хорошо.
Что передать ребятам?
Скажи, что я их люблю по-прежнему, что буду рад их увидеть.
А его начальник уже приглядывался ко мне из своего угла. Я к нему и пошел, говоря:
—Здравствуйте, я Илья Суслов, из журнала "Америка", а вас как зовут?
—О, — сказал он, — это не тот ли Суслов, который сотрудничал в "Литературной газете"?
Я очень обиделся.
—Что значит "сотрудничал"? — спросил я. — Я там не сотрудничал, а работал как собака. Это вы сотрудничаете...
И отошел от него. Но он, кажется, не понял.
Вот интересно, — сказал я Григорию Бакланову, — в мое время журнал "Октябрь" был по ту сторону добра и зла. Печататься там талантливым людям было неудобно. Как же вы там работаете?
А настоящим писателям все равно где печататься, — сказал неизвестно откуда появившийся корреспондент газеты "Известия" в США Мэлор Стуруа. — Правильно я говорю, Гриша? Где нас печатают, там мы и печатаемся.
Нодар, — сказал я Думбадзе, — не хотите ли посмотреть Вашингтон? Я вам такие места покажу, ахнете!
Нет, он не поедет, — сказал неизвестно откуда появившийся корреспондент газеты "Известия" в США Мэлор Сгуруа. - Нодар уже обещал, что со мной поедет смотреть Вашингтон. Правильно я говорю, Нодар?
А вы тоже писатель? — спросил я молодого румяного человека с восточным лицом.
Нет, — сказал он, — я из посольства, из отдела военного атташе.
Скажите пожалуйста! — удивился я. — Я и не знал, что литература у вас проходит по военному ведомству...
Да ничего подобного! — возмутился он. - Я просто друг Нодара, мы с ним из соседних республик, вот почему я здесь. А вы сразу: "из военного", "из военного"...
Простите ради бога! — извинился я. — Давно уехал, многое, знаете ли, изменилось. А почему бы, собственно, не из военного? Писатель, он ведь тоже в строю. Рядовой армии культуры.
Вы острите, — сказал румяный, — доостритесь.
Это у него профессия такая, шутит он, — сказал неизвестно откуда появившийся Мэлор Стуруа.
Писатели и их университетские друзья пили кофе, вино и общались на почве детанта.
А потом все разъехались. Жалко, Феликса Кузнецова не было. Он бы уж дал бой, настоящий, партийный, бескомпромиссный! Эх, Феликс...
А Катаев, дождавшись, пока все гости покинули комнату, подошел ко мне, взял мою руку в свои, старые, жилистые, с коричневыми старческими пятнами, и, странно улыбаясь, сказал:
— До свиданья, Илья. Как молодостью пахнуло. Как молодостью... И погладил мою руку.
* * *
Виктор Розов был замечательным драматургом. И очень добрым человеком. Я помнил его с тех пор, как он, член редколлегии журнала "Юность", написал рецензию на мою повесть "Прошлогодний снег", стараясь пробить ее на страницы журнала. Он писал тогда, что не надо бояться показывать трудности нашей жизни, что сатира и лирика поможет их выкорчевать, и тогда, вероятно, жить станет легче. Это было двадцать пять лет назад!
Он приехал в Америку, где университетский театр в Канзасе поставил его пьесу. А потом попал в Вашингтон, где мы и встретились.
Не трогайте нас, Илья, — сказал он мне при встрече. — Вы уехали, поэтому у вас нет права думать о наших делах и вмешиваться в них. Мы сами справимся. Раз уж вы выбрали такой путь — эмиграцию, то и живите этой жизнью. Не надо о нас писать.
Нет, Виктор Сергеевич, — сказал я, — это вы неверно говорите. Если мы не будем писать и рассказы-вать о прошлой нашей жизни, эта зараза может перекинуться сюда. Мы ведь не только за себя, но и за других, за детей наших, например.
Тем более, — продолжал он, не слушая меня, — ведь все там изменилось. Не убивают. Не сажают. Вот, например, я написал пьесу. Открывается занавес, на сцене стоит на коленях комсомолка и молится. Представляете? И пропустили! Пропустили такую сцену! Другие времена. Не убивают.
К нам присоединился переводчик Госдепартамента, прикрепленный к Розову. Русский парень. Во втором поколении. По-русски говорит, как мы с вами.
Видели ли вы журналы на русском языке? — спросил я Розова. — Хорошие делают журналы. "Континент". "Время и мы". "Двадцать два".
Просматривал, — ответил Розов. — Просматривал кое-что. А вы где печатаетесь?
Во "Времени и мы". По-моему, эти журналы выполняют ту роль, которую могли бы играть журналы в России. Они — голос русского общества... А вы видели когда-нибудь "Время и мы"? — спросил я переводчика.
Я ненавижу этот журнал, — сказал он, холодно глядя мне в глаза. — Я его ненавижу.
Почему? - спросил я, совершенно сбитый с толку, потому что я спросил, просто чтобы вовлечь его как-то в разговор.
А потому что в нем печатаются люди, погубившие Россию, в нем издеваются над тем, что мне дорого как русскому человеку, — сказал он.
—Видите, Виктор Сергеевич, - сказал я улыбавшемуся Розову, — вот у нас в Америке как: у каждого свое мнение, И у переводчика вашего тоже мнение. Свое. Так уж демократия работает.
И разговор наш увял. Я простился с Розовым и русским патриотом из Госдепартамента и ушел домой, кляня себя за то, что снова разбередил раны и встретился с человеком из прошлого.
И я сказал себе: не надо. Не надо искать таких встреч. Они оставляют горький осадок. Они приводят к бессоннице. Ибо мы, ушедшие оттуда, уже не те. А они — те же. И мы уже никогда не поймем друг друга.
Но только я не послушался совета Виктора Розова. Я писал, пишу и буду писать. Иначе об этом никто не узнает. И не поймет, от чего же мы ушли. И не накажет детям слушать нас.
Буду писать. Пока смогу.
ЭССЕ, ОЧЕРКИ, РЕЦЕНЗИИ
КТО ЖЕ ОСТАЛСЯ В ЛАВОЧКЕ?..
Итак, эмиграция из России, как утверждают скептики, прекращена... Форточка, с таким трудом пробитая в железном занавесе, окружающем наше свободное отечество, с треском захлопывается. А мы, стая перелетных птиц, можем сесть, наконец, на веточку, почистить перышки, отдышаться и оглянуться по сторонам. Можем подсчитать потери и посмотреть, кто рядом. Кто долетел. Кто остался. Кто погиб во время перелета.
С нами ушли писатели. Одни ушли добровольно, других прогнали.
Солженицын, Аксенов, Войнович, Синявский, Максимов, Некрасов, Алешковский, Бродский, Коржавин, Горенштейн, Галич, Белинков, Анатолий Кузнецов, Гладилин, Копелев, Владимов... Какие все славные знакомые имена! Мы ведь прожили с ними лучшие дни нашей юности. Нашей зрелости. Зиновьев, Парамонов, Янов, Агурский, Чалид-зе, Поповский, Перельман, Довлатов, Игорь Ефимов, Соловьев и Клепикова, Михайло Михайлов, Вайль и Генис, Амальрик, Григоренко, Буковский, Плющ, Турчин... Какие блестящие полемисты! Как интересны их идеологические бои, как у нас вместе с ними болит сердце о будущем несчастной страны, которую мы покинули... Да не затупится их перо, пусть сражаются они за свои идеи, пусть учатся существовать в плюралистическом мире, где инакомыслие - воздух общества.
Нет уже среди нас гениального Александра Галича, пророка и мыслителя Андрея Амальрика, незабываемого Аркадия Белинкова, талантливого Толи Кузнецова. Но они были с нами. Они здесь.
Феликс Камов, Аркадий Львов, Феликс Розинер, Юрий Милослав-ский, Нина Воронель, Эдуард Лимонов, Эфраим Савела, Лия Владимирова, Анри Волохонский, Василий Бетаки, Алексей Хвостенко, Вагрич Бахчанян, Марамзин, Н. Горбаневская, Саша Соколов, Рыбаков, Халиф, Глезер, А. Цветков, Е. Цветков, М. Хейфец, Б. Камянов... Посмотрите, какой внушительный, мощный список тех, кого мы читаем и кого нам еще предстоит прочесть! И как обойтись в этом списке без тех, кто помогает нам разобраться в прочитанном, — без Н. Рубинштейн, Е. Эткинда, М. Каганской, Д. Штурман, Р. Орловой, М. Крепса, И. Голомштока, В. Козловского, А. Воронеля? Вам мало имен? Нате еще: Андрей Кленов, Григорий Свирский, Тарсис, Мамлеев, Э. Кузнецов, Федосеев, А. Гинзбург, Ж. Медведев, Суконик, Бобышев, Штерн...
Простите, друзья, что так беспорядочно бросаюсь вашими именами, они просто всплывают в моей памяти, потому что я знаю вас и помню о вас. Я не раскладываю вас по полочкам, не складываю в обоймы, просто я живу рядом с вами и радуюсь вашим успехам. Я ваш читатель. Я напоминаю о вас тем, кто должен вас читать. Конечно, я пропустил мно гих, забыл кого-то упомянуть, но это я не нарочно, просто вас так много...
И это только те, кто пишет!
А наши музыканты? Наши артисты? Наши художники? Ростропович, Давидович, Яблонская, Ашкенази, Паперно, Марковы, Шостаковичи, Леонова, Светланова... Нуреев, Макарова, Барышников, Годунов, Козловы, Пановы, Федичева, Баршай, Дубинский, Ярвид... Вишневская, Бабак, Гозман... Кондрашин... Юрий Любимов, Вениаминов, Гузик, Крамаров, Амарантов, Л. Круглый, Зорин, Борис Сичкин... Нина Бродская, Элла Гончарова, Аида Ведищева, Лев Пильщик, Майя Розова... (Те, кто живет в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, сами дополните этот список, вам там виднее.) Неизвестный, Шемякин, Целков, Межберг, Ра-бин, Збарский, Красный (пусть Глезер дополнит этот список по обе стороны океана). Корчной, Спасский, Шамкович, Альбурт, Сосонко, Лейн (любители шахмат, я, конечно же, кого-то упустил, исправьте мою оплошность!). Киношники наши: Тарковский, Калик, Вика Федорова, Бо-гин, Миша Суслов, Л. Канн, Кальцатые... И это только те, кого я знаю, те, кто пришел на память!
Здравствуйте!
* * *
И тут я подумал о тех, кто ушел оттуда раньше нас, кто прошел ту же дорогу, что и мы, только, быть может, более трудную, о тех, кто ушел от Ленина, а потом от Сталина, тех, кого мы уважали и помнили еще там, тех, кто составлял истинную славу России, находясь в изгнании.
Бунин, Алданов, Зайцев, Шмелев, Ремизов,Тэффи, Аверченко, Набоков, Цветаева, Р. Якобсон, Бердяев, Шестов, Саша Черный, А. Толстая, Ходасевич, Мережковский, Гиппиус, Розанов, Франк, Лосский, Г. Струве, С. Булгаков, Вейдле, Одоевцева, И. Елагин, Ю. Елагин, Моршен, Чин-нов, Гуль, А. Седых, Бахрах, Гессен, Адамович, Н. Берберова, Б. Филиппов, Л. Ржевский, С. Максимов, Коряков, Дон-Аминадо...
Стравинский, Рахманинов, Кусевицкий, Гречанинов...
М. Чехов, Тамиров, Балиев, Фокин, Ауэр, Анна Павлова, Нижинский, Дягилев... Сикорский, Зворыкин... Шагал, Сутин, Кандинский, Ларионов, Бенуа, Судейкин... Хейфец, Горовиц, Пятигорский, Жадан...
Шаляпин!
Алехин, актер Мозжухин, поэт Георгий Иванов... Нет им числа.
А я все думаю: что же это за страна, из которой уходят самые лучшие, самые талантливые? Что же это за страна, которая добивает оставшихся, если они продолжают оставаться самыми лучшими, самыми талантливыми? И что ждет страну, чьи таланты могут свободно реализоваться только на чужбине?
Так что не бойтесь, друзья, мы с вами в хорошей компании!
Перефразируя известного советского писателя, можно сказать так: "Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо ТАМ, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...".
Это они потеряли, а мы приобрели.
Что же касается автора этой заметки, то я не знаю, что в моем лице приобрела Америка, но то, что Россия ничего не потеряла, — это точно!
ЭССЕ О ЦЕНЗУРЕ
"Чтоб у нас в карманах было столько купюр, сколько их в этой книге".
Надпись на книге друга
Как-то так случилось в моей жизни, что я все время имел дело с цензурой. Для человека, родившегося и выросшего в России, это само собой разумеющееся явление, ну как же без нее? Это не изобретение советской власти. Цензура была придумана еще в XIV веке Папой Урбаном VI, который постановил, что можно пользоваться только теми книгами, которые не содержат ничего противоречащего догматам церкви. С тех пор все догматики пользуются услугами цензуры. Сегодня цензура, если процитировать Большую советскую энциклопедию, это "контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и распространением печатной продукции, содержанием (исполнением, показом) пьес и других сценических произведений, кино-фотопроизведений, произведений изобразительного искусства, радио- и телевизионных передач, а иногда и частной переписки, с тем, чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, признаваемых этими властями нежелательными или вредными.
По способам существования цензура делится на предварительную и последующую. Предварительная предполагает необходимость получить разрешение на выпуск в свет книг, постановку пьес и т. д., последующая заключается в оценке уже опубликованных, выпущенных изданий, поставленных пьес и т. д. и принятии ограничительных мер в отношении тех, которые нарушают требования цензуры".
Далее там же сказано, что в России цензура зародилась в XVI веке (отстаем, как всегда, от передовых стран) и была постоянным оружием царского правительства в его борьбе с революционным движением, демократической литературой и публицистикой.
Что же касается Советского Союза, то никакой цензуры там не было и быть не может, потому что Конституция СССР в соответствии с интересами народа гарантирует гражданам свободу слова. Вместо же цензуры установлен "государственный контроль, чтобы не допустить опубликования в открытой печати и распространения средствами массовой информации сведений, составляющих государственную тайну, и других сведений, которые могут нанести ущерб интересам трудящихся".
Под государственной тайной здесь подразумевается правда, а под трудящимися - партийная верхушка. Что, по-своему, тоже правда, потому что они много работают.
Такой длинный научный экскурс в историю вопроса я предпринял потому, что энциклопедия ничего не сказала о самом главном виде цензуры — самоцензуре, которая и является ведущей силой советской общественной жизни. Она подразумевает то обстоятельство, что народу в целом и его интеллигенции в частности уже внушен достаточный страх, и человеку разрешено думать одно, а говорить другое. Один гражданин, помнится, пришел к врачу и пожаловался на эти симптомы:
— Понимаете, доктор, говорю одно, думаю другое, а поступаю со всем по-третьему.
Доктор послушал и сказал:
— Извините, но от марксизма мы не лечим.
Так что это явление — самоцензура — целиком советское. При царе его не было. А может, было?
Я стал копаться в литературе, чтобы узнать, как они тогда работали, сатирики и юмористы, что им разрешали, а что нет. Кто их вызывал, кто на них орал, кто им грозил и кто запрещал. Я это сделал, чтобы сравнить с живой жизнью советской литературы, спустя пятьдесят-шестьдесят лет после революции. И, конечно, хотелось посмотреть, как это удавалось сатириконцам писать так смешной остро.
Как известно, в 1905 году "царь испугался и издал манифест". В учебниках немножко туманно рассказывалось, что же это за манифест такой. Обычно партийные историки разъясняли, что манифест заключался в том, чтобы "мертвым — свободу, живых — под арест". И все. Школьник, конечно, представлял себе, что все живые граждане России отправились в тогдашний ГУЛаг, а почивших в бозе каким-то образом реанимировали и выпустили с кладбищ на свободу.
На самом же деле гражданам тогдашней России даровались гражданские права, в частности, свобода печати. Революционеры открыто продавали свои газеты. Цензура была отменена. Сатирики и юмористы разыскали друг друга и в 1908 году открыли журнал "Сатирикон", а с 1913 года — "Новый Сатирикон". Правда, цензура все-таки имела место: царь упросил при составлении манифеста 1905 года, чтобы в печатных изданиях не было персональных насмешек над ним и его супругой. Чтобы на картинках не изображались члены царствующей семьи в похабном виде. Пожалуйста, уж. В виде исключения. А так — все можно. И цензор просматривал "Сатирикон" с этой точки зрения.
И прямо-таки видится картинка: издатели "Сатирикона" г. г. Аверченко и Корнфельд приносят цензору сигнальную верстку свежего номера журнала "Сатирикон". Цензор, какой-нибудь там сенатор, в расшитом золотом камзоле, в лайковых перчатках, седовласый, с моноклем, рассматривает листы. Корнфельд и Аверченко презрительно за ним наблюдают.
—Ну что же вы, господа, опять за свое? — устало спрашивает цензор. — Ведь сказано уже в тысяч-ный раз, что нельзя особ императорской фамилии изображать в таком, как бы это получше выразиться, неприглядном виде. А здесь у вас карикатура, на Ее Императорское Величество, Александру Федоровну. Да и как: гадко! Она же не публичная девка, как у вас здесь показано, а царица, ну откуда у вас такое неуважение? Неприлично, господа...
—Ах так! — говорят Корнфельд и Аверченко. — Запрещаете, значит? Выходит, никакой свободы и нет? Мы подчиняемся насилию. Но не подумайте, пожалуйста, что мы с этим согласны!
Сенатор кивком головы отпускает журналистов. А те хватают пролетку и, хохоча во все горло, прилетают в редакцию.
—Сняли! — радостно говорят они. — Скорее выньте эту грязную карикатуру из набора!
Метранпаж вынимает клише карикатуры, и журнал выходит в свет... с белым пятном.
И читатель, ох уж этот наш русский читатель-либерал!, читает "Сатирикон" и, вытирая усы после шампанского, говорит знакомому в ресторане "Славянский базар":
—Нет, вы только посмотрите, как замечательно проехался "Сатирикон" по язвам нашей жизни! И все так точно, так смело! А это белое пятно? Здесь, верно, уж такое было пропечатано, что эти псы цепные из царской охранки испугались пропустить! Нет, положительно настало время избавиться от проклятого царского режима! Ведь до чего доходит...
А этого только и нужно было предприимчивым Корнфельду и Аверченко! И журнал расходился, как пончики на углу Невского!
Коммерческие приемы, которые применялись издателями "Сатирикона", нисколько не умаляют их творческих талантов, в конце концов издание журнала — это бизнес, и подписчиков надо уметь привлекать. В данном случае я просто хотел обратить внимание современного читателя на прямо-таки идиллические цензурные порядки, существовавшие в России в начале двадцатого века. Неудивительно поэтому, что писатели, сотрудничавшие в "Сатириконе", моментально почувствовали, что именно принесет с собой большевистская революция, и почти в полном составе эмигрировали за границу. Уехали и Аверченко, и Бухов, и Тэффи, и Саша Черный, и Ре-Ми, и А. Бенуа, и Добужинский... Все уехали. Надо сказать, что журнал был до этого закрыт по постановлению советского правительства. Закрыть журнал — это еще одно из проявлений цензуры.
Впервые я увидел, как работает карандаш цензора, когда попал в начале шестидесятых годов в журнал "Юность". Это была чистая случайность, что я туда попал. Я шел по улице и встретил своего старого знакомого еще по институтским временам, Иосифа Оффенгендена. Он был постоянным художником журнала "Юность". Он сказал мне:
—С-сс-лушай, с-старик, я с-свободный художник, а из м-меня с-сде лали за-за-заведующего ре-редакцией! А я, сс-старичок, ненавижу э-это де-дело. А ты это, на-наверно, любишь. По-пойдем.
Он взял меня за руку и отвел в редакцию "Юности". Я тогда был инженером, начальником цеха в типографии, и для меня "Юность" была недосягаемой мечтой. Конечно, я и тогда баловался литературой, писал эстрадные обозрения и репризы для клоунов в цирке, и песни (тогда еще не было Булаты (так!-Д.Т.) Окуджавы, и мы писали песни под Лебедева-Кумача. Потом появился Булат, и мы поняли, какой мусор писали. Булат и убил во мне песенника). Но "Юность"!..
В дверях редакции я столкнулся с Борисом Николаевичем Полевым, которого только что назначили главным редактором "Юности".
Ося Оффенгенден сказал:
Бо-борис Ни-николаич! Вот этот па-парень хочет за-заведовать рередакцией. Я его з-знаю. Он хо-хороший.
Пьете? — спросил Полевой.
Нет...
Приняты, — сказал Полевой, и моя судьба перевернулась.
Я стал заведующим редакцией "Юности" и поступил в подчинение к ответственному секретарю Леопольду Абрамовичу Железнову. Как-то месяцев через шесть я зашел в его кабинет и увидел, что он вместе с другим членом редколлегии, Э. Б., правит чью-то рукопись. Это была одна из повестей Василия Аксенова. Я ее читал в рукописи, когда Аксенов только принес ее в редакцию. И вдруг я увидел, что Железнов вычеркивает из повести те самые места, ради которых она, собственно, и была написана! Причем он делал это совершенно безошибочно, он чувствовал будущую опасность этих слов. Он медленно обводил карандашом подозрительные строчки, перечитывал их еще раз, на секунду задумывался, а потом вычеркивал их из рукописи.
Я никогда до этого не видел, как это делается. И "Юность" для меня была тем, чем она была для других: самым либеральным (после "Нового мира") журналом, приютом свободомыслия и интеллигентности. Когда из произведения вычеркиваются строки, их как бы и не существовало в природе, они расстреляны...
— Леопольд Абрамыч, — сказал я, — что же это? Это же... фашизм.
Они подняли головы и долго и внимательно на меня посмотрели. Железнов побледнел, и я понял, что сморозил что-то совсем-совсем страшное.
— Идите к себе, — сказал он, — и зайдите через десять минут.
Это были плохие десять минут в моей жизни. Я бы не простил, если бы мне мой подчиненный такое сказал. Я бы его выгнал. Через десять минут он позвал меня к себе и запер дверь.
—Илья, — сказал он, — мы думали, что нам с вами теперь делать. Мы пришли к заключению, что не будем вас выдавать, потому что это вас погубит. Ваше ужасное замечание говорит о том, что политически вы очень незрелый человек. Но запомните, Илья, вы никогда, слышите, никогда не подниметесь вверх по литературной лестнице. Вы опасный нигилист, понятия не имеющий, что такое партийная литература. Идите. В нашем решении сыграло роль ваше участие в моей прошлой жизни...
Когда я учился в девятом классе, я познакомился на даче с девочкой. Ее звали Надя Железнова. Это было примерно за пятнадцать лет до моего разговора с ее отцом, Леопольдом Железновым, ответственным секретарем "Юности". На дворе стоял пятидесятый год. Надя жила в Москве на Трубной. Она разрешала мне провожать себя до подъезда, но никогда не приглашала в гости. Я знал, что ее отец — журналист, а мамы у нее нет. Однажды я все-таки напросился, и Надя повела меня к себе. Я познакомился с ее отцом и стал единственным человеком, который переступал порог их дома. Почему? Я чувствовал какую-то трагедию в этом доме, но не мог понять, что же там произошло. Меня принимали очень тепло, и Надин папа даже иногда удостаивал меня беседы. Потом я узнал. Леопольд Железное был когда-то корреспондентом и ответственным секретарем газеты "Правда". А Надина мама была блестящей журналисткой и красавицей. Она была одной из сотрудниц Антифашистского еврейского комитета. Когда убили главу этого комитета Соломона Михоэлса, убили и всех членов этого комитета. В том числе и Надину маму. Леопольда выгнали с работы. А к ним в квартиру подселили следователя, того самого, который пытал и допрашивал его жену. Леопольд не пошел вслед за женой только потому, что его не исключили из партии, лишь объявили строгий выговор за потерю бдительности в семье. А не выгнали его из партии потому, что на партсобрании, где обсуждался его вопрос, Леопольд Железнов встал и сказал, что если партия наказала его жену, значит, партия была права, а его жена — нет.
С тех пор никто не звонил в его дом, никто не заходил в гости. Когда он шел по одной стороне улицы, бывшие знакомые переходили на другую. Железнов стал парией. Не потому, что он так сказал на собрании, а потому, что его общество отторгло его от себя. С огромным трудом он нашел место младшего литсотрудника в журнале мод и тем поддерживал свое жалкое существование. И так длилось до 1956 года, когда он случайно встретил на улице Валентина Катаева, своего старого товарища еще по правдинским временам. Катаев не перешел на другую сторону (это случилось уже после 20-го съезда партии, после разоблачения Сталина), а, наоборот, подошел к Железнову и пожал ему руку. И сказал, что вот Союз писателей открывает новый журнал "Юность" и назначает его главным редактором. И не хочет ли Леопольд пойти к нему ответственным секретарем?..
Вот что имел в виду Железнов, когда сказал мне, что в его решении не выдавать меня сыграло роль мое участие в его прошлой жизни. Он не забыл, что я был единственным, кто не боялся приходить к нему в дом с его страшным соседом за стенкой.
Но все же времена менялись, и я пошел по лестнице вверх. Я не знал тогда, что можно идти вверх по лестнице, ведущей вниз. Я стал редактировать "Клуб 12 стульев" Литгазеты.
В общем, мне очень повезло. Никто не требовал от меня непосредственных цензурных функций. Предполагалось, что прямой сатиры, непосредственно обличающей порядки, основы, политику, никто и не напишет в подцензурную печать. Поэтому мне, как редактору, разрешали "подсовывать" те или иные вольности, написанные, впрочем, "эзоповым языком". На фоне онемевшей литературы и это было довольно смелым и растущим явлением. Литература заговорила языком иносказаний. Скажем, если это был рассказ о евреях, то вместо слова "еврей" ставилось слово "бухгалтер". И если цензор улавливал смысл рассказа, то он его запрещал, а если нет, то рассказ и проходил, а набивший себе руку на иносказаниях читатель хихикал и улыбался, многозначительно покачивая головой. А у меня всегда было оправдание перед начальством, которое, разнюхав смысл той или иной "эзоповщины", могло сделать мне выговор за "протаскивание", как они говорили, "антисоветчины". В таком случае я спрашивал: "Где, покажите мне, где здесь антисоветчина?" Они, скажем, говорили: "Вот здесь, если заменить слово "бухгалтер" словом "еврей", то получится вполне антисоветский рассказик. И зачем вам это нужно? Хотите слететь с работы?" В ответ они получали полную дозу симулянтской редакционной истерики с воплями о том, что уже совершенно невозможно работать, что уже докатились до мерзких, в сталинском духе, подозрений, что таким глупым образом можно заменить любое слово и исказить любое произведение, и до чего нужно дойти, чтобы подумать, что бухгалтеры — это евреи, и причем тут евреи, у вас в голове одни евреи, я сам еврей, и что же вы хотите этим сказать, что я бухгалтер, что ли, дались вам ваши евреи, ни о чем другом и думать не можете, позор!
И уставший начальник, повертев рассказ в руках, говорил, что нечего тут орать, ничего особенного он в виду не имел, и если я хочу напечатать этот чрезвычайно слабый, не делающий мне чести, рассказ о бухгалтерах, то пусть он идет, черт с ним! Но если уж будет сигнал сверху, и его подозрения относительно евреев оправдаются, то уж тогда я буду пенять на себя.
И рассказик проходил в газету. Как говорится (и было напечатано): если нельзя, но очень хочется, то можно.
Цензура съедает душу художника. Художник хочет так или иначе рассказать правду или то, что кажется ему правдой. Правда, даже самая маленькая, обладает способностью к обобщению. А этого по цензурным правилам делать нельзя. Первое правило цензуры: не обобщать! Художник может сказать правду, но она должна носить узкий, местный, локальный характер. Нельзя создать рассказ об алкоголизме в России и его причинах, а можно написать рассказ о пьянице Сидорове, слесаре домоуправления № 6. Не обобщать!
Однажды Григорий Горин принес нам рассказ, который назывался "Потапов". Рассказ о суетности, лицемерии, душевной черствости современного городского жителя. Рассказ был очень сильный. И смешной, как многие рассказы этого писателя. Опытный Горин так записал свое произведение, что никакие "пристежки" типа "инженер одного из заводов Потапов" или "архитектор Потапов", или "слесарь Потапов из города Семисбруйска" не могли изменить обобщенности этого образа. И цензор долго мялся: рассказ нравился, но обобщение не давало цензору покоя. Он перекладывал рассказ из номера в номер, пока я не сказал ему:
—Ну что вы мучаетесь? Хороший рассказ, революции из-за него не случится. Чего вы боитесь?
Надо снять обобщение, — сказал он. — Как насчет названия? —А что?
"Потапов". Это обобщает. Не все же у нас Потаповы, верно?
Не все же у нас Климы Самгины. А книга называется "Клим Самгин". Не все же у нас Анны Каренины...
Так то когда было! — сказал он. — Подумают, что мы обобщаем. Придумайте название, пропущу.
Как насчет названия: "Как жаль, что у нас еще встречаются такие Потаповы!"
Это хорошо, но подумают, что мы сами себя высмеяли. И сама фамилия какая-то обобщающая...
Как насчет "Иванов"?
Не морочьте голову!
Чудное название для рассказа: 'Табинович", а? И никаких обобщений!
Думаете, смешно?
Как насчет "Остановите Потапова!"
Вот! — сказал цензор. — Вот оно! Гениально! Это то, что надо. Во-первых, активное отношение к отрицательному явлению. Во-вторых, снято обобщение, которое могло бы войти в историю как "потаповщина", потому что, что греха таить, все мы такие. Подписываю рассказ к печати. Ведь можете, когда захотите!
В телесерии "Следствие ведут знатоки" была вступительная песенка. Там о преступности в Советском Союзе были такие жалкие слова: "Кто-то где-то у нас порой честно жить не хочет..." Все, конечно, смеялись над этой песенкой. А я бы советовал желающим поставить себя на место авторов, которым было предписано цензором ни в коем случае не обобщать и придумать нечто такое, чтобы все поняли, что преступники в России редки, как евреи в Китае. Вот и покрутись! Лучшей частушкой на эту тему — не обобщать! — была такая:
Галка прыгает по ветке,
клоун писает в трусы,
а в отдельных магазинах
нет отдельной колбасы.
Не так давно, впервые на моей памяти, в советской печати промелькнул отголосок борьбы с цензурой. В "Литературной газете" появилось письмо поэта Дмитрия Сухарева, песню которого опубликовала "Неделя". Песня была о войне. В ней были такие слова:
Вспомним их сегодня
Всех до одного,
вымостивших страшную дорогу…
Поэт говорит о трагедии войны, стоившей жизни миллионам молодых людей страны. "Неделя", естественно, не может напечатать таких слов. Что значит "вымостивших"? Что значит "страшную"? Это противоречит указаниям цензуры: о войне — только оптимистичное! Цензор выбрасьшает строку Д. Сухарева и пишет свою: "...кто прошел военную дорогу". В песне было далее сказано:
Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята,
Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами.
Цензор тут же усекает слово "навечно". Как это навечно? Небольшая косметическая операция — и вот уже исчезло слово, которое несло главную смысловую нагрузку, нет больше погибших, а появилось: "С бритыми лихими головами". Об этом с горечью пишет в редакцию Дмитрий Сухарев. Самое удивительное, что это письмо было напечатано в "Литературке", хотя вина "Недели" здесь минимальная: из "редактуры" отчетливо вылезают уши цензора.
У Мариенгофа есть "Роман без вранья". Несколько лет назад мне довелось прочитать в "Новом мире" (№ 2, 3, 4 за 1980) как раз роман без вранья. Речь идет об "Альтисте Данилове" Владимира Орлова. Первую часть я прочел взахлеб. Язык, интонация, вкус, чувство юмора, особая музыкальность автора притягивали меня, как магнит. И речь в романе шла о... чертовщинке, с густым булгаковским налетом, но как же оригинально и сочно все начиналось! Герой романа демон Данилов, работающий на земле музыкантом, ходил по улицам, на которых я вырос, ездил в тех же номерах троллейбусов, жил в моем переулке. В книге
попадались имена моих бывших друзей, из чего я сделал вывод, что и сам автор мне хорошо знаком, не псевдоним ли это, Владимир Орлов? Я знал двух писателей Владимиров Орловых: один из них жил в Симферополе и писал чудесные детские стихи, которые с удовольствием читали и взрослые. Другой — бывший корреспондент "Комсомольской правды" — напечатал в свое время несколько повестей, но по языку, культуре, юмору, словесной теплоте они и рядом не стояли с "Альтистом Даниловым"! А может, это все-таки он? Писал, писал в стол, да и прорвался со своим, заветным. Как я ждал следующего номера с продолжением! И когда я дочитал до конца роман, я вдруг понял, что ничего не произошло, открытия не состоялось. Такая чудесная проза, такой взлет интеллекта и воображения, такая заявка на большую литературу! Все осталось нереализованным. "Альтист Данилов" оказался... ни о чем. Ну, скажем, почти ни о чем. Почему? Что помешало автору? Такой мощный замах, и такой слабый удар! Не торопитесь обвинить автора. Здесь есть две вероятности, и обе связаны с цензурой. Одна из них такая: роман очень понравился "Новому миру", но вот то, о чем он, — не понравилось. Потому что он, как я говорил выше, был без вранья. А если роман без вранья, он автоматически становится несоветским, он выпадает из русла, он сразу становится бичом режима. Потому что тема его — интеллигенция и общество. И редакция вырезает ножницами все, что так или иначе раскрывает тему. Роман полностью оскоплен. Затем товарищ Наровчатов, редактор тогдашнего "Нового мира", как мне видится, вызывает несчастного Орлова и говорит ему: "Либо так, либо никак!" При этом он убеждает автора, что верит в его талант, что в первом своем крупном произведении ему следует пойти на уступки, потому что второго может и не случиться, что он старался изо всех сил, но ведь, сами понимаете, нельзя, что и у него, когда он был помоложе, вот так же резали стихи, а потом, когда подошло время, они были напечатаны. А то, что осталось от романа, тоже очень, очень, очень неплохо, иначе он бы и не настаивал на публикации... И Владимир Орлов, в котором от ненависти останавливается сердце и кровь холодеет в венах, соглашается... Пусть уж так, а то сгниет все в ящике стола, пусть уж как заявка на будущее, как возможность того, что читатель и критик заметит, поймет. Ведь книга — как ребенок... Потом еще что-нибудь напишу... Проклятое время...
И выходит книга, похожая на колокол с вырванным языком...
А может быть, было по-другому. Я не могу себе представить, что человек, обладающий такой литературной культурой, как Владимир Орлов, не знал, о чем он пишет книгу. Что рука его, как это часто бывает, сама вела сюжет. Нет, верю я, что он знал, о чем, потому что тема эта — интеллигенция и общество, советское общество — так и лезет из каждой буквы "Альтиста Данилова". Что же остановило его? Самоцензура. Это она, проклятая, назойливым молоточком била в висок; "Не связывайся. Ведь знаешь, чем все может кончиться. Ты этого не только не сумеешь напечатать, но и упекут тебя в лагеря, а психушку. Ты же знаешь, что ты талантлив, ты же знаешь, что ты Мастер, чего же тебе еще? Кто этим может похвастаться? Носи в себе. Шали с ними. Уйди от этой страшной темы. Потом когда-нибудь изменятся времена..." И рука выводит слова, упругие, как пружина, гибкие, сочные, под стать литературе, и все правдиво, зримо, весело, а не то... Бедный, бедный Владимир Орлов!.. Кому из пишущих неведомы эти мучения, чья душа не обливается слезами при одном чувстве, что вот сейчас, на твоих глазах губится талант?
Кто же эти люди, цензоры? Кто эти палачи, отрубающие руки российской словесности? Что движет ими? Неужели они не понимают губительных последствий своей деятельности? Почему они защищают догматы иссохшей идеологии от тех, кто стремится творчески исправить ее ошибки?
Один из них сказал мне: "Чем ночь темней, тем ярче звезды. Не будь нас, засияли бы имена Платонова, Пастернака, Булгакова, Бабеля, Зощенко, Ахматовой, Есенина, Цветаевой? Не будь нас, валили бы вы на спектакли Любимова и "Современника"? Мы оттачиваем вашу мысль. Мы дисциплинируем ваше мышление. Мы заставляем вас находить новый, невиданный в мире способ самовыражения. Ну что бы делали твои сатирики и юмористы, если бы мы все разрешали? Что было бы в их произведениях, кроме набившего оскомину "долой советскую власть!"? А с нами они должны вынашивать свои репризы, гранить, как алмаз, свои афоризмы, чтобы и мы не придрались, и публика смеялась, вдумавшись во второй, глубинный смысл фразы. Посмотри, много ли на Западе таких острых философских карикатур, какие ты печатаешь? Много ли там талантливых сатириков, над которыми ты смеешься, как над нашими, доморощенными? Все у них, на Западе, на поверхности. У нас же все в глубине, в подтексте, в душе. И все благодаря нам!"
Цинично, конечно. Но и не глупо. Ибо писатель наш настолько привык, что его не пропустят, что и мыслит уже цензурными категориями. И убери сегодня инквизиторскую руку цензора с его шеи, сумеет ли он перестроиться и тут же выдавать на-гора честные, талантливые и правдивые произведения?
Цензоры — не вурдалаки, не упыри, не монстры. Они чиновники, служащие. Работа у них такая. И забота у них простая: жила бы страна родная, и нету других забот. Им поручено, чтобы страна родная жила спокойно. Без потрясений. Без брожения умов. Без словесности, которая может угробить государственность.
И движет ими тот же страх, что и всеми советскими людьми. Страх, что что-то пройдет в печать, и его прогонят. Это липкий, навязчивый, холодный страх. Он так глубоко сидит в каждом, что партия давно уже
провела эксперимент: она переложила цензурные функции на плечи редакторов. А те, в свою очередь, на плечи авторов. И эксперимент прошел очень удачно. Теперь общество живет по завету Салтыкова-Щедрина: "Интеллигент! Не самодонесись!"
Самоцензура! Каким смелым и искренним ты делаешь человека!
Однажды в начале семидесятых годов "Литературная газета" проводила читательскую конференцию в Библиотеке Ленина. Все мы вставали и рассказывали о планах своих отделов, поэты читали стихи, юмористы — хохмили. Все было как обычно. Потом пошли записки и ответы на них. Я сидел за А. Б. Чаковским. Записки читал его заместитель В. Б. Сырокомский. Одну из записок он показал Чаковскому. Я из-за плеча прочел. Там было написано: "Почему вы не печатаете Солженицына?"
Разорвать? — спросил Сырокомский.
Зачем же? — сказал Чаковский. — Я отвечу. Учитесь. Он встал и сказал:
—Вот сейчас пришла записка. Правда, без подписи. Анонимная записка. Тут спрашивается: "Почему вы не печатаете Солженицына?" Вообще-то в нашей советской жизни не принято отвечать на анонимные за- писки. Я обычно свои подписываю. Так уж водится у порядочных людей. Конечно, можно было бы и не отвечать. Но, может быть, человек просто забыл поставить свое имя? Кто это написал?
Никто не встал.
—Вот видите, — продолжал Александр Борисович, — такие уж у нас смелые "революционеры". Они ставят острые вопросы из-за угла, что бы их самих не было видно. Но я все же отвечу на этот вопрос.
Видите ли, когда Солженицын написал "Один день Ивана Денисовича", я, как и вся наша партия, был за его публикацию. В этом произведении правильно ставился вопрос об ошибках, допущенных в годы культа личности. Но с тех пор Александр Исаевич написал немало других произведений, которые совершенно с других позиций оценивают нашу с вами жизнь. Он стал, не побоюсь этого слова, врагом нашей партии и демонстрирует это в каждой своей книге. Вы их не читали, товарищи, а я читал! И утверждаю, что это произведения, враждебные нашему строю, моей стране и моей партии. Ответьте же мне, могу ли я, как член партии, поставившей меня руководить газетой, печатать произведения, с которыми в корне не согласен? Почему я должен печатать писателя, поднимающего руку на мою партию? Я не против того, чтобы Солженицын отнес свои м-м... произведения в любой другой орган печати. Быть может, найдется редактор, разделяющий его взгляды. Пожалуйста, на здоровье! Но я не хотел бы видеть в моей газете произведения человека, чьи взгляды вызывают у меня отвращение!
Раздались бурные аплодисменты. Читатели по достоинству оценили смелость и искренность Александра Борисовича.
Чаковский вернулся на свое место за столом президиума и, улыбаясь, сказал Сырокомскому:
— Понятно? Вот так с ними нужно. Учитесь.
Совсем забыл: в нашей редакции было два буфета: один — для А. Б. Чаковского, а второй — для всех.
ЭССЕ О БУТЫЛКЕ
Как это ни странно, молодость моя, в отличие от молодости многих моих товарищей, прошла в относительной трезвости. Мы росли в послевоенное время, возле нашей школы была пивная "Стрелка", куда мы часто заглядывали после уроков, чтобы принять свои сто грамм. Мы были уже большие — восьмой, девятый, десятый класс, а буфетчица Клавка знала, что отказывать нам по малолетству нельзя, потому что эти "малолетки" с Переяславки способны на все.
Мы пили гадкую теплую "Московскую" по два восемьдесят семь на сэкономленные от завтраков деньги и долго куражились в Безбожном переулке, пугая прохожих и обижая девочек, которые для нас были выходцами из другого мира, совсем нам недоступного: школы были разделены, и мы, грубияны, учились в мужской. Мои товарищи шли прямой дорогой в стан хронических алкашей. Они не возражали: и отцы их, и соседи жили темной пьяной жизнью, которая засасывала и детей. И я не отрывался от компании. Как все, так и я. Но мне помог случай.
Когда мне исполнилось семнадцать, я учился в девятом классе. Моя двоюродная сестра Нюся выходила замуж, и мы с папой и мамой пошли на свадьбу. Там набилось больше ста родственников и друзей новобрачных. Для молодежи накрыли отдельный стол. Квартира, где проходила свадьба, была небольшая, удивительно, как мы все там расселись в двух маленьких комнатах. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде.
Напротив меня за "молодежным" столом сидел взрослый парень, лет двадцати, по виду студент. Я его не знал, он, скорее всего, был со стороны жениха. Ну а я, значит, со стороны невесты, Нюси. Парень сурово поглядывал на меня через батареи бутылок, выставленных на столе, потом спросил:
Пьешь?
Пью, — скромно сказал я.
Меня перепьешь?
Тебя перепью, — сказал я, оценивая противника.
Давай стакан, — приказал он и налил до краев.
Я немного растерялся, потому что стакан — это примерно 250 грамм, а чего ж напиваться до свадьбы?
Потом я понял, чего это он разошелся. Он хотел произвести впечатление на девочку, сидевшую за нашим столом. Студент, мужественный такой. Откуда ему знать про пивную "Стрелка" на Переяславке, где я тренировался вот уже два года? Он налил себе и покровительственно сказал:
— Давай, сынок. За здоровье молодых.
Я осушил свой стакан в два глотка. Он пил медленно, глядя в глаза той девочки. Мы закусили соленым огурчиком.
Пойдем по второму? — спросил он. — У нас ведь спор, кто первый упадет.
Я не упаду, — сказал я. — У меня опыт большой. Может, хватит?
Испугался? — сказал он презрительно. — Желторотики, а еще берутся спорить со взрослыми.
Давай, — сказал я. — Наливай.
Водка уже ударила в голову. Молодежный стол молча следил за нашим поединком.
—Не надо, — сказала та девочка. — Очень ведь противно.
Он налил мне снова полный стакан. А себе налил то, что называлось "ершом": водки, вина, пива, еще какой-то бурды. Пить было отвратительно, в голове стоял треск, лица мешались и исчезали, подходила тошнота. Я тянул водку из стакана сквозь стиснутые зубы, пока не увидел, что он упал. Его скосило. И я потерял сознание.
Я очнулся через два дня. Возле меня на кровати сидела мама с заплаканным лицом и держала в руке рюмочку водки.
На, на, паразит, — говорила она, — мучитель мой, откуда ты взялся на мою голову! Ты хочешь, чтобы я умерла, хулиган, пьяница.
А где тот студент паршивый? — сказал я заплетающимся языком.
О, еще одна болячка на голове у родителей, — сказала мама. — Его таки отвезли в институт Склифо-совского с острым отравлением. Лучше уж ты бы туда попал, несчастье мое! Выпей, тебе легче будет.
И она поднесла к моему носу рюмку. Я почувствовал гнусный сивушный запах и опять потерял сознание.
С тех пор я не мог выносить водочного запаха.
Все удивлялись мне. Многие перестали со мной дружить. Какой во мне толк, если я портил все компании? Все пьяные, я один трезвый! Кому это интересно? Но я не мог себя пересилить. Я перешел на коньяк. Он был в два раза дороже, поэтому ежедневные попойки прекратились. Коньяк пьют не стаканами, а рюмками, потому и количество выпитого резко уменьшилось.
В студенческой компании это еще проходило, но в рабочей — с трудом. Если ты работаешь на предприятии начальником цеха, то со своими мастерами и рабочими ты можешь говорить только при содействии бутылки. Количество работы измеряется числом бутылок.
Хочешь заработать на бутылку? — спрашиваешь ты.
Ну кто же не хочет? — откликается он.
И ты просишь его остаться на часок-другой после работы и закончить заказ. Обычно в конце месяца, когда нужно было дотянуть "план", ты выставлял поллитровки и четвертинки и знал, что переходящее красное знамя за выполнение месячного или квартального плана у тебя в кармане, потому что все будет сделано и наутро уборщица тетя Маруся отнесет пустые бутылки в приемный пункт, а на вырученные деньги купит полную бутылочку, которую ты и разопьешь с героями-мастерами цеха, самоотверженно потрудившимися во славу переходящего красного знамени, пылящегося в углу и знаменующего собой прогрессивку и, следовательно, новые поллитровки.
Но ведь я не пил! Я страшно им завидовал, но пить не мог: запах водки меня доканывал. А как отказаться? Кто будет работать с таким начальником, который брезгует пить с рабочим классом и ведет себя, как еврей!
И я шел на всякие увертки, включая бутылку с водой, которую я выпивал, кряхтя и морщась, и закусывал желтым соленым огурцом или занюхивал черной корочкой хлеба. И рабочие мои уважительно переглядывались: во начальничек, пьет, как лошадь, и ни в одном глазу!
Большие трудности подстерегали на демонстрациях и вечерах, посвященных революционным праздникам. Как известно, эти мероприятия устраиваются специально для того, чтобы трудящийся мог как следует выпить, то есть повеселиться. А то пройдет мимо Мавзолея с постной рожей, как потом объяснить продажной заграничной прессе, что он энтузиаст, обожающий свою власть и своих вождей? Поэтому на Красную площадь пролетарий и студент приходят уже после сквериков и подъездов, где уже много раз, разделившись на боевые тройки, они опустошали заветную. Говорят, что в связи с удорожанием водки теперь пьют не "на троих", как встарь, а "на четверых", что несколько обидно, потому что всегда легче найти "третьего" ("эй, малый, третьим будешь?"), чем "четвертого", да и стаканов нужно больше, а где их взять?
В литературной среде, где мне потом пришлось подвизаться, пили не меньше. Здесь были свои чемпионы, особенно среди знаменитых. Были писатели, которых никто и никогда не видел трезвым. У меня было несколько друзей, с которыми я никогда не садился в их машину, если они были трезвыми: они умели вести машину только тогда, когда были "под парами". Пили мы все — они свою водку, а я свой коньячок — не от хорошей жизни. То есть, конечно, и от хорошей тоже, потому что водка в ресторанах дорогая, и на нее надо много денег, а они у писателей иногда бывали. Но выражение "не от хорошей жизни" надо понимать таким образом, что творческий человек в России все время чувствует себя должником общества, а оно, общество, все время призывает его к священной жертве: выражать не себя, а это самое передовое и самое прекрасное общество. Оно похоже на старую подкрашенную потаскуху, которая непрерывно требует от клиента восхваления ее красоты и сексуальности, угрожая в ином случае отказом в ласках. Поскольку в этом публичном доме других девушек нет, клиенты выстраиваются в длинную очередь и стараются ублажить старую. За что и пользуются ее расположением. Разумеется, все это связано с расстройством нервной системы, нравственной опустошенностью и физическим упадком, и писатель находит утешение в вине, то есть в водке. А те, кто не пьют водку, — в коньяке.
Поэтому в Доме литераторов всегда можно найти людей немного выпивших, здорово поддающих, не просыхающих, накерявшихся и мертвецки пьяных.
Правые там сидят с правыми, левые — с левыми, талантливые — с талантливыми, а бездарные — с кагебешниками.
Иногда по залу проходит парикмахер Моисей, лысый, кругленький человек, чьи байки любят пересказывать литераторы. Вот парочка баек парикмахера Моисея:
"Однажды я стриг Валентина Петровича Катаева. Очень колючий писатель. Не любит общаться с простыми людьми, с парикмахерами. А какая нам радость от работы с интеллигенцией'? Хороший душевный разговор. Я работаю ножницами и говорю ему:
— Валентин Петрович, это правда, что вы были в Риме?
И подстригаю ему сзади, знаете, чтоб был незаметный переход от шеи к затылку. Он бурчит под нос:
— Был, был. Я говорю:
—Говорят, не знаю, правда ли это, что когда вы были в Риме, так вы зашли к Папе Римскому?
И делаю ему височки. Он бормочет:
Правда, правда.
И говорят, — говорю я ему, — что когда вы были у Папы, то вам пришлось встать на колени...
И убираю у него лишнее со лба. Он раздраженно говорит:
Ну, вставал, так и что?
И когда вы встали на колени, то, говорят, Папа положил вам руку наголову...
Ну?..
И что он сказал, когда положил вам руку на голову?
И тут Катаев, этот колючий человек, закричал на всю парикмахерскую, а у меня в приемной люди:
—Когда он положил мне руку на голову, он спросил меня: "Катаев, кто это вас так плохо стриг?"
Ну я вас спрашиваю, красиво это, при всех клиентах так унизить Папу?"
Другая история парикмахера Моисея:
"Во время НЭПа я очень чисто ходил. На мне были галифе, френч, краги. Все думали, что я работаю в ЧК. Но у меня была своя парикмахерская. И я был молодой, кудрявый. И у меня была своя ложа в театре оперетты. Ой, я любил оперетту! И я брал туда дам. Дамский мастер всегда имеет много дам. Мужья у них ответственные хозяйственники, а дамы, знаете, скучают. Я ходил тогда очень чисто, высокий, молодой. И я взял тогда одну даму в ложу. У меня была своя ложа. Давали "Баядеру". Помните: "О Баядерка, ламца-дрица, ла-ла"? Нет, это была "Сильва"! "Красотки, красотки, ламца-дрица, ла", помните? И мы сидим, и я вижу, что она меня желает! Я тогда очень чисто ходил. И я закрываю занавески в ложе, и мы с ней предаемся любви. Во втором акте она сидит такая томная, разомлевшая, таки и пышет, и говорит мне:
—Моисей, — говорит она, обмахиваясь веером, — Моисей, с чего начался наш роман?
—Как с чего? — отвечаю я. — С полового акта! Как они любят крутить, эти дамочки!"
Рассказав эти истории в стотысячный раз, парикмахер Моисей раскланивается и важно идет по проходу к себе в парикмахерский закуток в Доме литераторов.
Конечно, мы крепко выпивали и в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты". Отвертеться от этого не было никакой возможности. Судите сами: чем мог автор отблагодарить редакцию за то, что его произведение было отобрано среди сотен других и напечатано в самом "Клубе ДС"! Поэтому с утра начиналось шествие тех, кто уже был напечатан, будет напечатан, хотел бы напечататься и никогда не будет напечатан. Каждый из них, преодолевая некоторое смущение, открывал портфель, чемоданчик, саквояж, авоську и доставал бутылку коньяку, приговаривая: "Ну как же не отметить в кругу родных такое удивительное событие!" Я делал страшные глаза и железным тоном требовал прекратить взяточничество в отделе, угрожая, что если бутылка немедленно не будет убрана с глаз моих, то ни о какой публикации в будущем вообще не может быть речи. Что это такое, в самом деле! Безобразие! Хотите споить наш и без того спаянный коллектив? Мерзавцы какие!
Но авторы смотрели такими преданными глазами, которые в момент наиболее жестоких моих филиппик наливались слезами, что отказать им не было никакой возможности. Тем более, что один из моих сотрудников, В. Р., ласково забирал очередную бутылку и говорил: "Илья Петрович, не будьте таким жестоким. Автор от чистого сердца хочет выразить свое восхищение вашей мастерской редакторской работой, позволившей превратить его детский лепет в гениальное произведение искусства, достойное нашей славной страницы. Чем еще он может отблагодарить? Не деньгами же? Да вы и не позволите, чтобы вас так бессовестно подкупали. А бутылочка коньяка, распитая вместе, знаменует гораздо больше, чем благодарность. Она сближает родственные души, делает нас единомышленниками, заставляет смотреть в будущее. Верно я говорю, товарищ?" Ах, льстец!
И автор клялся, что В. Р. абсолютно прав, что ни о чем другом он и не помышлял, просто он знает, что Илья Петрович водки не пьет, а... Тут автор окончательно запутывался, и мне ничего не оставалось, как строго сказать: "Чтоб это было в последний раз!", и принять угощение.
Пустые бутылки ставились на полки в моем кабинете. Когда их становилось достаточно, В. Р. бегал в магазин и обменивал их на полную. Мы пили каждый день. Это называлось "снять напряжение". Потом однажды Никита Богословский прилетел из-за границы и привез су-венир — бутылку заграничного коньяка. Надо сказать, что советские бутылки отличаются своей незамысловатостью. Они все одинаковы и не представляют собой эстетической ценности, Они греют кровь, но не глаз. Эта же, зарубежная, бутылка, поставленная после ее распития на полку, была хороша не только по содержанию, но и по форме. Она выделялась среди советских собратьев, как принцесса в толпе хануриков из Останкина, а так как зарубежные бутылки в магазинах не принимались, то так она там и осталась. Поэтому на полках со скоростью геометрической прогрессии стали расти батареи пустых бутылок из-под виски, скотча, бренди, вина, джина, водки — посланцев доброй воли из-за рубежа. И, скажу вам, это было красиво! Поставленные рядом на полку, эти бутылки совершенно преображают канцелярское убожество редакционного помещения, создают некую праздничность, обычно ассоциирующуюся в России с шикарной заграничной жизнью.
Однажды в мою комнату заглянул директор нашего издательства, старик Медведев. Он был очень славный, любил нас и даже подарил нам большой телевизор, который мы иногда включали, чтобы заглушить пьяные выкрики писателей и художников, отмечающих очередную публикацию.
Старик Медведев изумленно смотрел на стенные полки, сплошь уставленные бутылками, и сказал:
—Илья, это очень красиво, но все-таки неудобно. Ведь люди могут подумать, что вы все это выпили!
Я сказал ему:
—Отец, как это можно себе представить? Как можно выпить пятьсот бутылок, выставленных здесь? Кому это может прийти в голову?
Старик Медведев оглядел моих притихших коллег и авторов, стыдливо прячущих глаза, и сказал:
—Конечно, это невозможно! Но вдруг подумают? Но как же это красиво! Убери это, будь другом.
И мы роздали эти бутылки коллекционерам. Были такие, кто собирал иностранную посуду. Некоторые переливали содержимое советских бутылок в иностранные и радовали гостей, восклицавших: "Вот это да! Вот это вкус! Не то, что наше дерьмо!" Из чего следует вывод, что форма часто важнее любого содержания. Что несколько оправдывает в наших глазах искусство, далекое от социалистического реализма.
Я однажды чуть не женился на барышне, в доме которой я обнаружил батарею заграничных бутылок. И представьте себе, все они были нетронутыми! Даже не знаю, что меня в тот раз удержало. А так бы — прямо под венец с такой замечательной коллекцией!
Сейчас, оглядывая иногда свой бар, я вижу в нем кучу тех самых бутылок, которые украшали мой кабинет в "Литгазете" в начале 70-х годов. Они стоят нераспечатанные, ждут очередных гостей, такие несчастные и заброшенные. А в Москве невозможно устроить такой бар. Почему?
Однажды я получил какой-то шальной гонорар, рублей двести. Я на эти деньги не рассчитывал и потому решил осуществить заветную мечту: забить бар моей "Хельги" заграничной выпивкой. Я мечтал, что приглашу друзей, открою бар, услышу восхищенное "ох!", и мы, удобно развалившись в креслах, будем сидеть за рюмочкой, обсуждая события международной политики и последние литературные новости.
Я пошел к другу, директору гастронома не-скажу-где (потому что он там еще работает), и он по блату продал мне все эти бутыли, бутылки и бутылочки. Много. На все двести рублей.
Пришли друзья, сказали свое "ох!". Их было трое. Ну и я четвертый.
Вы уже поняли, что случилось. В четыре утра я решил последний раз провозгласить тост, который звучит во всех интеллигентских домах: "Чтоб они сдохли!" За этот тост не сажают, потому что он не имеет прямого адреса, хотя все знают, кого именно советская интеллигенция имеет в виду. И что же? Мой бар был пуст! Мы выпили все! Вот проклятые! А я-то старался! Нет, положительно нельзя обзавестись баром в России!
Право же, обидно...
И БИТВЫ, ГДЕ ВМЕСТЕ...
Я попал в "Литературную газету" совершенно случайно. То есть, конечно, некая цепь событий этому предшествовала, но поскольку никаких закономерностей в Советском Союзе быть не может, то все выглядело как чистая случайность. Ну, посудите сами.
Начать, конечно, можно издалека, года этак с 1952, когда в Московском полиграфическом институте мы с Юликом Бидерманом устроили эстрадное обозрение. По тем временам это было событие важное и интересное, но чем же еще нам было заниматься в Полиграфическом, куда нас приняли за год до этого в связи с тем, что в другие институты и университеты путь нам был заказан из-за проклятого "пятого пункта". Мы понятия не имели о нашем будущем и решили вовсю отдаваться настоящему. А поскольку Юлик умел играть на рояле и аккордеоне, а я умел писать куплеты и студенческие шутки, то мы и объединились, и слава о нашем обозрении гуляла по всей студенческой Москве.
Потом у нас появились конкуренты — и опасные — в лице студентов Второго медицинского института. Их эстрадное обозрение было даже лучше нашего, в чем мы, конечно, не хотели признаваться. А если взглянуть на афишу их тогдашнего обозрения, то становилось темно в глазах — там не было ни одной фамилии с окончанием на "ов" или "ин", а наоборот, встречались такие плохопроизносимые по тем временам фамилии, как А. Аксельрод, А. Ваза, О. Минскер, Г. Долгопятов (не обольщайтесь, он тоже), А. Штейнбок (впоследствии Арканов), Г. Офштейн (впоследствии Горин) и другие, очень смешные и талантливые люди. И мы, конечно, стали друзьями.
А потом Центральный дом работников искусств (ЦДРИ) вдруг решил устроить свой собственный эстрадный ансамбль, куда вошли бы представители лучшей студенческой и рабочей самодеятельности Москвы, и был объявлен конкурс в этот ансамбль. И мы с Бидерманом пошли на конкурс. Мой Бог, что это было! Туда, оказывается, хотели попасть все! И конкурс был в три тура! И в жюри сидели и Утесов, и Набатов, и Смирнов-Сокольский, и Рина Зеленая, и кто там не сидел!
У нас с Бидерманом был довольно противный номер: мы в своем обозрении пародировали знаменитых артистов эстрады тех времен: Рашида Бейбутова (это умел Юлик), Утесова (это делал я), Шурова и Рыкунина, и еще кого-то, кого я забыл. И члены жюри с гримасами отвращения слушали этот наш тихий (как я теперь понимаю) ужас. И — вы будете смеяться! — нас все же туда приняли. И вместе с нами целую ораву способных людей, многих из которых вы теперь знаете, потому что все они стали знаменитыми артистами. Среди нас были: Илья Рутберг, умевший делать пантомиму и очень смешно изображавший студента, который сдает экзамен по шпаргалке незадачливому профессору; Савелий Крамаров, тихий еврейский мальчик, который лихо изображал хулиганов; Майя Кристалинская, Гюли Чохели, Майя Булгакова, А. Некрасов, певший песни Ива Монтана; квартет "Четыре Ю", квартет "Аккорд" и квартет "Советская песня", негритянский артист Геля Коновалов (его папа был негром, но это все, что отличало его от русского), он был пантомимистом; красивые девушки, которые вели нашу программу (что с ними стало?); танцевальная группа и джаз. Вот джаз наш был великолепен! Тут были и Гаранян, и Зубов, и Капустин, и Бахолдин, и Журавский, и Салганик, всех и не упомнишь, но все — замечательные музыканты! И руководили ими молодые тогда Борис Фиготин, Юра Саульский и В. Людвиковский. Не могу не упомянуть в этой связи заслуги тогдашнего директора ЦДРИ Б. М. Филиппова и его помощника Э. С. Резниковского.
И наш ансамбль — "Первый шаг" — просуществовал аж до 1957 года. В этом году в Москве случился Всемирный фестиваль молодежи, где нашему ансамблю дали золотую медаль. А потом его закрыли! В газете "Советское искусство" появилась статья М. Игнатьевой (вот память!) "Стиляги от музыки", и все было кончено! Но все эти годы мы прожили хорошо и весело. Мы писали программы для своего ансамбля и для эстрады, писали песни, заканчивали институты и уже работали по специальности, за исключением тех, кто твердо решил остаться на сцене (см. выше). А я решил на эстраде не оставаться, потому что был умный и думал, что в мире достаточно одной пары нашего с Юликом амплуа (Шурова и Рыкунина), и второй будет уже многовато. Я тогда решил, что лучше писать свое, чем исполнять чужое. А Юлик поступил иначе. Он уехал в родной Сухуми, стал там режиссером, поставил кучу пьес и эстрадных спектаклей, получил звание заслуженного артиста Абхазской АССР и теперь, как мне говорили, снова работает в ЦДРИ режиссером-постановщиком у нового поколения молодых эстрадных энтузиастов, как и мы, осевших в этом клубе интеллигенции.
* * *
А я, проработав пять лет в типографии "Детская книга" в Москве, вдруг поступил на работу в редакцию журнала "Юность" заведующим редакцией. (Об этом желающие могут узнать из моих бессмертных произведений, напечатанных в разных эмигрантских изданиях и собранных в моих книгах).
Но давайте поближе к "Литературке". Я ведь немного рассказал о, своем веселом детстве, чтобы было понятно, откуда есть пошло все это. И в "Юности" я познакомился со всем поколением поэтов и прозаиков шестидесятых годов, и некоторые из них даже удостоили меня своей дружбой. А потом я очутился в журнале "РТ" — самом странном журнале в мире, потому что им руководил ныне покойный Б. И. Войтехов. Об этом человеке я уже написал рассказ "Тамань", и он вошел в мою книжку "Рассказы о товарище Сталине и других товарищах". Скажу только, что однажды этот рассказ решили перевести и предложить журналу "Ти-Ви гайд". Но редактор этого журнала посчитал, что такого человека, как Войтехов, не было, нет и быть не может по той простой причине, что ну как же это может быть! И рассказ по-английски не напечатали. А жаль. Я люблю, когда меня печатают по-английски и на других несвойственных нам языках. Ну и ладно, им же хуже.
Когда журнал "РТ" разогнали, я уже работал в радиокомитете. И у меня была замечательная должность: старший редактор Объединения приключений и фантастики Центрального телевидения. Представляете? Сиди себе и экранизируй приключения. И научную фантастику. Рей Брэдбери. Кларк. Стругацкие. Уэллс. Дюма-отец. Дюма-сын. Брежнев. (Нет, это совсем уже фантастика.)
Но до того, в том проклятом "РТ", под моим началом служил здоровенный рыжебородый парень Витя Веселовский, человек хороший и жизнелюбивый. Он в свое время женился на дочери адмирала флота Харламова, ведавшего когда-то ленд-лизом от Советского Союза, вступил в партию и мог в связи с этим возглавлять отделы, организации и учреждения. И когда разогнали "РТ", он пошел служить в только что организованную новую "Литературную газету", выпускаемую вместо старой газеты с таким же названием. И он позвонил мне и сказал: "Ну что ты сидишь на своих приключениях? Идем со мной работать в новую "Литературку". Они хотят устроить отдел сатиры и юмора. Я буду зав, а ты зам. Ты же сам знаешь, что не так страшен зав, как его зам. Но я сознательный и партийный, а ты... Сам знаешь, кто ты".
Теперь вы понимаете, почему я припомнил эстраду, и "Первый шаг", и все такое? Чтобы вы уловили связь между отделом сатиры и юмора "Литгазеты" и моим прошлым.
Я ему сказал:
Витя! Я еврей, но беспартийный. Кто ж меня такого возьмет?
Берут! — убежденно сказал Витя. — Набивают вашим братом всю редакцию. Говорят, что газета должна быть настоящей. И профессиональной.
Ну тогда другое дело! — сказал я. — А как же Чаковский на это смотрит? Ему же в ЦК печенку вырвут.
А Чаковского никто и не знает. Все дела ведет Виталий Сырокомский, его первый зам. Он из "Вечерки" пришел. На анкету не смотрит, смотрит только на деловые качества.
Он не псих?
Не знаю. Я о тебе говорил. Он просил зайти.
Это было в декабре 1966 года. Газета должна была выйти 1 января 1967.
Я пошел к Сырокомскому. В приемной уже сидел Витя. Он был трезвый и собранный. Мне дали анкету. Я заполнил. Ничего хорошего я не ждал. И не очень волновался, потому что у меня была работа. Помните? Фантастика... Приключения...
За столом сидел невысокий плотный молодой господин в золотых очках. Не поднимая глаз, он сказал:
—Мне о вас много говорили. Говорили, что вы хороший работник. Нам нужны хорошие работники. Вы приняты. Надеюсь, вы не подведете нашу газету. До свидания.
Я был поражен. Вот это стиль! Наверное, в Америке так разговаривают руководители корпораций с нанимаемыми служащими. Где это он так наблатыкался?
Это все? — спросил я. — А зарплата какая? А должность?
В нашей газете это не главное! — отрезал он. — Главное —любовь к делу и энтузиазм. Мне говори-ли, что вы энтузиаст. Зарплата будет хорошая. Должность — заместитель заведующего отделом.
Я вышел. Виктор остался. Наверное, в эту минуту Сырокомский взял мою анкету, потому что я услышал:
Это что такое? Почему вы мне не сказали? Ну что же это такое?
Так вы ж меня не спрашивали! — оправдывался Веселовский. — Вы ж говорили — "по деловым качествам"!
Слушайте, — нервно говорил Сырокомский, — у нас же явный перебор! Да и фамилия у него совсем ни о чем не говорит! Как же я мог подумать? Мне же голову оторвут. Скажут — свивает гнездо.
Про него не скажут, — убеждал Веселовский. — Да и поздно уже! Вы ж его приняли!
А он вам нужен?
Вы даже не представляете как!
А другой у вас есть?
Я сунул голову в дверь и сказал:
А другого у него нет. Кто ж это умеет делать целую страницу сатиры и юмора в неделю? Вы шутите...
Почему это "целую страницу"? — испуганно спросил Сырокомский. — Где это видано — целую страницу?
Вот и я то же говорю... Вы не смущайтесь. Нет — так нет. Я привык.
Ничего подобного! - сказал он. - Если я сказал "приняты", значит, приняты. Завтра выходите на работу.
* * *
И мы с Витей стали делать страницу сатиры и юмора. Но чем ее наполнить? Где взять столько материалов? К кому обращаться за помощью? Все более или менее известные сатирики собрались у кормушки журнала "Крокодил", который уже давно набил у меня оскомину своими утвержденными в ЦК штампами. И я решил пойти по известному мне пути: найти самодеятельных авторов, способных стать профессионалами. Многих из них я знал еще по работе в журнале "Юность" и по еще более старым самодеятельным институтским обозрениям. Я предложил сотрудничество Марку Розовскому из университетской студии "Наш дом", который в свое время прославился смешным фельетоном "Сочинение про бабу Ягу", А. Арканову и Г. Горину, много и смешно писавшим для эстрады, Л. Измайлову из эстрадного обозрения МАИ. Пришел однажды инженер В. Владин и принес пародию, очень мне понравившуюся, да так и остался на диване в моем кабинете. Я очень рассчитывал на умных и известных литературных критиков Л. Лазарева, В. Сарнова и С. Рассадина, которые, по слухам, стали писать пародии. Конечно же, я надеялся на таких талантливых фельетонистов, как Л. Лиходеев и 3. Паперный. А из старой гвардии сатириков больше всех ко двору пришлись замечательные В. Бахнов и В. Лифшиц. И для начала это было очень неплохо.
Название "Клуб 12 стульев" родилось как-то сразу и сразу было утверждено. Мы с Веселовским придумали себе дурацкий псевдоним "Администрация "Клуба ДС", потому что думали, что будем жить вечно, а будущие историки литературы впоследствии разгадают, кто это скрылся за столь бюрократическим псевдонимом и почему. А потом я сказал:
— Народ — творец истории. Стало быть, народ нам все и натворит. Надо его подтолкнуть, и он нас засыплет своей сатирой и, грубо говоря, юмором, а мы лишь будем отбирать лучшие образцы и тискать их на страницу. Это я называю связью с народом. И тогда мы не будем страшно далеки от народа и не превратимся в декабристов и интеллигентов.
И мы придумали несколько рубрик, приглашающих читателей к творчеству на ниве сатиры и юмора. Это были: стенгазета клуба "Рога и копыта", где высмеивались газетные штампы, псевдозанимательность и псевдосенсации советской прессы; "Бумеранг" — ответы редакции графоманам (жанр не новый, его лихо практиковал "Сатирикон" до революции, но он давал возможность поострить и пошалить. Иногда письма читателей придумывались в редакции и подгонялись под хороший ответ, но вреда от этого никому не было, кроме одного раза, о котором я расскажу ниже); "Фразы" — любимый мой жанр афоризмов (места занимает мало, а сказать можно много); "Фотоателье" (Что бы это значило?), куда одни читатели присылали смешные фотографии, а другие — давали под ними подписи. И ряд других рубрик, которые я называл читательскими играми. И читатель нас понял и забивал наш отдел письмами, только успевай просматривать и отбирать лучшее.
Потом мы решили создать некий персонаж типа Козьмы Пруткова, который бы олицетворял серость, пошлость, мнимую многозначительность и бесталанность среднеарифметического советского писателя-соцреалиста. Можно было бы придумать ему смешное имя — вроде Нила Литературкина или что-нибудь в этом роде, но потом решили, что имя у этого персонажа должно быть простым, как жизнь, как сама советская литература: Василий Федоров, Владимир Фирсов. Михаил Шолохов, наконец. (Очень мы недолюбливали последнего за его бандитские речи и хулиганские выступления и не верили, что этот человек мог написать "Тихий Дон".) И пришел Марк Розовский и сказал:
— Фамилия ему предлагается Евгений Сазонов. Простенько, но со вкусом. И это имя будет нарицательным. И роман он пишет не "Тихий Дон", а "Бурный поток". И никто не догадается. Вот начало этого романа века: "Шли годы. Смеркалось. В дверь кто-то постучал. — Кто там? - спросила Анна, не подозревая, что ее ждет впереди. (Продолжение следует)". А завтра я напишу продолжение.
* * *
И так пошло. Мы из номера в номер печатали творения нашего "душелюба", женили его, отправляли в командировки на Запад, печатали его стихи, раздумья и мысли, И многие думали, что это живой человек, потому что на моей двери висела табличка: "И. П. Суслов, Евг. Сазонов". Но настоящий читатель отлично видел, кого пародировал этот персонаж, и разделял наше мнение. В моем кабинете скопился целый музей подарков от советского народа Евгению Сазонову, наподобие музея подарков сами-знаете-кому. Чего тут только не было! И чайник в виде утюга, и вечный двигатель с табличкой "на ремонте", и десятки остроумнейших, совершенно бесполезных вещей.
Но однажды я все-таки попался. На Шолохове. Я уже говорил про "Бумеранг". Там можно было найти безобидные, но смешные ответы читателям, типа:
Москва. П. О. Ни-ву.
Я купил с позолотою брошку,
Приколю тебе к теплой груди.
—Попробуйте сначала приколоть к своей... В 1967 году появилось такое:
Ростов. М. А. Ш-ву.
От лица передовой общественности требую: закройте "Бумеранг"!
— А где вас будут печатать?
На следующий день меня вызвал зам. главного редактора Артур Сергеевич Тертерян (ныне покойный) и сказал:
Это все. Боюсь, что ваша карьера, Илья, кончилась. Получите волчий билет. Допрыгались?
Что случилось, Артур Сергеевич? — спросил я, точно зная, что случилось.
Сейчас по вертушке звонил секретарь Ростовского обкома партии. Он спросил, чья это провокация? И кто это осмелился травить Шолохова? Чаковский сказал, что сейчас это проверит и доложит. Вы зачем это сделали?
Какой Шолохов? При чем тут Шолохов?
Тертерян с сардонической улыбкой показал мне "Бумеранг": "Ростов. М. А. Ш-ву".
Артур Сергеевич, — сказал я, — это письмо из Ростова от Моисея Абрамовича Шапирова. Какие инициалы я должен был поставить? И потом — Шолохов живет в Вешенской, а не в Ростове. В-третьих, почему я должен думать, что Шолохов — такой занятый человек — будет читать нашу несчастную страницу?
Где письмо?
Какое письмо?
Этого вашего шлимазла из Ростова.
Сейчас принесу! Это же уму непостижимо, вот так просто обвинить человека! Сразу — Шолохов, Шолохов! При чем тут Шолохов? — орал я, вылетая из кабинета. Никакого письма у меня, конечно, не было. Всю эту гадость с Шолоховым я придумал от начала до конца. Я тогда думал, что это очень умно и находчиво.
Все письма, приходящие в редакцию, попадают в отдел писем, где они тщательно регистрируются, читаются и лишь затем пересылаются в отделы, куда они адресованы. Крамольные письма, а их очень много (ну, скажем, в защиту Солженицына, Сахарова, про нехватку продуктов и ненормальные условия жизни, откладываются и передаются сотрудникам КГБ, специально приезжающим в каждую редакцию раз в две-три недели для чтения таких писем и принятия мер по месту работы и жительства. Некоторые наивные читатели под такими письмами ставят свои адреса и должности. Считайте, что они на учете или давно пропали. Анонимки тоже тщательно изучаются, и их посланцы не могут рассчитывать на безнаказанность: их все равно поймают. Так это, примерно, работает.
Я пришел к себе и написал письмо от имени этого Моисея Абрамовича. Конверта у меня не было, а если бы и был, на нем должны были быть почтовые штемпели Ростова и Москвы. Я позвонил в Ростов какому-то моему автору и попросил срочно прислать мне письмо из Ростова от имени Моисея Абрамовича. Он помчался отправлять, потому что весь Ростов уже гудел от моего паршивого "Бумеранга". В отделе писем я по блату зарегистрировал письмо задним числом, поставил на него соответствующий штамп и понес Тертеряну.
Тертерян, покачивая головой, как старый еврей у Стены Плача, дочитал мою писульку и сказал:
А где конверт?
Какой конверт?
Простой конверт. Из Ростова.
Что же я, должен хранить конверты? Видите, он просит закрыть "Бумеранг", а я остроумно ему отвечаю...
Я вижу ваше остроумие. Я не вижу конверта.
Выбросил, наверное. Пойду поищу.
Поищите, поищите, любезный. А не найдете — пеняйте на себя. Шолохова мы вам в обиду не дадим. И так достаточно намеков с Сазоновым.
И он пошел показывать письмо Чаковскому.
Ах, как кричал Чаковский! Его было слышно на всех пяти этажах. На его месте я бы кричал еще громче. И зачем мне это было нужно? На кого я поднял руку, мальчишка? Меня же раздавят, как таракашку. И никто даже не заметит.
Но все же Тертеряну удалось меня отстоять. С другой стороны, Чаковский сумел убедить ростовского вождя, что не на Шолохова же "Литературка" подняла руку! Да вот и письмо от какого-то идиота из Ростова...
Через два дня пришел конверт со штемпелями.
—Нашел, нашел! — кричал я, врываясь в кабинет Тертеряна. — Вот ваш конверт. Я его в корзинке нашел. Уборщица не успела выбросить. А вы сразу — Шолохов, Шолохов!
Тертерян брезгливо посмотрел на конверт и сказал:
—Хорошо сработано. Молодец. Оперативно. И штемпели в порядке. Вот только даты не совпадают. А так все хорошо. Еще раз сыграете в такую игру, Илюшечка, — костей не соберете. Ясно?
Из "Бурного потока" Евг. Сазонова:
—Почему вы опоздали? — спросил Анну завуч Вероника Николаевна, старая, опытная педагог. (Продолжение следует.)
* * *
Штатным членом редколлегии у нас работал Георгий Гулиа, человек веселый и опасный. Он когда-то написал повесть "Весна в Сакене", за что получил Сталинскую премию. Одновременно он был сыном классика абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Себя он считал отчасти сатириком, и ему отсылали наши штучки, если начальство в них хоть немного сомневалось. Он их с удовольствием "рубил", а потом приходил объяснять, что ничего не мог сделать, уж очень прозрачно было написано.
На редакционных летучках мы обсуждали вышедший номер и выясняли, что, с нашей точки зрения, хорошо, а что плохо. Когда меня вызывали высказаться, я всегда говорил, что нынешняя полоса "Клуба 12 стульев" действительно хороша, и огромную роль в этом сыграла смелость и решительность моих уважаемых начальников (тут я перечислял фамилии всего руководства газеты, потому что если материал появлялся на странице, то его просматривали все — от мала до велика, и все норовили его снять). Начальники зеленели, но терпели.
В том номере прошел какой-то хороший рассказ и и фразочка: "Хорошо тому, кто носит подтяжки, говорить: "Затянем пояс!"
Гулиа сидел на летучке рядом со мной.
—Слушай, — шептал он мне, — это колоссально, что ты сумел сказать этой фразой! Это колоссально, слушай! Я тебе точно говорю, это замечательная фраза, она войдет в историю! Вот такое мое мнение.
Он поднял руку и сказал:
—Можно мне высказаться? До каких пор мы будем терпеть антисоветские выходки на 16-й полосе, а? Где это видано в советской печати так критиковать партию и правительство! Если партия на своем последнем пленуме совершенно правильно подняла вопрос об экономии в производстве и при потреблении продуктов питания, то кто дал право этим молодчикам с 16-й полосы обзывать партию "подтяжками", а? Слушай, я вам точно говорю, что некоторых уже пора разгонять. Развели здесь, понимаешь, демагогию, а мы, редколлегия, потом за них отвечай!
Я задохнулся! Это было сделано безо всякого перехода. Вот только что он шептал мне на ухо одно, и через секунду — через секунду! — вот это! При всех! Вот гад!
Гулиа сел на место рядом со мной и прошептал:
—Слушай, не обращай внимания, это я так, для пользы дела. Фразочка колоссальная! Колоссальная, говорю, фразочка!
* * *
И еще я открыл "Лавку букиниста". Мы знали, что все писатели-сатирики эмигрировали после революции, а другие были убиты при советской власти. И нужно было восстановить связь времен. И мы раскапывали редкие произведения Аверченко, Бухова, Тэффи, Дорошевича, Саши Черного, Зощенко, Платонова... И всегда было трудно их пробить. Потому что все знали их судьбу. Но однажды А. Александров из Ленинграда прислал мне Даниила Хармса и Николая Олейникова. Этих замечательных абсурдистов и новаторов замучили в конце тридцатых. И никогда о них не вспоминали. И то, что они писали, на газетных страницах казалось странным и даже диковатым. Все привыкли к нормальным дозволенным шуткам разрешенных сатириков. Я позвонил Виктору Шкловскому, который знал "обэриутов" лично, и объяснил ему, что без его вступительной статьи мне Хармса не пробить. Пусть объяснит читателям (а заодно и начальству), в чем тут юмор. И почему велик Хармс. И почему его надо восстановить в этой жизни. И Шкловский сказал: "Я попробую". И он написал предисловие к подборке Хармса, которое называлось "О цветных снах". Я запомнил фразу: "Хармс не любил идиотизма жизни". В той подборке, которой я до сих пор ужасно горжусь, была серия "Анекдоты из жизни Пушкина". Вот один: "Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начинает кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас".
Что тут началось! Да как же так, писали читатели в редакцию, Пушкин наша слава боевая, Пушкин нашей юности полет, а тут вы рассказываете, что наш Пушкин кидался камнями! Это как понять? Или вы там совсем уже обезумели, на Пушкина руку поднимаете!
Ну-с, милейший Илья Петрович, — сказал Тертерян, радостно потирая руки, — не говорил ли я вам, чтобы не совались с Хармсом! Все ЦК завалено письмами трудящихся. Все справедливо негодуют. Вы зачем разбиваете стереотипы сознания советского народа? Хотите вылететь на улицу?
Артурчик, — сказал я, — мы ведь не "Сельская жизнь", а "Литературная газета". Ведь мы культуру должны нести. Для интеллигентов этих вонючих. Мы над толпой должны стоять. Для толпы пусть "Крокодил" пишет.
Ах, какой вы у нас сноб! — восхитился Тертерян. — Это так мило — стоять над толпой! Значит, литература уже не принадлежит народу, это вы хотите сказать? Ну-ну, не стесняйтесь!
Принадлежит, принадлежит, — сдался я. — Но ведь я тоже народ. А мне нравится. Как быть?
Убью! — сказал Артур. — Убью! Мне надоело получать из-за вас по мордасам. И действительно, что смешного, что Пушкин кидался камнями?
И все же я пробил Николая Олейникова! Как, спросите вы? И я отвечу: думать надо!
Был тогда литературный критик Александр Львович Дымшиц. Реакционней Дымшица никого не было. Он громил всех и вся во имя истинно пролетарской (читай коммунистической) литературы. Начальство верило Дымшицу: он их не подводил. Но я знал ленинградское прошлое Дымшица и хотел сыграть на одной нотке его характера. Я ему позвонил и сказал, что мы хотели бы восстановить доброе имя расстрелянного поэта Николая Олейникова из группы обэриутов (вы же помните, Александр Львович, не правда ли?), но народ несколько поотвык от абстрактного юмора. Кто бы мог тепло и правдиво рассказать об этом периоде? Журнал "Чиж" и "Еж"... Люди-то какие: Евгений Шварц, Хармс, Заболоцкий, Введенский, Маршак... Вы случайно их не знали?
Знавал...
Ах, как славно! Вам и карты в руки. Не хотели бы заново открыть Олейникова? Вот Шкловский как благородно написал о Хармсе! И у вас такая возможность... А если не вы, то кто же мог бы, по-вашему, выполнить эту благородную миссию?
А начальство не возражает?
Ну что вы! Начальство столько комплиментов получило за Хармса, что идет на Олейникова, как на демонстрацию. Просто нужен авторитет, поддерживающий всю подборку. И стихи-то какие звонкие, не обычные :
У Бразелио, у Любочки
Нет ни кофточки, ни юбочки —
Ну, а я ее люблю!
За ее за убеждения,
За ее телосложение
Очень я ее люблю!
Так беретесь? Мы с вами большое дело сделаем, Александр Львович, и за такую подборку многое простится...
Что именно простится?
А Богу видней! Он что надо, то и простит. Даем Олейникова?
Даем, - задумчиво сказал Дымшиц, и в июле 1968 года вышли "Раздумья, послания и афоризмы технорука Н." — подборка стихов и прозы Николая Олейникова.
Маленькая рыбка, жареный карась,
Где ж ваша улыбка, что была вчерась?
Я всегда поражался странному, независимому духу этой группы поэтов, уничтоженных в Ленинграде. Они существовали как бы сами по себе. Советская власть и Сталин — сами по себе, а для них этого как бы не существовало. Уже в эмиграции литературовед Илья Левин, занимающийся здесь обэриутами, высказал мнение, что для Хармса, Олейникова и Заболоцкого это был микроклимат, форма существования, они выживали духовно, абстрагируясь от окружавшего их ужаса. За это их и убили. Заболоцкий попал в лагеря. Про Хармса мне рассказывали, что его забрали на улице: он носил клетчатый свитер, бриджи, на шее висела "лейка". Такими в советском довоенном кино изображали шпионов. Настоящее имя Хармса было Даниил Иванович Ювачев. А имя Хармс было для них чем-то чужим, не нашим, шпионским. И он исчез. В 1942 году в камере ленинградской тюрьмы нашли клетчатый свитер и бриджи. И горстку костей. Его забыли кормить в тюрьме. Было не до него — город был в блокаде...
* * *
21 августа 1968 года на 16-й полосе "Литгазеты", в самом ее центре, была напечатана фотография из цикла "Что бы это значило?": человек в четыре пальца свистит в ответ на что-то, что осталось за кадром. А за кадром в этот день было вторжение советских войск в Чехословакию. И понеслись письма читателей. Самыми спокойными были такие подписи под фотографией, предложенные читателями: "Уберите ваши танки!", "Долой агрессоров!", "Свободу не уничтожить!". Мы ходили как помешанные. Мы вовсе не собирались так, впрямую, разбойничать на странице советской газеты. Номер верстался за несколько дней до событий в Чехословакии. Вторжение прошло в тайне, никто не был предупрежден, сообщение о вводе войск было дано, если не ошибаюсь, двумя днями позже. Но начальство буквально ревело! Оно усмотрело саботаж и все такое. А вы бы не усмотрели? И сколько мы ни убеждали, что ни чуточки не виноваты, что любая иная безобидная картинка в этот день рассматривалась бы именно так, нам уже не верили. Мы попросили отдел писем отдавать нам письма читателей без регистрации, потому что отлично понимали, чем это грозит нашим корреспондентам. И надо сказать, что нам пошли навстречу. Мы пачками вскрывали письма, рвали мятежные ответы и складывали в стопочки "благопристойные", не имеющие острой политической подкладки. Но начальство решило, что с этого дня за нами нужен глаз да глаз. Если раньше и удавалось "просунуть" острую или сатирическую фразу или рассказик, то теперь каждый материал посылался на прочтение по крайней мере восьми-девяти членам редколлегии, которые не пропускали ничего! Мы были на грани отчаяния. Вместо одной полосы (это примерно 24 страницы машинописного текста) я был вынужден готовить четыре полосы! А где же взять материал? Народ наш был уже избалованный, смелый, я бы сказал, наглый, все вслух обсуждали чешские события и возмущались, и сколько я ни стучал кулаком по столу, требуя, чтобы все немедленно прикусили свои длинные языки, а то нас вообще разгонят, ничего не помогало. И полосы составлялись по старой российской цензурной методе: ты даешь начальству полосу с такой, скажем, фразой: "Если бы Лев Толстой жил в коммунальной квартире, он стал бы Салтыковым-Щедриным!" Начальство морщится и просит чего-нибудь другого. Ты несешь фразу: "Очереди станут меньше, если сплотить ряды". Начальство смотрит на тебя, как на красную тряпку и просит принести что-нибудь другое. Ты несешь фразу: "Знаете ли вы, что пулеметная очередь доходит до прилавка гораздо быстрее обыкновенной?" Начальство зеленеет и просит чего-нибудь еще. Ты приносишь: "Допустим, ты пробил головой стену. Что ты будешь делать в соседней камере?"
—Илья, — рычит начальство. — Вы издеваетесь! Можете принести что-нибудь человеческое?
У меня больше ничего нет, — отвечаете вы, потупив глазки. Начальство размышляет. Потом говорит:
Принесите ту, первую. Тоже глупая, но не такая, как все эти.
И появляется в газете фраза о Толстом в коммунальной квартире...
На следующей неделе все повторяется сначала...
Поэтому, цитируя одну из напечатанных фраз, могу сказать: "Жаль, что я не лирический поэт — сколько грустных дней пропадает впустую..."
* * *
Приходил одинокий старик — Леонид Осипович Утесов. С его песнями прошла вся наша юность. Я думаю, что он нисколько не уступает по своему значению Фрэнку Синатре. Он, конечно, — страница истории русской эстрады. Он принес мне порыжевшие вырезки из рижской газеты 1939 года, где он был снят анфас и в профиль и было сказано, что полиция Риги арестовала и выслала из страны известного пропагандиста ГПУ Леонида Вейсбейна (Утесова).
Хотите напечатать? — спросил он.
Хочу. С двумя маленькими вопросами. Вас действительно послало туда ГПУ?
Не морочь голову, мальчик. Глупости какие спрашиваешь...
Ну а все-таки? 39-й год. До захвата... Как так?
Ой, ты сейчас у меня получишь!
И второе. Вы действительно хотите рассказать советскому народу, что его любимец, кумир, народ-ный артист Утесов — на самом деле не Утесов, а какой-то Вейсбейн?; Хотите потерять поклонников?
Это еще почему? Все знают, что Утесов — псевдоним, что плохого, если я впервые назову свою настоящую фамилию?
Народ вам этого не простит! — сказал я жестко. — Народу нужны свои герои, а не откуда-то появившиеся Вейсбейны. Сегодня это Вейсбейн, а завтра? Никому ж верить нельзя! Куда ни сунься — Рабиновичи эти! Кирпичу упасть негде!
Вы отвратительный, гнусный антисемит, — сказал Утесов. - Мне даже смотреть на вас противно. Очень у меня грустный день.
Уходя сказал:
—Печатайте без Вейсбейна.
Мы напечатали. Он позвонил очень довольный.
—Вы были правы, — сказал он. — С кем ни говорил, все сказали, что Суслов прав. Хотя все равно очень противно...
Он почувствовал, что я собираюсь уезжать. Приходил к концу рабочего дня, садился на диван и дожидался, когда все уйдут.
И что ты там будешь делать? Ты же ничего не умеешь.
Что придется, Леонид Осипович. Поехали вместе?
Ты сумасшедший. А я уже старый. Давай я лучше научу тебя одной песенке, ты ее будешь петь и просить милостыню.
И он научил меня старой еврейской песенке: "Ой ребе, ребе, зугт мир, ви азой, ви азой кейзер ейт бульбе?" Я уверен, что знатоки идиш найдут здесь сто ошибок, но песня была о том, как поступает царь, с точки зрения учителя, в тех или иных обстоятельствах. Когда царь, к примеру, ложится спать, десять солдат стреляют из ружей и кричат: "Ша! Царь спит!"
И с этим номером я уехал в Америку. А он позвонил мне в день отъезда и тихо сказал.
— До свиданья, мальчик. Тебе будет хорошо.
* * *
Прошла уже тыща лет. И жизнь другая, и проблемы другие, и забыто многое, и лица, как в тумане... Но мы вспоминаем эти дни, потому что дорога нам наша молодость, и мы никак не хотим с ней расстаться. Хотя... если перефразировать старую французскую пословицу, она звучала бы так: "Если бы молодость знала, она бы и в старости могла..." Ан нет, ничего не выходит в нынешней нашей старости, потому что многие из нас, и я в том числе, лишились того, что составляло суть и смысл нашей прежней жизни — активного в ней участия. Ведь это я отбирал для "Литературки" смешной и талантливый материал. Это я его редактировал. Это я поверил в автора. Это я пробивал его в печать. И это не я его "рубил", уничтожал, не давал увидеть свет. И руки мои, и мысли мои чисты. Я сделал все, что мог. Вот почему так пусто и горько нам, бывшим, делать работу, из которой мы выросли, и смотреть со стороны на жизнь приютившей нас страны. И крик наш, стремление наше быть полезными повисает в воздухе. И горек наш удел, удел никем не услышанных людей. И суждено нам вариться в нашей эмигрантской каше, которую не испортишь маслом.
Ну? Поплакали? Пострадали вместе со мной? Попереживали? Хватит. Вернемся к нашим баранам. Наши бараны не хуже тутошних. Побродим по волнам нашей памяти. Настроим наши приемники на вчерашнюю передачу. У микрофона Илья Суслов. Тема нашей беседы — вчерашний день, прошлогодний снег, вчерашнее завтра всего прогрессивного человечества.
Пришел автор. По профессии — барабанщик в оркестре. Принес рассказик. Называется "Памятник". Рассказик такой: стоит человек и ловит такси. Снег идет. Холодно. Такси не останавливается. Час стоит, ловит, другой... Вдруг видит, на той стороне улицы другой человек стоит, тоже, видно, такси ловит. С протянутой рукой. Потрогал его герой и видит, что человек окаменел. Замерз, видно. Взвалил его на плечи, отнес домой, положил на диван. Утром жена говорит: "Ты кого, дрянь пьяная, принес вчера? Совсем упился, прохвост?" Он смотрит на диван, а там этот лежит, с протянутой рукой. Памятник с площади.
Пардон за неточный пересказ. Это я по памяти воспроизвел. У автора лучше было написано. Короткий рассказик. Строк на двадцать.
Напечатали. Начались звонки. Понеслись письма. Посыпались жалобы. От старых большевиков, главным образом. Как? На кого? Руку? Очумели? Советская власть кончилась? На Ленина? На самого? Сгноим!
Тертерян был спокоен. Он меня усадил в кресло. Он мне воды принес. Он был на вы. Он был бледен, как Д'Артаньян, вручивший подвески герцога Букингемского французской королеве. Он сказал:
Илья, из этой ситуации мы уже не выпутаемся. ЦК просит крови. Свою я отдать не могу. Мы выпустим вашу.
Чего, чего? — залепетал я, придумывая на ходу версию. — Какую кровь? Вы шутите. Вы же гуманисты. Вы же за мир между нашими народами. Вы же за разоружение.
Вы зачем Ленина тронули? — шепотом спросил он.
Я? Ленина? Что я, псих? Кому надо трогать Ленина?
Чей памятник подобрал ваш алкаш на площади?
Пионерки! — сказал я. — Пионерки! Он ее принял за пассажира. Мы ведь с вами — за нормальную работу такси. Вот о чем рассказ.
Пионерка? — заорал он. — Пионерка делает салют рукой! С вытянутой рукой у нас Ленин стоит! На Ленина...
Минуточку! — сказал я. — Почему только Ленин? А пограничник? Он стоит на бульваре и защищает границу родины.
Я умру от вас, любезный, - сказал Тертерян.— Пограничник руку держит козырьком, всматриваясь во внешнего врага, нарушившего границу. Козырьком. Вы Ленина...
Хорошо, — сказал я. — Пусть не пограничник. Это просто гипсовый памятник спортсмену, футболисту, Мичурину. Почему Ленину? Нам с вами и в голову не пришел Ленин. Мы с вами этот рассказ читали, не было там Ленина. Откуда появился?
Тертерян брезгливо бросил на стол толстую пачку писем.
—Это из ЦК, — сказал он. — Большевики вас раскусили. Большевики писали, что только гнусные троцкисты, окопавшиеся в Литературке, могли поднять руку на самое святое в жизни советского человека — на В. И. Ленина, святое имя, освещающее путь всему миру. И только сионистскими происками американского империализма можно объяснить факт самого появления на свет кощунственного рассказика, где великий вождь и учитель, за которого не задумываясь отдадут свои жизни эти большевики и коммунисты всего мира, можно объяснить появление этой мрази на страницах другой мрази, называемой "Литгазетой". Просим принять меры! — так заканчивались все письма трудящихся.
Ну, что будем делать? — спросил я, совершенно угнетенный их праведным гневом.
Будем снимать с работы, — устало сказал Тертерян. — Вот теперь уже допрыгались окончательно. Сколько раз я вас предупреждал...
Дайте побороться, — сказал я. — Товарищ Ленин как-то не пришел мне на ум в тот момент,
Врете, — сказал Тертерян. — Это мне он не пришел на ум, когда я пропускал этот вонючий рассказик. Мне и в голову не пришло, что вы так далеко зайдете.
Я пошел к себе, вызвал секретаршу и попросил разыскать в библиотеке сведения о всех памятниках в СССР, где герой с протянутой рукой. Таких оказалось два типа: Ленину (во всех городах и весях) и Кирову (в Ленинграде), что тоже было плохо. У остальных руки были на месте: у пояса, у бедер, на груди, за спиной. У Венеры вообще рук не было. У Сталина на одном памятнике оторвали одну руку. Павлика Морозова я бы задушил вот этими руками, но не о них шла речь. Других памятников на площадях и в скверах не ставили.
Я сел писать письма большевикам. Я написал, что только безумцы могут подумать, что парторганизация "Литгазеты" (я был беспартийный, но знал, как надо писать) могла проявить такую бестактность, чтобы опубликовать рассказ о Ленине, нашем вожде и учителе. И какой мерой испорченности надо обладать, чтобы принять пошлую гипсовую скульптурку за памятник вождю! И как это могло прийти в голову уважающим себя большевикам, справедливо пославшим сигнал в родной ЦК нашей партии! И, кроме того, писал я, памятники Ленину делают из гранита и мрамора, так что совершенно невозможно отнести их на себе домой и положить на диван, неужели такая простая мысль не могла прийти в голову людям, справедливо охраняющим чистоту ленинского учения от происков врагов мира, которых, конечно же, нет в редакции "Литературной газеты".
Стало быть, речь в рассказе шла о безвкусной гипсовой скульптурке, какие отравляют внешний вид наших замечательных городов. Поэтому, наряду с заботой о более добросовестном обслуживании советских людей некоторыми таксистами, был поставлен вопрос об эстетическом уровне убранства наших городов в части архитектурного и скульптурного их оформления. И не следовало уважающим себя коммунистам бросать тень на "Литературную газету" и на ее коллектив, помогающий партии бороться со всеми и всяческими недостатками, все еще иногда встречающимися в нашей жизни!
Я отнес проект письма Тертеряну. Он прочел, остался доволен и понес его Чаковскому. Чаковский прошелся по письму рукой мастера, убирая подтексты и ненужную и даже идиотскую иронию, сохраняя то "выражение невинности и некоторой обиды за вверенный ему коллектив, которые были заложены в проекте письма большевикам. Письмо было размножено, подписано козлами отпущения (мной и Витей Веселовским) и послано в ЦК и по остальным адресам.
А мне стало так скучно и так страшно, что в следующий номер я вставил фразу, как никогда отвечавшую моим тогдашним настроениям: "Объявление. Вчера вечером потерял на углу Цветного бульвара и Садового кольца интерес к жизни".
Нас опять простили. Но с тех пор с нас требовали только позитивной сатиры. Знаете, что это такое? Это когда считают, что "цель сатиры в том, чтобы в крике "караул!" прослушивалось "ура!". Это когда "на похоронах Чингис-хана кто-то говорит: "Он был чуткий и отзывчивый". Это когда "в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле".
И когда ты понимаешь, что сделал все, что мог, что ты дорос до своего потолка, и у тебя нет ни сегодня, ни завтра, а только вчера, ты начинаешь задумываться об эмиграции.
И потом ты уезжаешь. И начинаешь жить вторую отпущенную тебе жизнь.
И вспоминаешь тех, с кем жил в первой жизни. С кем работал. Тех, кто остался, И тех, кто делит с тобой горести и радости эмиграции.
Ну, и хватит пока.
В ЭФИР!
Не так давно меня пригласили выступить по радио. Это была ночная часовая программа — с 12 до часу ночи, — когда ведущий задает вопросы, ты отвечаешь, а потом радиослушатели звонят на станцию и тоже спрашивают. У меня тогда вышла книжка по-английски: издательство "Индиана юниверсити пресс" перевело мою повесть "Прошлогодний снег", которую и по-русски смогли прочесть некоторые наши читатели (а кто не прочел, милости просим).
Я поехал на эту вашингтонскую радиостанцию, где известный критик Джон Коркоран расспрашивал меня о жизни в Советском Союзе, а потом звонили слушатели и тоже этим интересовались. И я их веселили удовлетворял их законное любопытство. Все это было настолько естественно и нормально, что лишь потом, после передачи, я очухался и понял, что я безо всякой подготовки, безо всякого предварительного собеседования вышел прямо в эфир. Безо всякой цензуры!
И тут я вспомнил, как однажды мы выступали по телевидению в Москве. Нам позвонил покойный ныне Алексей Каплер и пригласил вместе с ним провести выпуск популярной "Кинопанорамы", которую он вел много лет. Он хотел, чтобы администрация "Клуба 12 стульев", то есть В. Веселовский и И. Суслов из "Литературной газеты", представили новые кинокомедии, вышедшие на экран. Мы, конечно, с радостью согласились. Кому не хочется показаться на экране в компании со знаменитыми режиссерами и актерами? Мы написали сценарий этой "Кинопанорамы", распределили шутки и репризы, побрились (то есть я побрился, а Веселовский лишь подправил свою могучую рыжую бороду) и поехали записывать нашу программу.
Нас предупредили, что снимать будут на новой пленке, только что полученной из-за границы. Она называется "видеопленка", и особенность ее в том, что ее нельзя резать и монтировать. Поэтому съемка без остановки будет идти с нескольких камер. Никаких пауз, никаких заиканий. Будьте трезвыми, пожалуйста.
—Это какая-то антисоветская пленка, — сказал я. — Как это нельзя резать? А если начальству не понравится?
—Следуйте утвержденному сценарию, - сказала режиссер передачи. — Ведь все ваши хохмы утверждены, выступать вы умеете. Главное — это темп. Приготовились? Начали!
И мы провели замечательную "Кинопанораму". Каплер сиял, наши друзья актеры шутили и импровизировали, мы с Веселовским выдавали афоризмы "с подтекстом", напечатанные в "Литературке".
На следующий день я собрал у себя в доме приятелей, чтобы за бутылочкой коньяка прокомментировать передачу. Но сколько мы ни напрягали глаза, мы ничего не увидели! То есть шла "Кинопанорама", а нас с Веселовским в ней не было! Нас вырезали! Нас вырезали из видеопленки, которую по всем техническим законам резать нельзя!
Приятели пили мой коньяк и издевались надо мной. "Ты что ж, хотел обмануть нашу родную советскую власть?" — спрашивали они. "Так ведь все же было записано, — бормотал я, — все же было утверждено..."
На следующее утро позвонил Каплер и объяснил, что произошло. Оказалось, что после записи программы на заграничную (и где-то антисоветскую) пленку ее затребовал к себе председатель Гостелерадио товарищ Лапин. Товарищу Лапину очень не понравились наши шуточки "с подтекстом". Каплер и его команда долго убеждали товарища Лапина, что все они напечатаны и, следовательно, разрешены к исполнению. Но Лапин сказал: "То, что позволено Юпитеру, не позволено быку". "Литературку" читает горстка интеллигентов, а нас, телевидение, смотрят миллионы и миллионы советских людей. Мало того, что эти молодчики развращают своими сомнительными шутками нестойкую интеллигенцию, они еще поднимают руку на весь народ! Мы им этого не позволим!"
Каплеровцы стали говорить про пленку, которую нельзя резать, и про то, что вся передача находится под угрозой. На это товарищ Лапин сказал, засмеявшись: "Как это нельзя резать? Если партии нужно, все можно резать. Нет таких, которых бы не резали большевики! Разве не знаете? А ну, позвать ко мне тех, кто умеет резать!"
И пленку изрезали. Вынули оттуда мое выбритое лицо и горящую пожаром бороду Веселовского. И смонтировали зарубежную пленку, которую на проклятом Западе нельзя монтировать.
Из этого можно сделать следующий вывод: если нельзя, но очень хочется, то можно.
ПОСЛЕ КОНЦЕРТА...
Теперь, когда вся шумиха, связанная с гастролями советских артистов, улеглась, я могу признаться, что был на их концерте. Дело было в Филадельфии, куда я поехал к друзьям. Они мне сказали, что вечером состоится этот злополучный концерт, и если я хочу, то у них есть для меня билеты. Наши женщины стали упрямиться и утверждать, что ходить туда нечего, потому что они отлично представляют себе, что это за эстрада, и что правы русские газеты, призывающие эмигрантов бойкотировать этот концерт. Но я сказал, что мне интересно посмотреть, как это будет происходить, тем более, что многих участников этой группы я хорошо знал еще по прежней жизни, и неплохо было бы с ними поболтать. А потом, если не я, кто напишет об этом выступлении? Последний довод был признан убедительным, и мы поехали на концерт.
У ворот школы, где должен был состояться концерт, стояла группа демонстрантов с рупором, которые взывали к совести паршивых кол-лаборантов вроде меня и утверждали, что лучше потратить фудстемпы и пособия по безработице по назначению, чем подкармливать нашими деньгами КГБ. Я по старой репортерской привычке стал приставать к выстроившимся в очередь эмигрантам с вопросами, почему, собственно, они пошли на этот концерт. Одна дама, красиво одетая и славно выглядевшая, сказала мне, что пришла послушать свою любимую певицу Нани Брегвадзе. Шесть девушек и один юноша, неотличимый от этих девушек, такой же блондин и хорошенький, сказали, что обожают Миронова. Пожилой господин с татуировкой сказал мне, что это не моего ума дело.
У входа стоял взмыленный антрепренер Виктор Шульман и проверял билеты. Там и сям расположилась филадельфийская полиция, не подпускавшая демонстрантов к зрителям и зрителей к артистам. Кондиционер не работал, и все изящно обмахивались тряпочками и газетами, чаще всего русскими.
Потом на сцену вышел Андрей Миронов и в легкой эстрадной манере тепло приветствовал зрителей (по моим подсчетам их было человек шестьсот) на разных языках мира. Для тех, кто не понял английского и русского приветствий, он сказал "Шолом алейхем!". Зал взвыл от удовольствия. (Когда я в России так здоровался со своими коллегами, рабочими и служащими, никто почему-то не выл. Обидно.) Потом он рассказал несколько шуток Леонида Утесова. Шутки были так себе. Наверное, хорошие шутки Утесова не пропустили.
Потом высокая, молодая и пригожая русская певица Борисенкова спела несколько народных песен: "Как люблю тебя я, Русь, Русь неповторимая...". Пела она хорошо и громко. Многие зрители разделяли чувства певицы и хлопали ей. Слов романсов и песен, которые она исполняла, я не запомнил и не смогу их воспроизвести в этом очерке. Помню только, что в одной песне говорилось, что нельзя с милым обниматься. Я очень удивился, но певица тут же добавила, что можно с милым целоваться. Эта этика меня настолько поразила, что я рассеянно дослушал ее выступление. Я до сих пор не понимаю, почему с милым можно делать одно, отказывая себе в другом? Но, может быть, мы здесь уже настолько распустились, что не понимаем самых простых вещей?
Далее Андрей Миронов исполнил дуэт Присыпкина и Баяна из "Клопа" Маяковского. Только здесь, на Западе, можно понять всю пошлость и безвкусность этой "смелой" комедии поэта. (Это то самое место, где Баян учит Присыпкина "эстрадным" танцам: "Приложите большой пальчик к лифчику у дамы" и т. д. Не верите, перечитайте сами.) Артист очень старался работать весело и непринужденно, но текст говорил сам за себя, и было немножко неловко. Женщина сзади шепнула мне, что это они нас хотят покритиковать, но я ее успокоил: это они над собой смеются. Это не сатира, сказал я, а такой юмор. Чтобы посмешнее было. Но ведь не смешно, сказала женщина. Ну, что ж тут поделаешь, сказал я, потерпим. Там это считалось смешным.
Потом пела Нани Брегвадзе. Шульман к этому моменту включил вентилятор на сцене, и все вздохнули немного свободней. Брегвадзе встретили очень тепло, и она была заметно тронута. Поет она задушевно, и все ту же "Калитку". Из зала попросили спеть "Тбилисо". Она спела "Тбилисо". А я почему-то все время вспоминал Тамару Церетели. Ах, какая это была чудная певица! На этот раз Брегвадзе не произвела на меня слишком большого впечатления. Может быть, мне мешал вентилятор Шульмана. Но аккомпаниаторша у нее была прекрасная. Она играла тонко и точно. И опять я вспоминал замечательных Брохеса и Ашкенази. И еще я подумал о том, что все это я слышал много раз, много, много лет назад. И все осталось по-прежнему. Только все мы постарели. Пардон, возмужали.
Лариса Голубкина спела романс "Уйди, совсем уйди", что было очень кстати, потому что зрители так, в сущности, и сделали. В том смысле, что все они ушли, совсем ушли из Советского Союза. Поэтому в зале раздалось несколько смешков, к счастью, не понятых исполнительницей.
И потом вышел Иосиф Кобзон, человек решительный и политически подкованный. Его, видно, здорово раздражали демонстранты у входа, и он всем своим видом показывал, что готов дать отпор всякой антисоветской нечисти... Сначала он будил чувства своих слушателей песней о русской природе. В ней он утверждал, что лучше этой природы для него ничего нет. Потом он исполнил любимую песню эмигрантов — песню советского шпиона Штирлица из телевизионного многосерийного фильма "17 мгновений весны". И право же, было очень весело смотреть, как этой чекистской песне подпевали зрители, дорвавшиеся, наконец, до знакомых мелодий.
В это время из зала раздался какой-то голос. Кто-то что-то громко сказал. Угрюмый Кобзон прервал исполнение и агрессивно спросил, в чем дело. Встал маленький человек и сказал, что он дико извиняется, но очень плохо слышно. Кобзон, видимо, хотел дать отпор выходке из зала, как его учили инструкторы из ЦК, снаряжавшие его в эту поездку. Разочарованный, он переспросил: "Плохо слышно?.. Дмитрий Иванович, организуйте, пожалуйста, чтоб товарищи все слышали". Я даже привстал: очень мне хотелось посмотреть на Дмитрия Ивановича. Это из тех хлопцев, что сопровождают такие ансамбли. Они — на все руки. И свет починить, и микрофон включить, и отчет написать.
— Где же вы, Дмитрий Иванович? — кричал я.
И появился Дмитрий Иванович, и сразу же наш зритель все услышал, и все пошло дальше.
А дальше — Кобзон достал бумажку и по бумажке спел две еврейские песни. Народ рыдал. Все хлопали и подпевали знаменитому певцу, который, ни разу не сбившись, проявил таким образом понимание своей аудитории. Интересно, разрешат ли ему спеть эти песни в Москве на концерте или по радио? Так и вижу лица цензурных начальников, с отвращением санкционировавших это дикое отступление от генеральной линии. Но все было продумано как следует. За еврейскими песнями последовала песня о Владимире Высоцком, что говорит о том, что партия решила никому не отдавать своих погибших поэтов. Потом было исполнено несколько танго времен моей тревожной молодости, типа "Утомленное солнце", что показывало преемственность традиций — от Утесова до Кобзона. И апофеоз — песня "День победы", которая появилась в России уже после моего отъезда.
Вот, примерно, отчет-рецензия на состоявшийся концерт. А теперь несколько сугубо личных выводов.
Мы с вами уже немного выросли. И вкусы у нас изменились. И после американской эстрады и телевидения мне лично все кажется самодеятельностью. И смотрел я этот концерт без всякого волнения. Может быть, я накушался этого еще в России. И никаких ностальгических чувств я не испытал. И зрители, пришедшие на концерт, тоже. Наоборот, очень мне жалко было артистов. Может быть, для них это был праздник — приехать в Америку, выступить перед бывшими соотечественниками, посмотреть свет. Но только мы уже — совсем другие. И праздничного, концертного настроения тоже не было. А было скучно. И денег было немного жалко. Потому что артисты, приезжающие к нам по поручению советской власти, — немые. Они ничего нам сказать не могут. Никакой новой информации. Они топчутся на месте в своем искусстве, а мы ушли вперед. И знаем теперь в тысячу раз больше, чем они. И поэтому они не интересны. И тем не менее, спасибо вам, бывшие любимцы публики. Мы вам всегда рады. Когда у вас будет возможность, приезжайте к нам сами по себе. Мы вас накормим и напоим, и спать уложим. И покатаем вас по стране. И споем для вас, и станцуем. И вспомним старину. А потом вы поедете домой, где Дмитрий Иванович напишет на вас очередной донос, а мы останемся дома, в Америке. Будьте здоровы, шолом алейхем, гуд бай, братцы.
МОЯ ОЛИМПИАДА-84
Я не спортсмен. Когда жены старались вывести меня из дома, чтобы немного побегать, "джоггинг", как это здесь называется, то я бледнел, старел и никак не мог оторваться от своего кресла. Жены были очень недовольны, потому что для них, лапочек моих, это называлось физкультурой и даже, грубо говоря, спортом.
Но я не привык. Я с детства такой. Меня уже не переделать. Так и суждено мне помереть слаборазвитым, как Гвинея или Монголия. Каждому свое.
Но спортсмены — совсем другое дело. Они бегают, прыгают, боксируют, плывут куда надо, вертятся на турниках и трапециях. На них приятно смотреть. Грудь у них выпуклая, талия тонкая, ноги стройные. И еще - они стремятся изо всех сил побить рекорды. И лучших из них за это посылают на Олимпийские игры. И они стараются, как черти.
И вот сообщение из Москвы: Советский Союз не поедет на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И спортсмены, которые бегали стометровку за 9,9 секунды (а я — за полторы минуты), пловцы, которые кролем проплывают сто кругов (а я — два), боксеры, которые способны убить здорового мужчину, треснув его по подбородку в третьем раунде (а я умер бы при одном виде их перчаток), — никуда не поедут, а останутся дома, и все деньги и труд выброшены на ветер, и надежды рухнули, и нельзя будет привезти домой заграничные сувениры, которые обеспечивают спортсменам на несколько лет безбедное житье, и славу, и звания, и персональные машины, и человеческие квартиры, — все коту под хвост, потому что Родина решила, что СССР не будет участвовать.
Как известно, Олимпийский принцип заключается не в том, чтобы побеждать, а в том, чтобы участвовать. Это еще в древней Греции, где зародились эти игры, так думали. Побеждать, конечно, лучше, но не участвовать? Почему?
Перед тем, как изложить мои соображения по поводу "почему", дайте мне мысленно вернуться к одному эпизоду, имевшему место в советской жизни несколько лет назад. Я, правда, уже жил в Штатах, но прочел это в газетах.
Делегация сенаторов поехала в СССР. Кроме них там был лидер демократической партии Роберт Страус. Делегацию принял член Политбюро Романов, тогдашний партийный босс Ленинграда.
Наверное, в то время начался Афганистан, потому что американцы возмущались и все спрашивали советских вождей, зачем они пошли на эту глупую, затяжную, никому не понятную войну, которая грозит поражением, поскольку у всех на уме был Вьетнам. Сенатор от Огайо Ховард Метценбаум все пытался сказать что-то Романову, но Романов не обращал на него никакого внимания. Наоборот, он всячески обхаживал Боба Страуса. Метценбауму было обидно, но я-то понимаю, почему Романов цацкался со Страусом. Дня него сенатор был чем-то вроде депутата Верховного Совета СССР, а Страус — генеральным секретарем партии! Правда, демократической, но партии! И Романов прямо спросил Страуса: "Я просто удивляюсь. Вы же секретарь ЦК своей партии, что же вы, не можете призвать к дисциплине своих членов? Как же они смеют голосовать, или как там у вас называется, не за тех, кого вы считаете нужным? Что ж это у вас за жизнь там такая, когда секретарь ЦК не может проконтролировать своих членов?"
Страус помялся и сказал, что у них в Америке несколько другой подход к партийным проблемам, вот даже сенатор Метценбаум часто выступает со своим мнением, которое идет вразрез с позицией партии, которую он представляет в Сенате.
Наступило молчание. Романов думал. Метценбаум смотрел ему в глаза. И вдруг он понял, что советские руководители — самого высокого эшелона — казалось бы, самые информированные люди в мире, ни хрена не понимают об Америке! Они живут в плену своих партийных представлений, завещанных Лениным и Сталиным, и думают, что весь мир живет по их дурацкой схеме!
Об этом и писал с горечью Митценбаум несколько лет назад. И он еще сказал, что переубедить их нет никакой человеческой возможности.
Вернемся к Олимпиаде.
Товарищ Черненко (ну, что за имя для вождя, Господи!) убежден, что товарищ Рейган — вождь всего американского народа. И стоит ему сказать пару теплых слов антисоветчикам, окопавшимся в Лос-Анджелесе, как все 165 организаций, боровшихся в этом городе за неучастие СССР в Олимпиаде, заткнут свои хайла, их тут же всех пересажают, и никто не будет отравлять международную атмосферу криками о сбитом советчиками самолете, в котором погибло 269 человек, все забудут Афганистан (что вы пристаете к нам со своим Афганистаном, какое вам дело до тех, кто с нами граничит?), все забудут Щаранского и Сахарова, который снова вышел на голодовку (это же наш, понимаете, гражданин, оставьте его в покое, мы с нашими что хотим, то и делаем), создадут олимпийскую деревню, куда можно будет согнать советскую команду, чтобы не разбежалась, и вообще наведут порядок в стране, где демократия распустилась уже настолько, что позволяет демонстрации разных отщепенцев, которые на всех языках — от русского до китайского — твердят одно: "Нет! — советскому империализму!"
А президент Рейган этого не может. Даже если бы захотел. Потому что есть такая странная штука — Конституция Соединенных Штатов, принятая двести лет назад и запрещающая властям закрывать рот гражданам этой страны. Это называется свободой слова. Так уж тут устроено. И слава Богу!
Жалко, конечно, что советские спортсмены не приедут. Они славные ребята. И хорошие спортсмены. Они же старались. Из них же вышибали рекорды. И теперь они не состоятся. И восточных немцев очень жалко. Там вся жизнь поставлена на спорт. Это у них такая коммунистическая гордость. Там чемпионов дрессируют с детства. Там суперпорода людей, призванных воткнуть шило в задницу старшего брата — Советского Союза. У них там вывороченный наоборот комплекс неполноценности. Да, у нас Берлинская стена, зато наши спортсмены —лучше, чем в СССР! Куда теперь деваться с этими моральными ценностями?
И с чем теперь вернутся несостоявшиеся золотые медалисты? Раньше — получил золотую медаль, проходишь таможню без досмотра. А серебряную...
Можно вас на минуточку, молодой человек? — обращается таможенник к баскетболисту, привез-шему серебряную медаль. — Снимите пиджак, пожалуйста.
Чего, чего? — говорит баскетболист ростом с маленькую Эйфелеву башню. — Какой пиджак? Ты не сдурел? — и косится глазом на тренера, ростом с крохотного Дании де Вито, героя телесерии "Такси". Тренер, вздыхая и мучаясь, пожимает плечами. Он знает, что значит остаться на втором месте...
Баскетболист, краснея, снимает пиджак. У него руки по пять метров длиной. За это его и сделали баскетболистом. Он мячи в корзину кладет не подпрыгивая. На каждой руке у него — часы "Сейко". На всю длину рук — от запястья до плеча. Это он на сейле купил, по полтора доллара за штуку. А в России или в Грузии, или в Казахстане за каждую пару таких "Сеек" платят от ста пятидесяти до трехсот рублей. Так что у кого руки длиннее, тот и пан. Кто пан, а кто пропал. Этот пропал. Его за золотом посылали, а он, сучка, серебро привез... Дальше суд, дальше общественность, дальше коллектив, будь они неладны.
Все. Не видать советским, немецким, чешским, болгарским, венгерским, монгольским, вьетнамским, лаосским и другим ни золота, ни серебра. Так решили Черненки с товарищами. Ничего, отольются им спортсменские слезы...
Вот почему хорошо, что я не спортсмен. Зато я выиграл ящик коньяка у своих сан-франциских друзей. Я знал, что Советы не поедут на Олимпиаду. У меня было такое предчувствие, помноженное на интуицию. Потому что я их понимаю. Я это знал.
Кто еще хочет проиграть ящик коньяка? Милости просим.
СЛУЧАЙ?
Конечно, мы заплатили за свою свободу. Получив право писать, мы потеряли своих читателей. Литературный наш труд перестал оплачиваться. Русская литература за рубежом перестала быть профессией. Ею занимаются те, у кого есть другая, оплаченная, работа, то есть она превратилась в хобби. Либо те, кто не может не писать. Либо те, кто надеется выжить на рынке русской зарубежной журналистики. Либо те, кто надеется, что его переведут на другой язык, и он получит другую читательскую аудиторию, а, следовательно, деньги и славу.
Но кому нужна в Америке наша русская словесность, наша правда, наша душа? Кого здесь можно заинтересовать нашими тоталитарными проблемами, нашей драмой и нашим юмором? И кто в Америке выжил из русских писателей? Пушкин? Куда там... Платонов? Бабель? Зощенко? Все они похоронены переводчиками. Никто о них и не знает. Яркой звездой прокатился по литературному небосводу Запада "Доктор Живаго", да сверкнул Солженицын на Куликовом поле борьбы с коммунизмом...
Отчего не интересуется нами Запад, нами, предвестниками и буревестниками грядущих столкновений, перебежчиками из завтрашнего дня в сегодняшний? Разве мы неинтересны? Разве мы не смешны? Не трагичны? А может быть, мы просто провинциальны для залитого огнями Бродвея и швыряющегося миллионами Голливуда? Может, мы и впрямь Золушка современной культуры, не попавшая на бал и не встретившая еще свою фею в тыквенном тарантасе? Как же нам выбраться на свет Божий?..
Все эти мысли мучили меня, когда я в обеденное время обходил знакомые улицы и площади Вашингтона. Как похорошел Вашингтон за последние годы! Как незаметно на месте сожженных в шестидесятые годы грязных кварталов возникли проспекты и скверы, окруженные прекрасными домами. Но я знаю и другой Вашингтон, город старых особняков и тихих улочек, где так хорошо гуляется и думается в залитом солнцем полдне, где неожиданно можно забрести в маленький уютный бар и выпить виски со льдом или просто кружку пива...
Как пробиться в настоящее коммерческое издательство? Аппетит к "русскому" давно утолен. Каждый уехавший — писатель. Тонны рукописей пылятся в углах, никому до них нет дела. Кто же может помочь мне?
И гут в моем подсознании всплыло имя. Мне лично может помочь только один человек, подумал я. Его зовут Арт Бухвальд. Это самый знаменитый фельетонист мира. Его короткие смешные истории появляются одновременно в шестистах газетах США. Даже советские газеты иногда переводят его фельетоны, когда он издевается над недостатками американской жизни. Я и сам не раз печатал его в "Литературке" в свое время. Почему Бухвальд? Он сатирик. И я, в общем, тоже. Вдруг я ему понравлюсь? Что бы я у него попросил? Три вещи. Его агента, его издателя и его предисловие к моей новой книге. А если я не понравлюсь? Ну, что ж, гуд бай!
Это ясно. Теперь другой вопрос: где его найти? Он числится корреспондентом газеты "Лос-Анджелес тайме". Где Лос-Анджелес и где Вашингтон?.. Но я где-то слышал, что он живет в Вашингтоне.
С этими мыслями я подошел к зданию, где я работаю. Я подошел к световому табло на стене, где указано, на каком этаже тот или иной отдел моего агентства. И вдруг увидел: "Арт Бухвальд, комната 1307". Я был поражен! Хожу по улицам, мечтаю об Арте Бухвальде, а он вот где — в моем здании! Я на десятом этаже, а он на тринадцатом! Ну что это? Рука судьбы? Я работаю здесь чуть ли не четыре года, его офис тут же, а я и не знал! Сразу родилась дурацкая фраза. Я войду и скажу ему: "Сэр, я не с улицы, я с десятого этажа". Он засмеется, и мы тут же подружимся.
Я сбегал к себе в комнату и достал свои книжки на русском, взял папку с рецензиями на книжку, вышедшую по-английски в университетском издательстве, и поднялся на тринадцатый этаж. Я не волновался. Я твердо знал, чего хочу. Секретарша спросила меня, кто я. "Рашен, — ответил я. — Рашенс ар каминг!" Она испуганно на меня посмотрела и пошла докладывать Бухвальду. "Пожалуйста, Арт ждет вас".
В кресле сидел пожилой полный человек с сигарой в зубах. Ноги его лежали на письменном столе. Он протянул руку и сказал: "Извините, что у меня ноги на столе. Но в таком положении кровь идет от ног и головы в задницу, а это очень полезно для моего здоровья". Я сказал: "Мистер Бухвальд. То, что хорошо для вашей задницы, очень хорошо и для меня. Пусть ноги лежат там, где им удобно". И я стал рассказывать, кто я и почему, и чего я хочу. Он прочитал мои рецензии, посмотрел мои русские книжки. А я разглядывал его кабинет. Полки с книгами, карикатуры, фотографии Бухвальда с различными президентами США. Тут мой глаз натолкнулся на книжку, стоящую на полке в ряду других. Где я видел этот корешок?
Мистер Бухвальд, — сказал я, — чья это книжка выглядывает вон на той полке?
Не знаю, — сказал он. — А что?
А ничего, — внутренне расцветая, сказал я. — Просто это моя книжка!
И я взял с полки свою книгу "Here's to your Health Comrade Shifrin" и показал ему свою фотографию на обложке. Хорошая, надо сказать, фотография. Мужественное лицо человека трудной, но интересной судьбы. Чеканный профиль. Остап Бендер просто сгорел бы от ревности.
—Кам он! — восторженно сказал Бухвальд.—Немедленно давайте мне автограф!
Я написал: "Великому сатирику от скромного юмориста. Из России с любовью". Он был доволен. Американцы любят получать автографы. Кто бы они ни были. А я люблю их давать. За этим я и пришел.
Знаете, — сказал он, — я отлично понимаю ваши трудности. Перевод все убивает. Перевод убивает шутки, сленг, ароматы, идиомы. Меня постоянно убивают в переводах. Но я уже привык. Где ваши перево-ды? Дайте посмотреть.
Нет у меня еще переводов, — сказал я. — То есть есть, но они мне не нравятся,
А по-русски я не читаю, — со вздохом сказал он. — Принесите переводы, и я вам помогу. Я позвоню куда надо.
И теперь я заказал переводы.
Потому что мне снова выпал случай. Сумею ли я им воспользоваться?
Сумею ли я дописать эту историю?
ЧИТАЯ ЕВТУШЕНКО
Евгений Александрович не любит нейтронную бомбу. Евгений Александрович хочет остановить нейтронную бомбу. Он гуманист. Об этом он написал в своей новой поэме "Мама и нейтронная бомба" (журнал "Новый мир" № 7, 1982 г.).
Евгений Александрович Евтушенко не любит не только нейтронную бомбу, но и ее создателя Сэмюэла Коэна, значки "АББА", "Роллинг стоунз" и "Элтон Джон", которые носят теперь советские молодые люди, он не любит наркоманов и учительницу физкультуры, которая приняла его за немца, он не любит стиляг, диссидентов и эмигрантов (о них он тоже пишет в своей поэме), проклятых буржуев, которые купили себе атомные бомбоубежища, власовцев...
Евгений Александрович любит свою маму, папу, своих бабушек и дедушек, очень любит себя. И пишет об этом, как всегда, тепло и талантливо.
Две стихии бьются в творчестве этого противоречивого поэта. Он и сам говорит о себе, что он "расколот эпохой". Лирика и публицистика — вот его стихии. И лирик Евтушенко — замечательный поэт. "Со мною вот что происходит: ко мне мой старый друг не ходит..." Кто не помнит этих стихов! Публицист Евтушенко кажется только что вышедшим из отдела агитации ЦК КПСС, где его тщательно инструктировали, о чем, как, в какой форме писать и откликаться на события текущей мировой политики. Так и слышишь вкрадчивый голос партийного босса: "Понимаете, Евгений Александрович, вот изобрели в Америке нейтронную бомбу. Оружие это очень опасное. Оно убивает людей, но сохраняет дома, сооружения и военную технику. У нас такой бомбы пока нет, хотя наши ученые трудятся над ней изо всех сил. Естественно, прогрессивные силы мира должны возвысить свой голос против этого оружия. И ваш голос, Евгений Александрович, в этом хоре будет выделяться своей силой и проникновенностью. Вы ведь умеете чувствовать нашу боль как свою. Уж потрудитесь, Евгений Александрович. Тем более, что Союз писателей намечает для вас новую поездку в Америку. Так договорились?"
Евгений Александрович отлично знает, почему и вследствие чего американцам пришлось изобрести нейтронную бомбу. Он отлично знает, что танковые и ракетные силы Советского Союза на границах Западной Европы приводят в ужас народы европейских стран. Страх этот перед танковыми армадами СССР, в десятки раз превышающими численность танков НАТО, совершенно парализовал волю и дееспособность многих европейских правительств. Неужели Евтушенко надеется, что ничто не будет противостоять агрессии Советского Союза, если он на нее решится? Полноте, Евгений Александрович! Вы прекрасно знаете, против кого и чего направлена нейтронная бомба! Отчего же вы не выступаете против всех водородных бомб в мире, а осуждаете лишь нейтронную? Не оттого ли, что именно этого вида оружия нет пока под рукой у советских вождей? А если бы была, посмели бы вы выступить против нее? Не обломал бы вам руки тот же самый партийный босс, который попросил вас вставить в вашу поэму тему "нейтронной бомбы"?
"Расколотый эпохой" поэт написал поэму "Мама..." свободным стихом. Это, пожалуй, первый его опыт в этом жанре, что позволило ему создать прозаическими средствами широкое полотно, многие детали которого узнаваемы и близки мне лично: ведь мы с Евтушенко ровесники. Он помнит то, что помню и я: и кинотеатр "Форум" у Колхозной площади, и коробку из-под карамели "Ландрин", и рапортички эстрады, и киоск у Рижского вокзала, где продавали журналы "Работница" и "Здоровье", и нищие белорусские поля, и очереди, в которых его маме "пуговицы невзначай оторвали, когда "выбросили" обои из ГДР".
Все помнит поэт, только главное забыл: кто виноват в том, что бабка его Ганна живет в такой беспробудной, крепостнической нищете в несчастной белорусской деревне, почему и кто убил в тридцатых годах обоих его дедов — белоруса и латыша, отчего гак настрадалась его мама, Зинаида Ермолаевна, отчего и сейчас можно увидеть "младенцев, еще ходить не умевших, но по полю ползавших с пользой, выгребая пальчиками картошку". А картофелины те - "втрое больше их крошечных кулачков"! И еще он забыл, против кого и почему изобретена нейтронная бомба. Поэту очень жалко итальянских детей, расклеивающих листовки с призывом против нейтронной бомбы. Он хочет убедить легковерного советского (да и несоветского) читателя, что на головы этих детей упадет атомная бомба. Нет, Евгений Александрович! Эта бомба — ответ свободного мира на сатанинскую мощь советских танков, и итальянские дети, списанные вами с пошлой картины-плаката художника Федора Решетникова, совершенно ни при чем! Напомню, что Решетников в пятидесятых годах "создал" картину, где изображены два французских мальчика: один клеит на стену плакат со словом "мир", а второй смотрит, нет ли поблизости полиции. Художник хочет убедить зрителя, что за слово "мир" на Западе можно угодить в тюрьму. И эту жалкую агитку воспроизводит Евтушенко в своей поэме!
Целая глава уделена эмигрантам, живущим ныне в Нью-Йорке. Он там пил с ними водку, а теперь льет на них помои. Перед тем, как рассказать о них, поэт намекает на их "истоки": ну, конечно же, это те "стиляги" сороковых годов, "плесень", выброшенная на улицы городов, которым по-пролетарски одетый поэт искренне завидовал. Они, "стиляги", основали "вещизм" в России: за галстук с павлинами они готовы были продать свою родину! Здесь и сын академика, художник, живущий теперь в Нью-Йорке, и харьковский поэт, работающий ныне мажордомом у миллионера, и переводчик с грузинского, и манекенщица, переходящая с рук на руки вышеупомянутым господам, и импортная ныне вобла, и "Нью-Йорк таймс", "исполняющий роль "Вечерки", и бутылка водки, разбивающая окно. И глаза у всех опустошенные, "набитые пылью скитаний". А сын академика "вдруг спросил совсем по-московски, вернее, по улицегорьковски: "Старичок, только без трепа, как ты думаешь, будет война?"
На этом месте я чуть не упал со стула. Если и был такой разговор, то в подтексте его были слова: "Старичок, как ты думаешь, Россия нападет на Америку? Не развяжет ли она войну в какой-нибудь другой части света, не погибнем ли мы все оттого, что ваши сукины сыны поддерживают нацистов и террористов всех мастей в мире, захватывают Афганистаны и подавляют Польши?" Вот ведь что спросил сын академика. И попросил Евтушенко ответить ему без гнусного пропагандистского трепа. А Евгений Александрович не сумел. Он "треплется", что нейтронная бомба — оружие нападения, а не защиты. Ах, как стыдно, Женя!
Поэт пишет, что в нем течет много кровей: русская, белорусская, украинская, польская, латышская, татарская. И перечисляет, что именно в каждой крови сделало его тем, чем он стал. Но почему, Евгений Александрович, не бьется в вас русская кровь академика Сахарова, украинская — Тараса Шевченко, польская — Леха Валенсы, латышская — борцов за ее независимость, татарская — тех, кто погиб в сталинских теплушках, выселенный со своей родной земли? С кем же вы, мастер культуры?
"СТЕНА"
Подумать только, этот фильм снимался американскими кинематографистами в Варшаве, в 1980 году! Премьера его состоялась недавно по телесети Си-Би-Эс. Фильм назывался "Стена".
Стена стала поистине символом нашего времени. Берлинская стена, Кремлевские стены, Великая китайская стена, Стена Плача в Иерусалиме... В этом фильме речь идет о стене Варшавского гетто. О погибшем мире польского еврейства. О еврейском сопротивлении.
Польские евреи были такие же, как мы. Только лучше. Они умели защищаться. И умирать с оружием в руках.
Мы видим улички гетто, евреев, снимающих шапки перед каждым немецким солдатом, желтые звезды. И все время страшное чувство — их убьют.
И все время сравнения...
У нас не было повязок, отличающих еврея от нееврея. У нас были паспорта...
Убегает богатый еврей из гетто — он купил себе фальшивые документы. "Через пятнадцать минут я буду поляком!" — кричит он. И мы были такими. Мы тоже старались. Ну и как, взяли они нас к себе?
"Мы заперты, мы заперты! " — лейтмотив этого фильма. Как это похоже на то, что происходило с нами!
Эсесовец снимает сцену "счастливой жизни" евреев в гетто. Потом Геббельс будет показывать этот фильм простодушным иностранцам. Евреи сидят в чистеньком кафе на варшавской улице и пьют кофе из маленьких изящных кофейных чашечек. Как это похоже на пресс-конференции, устраиваемые в СССР для тех же простодушных иностранцев, на которых знаменитые советские евреи, пряча глаза, рассказывают о своей счастливой жизни в стране Советов!
Шесть тысяч человек отправлялось ежедневно в Треблинку. "Вас слишком много! " — спокойно объясняет немец. Вас слишком много! Какое ужасное, знакомое выражение. Один из новых эмигрантов рассказывал мне, что к нему не раз подходили на улице в Москве и говорили: "Когда же вы уберетесь в свой Израиль?" "Почему, почему вы так говорите?" — с мукой спрашивал он. "Вас слишком много!" — отвечали они.
Уходит поезд в Освенцим.
Сегодня и ежедневно...
Глядя на экран, я все время вспоминал Галича. Все реже встречается в печати его имя, а ведь он был не просто удивительным поэтом и бардом, он был нашей совестью. Поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно...
Идут теплушки, набитые польскими евреями. Один из героев фильма прослеживает их маршрут. "А где же люди?" — спрашивает он машиниста. "Ты чувствуешь запах? — отвечает машинист. — Запах дыма? Это они".
Рассказать вам, как растлевают души? Евреям-полицейским приказывают привести к теплушкам, уходящим в Треблинку, четырех своих единоверцев. За это им обещают жизнь. Полицейский приходит домой и говорит своему отцу: "Пойдем со мной, Ты старый. Ты можешь меня спасти".
Теплушки... Помните ли вы их? Мы ехали в теплушках в эвакуацию в 41-ом. Наш поезд бомбили. Я помню кровь, крики, рев самолетов. Мы добрались до деревни Молодицы Рязанской области. Мы с мамой были первыми евреями, которых здесь видели. Старуха Варя сказала: "Ишь вы, какие тоненькие..." На клубе висел огромный плакат: "Болтун — находка для шпиона". У шпиона был горбатый еврейский нос и длинное ухо...
Фильм "Стена" рассказал о том, как боролось и умирало Варшавское гетто. А я думал о том, что наши убийцы не изменились. Они и сегодня хотели бы добить нас. Отчего же они нас боятся теперь? Ведь первое, что заявила военная хунта Ярузельского: "Солидарность" — это еврейские штучки. Это в Польше, где "еврейский вопрос" был окончательно "решен" Гитлером и предшественниками Ярузельского? Вы заметили: там, где появляется борьба за жизнь и свободу, они тут же прикрепляют ярлык "еврейские штучки". А я бы поставил вопрос так: будут ли герои еврейского сопротивления в Варшавском гетто примером для "Солидарности"?
Мне рассказывали, что замечательный польский писатель Станислав Ежи Лец, еврей по национальности, во время немецкой оккупации надел форму немецкого офицера и разгуливал в ней по Варшаве. Когда он встречал немца, он вынимал пистолет и стрелял. "Как же вас не арестовали?" — спросили Леца. Он ответил: "Я не был в партизанском отряде. Меня некому было предавать". Лец выжил.
А герои Варшавского гетто погибли. Они все ждали, что проснется "совесть мира". Она не проснулась. Где же был мир? Где была Англия? Америка? Где был Бог? На это евреи в фильме "Стена" отвечают: "Мы верим в Бога даже тогда, когда он молчит".
И, стиснув зубы, я досмотрел этот страшный и возвышенный фильм.
"Никогда больше! — думал я. — Никогда!"
"СКОКИ"
Я давно не писал рецензий. Я даже забыл, как это делается. Но вчера, посмотрев телевизионный фильм "Скоки", я не мог не взяться за перо. Фильм этот взволновал меня необыкновенно. Потому что в нем рассказывается о нас, о нашем отношении к фашизму и демократии.
Сюжет такой. Американская национал-социалистическая партия (попросту говоря, неонацисты) хочет провести свою демонстрацию в небольшом зажиточном городке (в России это называлось бы деревней) Скоки, штат Иллинойс. Сорок процентов жителей Скоки —евреи, причем многие из них в детстве или юности чудом спаслись от смерти в нацистских концлагерях и потеряли там всех своих родных и близких. Вопрос стоит так: следует ли разрешить демонстрацию кучке нацистов, одетых в эсэсовскую форму со свастикой на рукаве, в районе, заселенном евреями, чья память о гитлеровских палачах никогда не остынет и чья ненависть к убийцам ничуть не меньше, чем ненависть нацистов любых мастей к евреям.
Главную роль в фильме исполняет Дэнни Кей, комедийный актер, которого я знаю по многим американским фильмам. Это его первая драматическая роль. Он играет еврея, жителя Скоки, чья совесть не может допустить безнаказанной демонстрации нацистов на улице его городка. Дэнни Кей играет свою роль потрясающе.
Он говорит, что если наци пройдут по Скоки, то он возьмет в руки пистолет или дубину и станет их убивать. Обстановка накаляется так, что в действие приходит американская юридическая система: разрешать или не разрешать демонстрацию? Адвокаты из Лиги защиты гражданских прав вынуждены вмешаться в разгорающиеся страсти и стать на сторону... нацистов! Почему? Потому что в Америке никому нельзя закрыть рот. Потому что у нас в стране действует первая поправка к Конституции, декларирующая свободу слова. Свободу слова — для всех! Эта поправка к Конституции — основа демократического устройства Америки. Она охраняет свободу для всех — для большинства и для меньшинств, так как меньшинства всегда под атакой. Меньшинства — это и негры, и женщины, и латиноамериканцы, и коммунисты, и нацисты, и ку-клукс-клановцы, и гомосексуалисты. Запретив свободу слова для одних, мы можем запретить свободу слова для всех. Вот почему Лига защиты гражданских прав стоит на стороне нацистов. Ирония заключается в том, что адвокат этой Лиги — еврей. Еврей должен защищать своих кровных врагов от своих друзей, от памяти о шести миллионах убитых, от всего, что ему дорого и свято! И, тем не менее, он защищает в суде право наци на проведение демонстрации. Потому что закон — выше личных чувств. Потому что закон есть закон. Потому что демократия отличается от фашизма и коммунизма тем, что она защищает даже свободу мышления, которое ей враждебно.
Что меня поразило в этом фильме — я увидел евреев, готовых взяться за оружие для защиты своей чести, достоинства и жизни. Я не говорю про израильтян — они другие, они давно доказали, что еврей — это тоже человек с ружьем, что он не похож на карикатуры антисемитов, рисующих нас трусливыми, хитрыми, жадными и коварными. Я говорю о нас, европейских евреях, о нас с вами, какими их рисует Дэнни Кей, какими мы были, когда наци выстраивали нас в очереди в печи Освенцима! Я понял, что если это случится на моей улице, я тоже смогу взять в руки автомат. Меня уже не загонишь в Освенцим.
Я понял это, когда у нас в Вашингтоне проходили антиамериканские демонстрации иранцев. Они шли стеной, их были тысячи. Они орали свои лозунги против шаха, против Америки, против нас с вами. Они шли, как слепые. Я стоял на тротуаре рядом с американцами, и мы молча смотрели на эту бесновавшуюся, запрудившую все улицы толпу. Так, наверно, было и в семнадцатом году. Все революции одинаковы. А потом я не выдержал! Я выхватил американский флаг у какого-то школьника, стоявшего рядом, и вышел с ним на середину улицы. Клянусь вам! Я никогда не делал это прежде. Я не знаю, что толкнуло меня на этот шаг. Я стоял с флагом посреди мостовой, а колонна иранцев шла мне навстречу. Их окружали полицейские со всех сторон, тысячи полицейских. Они охраняли демонстрацию иранцев. Это была легальная, разрешенная демонстрация. И тут кто-то положил мне руку на плечо. Я оглянулся. Это девушка стояла рядом со мной. И какой-то молодой негр. И какой-то старик. И какой-то мальчик. И мы стояли под нашим флагом, и в груди у меня был восторг и слезы. Потому что мне было что защищать! И рядом со мной стояли граждане моей страны. Испытывали ли вы подобное чувство?
Полицейский, шедший впереди колонны иранцев, подошел к нам и сказал: "Вы должны дать им дорогу. Они имеют право пройти. Поверьте, я чувствую то же, что и вы. Но они имеют право пройти". Он стал теснить нас на тротуар. Я подошел к уличному музыканту, всегда сидевшему на углу Пенсильвания авеню и 17-й улицы, и сказал ему: "Год, блесс Америка". И он заиграл на гитаре, и мы запели "Боже, благослови Америку!" И вокруг нас собралась вся улица, и я видел слезы на глазах людей. И иранцы, проходя мимо нас, невольно смолкали, а орали лишь потом.
Вот почему я чувствовал то же, что Дэнни Кей в фильме "Скоки". Он боялся не нацистов, а чувства своей беспомощности. Он хотел быть человеком и сказать свое "нет!" Потому что хватит бояться! Мы всегда боялись. Боялись нацистов, боялись коммунистов, боялись белых, боялись красных, боялись Махно и Петлюры, Сталина и Гитлера, Хрущева и Брежнева.
А теперь мы не боимся. А раз так, то мы сможем выдержать и демонстрации нацистов, и подстрекательские газеты коммунистов, и наглые выходки иранцев. Потому сто у нас — свобода. И ее нельзя терять. Когда кончается свобода, начинаются лагеря. Когда убивали маму, вспоминает Дэнни Кей, все вокруг говорили: "Что мы можем сделать? Что мы можем сделать?"
Можем. Теперь можем. Если научимся понимать демократию. Если научимся понимать закон. Если сумеем сберечь свободу слова. Для всех.
Демонстрации нацистов в Скоки не произошло. Суд запретил демонстрацию, потому что, по мнению суда, свастика могла вызвать беспорядки. Потому что евреи в Скоки могли убить нацистов.
Но победили ли евреи, не допустив этой демонстрации? Победила ли свобода?
И как нам жить дальше? Вот вопросы, которые остались у меня после просмотра превосходного телевизионного фильма "Скоки".
РУССКИЕ ТАКИ ЗДЕСЬ!
Мне довелось посмотреть телепередачу Пи-Би-Эс "Русские здесь". Это, пожалуй, первая попытка работников американского телевидения проанализировать социальный состав и политические корни нашей волны эмиграции. Сразу скажу, что попытка эта была предпринята с довольно сомнительными целями: телезрителю внушалось, что в большинстве своем мы рабы, алкоголики и невежды, предпочитающие жизнь при коммунизме жизни в нормальном демократическом обществе. Рупорами этих отвратительных идей выступили поэты Лев Халиф и Константин Кузьминский, взявшие на себя смелость говорить от имени всех нас и страстно доказывавшие вытаращившим глаза американским телезрителям, что мы ушли от коммунизма к демократии потому, что понятия не имели, как ужасна демократия и как мила жизнь при КГБ, где вышеперечисленные инженеры человеческих душ чувствовали себя важными и значительными, а приехав в Америку, поняли, что никому здесь не нужны. Наши непризнанные гении теперь точно знают, что свобода — не для них и не для нас. Они готовы вернуться в Советский Союз вместе с несчастными, скверно выглядящими на экране жителями Брайтон-Бича. Но, пока это невозможно, наши эмигранты предпочитают дублировать зарубежные порнофильмы и слушать записанные на видеопленку песенки Фрадкина на слова Долматовского.
Камера любовно рассматривает гнусную оргию, в центре которой вальяжно развалился мистер Кузьминский, с упругого живота которого то ли пес, то ли приятель жрет картофельные чипсы. Тут же декадентствующие барышни, похожие на тех, что мы оставили в подворотнях Марьиной Рощи, и другие люмпены стаканами пьют водяру, создавая у пораженных всем этим телезрителей чудовищное впечатление о России, которую действительно трудно понять умом в такой мизансцене.
Создатели фильма сделали все возможное, чтобы американцы перестали подавать нам руку: кто же захочет общаться с сукиными детьми, не способными отличить фашизм от демократии? Кто же захочет общаться с людьми, в чьих мозгах вытравлены клетки свободы? Кому нужны эти жалкие, нелепые пританцовывающие дикари, прожигающие жизнь в ресторанах Брайтон-Бича, нажирающиеся так, будто завтра Америка переходит на карточную систему или завтра вообще ничего не будет, а будут только пошлые графоманские песенки а-ля-цыганщина, под которые танцуют вальс тетя Сара и дядя Хаим!
Стыдно, господа!
Не такие мы. И не потому мы уехали. И не так мы живем. Так живут те, кто не умеет и не хочет жить иначе.
Я не обижаюсь на создателей фильма, сработавших эту ленту по худшим образцам советской пропаганды на радость андроповским молодчикам и тухлым либералам из американских интеллектуалов, которые устами наших эмигрантов доказывают преимущества социализма перед прогнившим капитализмом. В конце концов, это их право: у нас свобода печати. Мне стыдно за тех бывших "борцов за свободу", которые, ничего не умея и ничего не поняв, в сущности оклеветали нашу эмиграцию.
Трудно ли нам тут? Да, трудно. Такие ли мы, как показали нас в фильме "Русские здесь"? Нет, не такие!
А какие?
* * *
Подумайте сами: врачи, приехавшие сюда без языка, без знания того, что им предстоит, сдают все эти чудовищные экзамены и становятся американскими врачами! Откуда в вас эти силы, друзья мои? Откуда этот железный напор, стальная воля, жизнеспособность, позволяющая вам на первых порах жить в убогих квартирах, к которым вы не привыкли, где мебелью служат тараканы, и долбить, долбить, долбить эти огромные фолианты на чужом языке, чтобы стать на свое место?
Я думаю сейчас о докторе, моем друге, профессоре из Москвы. Он живет в Лос-Анджелесе. Он лечит американцев и русских эмигрантов. Он лечит моего папу. И маму. И покрикивает на них, когда они не слушаются. В Москве он был крупным врачом. В Америке он стал крупным врачом. Он пробился через чудовищные трудности. Чье место он занял в своей новой жизни? Свое. Снимаю шляпу перед вами, доктор!
Я думаю о другом моем друге. Там он был начальником домостроительного комбината. Ну, кем может работать в Америке начальник? Правильно, чернорабочим. Так он и делал. Жена его была зубным врачом. Что может делать здесь стоматолог из России? Правильно, мыть полы. Так она и делала в одном из домов для престарелых. Но мой друг копал землю и смотрел, как строят тут дома. А потом он бросил свою лопату и стал строить сам. Он построил три дома, которые даже по меркам Беверли-Хиллс, где живут звезды, — дворцы! Он их построил с такой инженерной изобретательностью, что со всех концов Америки к нему тянутся специалисты, чтобы посмотреть на это чудо. Потому что его дома висят на склоне горы. Как они висят, я не знаю, спросите у него сами. Но они — лучшее, что я видел в Америке, а я уже видел тысячи домов, богатых и бедных, "колониалс", "сплитс", "рамблерс" и шмамблерс. Я видел все, а таких домов не видел. И мой друг стал "билцером". А его жена купила тот дом для престарелых, в котором она мыла полы. И теперь они — успешные американцы.
Я помню еще об одном моем друге, кандидате экономических наук. Он приехал в Нью-Йорк и на следующий день испек пирожки с картошкой. Зачем? Он взял эти пирожки и пошел на кампус Колумбийского университета. Там он их продал с лотка. Он каждый день приходил туда и продавал пирожки, которые он выпекал. Наверное, мама научила его этому. Обычно московские ученые не очень сильны в этой науке. И, подзаработав на этом немного денег, он нанял двух теток, которые по его эскизам шили пестрые фартучки к радости студенток того же университета. Надо добавить, что мой друг утром продавал свою продукцию, а вечером его приглашали выступать в различных клубах, университетах и синагогах, где он рассказывал об экономике России и о положении евреев в СССР. На одной такой встрече к нему подошел старичок и сказал, что, сдается, молодому человеку нужна работа. Пусть зайдет завтра в пять. Он торгует очками. Что-нибудь придумаем.
Другой бы сказал: торговать очками? С моими дипломами и амбициями?! Да я в Москве был ого-го кто! Да на меня министры равнялись! Да я за руку был с самим Николаем Васильевичем! Да я...
Мой друг был нормальным человеком, он так не рассуждал. Он знал, что у старичка есть работа! И ровно в пять он там был. Старичок действительно торговал очками, но не в том смысле, что у него была лавочка в Бруклине и он нуждался в кандидате экономических наук, чтобы тот подметал ее после ухода хозяина. Он был хозяином крупнейшей оптической фирмы по оптовой продаже линз и очков в США. А может быть, и во всем мире. Есть такие тихие старички, чаще всего из Витебской губернии.
Мой друг стал носить ящики на огромном складе. А потом пошел к старичку и сказал, что он носит и ставит ящики так, а надо бы их носить и ставить вот так. Старичок сказал: "Этого я и ждал от тебя". И теперь мой друг — вице-президент той очкастой фирмы. И жена его уже сдала все экзамены на врача и открыла свой офис. Русские здесь! Это они правильно говорят...
Был у меня в Москве товарищ. Он был хорошим инженером. Он давал Госплану и Совету министров свои рекомендации и предложения. Скажем, как выгоднее провести газопровод из точки А. в Сибири в точку Б. в Малаховке. Ему говорят: вы очумели! Это же десять миллиардов рублей! Вы знаете, что такое десять миллиардов рублей?! Он говорит: это десять в десятой степени. Его не интересовали их глупости, он занимался концепциями. Поэтому он им был не нужен. Он и уехал в Техас. И стал изобретателем. Он изобретает те вещи, которые обойдутся предпринимателям и фирмам в миллионы долларов. И его покупают. И он скоро перевернет всю эту Америку, потому что идеи из него прут, как продукты из моего холодильника. А так как он концептуалист, а по-нашему системщик, то ему все равно, в какой области изобретать: в нефтяной ли, в угольной промышленности, в разведении бобров или в области применения солнечной энергии. Такой у него мозг. И ему есть что добавить к американской системе свободного предпринимательства. Мой товарищ и сейчас один из самых успешных людей нашей эмиграции, а что будет завтра? Вот увидите, что будет...
К чему я вам рассказываю все эти истории? А вот к чему: я думаю о своей неблагодарной родине. Я думаю о том, что она потеряла, потеряла от ненависти к нам, от гнусного своего неприятия людей талантливых, решительных и творческих. Она, наша родина, думала, что, вытеснив нас в эмиграцию, она тем самым обрекает нас на несчастье и неприкаянность, она надеялась, что мы никому не нужны в этом мире, что мир отторгнет нас, как она сама. Ан нет, ребята! Я бы мог порассказать вам сотни историй, вроде вышеизложенных. Я вам еще расскажу о моем брате Мише, замечательном кинооператоре, бьющемся сейчас со всем Голливудом за свое место под киносолнцем, потому что это его призвание, и он своего добьется! Он сказал мне как-то: "Понимаешь, мы представляем собой некое физическое тело, помещенное в другую среду. Но мы уже здесь, и никуда они от этого не денутся. Им придется потесниться". И с точки зрения физики, и с точки зрения здравого смысла он прав. По-моему. Я расскажу вам и о других моих товарищах, знакомых и незнакомых, чьи успехи мне по сердцу. Чуть не забыл: всем тем, о ком я вам сегодня рассказал, — пятьдесят или чуть больше. Или меньше. Каково в этом возрасте шагать по жизни? Поэтому я не пишу о молодых — им и карты в руки!
И еще я думаю, что наш отъезд — удар по русской культуре. Той, которую мы так любили. И создавали. Потому что литературу делают читатели. Где теперь читатели? Театр — это зрители. Где теперь зрители? Для кого будет писать ваш любимый поэт? Ведь вас уже нет. Кто будет шептаться в фойе после просмотра спектакля в театре на Таганке? Ведь вас уже нет. Для кого будет стараться кинорежиссер X.? Ведь вас уже нет.
У писателя Рея Брэдбери есть рассказ "И грянул гром". Это о том, что некая предприимчивая фирма организует путешествия в прошлое. Вы можете купить билет, уехать на машине прошлого в доисторические времена и убить там мастодонта. В доисторических джунглях пробита тропа к тому месту, где пасется этот мастодонт. (Или динозавр, черт его знает, как его звали.) Его можно убить потому, что через секунду после вашего выстрела на него упадет сук, который его прикончит. Так что вы не нарушите законов эволюционного развития. Эволюция от этого не пострадает. Поэтому условие одно — вы не имеете права сойти с тропы. Если вы сойдете, то можете раздавить какого-нибудь жучка или бабочку, отчего весь ход исторического развития будет нарушен. (Я не скучно пересказываю? Тем более, что я читал этот рассказ очень давно. Мировой рассказ!)
А в это время в Америке происходят выборы Президента. И всюду развешаны плакаты: "Выбирайте Говарда Смита, этого поборника прав человека! Не голосуйте за Джона Джонсона, этого черносотенца и мракобеса!"
И вот некто отправляется на сафари в прошлое. И он сходит с тропы и нечаянно давит бабочку. Сопровождающий в этой поездке убивает его как преступника. И, вернувшись на машине времени домой, все видят плакат, на котором написано: "Да здаствует наш призидет Джон Джонсын, наш вошдь и учитиль!" Некто раздавил лишь ничтожную бабочку, и весь ход эволюции повернулся вспять! Вот такой рассказ.
Вы мне скажете: перестань, нас всего горстка, а там осталось огромное число прекрасных людей. Наш исход совершенно незаметен в такой большой стране, как Россия. И нет! — скажу я. Мы — та маленькая бабочка, которую раздавил некто. Но он только изменил эволюционный процесс там. Как жаль оставшихся!
* * *
Вот какие мысли возникли у меня после просмотра лживого пропагандистского фильма "Русские здесь".
Мы — часть своего народа. И каждый народ имеет право на своих гениев и своих преступников, на своих удачников и своих неудачников. Но народ, лишенный стремления к свободе, — не народ. Это чернь. Представлять всех нас чернью — дело неблагодарное и подлое.
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Однажды я попал в студию Кукрыниксов. Она занимала последний этаж дома № 8 на улице Горького в Москве. Там они работали. Я приехал к ним заказать политическую карикатуру на 16-ю страницу "Литературной газеты", где я работал. Вообще-то с самого начала новой, "толстой", "Литературки" мы решили, что карикатуристы старой советской школы должны оставаться там, где они есть, — в "Правде", в "Известиях", в "Крокодиле". А мы уж обойдемся теми, кого воспитаем в "своем коллективе". И вокруг нас образовался узкий кружок молодых талантливых художников, которые любили не только рисовать, но и думать: Вагрич Бахчанян, Виталий Песков, Владимир Иванов, Игорь Макаров и еще несколько человек...
Кукрьшиксы и Борис Ефимов появлялись тогда, когда нельзя было печатать "своих": в день 7 ноября, 1 мая... Перед этими революционными праздниками начальство вызывало меня и говорило: "Не будем же мы поганить нашу газету вашими антисоветчиками в дни торжеств. Попросите Кукрыниксов украсить вашу гнусную страницу чем-нибудь выдающимся". И я ехал к Кукрыниксам...
В самом деле, можно ли было напечатать в газете седьмого ноября такую, скажем, карикатуру?





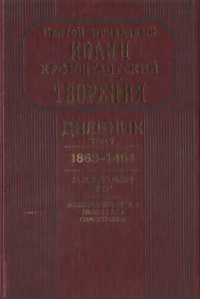



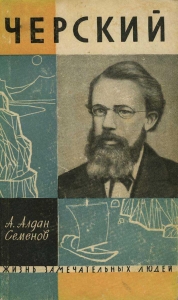
Комментарии к книге «Мои автографы», Илья Петрович Суслов
Всего 0 комментариев