Полина Бон Записки фотомодели. Стразы вместо слез
Глава первая
Если дураки-хозяева догадались не отключать спрятанные в стенах и золоченой лепнине скрытые камеры и микрофоны, то уже сегодня все происходящее в эту минуту вокруг меня станет самым популярным видео в Интернете. Новостные порталы, электронные версии газет и видеосервисы отдадут любые деньги, чтобы вывесить ролик на самых видных местах на своих главных страницах. Я уже вижу захлебывающиеся в некрофильском восторге заголовки баннерной рекламы:
ФОТОМОДЕЛЬ ПОДОЖГЛА ГОСТЕЙ СВОЕГО ЛЮБОВНИКА
ОЛИГАРХ СГОРЕЛ ЗАЖИВО
АДСКАЯ ВЕЧЕРИНКА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ: КАДРЫ С МЕСТА ТРАГЕДИИ
У ПОПУЛЯРНОЙ ВЕДУЩЕЙ ИЗУРОДОВАНО ЛИЦО
ОРГИЯ В КРЕМАТОРИИ
Сколько миллионов кликов соберет фотография, на которой телезвезду с ожогами третьей степени несут на носилках врачи? На каком месте в рейтингах поисковых сайтов будет фоторепортаж с кадрами обугленных золоченых панелей, растоптанных шикарных букетов, потерянных туфель по три тысячи евро каждая? Сколько выложат рекламодатели за то, чтобы реклама элитной недвижимости и клиник для похудения висела на одной странице с изображением обожженного лица бывшей порнозвезды-ставшей-актрисой, по которому размазаны кровь, сопли, сажа и косметика на основе человеческих эмбрионов? Удастся ли доморощенным папарацци запечатлеть шрамы на силиконовых грудях известной светской львицы, выбегающей из огня в разодранном платье отСhristian Lacroix, которое до этого было похоже на шикарную атласную обертку дорогого подарка?
У меня нет времени, чтобы произвести все подсчеты. Мимо меня несется приземистое существо во фраке, надетом поверх лиловой рубахи с неимоверным жабо, напоминающим гигантскую бугристую гематому. Дряблые нарумяненные щеки существа сотрясаются от каждого движения, как мясистый индюшачий придаток. Рот перекошен. Из висящей на руке сумки из фальшивой кожи питона на бегу вываливаются серебряные столовые приборы, кольца для салфеток и шоколадные конфеты в золотых обертках.
Существо сбивает меня с ног. И я, как большая сломанная кукла, на негнущихся ногах падаю на залитый вином и изгаженный растоптанной пищей наборный паркет.
Я сижу, опираясь на руки. Под одной из ладоней я чувствую что-то влажное и мягкое. Возможно, это тирамису. Или кусок осетрины, выпавший у кого-то изо рта. Главное, чтобы какая-нибудь бешеная сука не наступила мне на руку пятнадцатисантиметровой шпилькой, думаю я. В этой позе я выгляжу ужасно глупо. Но у меня нет сил, чтобы встать. Как будто во мне сломалась какая-то пружина.
Отсюда, снизу, все происходящее начинает казаться мне плохим спектаклем, который я видела когда-то в детстве по телевизору. В одном большом и богатом доме гости собрались на рождественскую елку. А маленькие дети хозяев дома потихоньку съели все конфеты, пастилки и яблоки, которыми была украшена елка и которые предназначались детям-гостям. Когда это выяснилось, строгие родители решили наказать детей и отдали их подарки мальчикам и девочкам, пришедшим в гости. От обиды хозяйский мальчик начал бить своих гостей. Это вызвало невообразимый скандал. Голос за сценой значительно произносил: «И гости начали расходиться». Дальнейшее действо должно было показать зрителям всю нервозность момента и то, с какой обидой и негодованием расходились гости. Кучка актеров и актрис, одетых по старинной моде, торопливо ходила по сцене. Туда-сюда. Туда-сюда. С шубами и пальто в руках они широко расставляли ноги, топали и патетически вытягивали руки и шеи, что-то возмущенно, но беззвучно кричали и потрясали в воздухе кулаками. Вся эта толпа напоминала пьяного паука на длинных ножках, которые беспорядочно пересекались в пространстве, скрещиваясь с собственными вытянутыми тенями. Вот и сейчас я вижу того же паука, который мечется по наборному паркету, роняя столы, стулья и прихватывая с собой подсвечники, ножи, вилки и бутылки дорогого коньяка…
Смешнее всего выглядят полуголые модели и стриптизерши, с визгом лезущие во все щели, бьющие и отталкивающие друг друга. В моем плече пульсирует горячим гейзером боли какая-то точка. Но я не могу посмотреть на нее. Мне вдруг становится дико смешно. Я сижу и сотрясаюсь от судорожного смеха. Но я не слышу себя. Мой всхлипывающий, кашляющий, визжащий смех тонет в бешеном саундтреке из истерических криков, мата, бьющейся посуды, рева сигнализации и музыки, которая почему-то все еще звучит, несмотря на то что весь оркестр уже разбежался, бросив инструменты, а приглашенный диджей с расширенными от амфетаминов зрачками выглядывает из-под стола (он, бедняга, наверно, думает, что все происходящее – это его персональный глюк, мощный приход, который накрыл его прямо за пультом). Я думаю, это ультрамодный саундтрек к нашему домашнему спектаклю! В другой обстановке модные музыкальные критики упомянули бы его в своих авторских колонках. А модные диджеи соревновались бы в импровизациях на эту тему в «Дягилеве» (в этот момент еще существующем), в «Пропаганде», или в «Крыше мира»… Сейчас один из модных музыкальных критиков со спущенными штанами лежит в туалете, слабо соображая, почему пахнет дымом и за что его «милый ангел» так внезапно и грубо отшвырнул его, ударив головой о батарею, а сам бросился прочь, застегивая на ходу ремень.
Вот она – ни на что не похожая новая музыка, которую они так хотели услышать, заправляясь моноцетилморфином архангельского производства, или вдыхая чужой «кокос», привезенный в большой и черной негритянской заднице, или запивая таблетку «пацифика» «Ред Булом»!
В моей голове всплывает «окно» нового рейтинга самых модных клубов, который будет составлен, если все мы доживем до завтра:
3-е место. Звуки тела фотомодели, сброшенной с лестницы.
2-е место. Катящиеся по мраморному полу жемчуга, сорванные с шеи жены известного режиссера.
1-е место. Вой обезьян, запертых в горящем доме.
С моего отличного сидячего места в самом центре этой сплошной VIP-зоны видно, как рвутся шикарные вечерние платья, на которые наступают ноги в дорогих, но грязных ботинках. Если вам интересно, кто все эти люди, просто включите телевизор или откройте толстые, как энциклопедии, глянцевые журналы. Глянцевые журналы – это современный вариант Большой книги аристократических родов. И не беда, что большинство тех, чьи лица вы видите на глянцевых страницах, еще лет десять назад подтирали задницы газетой «Правда» и только недавно научились пользоваться за обедом ножом и вилкой. Каждый из них уже занял свое место в новейшей табели о рангах – во всевозможных рейтингах. Вон тот лысеющий мальчик в очках с тонкой металлической оправой – № 2 в рейтинге богатейших людей России. А та оплывающая баба, которая сейчас безвольно повалилась на раззолоченный красный диван, – № 4 в списке самых популярных российских писателей. Похожий на развратного римского патриция эпохи упадка человек с тяжелыми землистыми щеками и мохнатыми черными бровями – № 3 в федеральном списке какой-то партии… Сейчас все эти номера рассыпались и смешались, как сброшенные на пол бочонки адского лото.
Хозяин этого роскошного приема – тоже один из десяти фигурантов списка богатейших людей страны. Его состояние на сегодняшний день оценивается… Впрочем, это уже неважно. Он стоит рядом с догорающей бархатной шторой. Тугой волосатый живот вывалился из разодранной рубашки цвета нежно-розовой полоски предрассветного неба в Сен-Тропе. В одной руке он держит то, что осталось от чьей-то скрипки (которой, вероятно, сыграли полонез на чьей-то голове).
Другая главная героиня этого реалити-шоу лежит на полу рядом с тем местом, где недавно кротко и стеснительно, чтобы не мешать жрущим гостям, играл оркестр. Правой рукой она все еще сжимает пистолет, похожий на игрушку. По ее белому платью-смокингу расплывается темное влажное пятно цвета спелой вишни. Судя по тому, что ее тело периодически сводит судорога, это не вино и не сок. На полу лежит моя лучшая подруга. Мы будем называть ее Виктория Дольче. На самом деле ее зовут совершенно по-другому. Но ее настоящее имя никому не интересно, и его никто не знает. Она хотела, чтобы ее звали Victoria Dolce. Это же в любом случае лучше, чем какая-нибудь Катя Кабанова, или Олеся Вислогузова, или Маша Конева…
В мире рейтингов и номеров имя – это бренд. Имя должно быть таким, чтобы одинаково хорошо смотрелось и на могильной плите, и на заднем кармане джинсов. Согласитесь, представить себе джинсы с эмблемой «Victoria Dolce» значительно легче, чем джинсы с эмблемой «Олеся Вислогузова» или «Настя Горбатко». Теперь моя подруга, возможно, в одном шаге от красивой надписи «Victoria Dolce» на ее могильной плите…
Она сама была бы рада повеселиться на моих похоронах. Тогда на моем надгробии тоже была бы красивая надпись… Собственно, я забыла представиться. Мое имя Лиза Каджар. Это имя тоже не настоящее, как и все в этом странном, преувеличенном, усыпанном стразами картонном мире, похожем на Диснейленд для взрослых. Естественно, я (как это ни вульгарно звучит) принцесса. Здесь это нормальное явление. И хотя в отличие от большинства обитательниц диснейленда во мне действительно течет кровь царского рода, сейчас это не имеет никакого значения. В Большой книге современной аристократии нашлось бы место и для меня. Но в этой книге я уже удостоилась титула известной и успешной фотомодели (и, конечно же, содержанки – в наше время такая приставка к «титулу» просто необходима, чтобы тебя считали успешной). И в нашем мире этот титул весит больше, чем старинный родовой герб.
Это я должна лежать на месте Виктории Дольче. Ведь именно мне предназначались пули в ее пистолете, похожем на игрушку… Но сегодня, кажется, повезло мне. Или не повезло… (Об этом я подумаю позже.)
Когда я слышу или читаю, как какой-нибудь пропитой и заношенный, как старый свитер, дядя или мадам со следами увядшей красоты убиваются по поводу ранней смерти известного актера, певца или художника, я испытываю смешанное чувство жалости и восхищения. Причем восхищение у меня вызывает смерть, а не старые гундосы, которые апатично пережевывают слова про «безвременный уход» и «недоделанные дела». Когда умирает кто-то молодой и талантливый, ко мне на время возвращается вера в Бога и Высшую справедливость. Значит, Он все-таки все видит и Ему не чуждо сострадание! Кем были бы все эти гениальные певцы, актеры и художники, не прибери их Господь – в двадцать, тридцать, сорок лет? Такими же спившимися маразматиками, как те их друзья и коллеги, которые теперь скорбят об их смерти! Уродливыми стариками с прогнившими мозгами и разложившейся печенью! Какая космическая ирония есть в том, что живые трупы обливаются соплями и слезами, оплакивая тех, кто ушел из их жалкого выморочного мира. И какая зависть слышится в их словах! Ранняя смерть – это как Божественный «Оскар» или Пулицеровская премия Всевышнего.
Но моя подруга Виктория Дольче так не считает. Она верует во всемогущую Пластическую Хирургию и в волшебную силу Индустрии Красоты. Виктория Дольче хотела бы пребывать в своем теле вечно, меняя по мере надобности органы на запчасти новых, более совершенных моделей. У Виктории Дольче есть только ее совершенное тело мальчика-подростка с узкими бедрами, выпирающими подвздошными костяшками и упругим животиком, извивающимся, как тело анаконды. И если оно вдруг исчезнет, от моей подруги ничего не останется. Виктория, сама того не зная, является самой последовательной сторонницей материализма. Поэтому она очень боится смерти. И сейчас, распластавшись на полу, как лабораторная мышь, она дергается и всеми силами цепляется за края все расширяющейся черной ямы, которая засасывает ее в свою бездонную глубину…
Поднимая голову от паркета, к которому она пришпилена невидимыми булавками смерти, Виктория Дольче посылает в мою сторону надсадный и неровный, как края рваной газеты, звук. На языке раздавленного таракана этот звук означает примерно следующее: «Я исчезаю. Мне страшно. Подойдите ко мне кто-нибудь». Божьи твари на пороге смерти удивительно быстро учатся понимать общий для всех божьих тварей язык. Не то что в дни своей «полной драйва» жизни!
Повинуясь этому зову, я ползу к телу Виктории Дольче, чтобы подарить ей прощальную улыбку. Мои колени разъезжаются на рассыпанных канапе, икре, пирожках с фуа-гра, волованах в форме толстеньких мужских членов с креветочным муссом, свежей клубнике. Если включить фантазию, то можно представить, что я ползу не по полу, а по роскошному огромному столу на пиршестве у какого-то жизнелюбивого божества. Я – главное блюдо, которое по замыслу шеф-повара должно само заползать в рот. Но сегодня моя фантазия вряд ли мне пригодится. Все происходящее и без того исполнено оригинально и с выдумкой.
Виктория Дольче протягивает ко мне руку с идеальными ногтями, сделанными в процессе ежедневных обязательных процедур в «Nail Room». («Nail Room» – это как церковь для истовых светских львиц.) Как будто она лежит не на залитом собственной кровью паркете, а на золотом песке острова Святого Маврикия, Виктория говорит дрожащим и скрипучим голосом:
– Дорогая, дай мне чего-нибудь выпить…
Стоя на карачках и пошатываясь, как перебравшая с алкоголем шлюха, обслуживающая клиента, я вижу, как из голубых глаз Виктории Дольче скатываются две капли. Они оставляют светлый след на ее перемазанных сажей и кровью щеках.
Я глажу ее по обожженным волосам. И слышу, как она бормочет, словно обиженный ребенок:
– Я не могу умереть! Ты же знаешь, я не могу умереть… сейчас… Когда все складывалось так хорошо… Я собиралась в Ниццу…
Мне хочется как-то ее утешить. Но я не знаю, что ей сказать. Сказать ей, что в Ниццу она еще успеет? Или соврать, что она действительно не может умереть? Или сказать ей правду о том, что вся ее жизнь до сегодняшнего момента – это просто омерзительный коктейль из лжи, пафоса и жалких фантазий на тему красивой жизни?
Больше всего я боюсь, что Виктория Дольче сейчас устроит настоящую истерику и будет вести себя как герои «Фабрики звезд», которые знают, что все их рыдания и страдания снимают многочисленные камеры.
Я почти молюсь:
– Не плачь, не плачь, не плачь…
Виктория Дольче уже смирилась с тем, что умирает. И теперь вслух режиссирует собственные похороны. Она хотела бы, чтобы ее кремировали. И чтобы урну с ее прахом похоронили в Сен-Тропе. Она не хочет гнить в вонючей московской глине на окраине города рядом с лежащими там толстыми некрасивыми продавщицами продовольственных магазинов, сторчавшимися наркоманами, водителями троллейбусов, ментами и просто быдлом из спальных районов. И уж тем более она не хочет гнить на родной Тамбовщине, где лежат на убогих кладбищах ее крепкие, как тамбовская картошка, бабушки и дедушки… Об этом Виктория даже не думает. Ее мысли высоки и прозрачны: на ее похоронах должны собраться все, кого она любила…
Я рассеянно слушаю ее монолог. Когда последние слова доходят до моего сознания, у меня вырывается нервный смешок. «Все, КОГО я любила»? Что она имеет в виду? Религия Виктории Дольче предписывает любить красивые места, дорогие машины, шикарную одежду, вкусную еду. Но в персональной библии Виктории Дольче ни слова нет про любовь к себе подобным. В религии Виктории Дольче люди всегда были лишь инструментом для достижения чего-то. А как можно любить пилочку для ногтей или бритву для подмышек?
Как обычно, я говорю:
– Все будет хорошо. – И улыбаюсь вымученной улыбкой. – Все будет хорошо, дорогая, нужно только верить… Верить.
Мои слова заглушает грохот, от которого сотрясается весь дом. В каминном зале с потолка падает хрустальная люстра. Вслед за этим волна горячего воздуха проходит по комнатам.
Я прихожу в себя уже на улице, где крики врачей, пожарных, спасателей, зевак выводят меня из оцепенения. Я вижу, как на носилках тело Виктории Дольче грузят в экипаж роскошного реанимобиля. Надрывающиеся сирены придают всему происходящему поистине вселенский пафос. Если моя подруга Виктория Дольче еще не утратила слух, ее сердце должно переполняться гордостью за самое себя.
Кто-то сажает меня на какой-то стул. Дает мне бутылку с водой. Мое лицо утирают мокрой тряпкой. Я слышу, как чей-то голос обращается ко мне:
– Вы можете говорить? Расскажите мне, что произошло?
Значит, я еще жива. Если вам задают такие вопросы – значит, все нормально. Все как обычно. Мы все время хотим знать, ЧТО произошло, но почти никогда не задаем вопрос ПОЧЕМУ…
Если вы хотите, я расскажу вам все. Как было. С самого начала. Слушайте. Только не перебивайте идиотскими вопросами типа «А какое отношение этот человек имеет ко всему происходящему?». Приготовьтесь к тому, что события и люди в моем рассказе будут перескакивать во времени и пространстве, как кадры клипа или рекламного ролика, в котором за пятнадцать секунд нужно намешать такой коктейль из правды и лжи, чтобы покупатели выбрали именно этот товар. Мой рассказ будет похож на глянцевый журнал, по страницам которого беспорядочно разбросаны лица и бренды, где самые сокровенные слова перемешаны с рекламными слоганами и где между страниц, на дорогих рекламных вставках, искусно покрытых лаком, фольгой или тиснением, живу я – всегда разная и непохожая на саму себя… Неуловимая, как отблеск бриллианта. Такова уж моя жизнь.
Глава вторая
Перелистаем книгу моей жизни в начало. Вернемся в то время, где еще нет Виктории Дольче, особняков, похожих на съемочные площадки мексиканских сериалов, фотовспышек, крутящихся рулеток, воздуха с непременной тошнотворной влажной вонью сигарного дыма и голосов, которые бы отлично подошли персонажам с картин Иеронима Босха…
Мне четырнадцать лет. И у меня еще прежнее имя, которым меня назвали при рождении: Карина Каджар. Я нахожусь в мире несбыточных грез, поэтому вся моя жизнь проходит в сослагательном наклонении. Многочисленные лукавые и манящие «если бы» и безапелляционно-безысходные «но» ведут непрекращающуюся войну, опустошающую мое сознание и отнимающую все силы. Я трачу очень много сил на то, чтобы обойти все эти опасные мины в виде «но» и «если бы» и убедить себя в том, что я счастлива. Каждая моя мысль, каждое воспоминание или надежда превращаются в настоящий лабиринт, ведущий в неизвестность. Мои мысли и фантазии похожи на затейливую арабскую вязь родовых книг семейства Каджар.
Если бы мой прадед не был свергнут, остался шахом и не убежал бы в эту северную страну, где родились мои родители и где родилась я, то через два года я должна была бы стать женщиной. Так записано в родовых книгах. В день моего шестнадцатилетия моя мать с процессией поющих прислужниц и двенадцати девственниц сопроводили бы меня в хамам. Здесь после омовения банная служительница – тайаба-аль-хамам – подготовила бы меня к таинству первой брачной ночи. Все это время прислужницы и девушки пели бы заклинания, отгоняющие злых духов.
Обнаженную, со свечой в руке, меня ввели бы в центр банного зала. Здесь, в клубах пара и благовоний, на мраморном ложе, тайаба-аль-хамам тщательно вымыла бы мое тело и открыла мне все плотские тайны. Под звуки песен и молитв я должна была выйти из хамама в легком одеянии, пропитанном розовым маслом, и с покрытой головой. В следующую после омовения ночь родители жениха прибыли бы в дом моего отца, а моя мать и мои подруги покрыли бы мои руки узорами из хны.
Еще через день в белом платье и с букетом из тридцати трех белых роз в руках под белоснежным балдахином я с моим женихом вошла бы в зал, где нас встречали бы гости, родственники, священник. На пиру, который начался бы после ритуала, мы сидели бы на главном месте, озаренном солнечными лучами… Мои далекие предки были зороастрийцами: они поклонялись огню и солнцу.
Но теперь я вижу все это только во сне. Мой прадед, свергнутый шах, мертв. Мой дед, последний, кто помнит родовые книги, всю жизнь скрывал свое царское происхождение. Он жил в южной деревне, пахал землю, выращивал овец и каждый день старался забыть родной язык. В конце концов он вообще разучился говорить. Теперь он всегда молчит.
Мне четырнадцать лет. И из белоснежных персидских снов я падаю в узкую неудобную кровать с выпирающими пружинами. За стеной моей комнаты, ударившись об стену, разлетаются градом осколков остатки посуды. Это мама ведет диалог с Богом, с миром – словом, со всем тем, что она считает виновным в своих бедах и что не отвечает на ее упреки. У нее есть повод предъявлять претензии. Ее муж, мой отец, живет теперь с другой женщиной или с несколькими – в этом мире ни в чем нельзя быть уверенной на сто процентов. Вот уже год, как он бросил нашу семью. Я понимаю, как тяжело мама переживает это. Но еще я понимаю, что вскоре в доме вообще не останется посуды. И нам – сестре, мне и брату – придется есть прямо из кастрюль или из пластиковых мисок, которые кто-нибудь купит в ближайшем собачьем магазине. Впрочем, как вы, возможно, догадались, мы давно уже не устраиваем семейных обедов.
Я сказала слово «дом»… Это ошибка. Наивная попытка памяти отодвинуть боль в закоулки сознания. Уже год у нас нет дома. Мы живем в расселенной коммунальной квартире, принадлежащей городу, которую мама, с ее талантом профессионального мозгоправа, сумела выклянчить у кого-то из знакомых чиновников. Квартира находится в самом центре города. В ней семь комнат, высота потолков – четыре метра. Такая квартира стоит больше миллиона долларов. Именно поэтому мы временно живем здесь: на нее не нашлось покупателя. Пока не нашлось. Как только появится человек, который захочет отвалить кучу денег за эту квартиру, по которой мой брат катается на велосипеде, мамин знакомый чиновник сделает так, что квартира перестанет принадлежать городу. И когда все бумаги будут оформлены, а деньги поделены между участниками сделки, сюда придут таджики и молдаване с ломами, машинками для штробления стен и другой строительной техникой. А что будет с нами? Этого никто не знает. Да, собственно, это ни для кого и не важно… Вероятно, мама найдет нового благодетеля, который из милости поселит нас куда-нибудь на время. Или… Я не знаю, что еще может произойти. Мне почему-то никак не удается представить, что мы живем на улице. Как будто этого просто не может случиться. Может быть, поэтому мне пока не страшно…
Когда об стену ударяется бокал для вина, это похоже на звук, с которым горят бенгальские свечи. Вначале вспышка-хлопок, а потом нежное шелестящее опадание стеклянных искр. Если в стену летит обычная чайная или кофейная кружка, то звук ее смерти напоминает рассыпавшуюся мелочь. Настоящее удовлетворение от битья посуды приносят только большие тарелки. Удачно брошенная в стену тарелка ударяется о поверхность краем, отчего создается ощущение, что в стену воткнулся по самую рукоятку тяжелый армейский нож. Иногда от ребра тарелки на стене остается вмятина. От такого удара сама тарелка не просто взрывается, как тонкостенный винный бокал или пухлая чайная чашка. С «воткнутой» в стену тарелкой происходит приблизительно то же самое, что происходит со спортивным болидом, который на скорости девятьсот километров в час врезается в бетонную опору. Мгновенно каждая часть разрываемого на куски предмета оказывается в месте удара. А уже через сотую долю секунды отдельные куски отлетают от стены назад. Все это происходит, пока оглушительный хлопок еще висит в воздухе. Потом он оседает в ушах. А осколки продолжают опадать на пол, как тяжелые хлопья сырого и тяжелого мартовского снега. Моя мама могла бы быть олимпийской чемпионкой в метании тарелок.
Судя по звукам, которые разбудили меня, сейчас в стену летят именно тарелки. Возможно, те суповые тарелки, которые были куплены неделю назад взамен уже разбитых. Я вижу, как сестра, лежащая на другой кровати, спит, плотно накрыв голову подушкой. Надеюсь, она не задохнулась и не приняла сверхдозу маминых «таблеток счастья». В другой комнате брат, очевидно, тоже спит или делает вид, что спит. Я не хочу вылезать из постели и натягиваю до ушей одеяло. Но в этот момент мать переходит от прицельного метания посуды к настоящей тактике выжженной земли. Происходящее за стеной чем-то напоминает звуковое сопровождение буйства духов из американских фильмов. Мне сложно представить, что производит весь этот грохот, вой, взрывы. Возможно, моя любимая мама просто взяла в руки железный лом, или кусок трубы, или здоровенную палку и беспорядочно крушит все вокруг, представляя при этом, что убивает отца или его молодую любовницу, а возможно, и нас, своих детей… Но я все же надеюсь, что только отца и любовницу.
Эта девка из города с каким-то неприятным и тупорылым названием – кажется, Бийск или Батайск, – как я узнала позже, даже не была секретаршей отца. Она просто помогала в офисе: мыла кофейные чашки, относила на почту бандероли, покупала туалетную бумагу и всякую мелочь, убиралась по вечерам в кабинетах. Ну а потому как-то само собой случилось то, что случилось…
Мама не была готова к тому, что она когда-нибудь состарится. А это произошло. Родив и вырастив трех детей, она перестала быть «секси». У нее появились морщины, седые волосы, обвисла грудь. Я думаю, она даже перестала нуждаться в сексе. Ей, дипломированному психологу и интеллектуалке, достаточно было томных бесед на званых ужинах, посещения выставок и редких выходов в дорогие рестораны. Поэтому папа начал трахать простую и незамысловатую, как пирог с капустой, а главное, молодую бийскую уборщицу. Как мне потом объяснили, это печальный, но непреложный закон жизни: молодое яблочко, даже если оно кислое или поеденное червяком, всегда аппетитнее, чем упавший на землю тяжелый созревший плод. Поэтому папа трахал девушку из Бийска. А мама оказалась к этому не готова. И тогда в ход пошла посуда.
Я помню тот день, когда перестала существовать наша семья. Светит солнце. Дорога из школы, которая обычно занимала у меня пятнадцать минут, растягивается на целый час. Меня радуют желтые листья в сквере. Меня увлекают птицы. Меня заманивают внезапно просветлевшие дворы. Я ем мороженое и ловлю на себе взгляды красивых молодых парней. И зрелых мужчин. И богатых старых мужчин. Сентябрьский холодок забирается мне под юбку и щекочет гладкие стройные ноги. Сегодня хороший день. Самый волшебный день. Меховой воротник моей короткой курточки пахнет мятой и сиренью. Я чувствую вкус поцелуя на губах. Его оставил мальчик, который мне нравится. Я позволила ему это сделать. Потому что сегодня особенный день. Вместе со мной по дороге домой летят ветер, и листья, и птицы… Я открываю тяжелую дверь подъезда тогда еще нашего дома, поднимаюсь на шестой этаж и открываю дверь квартиры своим ключом. Меня встречает тишина. Необычная тишина. Как будто лопнули барабанные перепонки. Никто не орет. И не бьет посуду. Не слышно плача и тяжелых шагов. Стены коридора, на которых еще утром висели в рамах любимые папины гравюры, пусты. Я стою в коридоре и молчу. Меня никто не встречает. Мне никто ничего не объясняет. Я все должна понять сама. Я очень хорошо помню этот день, потому что это был день моего рождения.
Телевизор в моей голове вечно умиляющимся голосом мамы – голосом, которым могла бы говорить нарисованная образцовая мамочка из американского мультфильма, – знакомит зрителей с хит-парадом деньрожденческих подарков:
– Как известно, лучший подарок книга. Но времена изменились, и книга – на третьем месте нашего хит-парада звездных подарков. Лучшим подарком в этой категории назван справочник «Астральная психология: от А до Я».
На втором месте – подарок для всех возрастов. Отличный! Непревзойденный! Продвинутый! Набор «Юный химик». Особенно актуален этот подарок для четырнадцатилетней девочки.
Ну и наконец, то, чего мы все так долго ждали. Первое место среди деньрожденческих подарков всех времен и народов. Развод родителей! Наконец-то они заткнутся!
В тот день я получаю именно этот подарок. И больше ничего. Наверное, мои родители считают, что поскольку это очень большой и дорогой подарок, то он будет одним на двоих. Получилось, что одним на четверых. Потому что брат и сестра мне тоже ничего не дарят. В тот вечер сестры нет дома: она ушла и вернулась только через день. А брат закрылся в своей комнате. Мне остается только одной наслаждаться своим подарком. В моей комнате принцессы я одну за другой снимаю с него обертки. Что будет теперь с моей жизнью? Не нужно будет выслушивать нотации и нравоучения отца. Не нужно будет врать и делать вид, что я ничего не знаю и не замечаю. Я мысленно снимаю еще одну подарочную обертку и наслаждаюсь предвкушением свалившегося на меня дара. Теперь никто не будет орать на меня и отвешивать оплеухи в приступе плохого настроения. Но кто позаботится о нас? Как я буду жить? Я гоню эти мысли. Прочь. Прочь. Прочь. Родители вначале дарят нам жизнь, а потом, убежденные в том, что мы должны быть им благодарны за эту жертву, начинают отнимать ее, претендуя на наше свободное время, на наши чувства, на наши планы, на наших друзей. Теперь я свободна от этого «долга» перед ними. Я наконец поняла: мне подарили СВОБОДУ.
И хоть я еще не знаю, как ею распорядиться, я уже рада. Первое, что я делаю, – меняю имя. Ненавистное мне варварское имя Карина, которым назвал меня отец, я сбрасываю с себя. Отныне все и всегда будут называть меня тем именем, которое нравится мне с детства и которым называл меня дедушка, – Лиза. Мои мечты начинают сбываться. Сколько себя помню, я всегда ненавидела свое имя. КАРИНА! Мне казалось, что от этого имени, которое так нравилось отцу, пахнет ослиным навозом, нестираной одеждой и восточным базаром. Теперь я смогу называть себя так, как хочу. Спасибо, папа! Спасибо, мама! Я давно мечтала о таком подарке. Мне хочется немедленно воспользоваться этим подарком, и я перечеркиваю ненавистное имя Карина на всех своих школьных тетрадях, вписывая вместо него свое новое, дерзкое и соблазнительное имя – Лиза. Теперь я – Лиза Каджар. Мне четырнадцать лет. У меня больше нет семьи. Наконец-то в моей жизни наступает определенность. Никаких «ЕСЛИ БЫ» и «НО».
Глава третья
Возьмем пульт управления реальностью и промотаем мою жизнь на два года вперед.
Около тридцати полуголых девушек в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет стоят вдоль стены в узком коридоре, ведущем к закрытой двери, которой то и дело хлопают входящие и выходящие существа, похожие на персонажей фантастических комиксов.
Вот выходит женщина с пластмассовым лицом задумчивой и строгой куклы. Ее тело заковано в латы из натурального шелка, атласа и бархата. На ней немнущийся черный френч из натянутого на тугую основу шелка с жестким высоким воротником, застегнутым под самый подбородок. Фалды френча, видимо, скрывают шарниры, на которых крепятся мощные, но длинные ноги в серебряных атласных галифе. Галифе уходят в черные лаковые сапоги, которые обтягивают ногу. Сапоги снабжены пряжками, ремешками, кольцами и застежками, очевидно, чтобы пристегивать шпоры. Но шпор не видно.
Возможно, шпоры украло и съело другое существо, которое постоянно ходит туда-сюда из кабинета и обратно. Несмотря на то что у существа бычья шея и рыбьи глаза, оно хочет походить на хрупкого романтического юношу. С этой целью существо натянуло на себя узкие черные брючки. И небрежно накинуло дорогой черный пиджак поверх розовой в цветочек рубашки с расстегнутым воротничком…
Кукла в доспехах ходит по коридору мимо раздетых девочек походкой надзирательницы в концлагере.
Поэтического вида упырь бросает по сторонам короткие и хлесткие, как пощечины, взгляды и сглатывает свои насыщенные кислотой и ферментами слюни, способные растворять крупные кости и шкуру хищников.
Кто эти странные создания, сложно сказать. Накачанная ботоксом и силиконом кукла может оказаться бывшей фотомоделью, которая на старости лет стала директором модельного агентства. А возможно, она просто сводница, которая приехала подбирать нимфеток определенного типа для «домашней» вечеринки какого-нибудь олигарха. А романтически настроенный тираннозавр с рыбьими глазами вполне может быть и заказчиком, и владельцем агентства, и владельцем ботоксной куклы, и продюсером какого-нибудь телеканала, набирающим участниц для нового шоу. В сущности… все это неважно. Это с точки зрения покупателя важен вид товара. А с точки зрения товара вид покупателя не имеет никакого значения.
Я – Лиза Каджар. И я тоже стою у стены вместе с другими девочками. Теперь я товар. Но не простой. Я товар, который мечтает когда-нибудь стать покупателем. А пока я что-то вроде выставочного оборудования, которое берут в аренду различные компании. Меня выбирают, чтобы украсить свой стенд. Действительно, я смотрюсь лучше, чем стойки для каталогов, листовок и брошюр. И я не такая громоздкая, как выставочная мебель. И меня не нужно собирать и разбирать, как мобильные стенды. Не нужно таскать, как кулер для воды. Я сама прихожу и ухожу в нужное время. Я могу улыбаться посетителям. Мне можно поручить раздачу визиток и рекламных каталогов. А главное, что я существенно дешевле, чем, скажем, выставочный стенд. По моим нехитрым подсчетам, я обхожусь компаниям, которые меня арендуют, примерно в десять–пятнадцать раз дешевле, чем аренда пластикового стенда с маленьким отсеком для хранения одежды, пакетов с орешками и рекламных каталогов.
До того, как я стала Лизой Каджар, и до того, как Лиза Каджар стала товаром, я и не предполагала, что существует столько выставок. Уверена, что и вы не очень хорошо себе представляете, как много разных вещей вообще можно экспонировать.
Первое мероприятие, на которое я попала в качестве «выставочной модели», – Международная выставка приборов, инструментов и оборудования для измерений. Меня одевают в форму японской школьницы: белую рубашку, короткую синюю юбочку, которая едва прикрывает трусики, и белые гольфы. В этом наряде я должна находиться в секции «Эталоны, калибры и стандартные образцы» и заманивать посетителей в павильон компании, торгующей металлическими кольцами, цилиндрами и другими устройствами, похожими на техностайл-игрушки из магазина для извращенцев. На стенде весь день сидит очкастая грымза с крашенными в персиковый цвет волосами и два серых мужика.
Еще в агентстве, где проходил кастинг девушек для участия в выставке, очкастая грымза дала мне исчерпывающие инструкции относительно моей предстоящей работы.
– Это наше ноу-хау, – вещала грымза, глядя на меня поверх очков. От нее пахло духами «Dior». – По данным маркетинговых исследований, основная часть посетителей специализированных выставок – мужчины в возрасте от сорока до шестидесяти лет. Кроме того, руководителями предприятий, которые покупают нашу продукцию, тоже являются мужчины. Поэтому вы должны выполнять роль «тизера»… Вы меня понимаете? Тизера! – выразительно подчеркнула очкастая грымза.
Я не понимала.
Но грымзу это смущало.
– Своим видом вы должны заманивать людей на наш стенд. Вы должны ассоциироваться у мужчин с понятием «эталоны и калибры», и, думая о вас, они должны идти на наш стенд.
Грымза угомонилась. Чтобы привлечь на стенд больше посетителей, мне в руки дали рулетку. «Гениальный план» рыжей грымзы заключался в том, чтобы я предлагала посетителям выставки измерить мои ЭТАЛОНЫ и КАЛИБРЫ.
Перелистаем несколько страниц моего портфолио. Мы на выставке «Скрепка. Экспо-Весна». Здесь собрались производители канцтоваров со всего мира. И здесь я демонстрирую VIP-коллекцию маркеров. Одетая в черный брючный костюм отChanel, я стою на фоне белой глянцевой доски. Рядом на специальной мраморной подставке, имитирующей кусок дворцовой или храмовой колонны, стоят «эксклюзивные» маркеры стоимостью не меньше тысячи долларов за штуку. По информации, которую я почерпнула в богато изданном буклете, каждый маркер сделан вручную. Основание из серебра украшено резьбой, филигранью и инкрустировано редким черным янтарем, перламутром, александритом, кораллами. Этими драгоценными маркерами я должна писать на доске разные слоганы, а потом сексуально стирать все написанное специальной ароматной губкой.
Быть приманкой для стареющих офисных мальчиков – с залысинами на голове и потертостями в области локтей и задницы – интересно только первые полтора часа. Потом наступает настоящая ломка. В тот момент, когда к середине третьего часа на безопасном расстоянии от моего стенда останавливается тетя с лицом недовольной собаки, я ищу способ развлечься. Ароматной губкой я стираю написанную мной на доске заученную корпоративную белиберду: «МИССИЯ: БЫТЬ ПЕРВЫМ…». Взяв черный маркер, словно это магический жезл какого-то изуверского сексуального культа, я пишу на доске крупными буквами: «Я ТРАХНУЛА ТВОЕГО МУЖА». Закончив фразу, я смиренно становлюсь у доски, будто ученица-отличница. Метаморфозы с лицом недовольной собаки начинают происходить секунд через тридцать. Вот один угол рта повело куда-то вниз. А очки с узкими стеклами в черной дорогой оправе начали сползать по длинному злому носу. Второй угол рта задергался. Дама в недоумении начинает озираться, как будто пытаясь убедить себя, что рядом с ней или за ее спиной стоит если не скрытая камера, то хотя бы еще одна баба. Но никого нет. А спектакль продолжается. Я снова овладеваю драгоценным магическим жезлом: «У ТЕБЯ ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ». У моей жертвы начинает подергиваться кончик носа. И она уже готова броситься на меня и покусать. Но тут появляются несколько праздношатающихся посетителей этого канцелярского парадиза. Словно наткнувшись на невидимую стену, они останавливаются, чтобы поглазеть на представление. Но я замечаю вдалеке фигуру менеджера компании, которая меня наняла, и спешно прибегаю к помощи волшебной супер-VIP-губки, которая, вероятно, пропитана драгоценной смесью ладана, мирры и слез какого-нибудь божества, покровительствующего работникам офисов.
Моя жизнь расписана на много недель вперед. Выставка «Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте». Международная выставка «Все для бани». Международная выставка стоматологического оборудования и технологий. Каждый раз меня ждет что-то новое. Сегодня я хожу между стендами в эротическом костюме зайчика. Завтра меня одевают в форму, которая подошла бы офицеру Третьего рейха. Я должна зазывать, соблазнять, привлекать внимание. Вот я голая лежу в холодной кабине сауны и изображаю истому и блаженство. Снаружи, сквозь узкое стекло входной двери, меня разглядывают десятки глаз… Чьи это глаза – отдельный разговор.
Выставки – это фантастическая афера. Такая же, как тайские таблетки, крем для увеличения груди, а может быть, даже и круче. Все устроители выставок (а также огромные империи, которые сдают в аренду площади выставочных комплексов, занимаются монтажом оборудования, продают еду миллионам посетителей и т. д.) живут за счет того, что каждый человек втайне хочет две вещи: первое – «натянуть» своего работодателя, второе – безнаказанно побездельничать недельку в дополнение к официальному отпуску. Выставки позволяют на законных основаниях реализовать оба эти желания. Поэтому половина их участников – это менеджеры, которые приехали за счет компании, чтобы попить пивка, покадрить телок, а вечером оттрахать проститутку в гостиничном номере. Другая половина – это посетители, которые ходят на выставки в основном для того, чтобы набить сумки бесплатными сувенирами или чтобы официально прогулять один или несколько рабочих дней под предлогом установления новых деловых контактов с потенциальными клиентами (партнерами, покупателями, поставщиками и т. д.).
Большинство участников выставок – это мужчины. Поэтому некоторые стенды так и стоят пустыми на протяжении всего мероприятия: обслуживающие их менеджеры сидят в баре или шляются по бескрайним просторам выставочных комплексов в поисках благоприятной возможности размять свой дряблый офисный член. Самое веселое время начинается после окончания рабочего дня или в день закрытия. В это время участники выставок уже основательно заправляются халявным представительским коньяком, и не все могут дотерпеть до прихода в свой гостиничный номер. Поэтому переговорные комнаты на стендах и те маленькие помещения, в которых хранятся рекламные буклеты, соленые орешки, минералка и одежда промоперсонала, превращаются в «полевые» траходромы, где офисные работники, забыв о деловой этике, высокой миссии своей компании и даже о коммерческой тайне, остервенело и самозабвенно обмениваются физиологическими жидкостями и венерическими болезнями.
На выставке товаров и услуг для миллионеров я знакомлюсь с Марком. Он первым заговаривает со мной.
– А вы знаете, что на этой выставке нет и не будет ни одного миллионера? – задиристо и насмешливо спрашивает Марк и, не дожидаясь моего ответа, продолжает: – По статистике, семьдесят процентов посетителей этой выставки – люди с уровнем дохода ниже среднего. Офисные клерки, секретарши, менеджеры по продаже рекламы и продавцы-консультанты приходят сюда, чтобы прикоснуться к той красивой жизни, которой у них никогда не будет. Не правда ли, это очень грустно? – спрашивает Марк, и его тонкие губы растягиваются в самой открытой и искренней улыбке, которую мне приходилось видеть когда-либо в жизни.
Этот человек пугает меня. Каждая часть его тела как будто живет своей жизнью. Нечеловеческие глаза с темными искорками в глубине смотрят не на меня, а куда-то внутрь меня или за меня. Периодически, устав от созерцания того, что находится ТАМ, они закрываются длинными пушистыми ресницами, которыми могла бы гордиться любая подиумная красотка. У Марка большой непропорциональный лоб, маленький рот и хищные глаза. Нос его похож на твердый клюв какой-то экзотической птицы. Одна рука Марка все время занята кнопками телефона, в то время как другая держит мою внезапно вспотевшую ладонь.
Я одета в платье принцессы. И Марк, словно бес-искуситель, ведет меня мимо стендов, где представлены макеты домов для миллионеров, похожие на свадебные торты… Мимо стендов, на которых стоят машины для миллионеров, оснащенные бронированными стеклами, сиденьями из кожи питонов, барами из красного и черного дерева, системами спутниковой связи, хьюмидорами, встроенными видеосистемами высокой четкости… Мимо стендов, где каждый желающий может увидеть модели мобильных телефонов для миллионеров, сделанные из золота и платины, украшенные бриллиантами, изумрудами, рубинами, жемчугом.
Без всяких предисловий Марк выдает порции тайных знаний об окружающем мире:
– Первое место среди профессиональных болезней менеджеров по выставкам занимает уроплазмоз. Вторая по популярности болезнь – микоплазмоз. Всю эту заразу очень легко заработать в антисанитарных условиях выставочных стендов, где сотрудники компаний трахаются друг с другом. Весь ужас состоит в том, что эти болезни могут проходить практически незаметно, без симптомов. И человек обнаруживает, что он болен, только спустя несколько лет, когда у него уже развивается хронический простатит или бесплодие…
Девочка в наряде принцессы и говорящий птеродактиль – мы, наверно, очень убедительно и органично смотримся среди телефонов, напоминающих яйца Фаберже, машин, похожих на гробы, и дорогих гробов, похожих на машины.
Марк пугает меня. Но мне интересно с ним. Я спрашиваю:
– А кто вы? Бухгалтер? Продавец-консультант? Офис-менеджер?
Тонкие губы Марка появляются на лице, как силуэты альбатросов на горизонте, и снова превращаются в улыбку Чеширского кота.
– У меня очень редкая профессия. Я – искатель.
– И что же вы ищете?
– Много разных вещей. Чаще всего – интересных собеседников. Практически постоянно – деньги. В настоящее время меня интересуют более редкие вещи, например любовь, благородство. Да, забыл сказать, еще я занят поиском телефона Бога. Здесь я как раз потому, что мне сказали, будто на этой выставке может присутствовать один человек, который знает номер его телефона.
Он говорит это так, что нельзя понять, шутит он или нет. Возможно, он просто опасный сумасшедший, сбежавший из клиники…
– И кто же он: бухгалтер или больной менеджер по выставкам? – нахально переспрашиваю я.
– Нет, – с понимающей улыбкой отвечает Марк, – в данный момент он, кажется, писатель. А вообще – он художник.
– А зачем вам телефон Бога? – не унимаюсь я.
– Мне очень нужно задать ему два вопроса… Если хотите, я позже расскажу какие, а сейчас нам нужно торопиться.
Говорящий птеродактиль Марк уже практически летит над мраморным полом, увлекая меня за собой. Еще немного, и мне начинает казаться, что вместе с ним я взлетаю в небо, оставляя внизу яйца Фаберже, позолоченные «роллс-ройсы», выставленные на продажу дома-торты и участки Луны, океанские яхты, титановые гробы, гробы из карельской березы, собак-роботов, машины для передвижения по дому, самые дорогие наручные часы «Packard», меховые сумки «Cerutti», соковыжималки от Филиппа Старка, вазы из стекла от Энди Уорхола…
Однажды я уже испытывала что-то подобное. Похожее ощущение головокружения, полета и свободы, когда все окружающее становится таким несущественным и далеким. И я боюсь этого ощущения. И хочу его. И начинаю догадываться, что это называется влюбленностью.
Чувствовать землю под ногами я начинаю только вечером. В расфокусе влажных мартовских сумерек мы бродим по неправдоподобно пустым переулкам и бульварам. Моя рука согревается в кармане его пальто. И эта трогательная и невинная близость наполняет кровь колючими пузырьками и сбивает дыхание.
Для человека не от мира сего Марк слишком элегантно одевается. Черный костюм вряд ли сшит на заказ, но идеально сидит на его крупной борцовской фигуре. И судя по отсутствию лоснящихся пятен на локтях и воротнике, а также по тому, насколько комфортно и раскованно он себя в нем чувствует, это не единственный его костюм. Марк не похож на офисного мальчика. Никакого галстука. Воротник песочного цвета рубашки небрежно расстегнут. Черные кожаные туфли на тонкой подошве.
Все это я отмечаю, словно пытаясь заранее запомнить каждую деталь облика этого странного и удивительного человека. В его присутствии я забываю о своей несчастной любви, о сумасшедшей матери, об отце, о безденежье. Я перестаю чувствовать горький вкус жизни, который ощущаю постоянно.
Этот взрослый мальчик с повадками крупного хищника вызывает у меня и любопытство, и страх, и интерес. Машина с водителем, которая забрала нас из святилища выставок, легкомысленно отпущена в неизвестном направлении. И время растворилось в сумерках. Этот странный человек, идущий рядом, с моей ладонью в кармане, говорит вещи, от которых можно сойти с ума.
– Есть пять способов получать деньги. Первый: продавать свое тело. Второй: продавать свою душу. Третий: продавать свое время. Четвертый: отбирать деньги, полученные другими. Пятый: пользоваться богатством близких. Ни один из этих способов, по тем или иным причинам, не подходит мне полностью. Я мог бы сказать, что мне не повезло: я не родился красивой женщиной, у меня нет богатых родителей и покровителей, мне скучно изображать из себя дурака, и я слишком ленив и не умею врать, чтобы заниматься грабежом и обманом. Но я не считаю, что мне не повезло. Потому что я умею довольствоваться тем, что у меня есть. Зачем я тебе все это говорю? Ты молодец – ты пытаешься зарабатывать деньги сама. Но ты еще не поняла самого главного: ты из той породы людей, которые рождены королями. Очень скоро ты поймешь, что не сможешь жить в убогой однокомнатной квартире и что обувь с распродажи тебе решительно не идет… Тебе будет казаться, что мир, в котором живут обычные люди, удушлив и тесен, как кабинка общественного сортира.
Мне нечего возразить на его слова. Я еще слишком юна, чтобы что-то ответить. И, несмотря на то что сейчас мне совсем не хочется думать над его словами, я чувствую, что он говорит правду.
– Самое отвратительное, что мир может сделать с человеком, это не то, о чем ты думаешь. Стать проституткой или дорогой содержанкой – это иногда грязно, иногда омерзительно, иногда больно и уродливо. Но чаще всего – это реальный выход для тех, кто может договориться с самим собой. Большинство людей именно таким путем достигает комфорта. Стать нищим, убогим, юродивым – это тоже выход. Человеку, который теряет разум, самооценку и амбиции, – легко. Он почти как ангел. Самое гнусное происходит с теми, кого наш мир не может прожевать. С такими как ты. Ну и с такими как я тоже, – добавляет Марк. – Представь себе конвейер, на котором из глины штампуют кирпичи. То же самое – с людьми. Плотная, но податливая масса пройдет по этому конвейеру без проблем – и превратится в одинаковые, стандартные, в меру твердые куски. А если на этот конвейер случайно попадет камень, то вначале эта сраная железная машина приложит всю свою стальную мощь для того, чтобы его расплющить, обломать и изуродовать. А если после долгих и беспощадных попыток этого не произойдет, такой камень просто бросят в брак – в какой-нибудь глубокий и замусоренный дальний отвал.
– Зачем ты говоришь мне все это?
Я чувствую, как он пожимает плечами под пальто. Его ладонь крепче сжимает мою руку.
– Не знаю… Может быть, изливаю душу. А может быть, хочу уберечь тебя от ошибок. Лучше быть готовым к худшему и избежать его, чем надеяться на лучшее и попасть в ад…
– Не говори так. Ты пугаешь меня. Я ничего в этом не понимаю… – жалобно, по-детски умоляю я.
В ответ говорящий птеродактиль Марк только смеется своим неповторимым живым смехом и сжимает мою ладонь в кармане своего пальто.
Глава четвертая
Торговые города и выставочные комплексы – дворцы современных принцесс. В полном соответствии с равными возможностями в получении доступа к широкому ассортименту колбасы, соков, джинсов, кроссовок и очков, сделанных в странах третьего мира, здесь каждая корова может почувствовать себя хозяйкой жизни. Все-таки цивилизация хоть немного облагородила человека. Мне рассказывали, что в средневековых замках стоки канализации и отбросов просто выходили из стен замка. Особы королевских кровей и их двор справляли свои потребности, а результаты их жизнедеятельности изливались прямо на дороги и прилегающую к замку территорию. А за отбросы с кухонь те, кто жил за стенами замков, так просто дрались… (Я не могу вспомнить, от кого и когда я все это узнала, но не сомневаюсь, что на эту тему меня просветил эрудит Марк.)
Я горжусь, что живу в более совершенном и рациональном мире. В современных «дворцах» чернь всегда может позволить себе удовлетворить аппетит дешевым хот-догом или другим разогретым в микроволновке фастфудом. А «конечный продукт» с радостью поглощают общественные сортиры с функцией фотосмыва, способные одновременно обслужить такое количество людей, которое могло бы разместиться в храме Христа Спасителя на Пасхальной неделе.
По словам Марка, французский королевский двор менял место своего пребывания по мере засирания территории вокруг очередного замка. От момента заселения королевских особ и двора в очередную резиденцию до начала эпидемии холеры, источником которой становилось дерьмо и отбросы, обильно изливавшиеся из замка, проходило не больше трех месяцев. После чего двор снимался с места и переезжал в новое обиталище, где к тому времени эпидемия уже прекращалась. Так в течение года королевский двор менял четыре-пять замков. Этот цикл, по сути представляющий собой своеобразный годовой говнооборот, можно наблюдать и в наше время. Модные клубы тоже существуют один, максимум два сезона, после чего тусовка снимается с засиженного и обгаженного места и переезжает в новое модное заведение.
Моя жизнь в качестве выставочной модели тоже подчинена определенному циклу. Он сложнее. Но суть его примерно та же: каждая выставка повторяется не чаще одного раза в год в одном месте. Дерьмо, нанесенное участниками и посетителями прошедшей выставки, должно впитаться, подсохнуть, зарасти, прежде чем это событие снова повторится. Это же правило управляет движением выставок по ограниченному кругу мест, в которых они проводятся.
Впервые работая на Международной выставке ритуальных услуг и похоронных принадлежностей, я уже чувствую себя почти как дома. До этого я уже работала здесь на выставке кожи и меха. В этом же дворце, протяженность которого превосходит взлетную полосу аэропорта Шереметьево, я стояла в костюме баварской крестьянки на выставке «Мясная индустрия» в павильоне «Кишечное сырье». Здесь же я ездила на роликовых коньках во время выставки «Игрушки и игры».
Теперь я изображаю мертвую невесту. В белом подвенечном платье меланхолично хожу среди роскошных гробов, прикасаясь к ним нежно и бережно, словно это золотые раки с мощами святых.
Судя по жизнерадостному виду мужиков, которые толпятся вокруг стенда, на котором я разыгрываю свое унылое одинокое представление, похоронный бизнес переживает эпоху расцвета. Между «миром мертвых», в котором я ласкаю элитные саркофаги цвета «золотой металлик» и даже «хамелеон», и «миром живых», в котором нервно переступают с ноги на ногу солидные мужчины, установлены железные столбики с натянутыми между ними бархатными шнурами. Однако эта символическая граница не защищает меня от непристойных взглядов и пошлых выпадов, на которые не скупятся участники этого действа. Не без интереса я слушаю, как двое верзил в итальянских костюмах увлеченно фантазируют на тему того, как они оттрахали бы меня прямо в одном из гробов. По моим подсчетам, подобные фантазии посещают примерно каждого пятого посетителя этого стенда. Вероятно, именно на такой эффект рассчитывали гробовые маркетологи, которые пригласили меня работать. Кажется, на их языке это называется A.I.D.A. То есть Attention, Interest, Desire, Action – внимание, интерес, желание, действие. (Спасибо Марку!) Теоретически, испытав желание трахнуть меня в гробу, каждый из этих бройлеров, по замыслу маркетологов, вероятно, должен по крайней мере прицениться к одному из этих шедевров погребальных технологий, а в идеале – немедленно купить его, чтобы иметь возможность разнообразить свою сексуальную жизнь дома и хвастаться новым приобретением перед своими гостями, соседями и деловыми партнерами. Реализуется ли эта некрофильская маркетинговая стратегия на практике, мне неизвестно. Но в принципе меня не задевают все эти фантазии, реплики и шуточки, которые долетают до моих ушей, и раздевающие взгляды из-за бархатной загородки. Уж лучше быть мертвой невестой, оттраханной в фантазиях какого-нибудь скучающего торговца подмосковными коттеджами, чем каждый день подвергать свой мозг извращенному насилию в каком-нибудь офисе. По крайней мере, возбуждающего вида живым трупам платят больше. За три дня этого готического парадиза я получу столько же или даже чуть больше, чем получает квалифицированная выдрессированная секретарша, которую в прямом и переносном смысле трахают на рабочем месте по двенадцать часов в сутки, за месяц.
В это же самое время на другом похоронном стенде, где представлены новейшие препараты для бальзамирования, парфюмерия и косметика для покойников, говорящий птеродактиль Марк осуществляет часть своего грандиозного плана по переустройству мира. С недавнего времени мы «путешествуем» по выставкам вместе.
В дорогом кожаном портфеле Марка помимо прочего лежит массивный кляссер, каждый карман которого плотно набит визитными карточками на разные имена. Сегодня Марк выступает под именем Вальтер Глас. Он – совладелец похоронного бюро «Клаус и Глас», оказывающего услуги живущим в Москве католикам и имеющего статус уполномоченного канцелярии Святого престола.
Согласно теории Марка, правильно выбранное имя является главной составляющей успеха любого бизнеса.
– Но, как в любом законе, есть исключения из правил, – вещает Марк в моей голове. – Мне довелось знать одного молодого человека по имени Роман Шитов, который поехал продавать современное российское искусство в Нью-Йорк. Исходя из того, что боґльшая часть современного российского искусства – откровенное и стопроцентное дерьмо, человек с фамилией Шитов должен был бы преуспеть в этом деле. Однако он прогорел! И чтобы как-то исправить положение, взял себе фамилию Романский. Но и с этой фамилией ему не удалось ничего продать. – Марк в моей голове делает секундную паузу, предназначенную для того, чтобы слушатели могли прийти в себя от явленного им откровения, и философски подводит черту: – Впрочем, мне кажется, что в данном случае дело не в фамилии, а в том, что Шитов – просто мудак…
К счастью для Марка, коллекция визитных карточек никогда его не подводила. Сегодня «Вальтеру Гласу» с блеском удалось убедить элитных таксидермистов, занимающихся сохранением и улучшением внешнего вида тушек богатых покойников, в том, что статус конторы, уполномоченной самим Папой Римским, сумеет привлечь к ним новую богатую клиентуру и повысит лояльность клиентов.
И вот уже Марк в компании главного таксидермиста с неестественно ярким румянцем на щеках неторопливо и чинно поднимает бокал с представительским коньяком за успешное начало сотрудничества. Из дорогого кожаного портфеля Марка извлекаются бланки на дорогой бумаге, и сертификаты с золотым тиснением, и громоздкая печать с крестами, перекрещенными ключами и змеящимися лентами, похожая на старинный рыцарский герб.
Через полчаса Марк – Вальтер Глас покидает гостеприимных таксидермистов с тысячей долларов во внутреннем кармане своего строгого, как сутана, костюма. Нарумяненный таксидермист благодарно трясет его величественно, словно для поцелуя, протянутую руку. Потом подобострастно подхватывает его преподобие Вальтера Гласа под локоть, чтобы тот, упаси господь, не споткнулся при выходе со стенда. Вслед за ними идет компаньон таксидермиста, навьюченный двумя объемистыми коробками. В этих ларцах – гордость современной индустрии «художественной обработки» богатых покойников: препараты для бальзамирования, кремы, лосьоны, гели, притирки, духи. Из рук благодарных некростилистов все перемещается в багажник машины Вальтера Гласа. Что произойдет со всем этим добром дальше – ведомо только самому Вальтеру Гласу. Возможно, в тот же день он предстанет в другом месте уже в роли дистрибьютора элитной некрокосметики и, заключив контракт на несколько десятков тысяч долларов, оставит своим новым клиентам опытную партию и увезет с собой предоплату. Не исключено также, что Вальтер Глас сумеет продать весь этот набор кладбищенской косметики в какой-нибудь элитный салон красоты под видом профессиональных косметических препаратов. Фантазия Марка неистощима. Можно только гадать, до чего он додумается на этот раз…
На выставке «Мясная индустрия», где я стою в павильоне «Кишечное сырье» в порнографическом костюме псевдобаварской крестьянки, Марк превращается в корреспондента государственного телеканала Ивана Подгорного, который решительно лавирует между павильонами и людскими потоками в сопровождении оператора с камерой. Журналистский кофр Ивана Подгорного скрывает двух дохлых крыс, внушительный комок спутанных женских волос из парикмахерского салона и еще некоторые предметы, несовместимые с имиджем передовиков колбасно-сосисочной промышленности. Когда через полтора часа после открытия выставки один из демонстрационных павильонов, в котором посетителей кормят сосисками и колбасами, приготовленными у них на глазах, оглашается истошным воплем, журналист Иван Подгорный оказывается в самом эпицентре скандала. Но камера в руках оператора так и не начинает работать: организаторы выставки и хозяева павильона буквально на руках уносят журналистов подальше от шокирующего зрелища. И облегченно отирают пот со своих могучих лбов только тогда, когда Иван-Марк покидает выставку в сопровождении так и не начавшего работать оператора и с определенной суммой в кармане, достаточной, чтобы информация о происшествии никогда не стала достоянием гласности.
На торжество по случаю празднования дня рождения популярной FM-радиостанции Марк притащил меня как гостью мероприятия, которую он представляет всем как княгиню Каджар. Когда гости уже достаточно разогреты дорогими напитками различной крепости и расслаблены многочисленными закусками, выставленными на фуршетных столах, Марк, который на этот раз просто Марк, объявляет начало аукциона, на котором будут проданы личные вещи ведущих радиостанции, музыкальных звезд и реликвии из музея радиостанции.
Стоя на специально сооруженном подиуме, Марк объявляет лоты и без устали лупит деревянным молотком по крышке кафедры, с которой он толкает гостям «уникальные раритеты».
Марк начинает с мелочей:
– Любимая чашка ведущей радиостанции Ксении Стриж! На протяжении пяти лет каждое утро в эфире своей программы Ксения начинала вместе с этой чашкой, наполненной кофе. Начальная цена – одна тысяча рублей. Господа, я напоминаю, что все предметы нашего аукциона снабжены сертификатом подлинности, подписанным руководством радиостанции. Итак, начальная цена – одна тысяча рублей. Кто даст больше?
Марк с нескрываемым интересом зоолога осматривает публику, собравшуюся в небольшом зале.
На третьем шаге аукциона чашка уходит к губастому толстяку за две с половиной тысячи рублей. Марк потихоньку начинает разгонять свою машину исполнения желаний. Торг за два следующих лота – майка Ильи Лагутенко и очки Бориса Гребенщикова – продолжается, как мне кажется, больше десяти минут. В итоге майку за двадцать пять тысяч рублей покупает подстриженная под ноль девушка в красной лаковой куртке. А очки за шестьдесят тысяч рублей уходят к какому-то банкиру с аккуратной седой бородкой.
Машина исполнения желаний Марка уже работает на всех оборотах.
БАРАБАННАЯ ПАЛОЧКА РИНГО СТАРРА
ЛЮБИМЫЙ ПИДЖАК АРТЕМИЯ ТРОИЦКОГО
МИКРОФОН ВИЛЛИ ТОКАРЕВА
ТРУСИКИ ЮЛИ ВОЛКОВОЙ
Когда трусики Юли Волковой выносят на подиум и Марк без тени благоговения хватает их и торжествующе размахивает ими в воздухе, я с удивлением узнаю в них свои недавно купленные белые трусики «DIM». Мне они обошлись в семьсот пятьдесят рублей. Покупатель, который предпочитает остаться неизвестным, выкладывает за них четыре тысячи долларов!
У меня возникает много вопросов к Марку. Но в этот момент машина исполнения желаний Марка выплевывает нечто, вызывающее настоящую истерику в рядах участников мероприятия. Одна из помощниц Марка выносит на подносе относительно чистый булыжник правильной формы, который Марк три дня назад по-хозяйски подобрал во время нашей прогулки в Нескучном саду. Я начинаю лихорадочно аплодировать. В это время Марк нависает со своей кафедры над залом:
– Десять лет назад, когда наша радиостанция праздновала свой первый день рождения, Люк Бессон преподнес учредителю и генеральному директору нашей радиостанции уникальный подарок – камень из разрушенной стены Бастилии. Потому что день рождения нашей радиостанции приходится на День взятия Бастилии. Сотрудники радиостанции посчитали, что десять лет – это достаточный срок для любого заключенного. Сотрудники радиостанции с честью его выдержали. Теперь этот исторический камень мы готовы передать за символическую плату одному из наших слушателей…
Через три часа, когда весь этот спектакль закончен, Марк с видом всезнающего филина сидит в старинном кресле – единственном приличном предмете интерьера в его съемной квартире. Я уже не являюсь княгиней Каджар, поэтому могу кричать и задавать вопросы. Но с Марком это занятие превращается в настоящий театр абсурда. Его невозможно ни смутить, ни вывести из себя, ни заставить оправдываться. Его голос звучит как воскресная проповедь архиепископа. В отличие от христианства религия Марка дает не только ответы на все вопросы, но и практически воплощает любые желания тех, на кого Марк ниспосылает свою божественную благодать.
– Малышка, я не понимаю, почему ты зацикливаешься на таких несущественных вещах, как принадлежность трусов или происхождение камней… Разве Господь не учит нас, что душа не больше ли пищи, а тело – одежды? Разве вера измеряется весом камней или размером трусов?! – В голосе Марка появляется какая-то истовость. – Я помогаю людям ОБРЕСТИ МЕЧТУ, – с особым выражением произносит Марк. – Неужели ради исполнения мечты нельзя пожертвовать такой несущественной вещью, как никому не интересная информация о том, откуда взялась эта вещь? Ведь лифчик Мадонны тоже не вырос из ее тела: его сшили какие-нибудь итальянские портные. Потом он валялся в какой-нибудь гардеробной размером с Кремлевский дворец. И нет никакой гарантии, что Мадонна его хоть раз надевала – потому что у нее миллион лифчиков. Но если человек готов отдать любые деньги за лифчик Мадонны, почему бы не исполнить его мечту?! Ведь Господь накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек! Или ты хочешь и ЕГО уличить в обмане?! Неужели Господь, превративший воду в вино, не в состоянии сделать твои трусы тем предметом, который сделает счастливым одного человека? Ответь мне.
Мне кажется, что моя голова сейчас взорвется от этой инфернальной ахинеи, которую Марк изрекает с видом пророка. Поэтому вопрос повисает в воздухе. Но, по всей видимости, он и не требовал ответа.
– Представь себе маленького мальчика, которому не хватало любви и внимания, – вдруг произносит Марк голосом старого сказочника. – Представь себе, как он плакал, когда просыпался один в квартире. Представь его страхи и маленькие детские мечты. Он боялся, что его мама может умереть, как умер его котенок. Ему снились страшные сны, и он боялся ночной тьмы и пустых комнат. Он хотел вырасти сильным. Он хотел когда-нибудь вырасти и найти ответы на все вопросы, и изобрести лекарство, которое вылечит от смерти. И вот он вырос – и узнал, что от смерти нельзя вылечить. Что его мама умрет. И что сам он тоже умрет. Он вытерпел все свои страхи, унижения в школе, боль, несчастную любовь. Он вытерпел все это – и не стал счастливым. Что еще хуже, он понял, что в этой жизни на самом деле никто никому не нужен. И вот у этого взрослого мальчика в жизни, быть может, есть только одна маленькая вещь, которая может сделать его счастливым…
Здесь Марк делает драматическую паузу. И я не выдерживаю и вставляю:
– Да, и эта вещь – мои новые трусы!
Эта дерзость не в состоянии смутить апостола Марка.
– Что именно это за вещь – не имеет никакого значения. Чашка, трусы, автограф Джона Леннона или камень из стены разрушенной Бастилии, засушенный член Гришки Распутина… Мечта не может измеряться примитивными понятиями вещного мира. Если мы даем человеку возможность прикоснуться к своей мечте, разве мы не делаем мир счастливей и лучше?!
Наконец Марк устает от своей проповеди. У меня остается только один вопрос, касающийся его вероучения:
– А ты не боишься, что кто-нибудь из этих осчастливленных тобой «мальчиков» проломит тебе башку каким-нибудь «историческим» кирпичом или забьет тебе в глотку фальшивые трусы? Или засунет тебе в задницу «барабанную палочку Ринго Старра»?
Уже без интонаций божественного откровения Марк миролюбиво отвечает:
– Ну, во-первых, проще доказать подлинность полотна кисти Пабло Пикассо, чем принадлежность чьих-то вполне еще свежих трусов. А во-вторых, не забывай, мы же имеем дело с глубоко закомплексованными людьми, для которых признаться себе в том, что ты купил какую-то дешевку, равносильно смерти. Единственное, что может их оскорбить, это если их подруга или партнер по бизнесу вдруг завтра купят себе шесть пар чьих-нибудь звездных трусов и половину Берлинской стены за несравнимо боґльшие деньги.
Глава пятая
Оставим Марка в его созерцании божественных откровений. Вернемся в то время, когда разрушилась наша семья.
Мы еще не осознаем это. Мы еще не верим в то, что такое возможно. Мы еще не знаем, что нашей семьи больше нет. Мы только ошарашенно смотрим на то, как разваливается на части мир вокруг нас. Это похоже на плохой фильм про восставших из гроба мертвецов, которые бессмысленно и механически передвигаются среди живых людей и с удивлением разглядывают свои внезапно отваливающиеся части тела.
Мы просыпаемся утром и, не отдавая себе ни в чем отчета, плетемся в кухню, чтобы позавтракать. Но завтрака нет. Потому что мама уже несколько дней валяется в своей постели и поднимается только для того, чтобы закинуть в себя очередную порцию снотворных и успокоительных таблеток. После этого она снова захлопывается в своей спальне и перестает существовать. В холодильнике нет ничего, что можно было бы хотя бы выпить. Все его содержимое сводится к набору кетчупов, горчиц и баночек с какими-то жидкими приправами неприятного вида и запаха. Удивительно, раньше я не задумывалась о том, откуда в холодильнике берутся продукты. Их наличие там казалось мне само собой разумеющимся явлением. Как будто холодильник – это машина, которая сама производит продукты по мере необходимости. Теперь вместо завтрака я могу размышлять над природой появления еды в холодильнике. О чем думают мои брат и сестра – я не знаю. Нас вдруг как будто поразила внезапная немота, и вот уже несколько дней мы всё делаем молча, не разговаривая друг с другом. Собравшись утром на кухне и снова поняв, что все это не приснившийся нам кошмар, мы расходимся по разным углам. Сестра берет плеер и наушники и занимает ванную. Я слышу, как в течение нескольких минут вода с шумом наполняет ванну. Потом шум прекращается, и все затихает на несколько часов.
Брат вообще старается не умываться и не чистить зубы. Поэтому ванная ему не нужна. Он уходит в большую комнату и садится на диван перед телевизором, до вечера переключая музыкальные каналы. Периодически здесь же он и засыпает на ночь, не снимая одежды и не выключая телевизор. Никто не знает, когда он ходит в школу и ходит ли вообще. Этот вопрос теперь никого не интересует.
Когда я ухожу в школу и на секунду замираю перед тем, как закрыть дверь, в квартире нет никаких признаков присутствия живых людей. Только далекий телевизор ведет свой непрекращающийся безумный монолог. Я прислушиваюсь. Мне никто не желает хорошего дня, не предупреждает о том, чтобы я была осторожна, переходя дорогу, не спрашивает, когда я буду дома. Ни звука не доносится из закрытой ванной, как будто сестра, словно подводная лодка, совершила глубокое погружение и выключила все двигатели. Я притворяю дверь осторожно, боясь, что в этой космической тишине могу оглохнуть от внезапного громкого звука.
Сидя на уроках, я пытаюсь представить, что происходит дома во время моего отсутствия. Иногда мне кажется, что я все еще сплю и что на самом деле дома все так же, как раньше. Вот брат подходит к холодильнику и прямо из пакета пьет сок. Мама дает ему подзатыльник, и он убегает на улицу, схватив скейтборд, стоящий в прихожей. А вот сестра сидит в кресле, закинув ноги на подлокотник, листает журналы и через всю квартиру перебрасывается с мамой какими-то фразами. А мама на кухне самоотверженно, но безуспешно пытается приготовить плов, но в конце концов, не справившись с задачей, спускает свою стряпню в унитаз и торопливо собирается, чтобы съездить и купить готовый плов в кулинарии при ресторане «Узбекистан». Но такие картины возникают в моей голове все реже. С каждым днем они становятся все более тусклыми и нечеткими, как смытые дождем акварели. Им на смену приходят другие фантазии, которыми я наполняю оставленное мной пустое и молчаливое пространство. Я представляю, как сестра медленно погружает голову в наполненную ванну. Над горизонтом воды исчезает вначале подбородок, потом губы, потом нос, потом глаза. И вот на поверхности воды, как водоросли, колышутся только длинные темные волны волос. Я представляю, как захожу в ванную и обнаруживаю там утонувшую сестру, которая смотрит на меня широко раскрытыми остекленевшими глазами через остывшую толщу воды, подкрашенной морской солью. От предчувствия надвигающегося ужаса в виде врачей, извлекающих тело, рыдающей мамы, последующих похорон по моей спине пробегают мурашки и в груди сгущается воздух.
Иногда я вижу, как в мое отсутствие в нашем доме происходит какая-то сложная и непонятная жизнь, в которой меня нет. Я наблюдаю ее так, как можно было бы наблюдать на экране телевизора с выключенным звуком. В этом немом кино участвуют десятки людей. Они приходят в нашу квартиру без звонка, просто открыв дверь, как если бы это был магазин или парикмахерская. Кто-то из них здоровается с кем-то. Но многие просто не замечают друг друга. Они перемещаются из комнаты в комнату с бумагами, портфелями и коробками в руках. Кто-то готовит себе на кухне кофе, после чего звонит по телефону и беззвучно говорит с кем-то часами, жестикулируя и меняя выражение лица. Некоторые из этих людей открывают шкафы и берут наши вещи. Другие подписывают какие-то бумаги, хлопают дверями, о чем-то совещаются, сидя в гостиной. Кто-то так же быстро уходит. Иные до самого вечера продолжают стремительно перемещаться по квартире, разговаривают друг с другом, ругаются, звонят, принимают посетителей, вскрывают конверты и бандероли, заказывают пиццу.
Однако когда я возвращаюсь домой, независимо от того, делаю я это сразу после занятий в школе или уже вечером, когда мне некуда больше идти, никого из этих незнакомых людей из немого кино уже нет. Бывает так, что я застаю сестру сидящей на кухне без света. Перед ней на столе неизвестно сколько времени стоит чашка уже остывшего мерзкого растворимого кофе. Иногда я нахожу на кухне грязную посуду и крошки на столе. Все это теперь не имеет никакой связи с моей жизнью. Это значит только то, что в мое отсутствие на кухне кто-то что-то ел. Но сказать, кто это был и было ли это чьим-то обедом или ужином – уже невозможно. Чаще всего меня встречает все то же невнятное бормотание телевизора в глубине квартиры и все та же болезненная пустота, как будто все жильцы внезапно умерли или их охватил паралич.
И все же какие-то невидимые силы действуют в квартире. Прихожая теперь полна обуви, которая толпится у двери в полном беспорядке, словно к нам в гости пришла целая делегация одноногих инвалидов. Наполненный мусором мешок, извлеченный из мусорного бака в кухне, перемещается теперь по всей квартире, словно пытаясь найти того, кто выбросит его на помойку. Вчера он стоял в прихожей. Сегодня он уже примостился почему-то в ванной. А на следующий день я нахожу его рядом со своей кроватью. Вещи и предметы вдруг разом потеряли свои привычные места. Кофеварка поселилась на подоконнике гостиной. Висевшая в родительской спальне картина с осенним пейзажем стоит теперь в прихожей на полу рядом с вешалкой для одежды. Стереосистема куда-то переехала, оставив после себя только выразительный квадрат на запыленной поверхности стеллажа. Корзина для белья теперь находится в моей комнате и служит подставкой для ноутбука сестры. Подушка с дивана прописалась на подоконнике в кухне. Бутылка с оливковым маслом стоит на журнальном столике в гостиной. Какой-то внезапный смерч поднял все вещи и разбросал их по всей квартире, определив, что пепельница теперь должна стоять на смывном бачке, зубные щетки – на телевизоре, а сковороды – в душевой кабине в ванной комнате брата. Пустые стаканы и чашки тоже путешествуют по дому. Полотенца из ванной без всякой причины исчезают и снова появляются. Стекло большого аквариума, стоящего в холле, с фантастической скоростью зарастает какими-то бурыми волосками, похожими на споры инопланетного вируса из романов Стивена Кинга. Я уже с трудом различаю плавающих в глубине аквариума рыб. Иногда я с ужасом представляю, что это вовсе не водоросли, а темные волосы моей сестры, чья отрезанная голова лежит на дне аквариума вместо глиняной античной амфоры.
Теперь я знаю, что, когда вещи теряют свои места, это означает, что в жизни сломалось что-то важное. И такие перемены не предвещают ничего хорошего. Если в вашем доме чайник переезжает в шкаф с книгами, содержимое платяного шкафа оказывается в кровати, а на обеденном столе поселяется телевизор – все может закончиться очень плохо.
Однажды днем я возвращаюсь домой из школы. На улице обычная московская зима, когда небо смешано с грязной влагой дорог и тротуаров. Ноги становятся мокрыми и холодными, как только выходишь из здания и ступаешь на землю. Поэтому я стараюсь как можно быстрее убраться с улицы. Вместе с тысячами других людей, короткими перебежками перемещающихся от одного теплого и сухого места к другому, я пытаюсь добраться домой. Там, по крайней мере, я не чувствую себя затравленным зайцем, который должен уворачиваться от спешащих по делам хищных существ, отскакивать от брызгающих едкой химической грязью машин, перепрыгивать через мерзлые лужи.
Я иду быстро, как будто боюсь опоздать к какому-то важному событию. И, естественно, как всегда, опаздываю. Вам когда-нибудь приходилось заявляться в кинозал в середине сеанса? Если фильм интересный, то на ваше появление никто не прореагирует, как это могло бы случиться в самом начале картины. Нет, в середине хорошего фильма все уже загипнотизированы происходящим на экране. И когда вы, извиваясь, протискиваетесь между спинками кресел и коленками, то зрители, которым вы помешали, в свою очередь, как змеи, вытягивают шеи, чтобы не отрывать взгляд от экрана. А вы садитесь на свое место, понимая, что вам уже не догнать ни зрителей в зале, ни сюжет на экране. Поэтому вам остается только особенно громко смеяться над случайно выхваченными из действия шутками.
Первое, что я вижу, когда сворачиваю в переулок к нашему дому, это две пожарные машины с открытыми «бойницами» железных люков, из которых тянутся похожие на раскормленных удавов пожарные шланги. Второе, что я вижу, это стоящий на обочине аквариум, заросший изнутри бурыми волосами водорослей. Третье, что я вижу, это мама с улыбкой человека, угадавшего номер в лотерее, но забывшего купить билет, стоящая рядом с пожарной машиной и наблюдающая, как сверху из разбитого окна на мокрый асфальт летят наши вещи. Эти три кадра дают мне полное представление о сюжете «фильма», на который я опоздала. Мне остается только досмотреть его до конца, насладившись последними режиссерскими и операторскими находками. Стараясь не привлекать к себе внимания, я иду вдоль сцены, на которой разыгрывается действие, лишенное всякого смысла, но по-своему красивое, как все бессмысленное.
Красные пожарные машины сияют какой-то совершенно нереальной чистотой, которая никак не вяжется с повсеместной и всепроникающей московской грязью, неотделимой от воздуха. Кажется, что машины только что вымыли специально для этой сцены. Зеленые пожарники напоминают людей из реалити-шоу. Они знают, что их снимают многочисленные камеры, но не подают виду, что замечают это. Режиссер строго-настрого запретил им смотреть в камеру. Но каждый из них спиной чувствует холодный взгляд объектива и старается быть более убедительным и выразительным, чем в жизни. Поэтому все участники реалити-шоу выглядят так нелепо. Жестикулируют, как глухонемые, перебравшие с циклодолом. Не переставая надрывно орут друг на друга. И даже когда лупят друг друга или бьются в истерике, то двигаются замедленно, потому что обдумывают каждое свое движение, чтобы лучше смотреться в кадре.
Зеленые пожарники, одетые в костюмы из фильмов про ядерную катастрофу, тоже важно вышагивают, широко расставляя ноги. Без видимых причин они идут от машин к подъезду, от подъезда к машинам, входят в проем двери. Резиново-брезентовыми руками, которыми, судя по виду, можно было бы обогащать уран, не боясь получить смертельную дозу радиации, эти безупречные воины постъядерной эры чертят в воздухе какие-то фигуры и схемы. Периодически кто-то из них выразительным движением терминатора подносит к уху рацию и так, чтобы слышали толпящиеся на холодной и мокрой улице испуганные соседи и зеваки, вещает:
– Информации о перекрытиях нет. Поэтому пролейте все как следует!
Через несколько секунд рука с рацией снова перемещается в положение «СВЯЗЬ»:
– Дайте напор! Напор, говорю, дайте! Вашу мать! – орет пожарник так, чтобы у стоящих посреди лужи наших соседей из нижней квартиры не осталось сомнений в том, что их венецианская штукатурка обречена.
Почему люди с таким удовольствием смотрят фильмы, в которых напалмом выжигают деревни, тысячи людей гибнут в потоках глобальных наводнений, кучки выживших бредут по опустошенным эпидемиями городам? По моей версии, одна из причин этого каннибальского удовольствия – это то, что кино не передает запах. Наше представление о запахе кремируемого трупа – это всего лишь еще одна вялая попытка пощекотать себе нервы. Что-то вроде онанизма. Попробуйте поджечь в квартире свои волосы или отрезанные ногти. Тошнотворный невыветриваемый запах, который получится, умножьте в десятки раз. Возможно, тогда у вас сложится минимально приближенное к реальности представление о том, что вы видите в кино.
Запах, который стелется по переулку, мало чем отличается от запаха горящей свалки на окраинах города. По сути, вся наша жизнь – это мусор, упорядоченный в той или иной степени. Горящая куртка из натурального меха пахнет всегда одинаково, независимо от того, висит она в шкафу или валяется в куче другого мусора на городской свалке.
Я зачарованно иду мимо стоящих машин, жестикулирующих пожарников и наших соседей, загипнотизированных душераздирающими фантазиями на тему размокшей и опадающей лепнины, венецианской штукатурки, разбухающего от воды наборного паркета. В грязных лужах под моими ногами набухают мои платья, блузки, свитера.
Когда пожарники триумфально выходят из подъезда вместе с ошметками тяжелого дыма и снимают свои копии шлемов Черного Лорда Дарта Вейдера из «Звездных войн», их лица излучают довольство. Их лица излучают уверенность. Их лица излучают осознание высокого качества выполненной ими работы. На их лицах написано, что они знают что-то такое, о чем не знают стоящие в промокших тапках жильцы дома. Возможно, именно о чем-то таком, чего не знаем мы, рассказывал мне мальчик, который два года сидел со мной за одной партой. Его звали Сережа. И его отец тоже был пожарным. У Сережи всегда было много модных вещей. Его CD-плееры, мобильные телефоны, mp3-плееры все время менялись, как будто Сережины родители владели сетью магазинов цифровой техники. Однажды Сережа раскрыл мне секрет своего счастья.
– Мой папа пожарный, – сказал Сережа.
– Ну и что? – не поняла я.
Словно сочувствуя мне, Сережа терпеливо объяснил мне, в чем дело:
– Когда происходит пожар, то никто не может точно сказать, что сгорело, а что нет. Может быть, что-то просто потерялось во время тушения, когда выносили вещи. Поэтому пожарные берут что-то для себя. Это нормально. У них маленькая зарплата. И это как премия. Потушил пожар – забрал с собой какую-нибудь вещь. Цепочку. Кольцо. Мобильный телефон.
Я таращу глаза, как будто мне сообщают, что у большинства людей есть какой-то орган, которого нет у меня, – третий глаз, или хвост, или перепончатый гребень на спине.
Сережа тем не менее старательно продолжает просвещать меня:
– Особенно хорошо, если горит магазин. Там после пожара все равно все списывают и увозят на свалку. Поэтому пожарники могут уносить вещи прямо коробками. Бывает так, что у нас дома лежит несколько коробок какой-нибудь фигни: диктофонов, телефонов, видеоплееров…
Видя удовлетворенные лица пожарных, я почему-то сразу вспоминаю этот рассказ. И думаю о том, что сегодня у них очень удачный день. Учитывая страсть мамы к драгоценностям и побрякушкам, зная о том, что в квартире полно дорогих вещей, оставшихся от нашей прежней жизни, я начинаю подозревать, что тушение продлится долго и последствия пожара будут разрушительными.
Наконец я решаюсь подойти к маме. Минуя пожарных, перешагивая через тела раскормленных удавов, уползающих в темноту подъезда, я иду по грязным лужам. На моем пути лежат беззащитные куски моей маленькой беззащитной жизни. Вот беспомощно раскинуло рукава белое платьеBenetton, и на его теле проступили отвратительные коричневые пятна. На дне глубокой лужи мой джемпер, привезенный отцом из Парижа, неуклюже обнимает рубашку брата. Прямо посреди дороги раскинулось, как самоубийца, кремовое мамино платье. На спине моей розовой футболки отDiesel, лежащей на холодном мокром асфальте, остался след чьего-то большого ботинка. Не вкладывая в это никакого смысла, я старательно обхожу свои уже мертвые вещи, как будто они когда-то были не просто аккуратно сложенным барахлом, а живыми существами, делившими со мной все мои тревоги и радости. Что теперь будет с ними? – думаю я. Но вдруг меня поражает совсем другая мысль: А ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ СО МНОЙ?
Моя мать стоит, улыбаясь жуткой улыбкой. В первую очередь эта улыбка предназначена соседям, пожарным, прохожим – всем тем, кто (упаси господь) посмеет пожалеть ее. В то время мама еще воспринимает жалость как оскорбление. Ее улыбка означает: «Ноу проблем, друзья. Это всего лишь незначительное недоразумение, о котором я забуду уже завтра. Подумаешь, пожар». Если бы кто-то из соседей сейчас подошел к ней, она бы томно закатила глаза, устало отмахнулась и слабым голосом простонала: «Ах, ну что вы, право. Это такой пустяк… Что вы говорите, штукатурка осыпалась, паркет взбух, отклеились обои… Милый мой, ну это же такая мелочь. Заходите ко мне завтра после обеда, мы с вами чаю попьем и порешаем вопросики…» Мама с ехидством поглядывает на небо. Ее улыбка предназначена и ЕМУ – этому ворчливому вздорному старику, который прячется за облаками и вредит ей не переставая, изводит своими капризами и злокозненными затеями, ставит ловушки и подножки. Своей улыбкой она говорит ему: «Думаешь, уел?! Выкуси! Я даже не плачу. Я смеюсь тебе в лицо. Смеюсь над твоими мелкими пакостями, злобный, несносный маразматик. Еще посмотрим, как ты попляшешь, когда я решу поиграть с тобой».
Когда я подхожу к матери, рядом с ней уже стоит моя сестра Жасмин. Из ее глаз – глаз египетской богини – вытекают два прозрачных ручейка. Жасмин оплакивает свои сгоревшие и валяющиеся в грязи платья, блузки, платки, майки, брюки – все те невинные, простые и прекрасные предметы, с помощью которых она выражает себя. Я сочувствую ей. Брат, одетый в спортивные штаны и толстовку, суетится у подъезда. Он что-то собирает с земли, помогает пожарным выносить какие-то вещи.
Мне нечего сказать маме. И я не знаю, хотела ли бы я что-то услышать от нее. На любой вопрос она, скорее всего, пропела бы своим манерно-усталым голосом что-нибудь безобразно неискреннее. Поэтому я просто стою рядом. Жмусь к своей уже почти разбежавшейся стае. Потому что мне еще страшно быть совсем одной.
Глава шестая
Огонь сделал явным то, что уже произошло с нашим когда-то общим домом. Еще до пожара в нем стало невозможно жить. Все, что раньше объединяло, сближало, согревало, в какой-то момент скукожилось, почернело и рассыпалось золой. Пожар довел этот процесс до полного завершения. Потолок и стены стали черными от слоя сажи. Полы вздыбились и перекосились. Все вещи и сам воздух пропитались едким смрадом. Через несколько часов после пожара вся вода, которой заливали нашу квартиру в течение часа или двух, начала испаряться, превратив воздух в настоящий кисель, замешанный на углях.
Через день после пожара мой брат лежит дома с температурой тридцать восемь. Из-за высокой влажности до сих пор отключено электричество. Приехавший врач осматривает то, что осталось от нашей квартиры, с боґльшим интересом, чем больного. И уходит с явным облегчением. Через два дня брата все-таки увозят в больницу. А я обнаруживаю на своей одежде черную плесень. На шестой день в квартире включают электричество. Теперь, прежде чем взяться за что-то, я натягиваю на пальцы заплесневелый рукав толстовки. Но это не помогает. Все предметы теперь дергают током: батарея на кухне, стиральная машина, похожий на сгоревший небоскреб холодильник, выключатели, даже почему-то смывной бачок… При этом в доме все равно царят мрак и разруха. Лампочки лопаются или сгорают сразу в момент включения. Розетки искрят, как огненные фонтаны под Новый год. Электроприборы не работают. Все вещи теперь свалены в три неравномерные кучи в разных комнатах. И найти что-то не представляется возможным.
В воскресенье вечером мама приезжает домой с сообщением, которое, кажется, никого не удивляет. Отец, живущий в нашем общем загородном доме, отказывается принять нас У СЕБЯ. Его можно понять: отец считает, что ничего нам не должен. Он оставил нам квартиру. И все происходящее в ней не имеет теперь к нему никакого отношения. Так передала разговор с отцом мама. Что мы должны на это ответить? Поверить в это означает признаться самим себе в том, что наш отец мерзкая рептилия, утратившая все человеческое. Не поверить в это означает признать, что наша мать лживая ведьма, которая даже в этой ситуации пытается манипулировать своими детьми и строить интриги.
Когда она в красках пересказывает подробности встречи с отцом, в моей руке находится вязальная спица, которую я нашла, разбирая вещи в одной из куч. Мне нестерпимо хочется воткнуть эту спицу себе в ухо. Лишь бы не слышать все это. И не испытывать необходимости как-то реагировать на услышанное.
Однажды, еще в то время, когда у нас была семья, перелистывая альбомы в кабинете отца, я наткнулась на репродукцию картины «Крик» Эдварда Мунка. То, что я увидела, настолько поразило меня своей выразительностью и глубиной, что я в оцепенении долго сидела с раскрытой книгой в руке. Человек на картине бежит, обхватив руками голову, которая буквально разрывается от беспомощного, надрывного и безмолвного крика. Его лицо превратилось в рвущийся рот, искаженный мукой. Бегущий человек тонет в судорожных волнах собственного вопля, которые расходятся в горящем вечернем воздухе. В этих волнах я увидела себя. Мне не нужно было объяснять, что происходит на картине. Я сама кричала немым криком. И никуда не могла убежать от того парализующего ужаса, который обычно приходит во сне, но иногда вползает в реальность.
Через какое-то время, в течение которого мы ютимся у знакомых и родственников, засыпая и просыпаясь на их диванах в гостиных, в чужих детских, иногда просто на матрасах на полу, мама находит для нас «новый дом». Если знать, сколько стоит эта квартира, можно решить, что мы поселились во дворце. Но поскольку в Москве хотят жить все, то любой сарай продается по цене Букингемского дворца. Именно поэтому, как объяснила мама, многие квартиры годами пустуют. В такой пустующий семикомнатный сарай, который может позволить себе купить принц Монако, но почему-то не хочет этого делать, мы въезжаем. (Коробки с нашими вещами, пахнущими пожаром, привозит какой-то очередной добрый знакомый маминых знакомых. Самым главным талантом москвича – умением все сделать на халяву и чужими руками – моя мама владеет виртуозно.)
В нашем «новом доме» нет мебели. Лампочки здесь свисают с потолка прямо на проводах, без абажуров, или как там это называется. Обои на стенах двух цветов, названия которых я не знаю, поэтому могу только сравнить с чем-то. В трех комнатах и в прихожей обои по цвету напоминают прелую зеленую траву, появляющуюся из-под снега в конце марта. А в четырех оставшихся комнатах цвет обоев можно сравнить только с баклажанной икрой, похожей на детский понос. Эти обои прекрасно подошли бы для заворачивания рыбы. Впрочем, судя по гигантским сальным пятнам, украшающим стены, что-то подобное и заворачивали в эти обои до того, как их наклеили. Возможно, гигантского размера селедку, которую годами глодали несколько семей работников Метростроя, что жили в этой квартире.
Теперь здесь поселяется ее величество королева выпаривания мозгов – моя мама. И мы – брошенные отпрыски царского рода.
Наша жизнь на новом месте оживляется в первые дни только тем, что мы пытаемся извлечь из перевезенных сюда гор мокрого тряпья и прочих вещей хоть что-то еще пригодное для того, чтобы это носить или как-то использовать.
Мы обживаем свои углы, расставляя кровати, раскладывая на полу и подоконниках книги, игрушки, диски, флаконы с духами, лаками. Мы изучаем новый маршрут от дома до школы. Мы пытаемся делать уроки, стоя у подоконника, чтобы можно было писать, или сидя с книгой в кровати. Так продолжается какое-то время. Тишина нашего нового дома – дома без телевизора, радио, без стереосистемы, без стиральной машины – нарушается звуком воды, спускаемой из смывного бачка в туалете и текущей из открытого крана в ванной. Периодически мама своим фирменным голосом – голосом ее величества Королевы-Поцелуйте-Меня-в-Зад – созывает нас на «царский ужин» ее собственного приготовления. Какую-нибудь гречку с луком или «плов с морепродуктами». Поскольку каждое дерьмо в этом доме мнит себя как минимум персоной королевской крови, к мытью посуды никто не прикасается. Горы жирных сковородок и тарелок с разлагающимися остатками пищи громоздятся в кухне. Они в отвратительной пожелтевшей мойке. На убогом столе, принесенном с какой-то помойки. На подоконниках. И на остатках кухонных шкафов, вывезенных с пожарища.
В один прекрасный день тишина этого мертвого царства взрывается разбитой тарелкой, пущенной в стену. Вслед за этим через все семь комнат проходит звуковая волна маминого крика. Это уже не голос ее величества Королевы-Поцелуйте-Меня-в-Зад. Это вопль валькирии. С этого крика в нашем доме начинается «война тарелок». Свое несогласие с собственной судьбой мама ежедневно выражает в бешеном метании всего стеклянного и бьющегося в стены, двери, углы или просто об пол. Так она протестует против необходимости еженедельно таскать наше и свое грязное белье к знакомым, чтобы постирать его в стиральной машине. Так она вымещает злобу на нас, на отца, на Бога. Судя по тому, как опасливо и настороженно обходят нас при встрече соседи по подъезду, они считают, что наша мать, а возможно, и все мы – буйные сумасшедшие, которые в приступе ярости могут вцепиться в глотку или выковырять пальцем глаз.
Когда в доме не осталось тарелок и стеклянной посуды, мама решила договориться с Богом путем мирных переговоров. Полагаю, что нас – меня, сестру и брата – она решила использовать так, как диктаторы обычно используют проживающих на территории их государств иностранных граждан, когда хотят попросить у мирового сообщества списание долгов, крупный кредит или отмену экономических санкций. Нет, нет, – говорят диктаторы. – Мы не собираемся ущемлять ваших граждан в правах, или, упаси господь, ограничивать их свободу в лагерях беженцев. Наоборот, мы хотим, чтобы они были счастливы и чувствовали себя как дома. Но это вряд ли возможно, когда по улицам наших городов разгуливают вооруженные мачете и автоматами безработные и голодные люди, которые во всем винят иностранцев. Мы ведь не в состоянии проследить за каждым фанатиком, который может отрубить голову какому-нибудь европейцу или изнасиловать его жену и дочь, потому что, по его мнению, именно из-за них умерла от голода его мать и маленький сын взорвался на противопехотной мине. Мы нуждаемся в стабильности, и если бы мировое сообщество проявило понимание и оказало нам необходимое содействие в установлении порядка, то ваши граждане могли бы и дальше счастливо жить на территории нашей страны и ничего не опасаться. Вот примерно так ведут себя разные политические маньяки из банановых республик, «договариваясь» с ЕГО ВСЕМОГУЩЕСТВОМ мировым сообществом. В переговорах с Богом моя мама решила использовать ту же самую тактику. Из нее мог бы получиться великолепный диктатор-террорист.
Теперь мама демонстрирует всему миру, что она облезлая овца Христова стада. Ее величество снимает с себя остатки своих роскошных нарядов, прячет подальше украшения и побрякушки. Свой фирменный голос Королевы-Поцелуйте-Меня-в-Зад она тоже временно запирает под замок. Теперь мама говорит нараспев, с той непередаваемой херувимской сладостной интонацией, которая свойственна только раскаявшимся мариям магдалинам. Наконец-то мама находит себе занятие на весь день. Зачехлив себя в длинную юбку и нищенское пальто, она оборачивает свою безумную голову в платок и с утра отправляется «по храмам». Весь ее смиренный вид является прямым укором Богу, который несправедливо покарал не только ее, но и ее детей. По выходным нас – меня, сестру и брата – мама толкает впереди себя, как конвоируемых военнопленных, в церковь. Здесь, по ее хитрому замыслу, Бог наконец должен узреть, какую чудовищную и несправедливую ошибку он совершил, когда обрек нас на такие страдания. И ради нас Бог должен вернуть маме все то, что он у нее отнял. В противном случае Бог знает, в какой ад наша мама превратит нашу жизнь, если он, Бог, не исправит свои ошибки и перегибы. Но мама понимает, что с Богом непросто договориться. Поэтому она терпелива. И каждый день отправляется «по храмам». Здесь она смиренно стоит на службах со свечкой в руках, всем видом показывая Богу, что она ангел, а он – вздорный злой старик. После служб мамин день завален целым ворохом «богоугодных дел». Проведя в этих паломничествах вместе с ней не один день и не одну неделю, я кое-что поняла в реалиях современной религиозной жизни. Во-первых, существует целая армия неприкаянных баб, которые изо дня в день шляются по церквям. Этим своим «молитвенным подвигом» они могут оправдать все на свете: брошенных детей, запущенных мужей, элементарное нежелание готовить еду и убираться дома. Какая может быть еда – они же себя Богу посвятили! На практике это стадо Христовых овец только тем и занимается, что охмуряет здоровых и румяных приходских священников, ходит друг к другу на чаи с пирогами и обеспечивает непрерывный трафик городских сплетен. Эти храмовые матроны, перемещающиеся по всему городу и имеющие обширнейшую агентурную сеть, знают все и обо всех. Не удивлюсь, если наиболее истовые из праздношатающихся по церквям теток давно хранят дома в шкафу рядом со своими наиболее «постными» платьями кители с погонами офицеров ФСБ и наградными кортиками.
В новой «политике» моей мамы я исправно выполняю отведенную мне роль заложницы, интересами которой мама шантажирует Бога. Мама таскает меня с собой по церквям, знакомит со своими товарками в длинных юбках и румяными батюшками. Непременной темой каждого ее разговора является «бедняжка Кариночка», которая тяжело переживает предательство отца и у которой из-за ее «чистой и наивной души» нет никаких перспектив в этом мире. Речь идет, естественно, обо мне. Свое скорбное «житие» мама часами может расписывать батюшкам, матушкам, прихожанкам, захожанкам и любому обладателю «девственных» ушей. Все должны проникаться сочувствием к ее судьбе. Ну а если ее судьба их не трогает, то разговор переводится на меня. И когда они видят мои каштановые кудряшки, темные глаза маленького олененка и смиренную улыбку ангела, их ледяные сердца сгорают в огне любви. Ниагарским водопадом льются слезы. Руки рвутся, чтобы оградить меня от этого чудовищного мира. Сочувствующие матроны несут маме сумки с вещами для детей, продукты и иногда даже деньги. Будучи послушной овцой Христова стада, мама, естественно, нигде не работает.
Чтобы не платить нам алименты, отец, на правах хозяина своей компании, определил себе официальную зарплату, которой едва хватило бы, чтобы купить среднего качества мужские штаны. Поэтому все, что мы получаем от своего отца, – это триста рублей в месяц. Несмотря на это, мы не умираем, а продолжаем жить. Уж не знаю, результат ли это маминой пиар-кампании, развернутой в среде праздношатающихся овец, или проявление божеской милости. Но формально мамины усилия по налаживанию отношений с Богом приносят плоды. Хотя мама, естественно, не считает, что Бог выполняет перед ней ВСЕ свои обязательства. Поэтому она готовит Богу новую ловушку. Приманкой в ней снова должна выступить я.
В один из воскресных дней она будит меня ни свет ни заря. После того как я умыта и причесана, мама одевает меня в карнавальный костюм гимназистки-отличницы. Черная юбка, из-под которой едва выглядывают ноги в белых гольфах, обутые в туфли без каблука. Сверху – белая блузка в тонкую синюю полоску, застегнутая на все пуговицы до самого горла. Чтобы замаскировать мою грудь с дерзко торчащими даже через лифчик и рубашку сосками, мама напяливает на меня вязаный жакет. Но, не удовлетворившись и этим, повязывает спадающий на грудь белый бант. В таком «богоугодном», по мнению мамы, виде она уверенно тащит меня в какую-то церковь, в которой мне еще не посчастливилось побывать. По дороге мама проводит инструктаж:
– Сегодня после службы мы идем в гости к отцу Олегу.
– Да, мама.
– Это очень благочестивая семья, поэтому прошу тебя, постарайся произвести на них впечатление.
– Хорошо, мама.
– Не болтай лишнего. Вообще лучше не говори, когда тебя не спрашивают. Не смейся, как ты это любишь делать, в самый неподходящий момент. И не произноси всех этих плебейских словечек, которых ты нахваталась в школе.
– Не буду, мама.
– В общем, постарайся не опозорить ни меня, ни себя. К тебе будут присматриваться. Для меня эта встреча очень важна. Я долго добивалась, чтобы нас пригласили.
– Хорошо, мама. А что значит «присматриваться»?
– Ты, как всегда, лезешь туда, куда тебя не просят! Ну раз уж ты не можешь понять простых вещей сама, я тебе объясню. Ты знаешь, что ваш отец от вас отказался. Я тащу вас на своем горбу одна. – Мама делает многозначительную паузу, чтобы подчеркнуть тяжесть своей ноши. – Никто из вас троих не работает, и неизвестно, будет ли когда-то работать. При этом все вы хотите есть, пить, одеваться и так далее. Ваш папаша вряд ли примет участие в вашей судьбе. А я при всем желании не смогу вас обеспечить. Возможно, я вообще умру, не дождавшись, пока вы начнете самостоятельную жизнь. Поэтому пришла пора позаботиться о вашем будущем. Больше всех меня волнует, естественно, твой брат. Он младший. К тому же он мальчик. С девочками проще. Вас можно удачно выдать замуж. Именно для этого мы идем к отцу Олегу. У него есть сын, которому подыскивают православную невесту. Ты можешь стать вполне подходящей партией для него. Для тебя это будет неплохой вариант. Отец Олег – настоятель богатого прихода. У него в друзьях – банкиры и олигархи. По какой-то линии он в родстве с патриархом, так что у этой семьи все схвачено. Через пару лет можно будет вас обвенчать. А там, – мама на ходу машет рукой в неопределенном направлении, – его сын закончит семинарию, рукоположится, получит хороший приход в Москве. Отец о нем позаботится. Будешь жить – сама себе хозяйка. Рожать и детей растить. Муж при тебе, церковная прислуга всегда под руками, на всем готовом. Чем не хорошая перспектива?
Этот вопрос на самом деле не предполагает, что я должна на него ответить. Мое мнение маме не требуется. Она уже все решила и обо всем договорилась. Поэтому я просто молчу, не мешая ей оставаться довольной собой.
Сына священника зовут Павел. Ему восемнадцать лет, и, вопреки моим ожиданиям, одет он не в китель семинариста, а в мирской серый костюм без галстука.
Сидя после службы за столом в доме священника, я стараюсь незаметно разглядеть человека, которому с такой легкостью хочет отдать меня мама. Он высокий. Это плюс. Но худой и костистый. Когда он сидит, эта нескладность особенно бросается в глаза. Длинные руки сильно вылезают из рукавов пиджака, как будто костюм ему мал. Если он вытянет руку с другой половины стола, то легко сможет прикоснуться ко мне. Только мне этого не хочется. Павел производит впечатление нарисованного из прямых «палочек» человечка. Прямые длинные ножки, прямые ручки, прямая шейка, прямой нос. Он весь прямой и какой-то неживой. Словно деревянная кукла буратино, к конечностям которой привязаны невидимые ниточки.
Кажется, что все, что делает Павел, он делает резко, как деревянная кукла. Когда он здоровается с кем-то из мужчин, то под прямым углом подает абсолютно прямую негнущуюся ладонь. Даже когда он ест, вилка совершает свой путь от тарелки до его широкого, как у Щелкунчика, рта какими-то рывками. Хорошей парой для него могла бы стать цирковая эквилибристка на ходулях или танцовщица брейк-данса. Представляя эту пару, я хочу засмеяться. Но вовремя вспоминаю, что вокруг меня вкушают свой хлеб благочестивые овцы Христова стада, среди которых в придачу сидит моя мама. Елейным голосом херувима она что-то поет жене священника – мясистой бабе с большими грудями, коричневой бородавкой на шее и голубой косынкой на голове. Но я знаю, что невидимые сверхчувствительные органы сидящей внутри матери валькирии сканируют каждое мое движение и каждую мою мысль.
Поэтому я только улыбаюсь и поспешно склоняюсь над своей тарелкой. Когда я в следующий раз поднимаю глаза, то встречаюсь взглядом с деревянным Павлом. Его глаза, несмотря на то что они темные и холодные, как пуговицы, оказываются живыми. В них я вижу хитрую усмешку и плохо скрываемое желание отмочить какую-нибудь шутку, от которой вкушающие овцы Христовы в шоке попадают на пол.
Мне нравятся эти глаза и это озорное настроение. Что ж, может быть, мамина затея не так уж плоха?
…Через несколько месяцев на исповеди у отца Олега я со слезами рассказываю о том страшном событии, которое произошло со мной.
Давясь словами и задыхаясь от рвущихся из меня боли и ощущения необратимости, я говорю:
– Он не спрашивал меня. Он сделал это насильно…
Мои слезы и текущая из носа жидкость падают на холодный каменный пол церкви. Священник молчит, не давая мне шанса забыть обо всем.
– Я сопротивлялась, а он бил меня. По лицу. По голове. По телу…
Стоящие за мной в очереди на исповедь уже не просто перешептываются и шаркаются друг о друга сумками и богоугодно одетыми телами, а довольно громко возмущаются тем, что я так долго занимаю священника и задерживаю всех. Наконец священник накрывает мою голову плотным, пахнущим карамелью покровом и отпускает мне грехи со словами «Иди и больше не греши».
После этой исповеди нас больше не приглашают в дом священника. И мои встречи с Павлом, совместные прогулки, редкие вылазки в кафе, где мы пили чай и ели пирожные, – все это прекращается. Павел больше не заходит к нам в гости. Не звонит мне. И не отвечает на мои звонки.
Эти внезапные перемены вызывают у мамы приступ беспокойства, перерастающий в настоящую панику. С удвоенной активностью она осаждает дом священника, целыми днями топчется в его церкви вместе с бесконечными старостами храма, бухгалтерами храма, свечными бабками, просвирнями, уборщицами, регентшами, певчими хора, просителями, убогими, юродивыми, спонсорами, спонсоршами, кающимися спонсорскими женами, отдыхающими благодетельницами, путешествующими богомольцами и прочим «Христовым» народом.
Наконец мамины усилия по установлению истины приносят плоды. В один из дней, когда она возвращается домой из райских кущ, я сижу за кухонным столом и пытаюсь делать домашнее задание по английскому языку. Я слышу, как хлопает дверь. Не разуваясь, мама проходит по узкому коридору, как будто в поисках чего-то. Когда ее фигура появляется в проеме двери, я вижу ее бледное лицо – лицо валькирии с горящими яростью глазами и змеящимися тонкими губами.
– Проститутка! – выплевывает она, подходя ко мне, и наотмашь бьет меня по лицу.
Пространство вокруг меня раскалывается на куски, как разбитое зеркало. И воздух начинает звенеть от звука миллионов осыпающихся осколков.
Голос Бога в моей голове объявляет результаты вселенского опроса на тему «Самые дефицитные христианские добродетели»:
«Третье место – смирение. Большинство респондентов назвали эту добродетель в числе самых труднодостижимых, хотя и не смогли точно объяснить, что же они понимают под словом „смирение“. Но в конце концов – это ли не лучший показатель уникальности. Чем дефицитней товар, тем сложнее сказать, что же он собой представляет!
На втором месте – прощение. Более семидесяти процентов опрошенных сказали, что готовы в ответ на пощечину подставить вторую щеку, но точно не простят даже первого удара. Если же обидчик все-таки ударит по второй щеке, опрошенные предлагают следующие варианты действия. Наиболее популярный ответ – подать в суд. Следом за ним идет – дать сдачи. Третья группа респондентов считает правильным отомстить обидчику при удобном случае.
И наконец, победитель! На первом месте нашего еженедельного рейтинга – терпение! Вот уж поистине драгоценная добродетель. Сто процентов опрошенных признали, что испытывают нехватку именно этой добродетели».
Херувимы и серафимы заходятся в исполнении торжественного джингла. Когда трубные гласы смолкают, божественное сияние заполняет экран. И голос Бога подводит итог программы: «Так будем же терпеливы, чада мои. И все у нас получится!»
Когда экран в моей голове гаснет, я остаюсь одна. Обхватив голову руками, я лежу на столе в луже собственных слез, и мои плечи трясутся в непрекращающейся судороге от обиды и боли.
Глава седьмая
Причиной моего отлучения от благочестивого семейства послужили следующие события.
…Моя жизнь состоит из частей, которые подходят друг к другу так же, как бабушкин сундук к плазменной ТВ-панели.
В моих фантазиях живут мечты о таинственных свадебных ритуалах, тишине и прохладе дворцовых покоев – образы, впитанные из арабских сказок и из рассказов родственников. При этом сама я живу в чужом холодном и неуютном доме, где царствует безумная, но от этого не менее любимая мною мать.
Школа, друзья, записки, улыбки, походы в кафе и в кино – все это азартная и легкая игра, в которую я с удовольствием играю в обычные дни. В выходные мать превращает меня в этакую «бабу на чайник». Голову заматывают платком. Ноги прячут под длинные юбки. Тело зачехляют в бесформенные рубахи, кофты, сарафаны и другие балахоны, предназначенные для того, чтобы превратить женскую фигуру в подобие мешка, набитого навозом.
При этом я все время сосу конфету-леденец. Это подавляет чувство голода. И мама не возражает. Готовить она не любит и не хочет. Поэтому она счастлива, что дети не просят есть. Особенно счастлива она во время постов! Да, посты – это настоящая находка для моей мамы! У меня есть подозрение, что из всех религиозных конфессий она выбрала православие именно за многообразие и строгость постов. Для женщины, которая ненавидит торчать на кухне и мнит себя интеллектуалкой, посты – это настоящее спасение от всех проблем! Поэтому посты превращаются для нас в нескончаемый праздник. Чтобы мы не просили есть и чтобы не обременять себя походами в магазин и стоянием у плиты, мать покупает баулы шоколада, карамелек, леденцов и других сладостей. Во время постов я безнаказанно и вдоволь обжираюсь сладким.
В Библии ничего не написано про карамельки и чупа-чупс, но мне кажется, я начинаю догадываться о том, как на самом деле удалось накормить пять тысяч человек тремя хлебами.
Подготовка меня к выдаче замуж за сына священника идет полным ходом. На еженедельных обедах в доме священника моя елейно-напевная мама уже невзначай вставляет в свои трели как бы шутки про то, что ее дочь подарки меньше двух карат не принимает и что она, как мать, хочет быть уверена, что ее дочь не будет ни в чем нуждаться. Мне нечего вспомнить обо всех этих приготовлениях, потому что я присутствую на них как живая кукла. Меня не спрашивают о моих желаниях. Тем более что я не возражаю.
Павел действительно оказывается нормальным живым парнем. Он, пожалуй, слишком немногословен и иногда задумчив. Но обычно он улыбается и шутит. К церковным уставам и правилам относится снисходительно, всегда подтрунивает над самыми истовыми прихожанками. И никогда не откажется как-нибудь подшутить над теми, кто относится к себе очень серьезно. Может положить дьякону Николаю сырое яйцо на стул. Или запустить мышь в комнату к своим сестрам. Несмотря на то что он старше меня и я все еще стесняюсь разговаривать с ним, мне не скучно гулять с ним в парке или ходить по улицам. Все мои представления о том, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они становятся близки, по-прежнему основываются на арабских сказках и фантазиях, как я стала бы женщиной, будь я не просто наследницей царского рода, а настоящей принцессой. Павел никак не касается этой темы и не проявляет тех знаков внимания, которые можно считать намеком на близость. Он ведет себя со мной как взрослый человек с еще маленькой девочкой. Это нравится мне уже хотя бы потому, что в этих отношениях есть какая-то тайна.
Перенесемся в тот день, когда я стала женщиной.
Это обычный будний день. Поэтому мне не нужно изображать благочестивую овцу. Я одета в простую юбку, футболку и куртку. До тех пор, пока я не вернулась домой, где за мной следят сканирующие глаза мамы, я могу быть просто девочкой, которая радуется теплу, солнцу, окончанию уроков. Я могу быть просто девочкой, которая идет по улице, разглядывая прохожих, и сосет леденец.
Моя школа, несмотря на то что мы живем не в своем доме, находится не очень далеко. Но у меня нет никакого желания рано появляться дома. Поэтому каждый день после занятий я придумываю что-то, что оттягивает момент моего возвращения домой. Если ребята из класса шумной толпой планируют поход в кафе, то я с радостью присоединяюсь. Даже если у меня нет денег. Можно же не есть, а просто сидеть, болтать и смеяться вместе со всеми.
Иногда я захожу в гости к кому-нибудь из своих школьных подруг. Мы слушаем музыку, танцуем. Иногда примеряем наряды старших сестер и матерей. Иногда вместе делаем домашние задания до вечера, перебрасываясь шутками, обсмеивая учителей и обсуждая ведущих MTV, которое всегда включено во время таких занятий.
Бывает, мне хочется побыть одной. В такие дни я выхожу из школы, надев наушники и включив плеер. Это спасает от необходимости говорить с кем-то и придумывать разные предлоги, чтобы отвязаться от компании. Я долго хожу по улицам. Странное ощущение, когда ты находишься среди множества людей, но при этом остаешься наедине с собой, успокаивает меня. Я смотрю на лица людей, идущих мне навстречу, как на камни или ракушки, которые волны гонят на берег. Не свои и не чужие, иногда красивые, иногда уродливые, озабоченные неизвестными мне проблемами, несущие отпечаток другой жизни. Эти лица отвлекают меня от моих маленьких тревог и забот.
Часами я брожу по большим улицам, заглядывая в дорогие магазины, в которых время останавливается. Выходя из них, я снова погружаюсь в людской поток. И потом меня прибивает к переулкам, где светятся теплом окна кафе и ресторанов.
Если бы в тот день у меня было такое расположение духа, вероятно, все могло бы сложиться по-другому… По правде сказать, я никогда не умела управлять своим настроением. Я могу заплакать ни с того ни с сего. Без всяких видимых причин. А могу хохотать и кружиться тогда, когда неприятности идут одна за другой и нет никакого просвета. Но в тот день настроение у меня просто отличное. Не знаю почему, мне хочется улыбаться и обнимать весь мир. Возможно, потому, что на улице весна. И солнце с самого утра щекочет глаза. И у меня такое ощущение, что моя жизнь только начинается. И что все у меня будет просто великолепно. Мне хочется любить. Дарить радость. Я думаю обо всех тех глупостях, которые всегда занимают мысли маленьких девочек. Я не считаю все это глупостями. Но понимаю тех, кто так считает. Просто когда ты смотришь на этот сраный мир, в котором, чтобы выжить, нужны когти, челюсти и ядовитое жало, то такие простые и естественные вещи, как нежность, желание любить, радость от солнца, неба или цветка, – все это кажется таким жалким, таким слабым, таким инфантильным… Большинство людей сочтут в лучшем случае слабоумным человека, который по собственной воле и бесплатно разобьет в своем дворе цветник и вопреки придуркам и алкашам, гадящим на клумбу, будет ухаживать за цветами. Или человека, который, не боясь блох и лишая, поднимет с дороги котенка. Таких людей принято сторониться, презирать и пинать. Но если в конце концов такому затюканному и оплеванному человеку надоест его роль и он разовьет в себе инстинкты хищника, вырастит когти и обзаведется мускулами и ядовитым жалом, все вокруг завоют, как обворованная рыночная торговка. И те, кто еще недавно пинал, давал подзатыльники, бросал презрительные ухмылки, назовут этого человека жестоким, бесчеловечным, злым… Впрочем, я отвлеклась.
Да, в тот день я очень уязвима. Я смеюсь и шучу. Мне кажется даже, что я напеваю что-то себе под нос на ходу. Мне радостно оттого, что я вижу небо. И вдыхаю воздух, в котором кроме пыли и выхлопных газов чувствуется аромат чего-то свежего и пьянящего.
С этим настроением я без раздумий соглашаюсь присоединиться к школьной компании и пешком пойти в не самое близкое модное кафе, похожее на аквариум.
Мы идем по улицам и бульварам шумной пестрой, разношерстной толпой. Мои одноклассницы, несколько наиболее развитых ребят из нашего класса, парни из старших классов со своими девчонками и без. Обычная галдящая толпа взрослеющих детей. Я мало чем выделяюсь в этой толпе. В школе я слыву красавицей и недотрогой. Моя изящная фигура с вполне сформировавшейся грудью вызывает интерес у парней. Периодически кто-то из них, не без риска получить оплеуху, пытается ущипнуть меня за попу или за грудь. Мои выразительные яркие глаза и вьющиеся волосы выглядят соблазнительно. Но я еще не научилась демонстрировать все это. Я обычная, еще угловатая школьница, которая страдает комплексами. Я почти не пользуюсь косметикой и не прилагаю усилий для того, чтобы подчеркнуть свои достоинства. Поэтому я просто один из ярких цветов в этом свежем букете.
В кафе, где для нашей компании сдвигают сразу несколько столов, кто-то из парней, от скуки или в приступе какого-то куража, начинает подтрунивать надо мной. Он называет меня недотрогой и снежной королевой. Спрашивает, не передумала ли я стать попадьей. Я грублю. Я отшучиваюсь. Я смеюсь вместе со всеми. Этот разговор все больше заводит меня. И в какой-то момент я уже готова совершать глупости.
– Признайся, что ты просто боишься мужчин, – снисходительно-вызывающе бросает мне через стол парень из старшего класса.
Вместо того чтобы послать в жопу этого придурка, который вряд ли еще сам лишился девственности, я встаю из-за стола. Походкой знающей себе цену красотки направляюсь к стоящему в отдалении столику, на который я обратила внимание некоторое время назад. За столом сидит компания из трех парней, похожих друг на друга. Один из них заметно старше. Возможно, они братья. Но это неважно. Три черноволосых подтянутых красавца производят впечатление сильных людей. И, возможно, опасных людей. Они похожи на бандитов с юга. Их движения несуетливы и размеренны. Они негромко разговаривают, как будто тщательно выбирая слова. Они одеты в темные водолазки. И в темные брюки. У них дорогая обувь на тонкой кожаной подошве. Двое одеты в пиджаки. У третьего поверх водолазки надета легкая кожаная куртка. От их столика по всему залу волнами расходятся флюиды силы, уверенности в себе и скрытой угрозы. Когда становится ясно, что я иду именно к этому столу, я спиной ощущаю, как школьная компания в напряжении замерла, разинув рты и хлопая глазами. С каждым моим шагом их надежда на то, что я просто пошутила, что это очень эффектный трюк с моей стороны, тает, как мороженое в летний день. Каждый мой легкий, но уверенный шаг говорит, что я не собираюсь, не дойдя до своей цели, повернуться и, выстрелив в воздух из клоунского пистолета, захохотать: «Вот как я вас обманула! Бу-га-га!» Они понимают, что я дойду до конца. А что будет дальше – даже не может прийти им в голову. От этой мысли я улыбаюсь своей самой очаровательной детской беззащитной улыбкой. Наверно, именно поэтому один из черноволосых, опасных как бритва людей встает мне навстречу и отодвигает стул, чтобы я могла сесть. Я слышу, как за моей спиной раздается вздох восхищения. Как в цирке, когда укротитель кладет голову в пасть льва или тигра.
Сидящих за столом людей зовут Руслан, Шамиль и Муса. Первые несколько минут я только мило улыбаюсь и несу какую-то чушь про то, как мне приятно с ними познакомиться, потому что они такие серьезные и такие сильные. Потом наш разговор становится более спокойным и содержательным. Я рассказываю о том, что учусь в школе, и о том, что мои предки – персидские шахи. Самый старший – Шамиль – рассказывает о том, что Руслан и Муса – его братья. Что они все родились в Чечне, но уже давно живут в Москве и занимаются бизнесом. Наше знакомство продолжается. Шамиль заказывает мне какую-то еду. Просит принести себе и братьям еще что-то. И мы продолжаем сидеть за одним столом, говоря о разных пустяках. А чем занимается твой отец? А кто твоя мать? А сколько лет братьям и сестрам? Чем хочешь заниматься, когда закончишь учиться? Есть ли у тебя парень? Как ты развлекаешься? Несмотря на то что не на все эти вопросы мне легко ответить, мне нравится этот разговор. Впервые я ощущаю, что моя жизнь кого-то интересует. И я с удовольствием рассказываю про свои не слишком интересные дела. Но Шамиль внимательно слушает меня, переспрашивая какие-то вещи. Такое внимание взрослого сильного мужчины льстит мне.
Я чувствую себя как будто на своем дне рождения. И даже лучше. Меня окружает трое уверенных в себе и красивых мужчин. Меня слушают. За мной ухаживают. Ко мне проявляют интерес и внимание. Непринужденность и легкость, с которой все происходит, создает какое-то удивительно радостное настроение. В этой компании я чувствую себя взрослой. И это тоже удивительно и радостно для меня. Поэтому, когда Муса и Руслан собираются уходить, обнимаясь на прощание, я соглашаюсь на предложение Шамиля остаться еще ненадолго.
Компания моих школьных друзей уже разбежалась. В этом есть только один минус. Никто из них не увидит, как я уйду отсюда в сопровождении сильного и взрослого мужчины с грацией тигра. Но меня это уже почти не волнует. Шамиль заказывает кальян и чай со сладостями. И мы продолжаем проводить вечер уже вдвоем в легких волнах ароматного дыма и негромкой музыки. Все это чудесно и волшебно, как сон.
Промотаем ленту моей жизни на несколько часов вперед. Когда я, захлебываясь соплями и собственной кровью, текущей из разбитых носа и губ, пытаюсь, как ошалевший еж, свернуться в клубок на застеленной постели, куда меня бросили сильные руки Шамиля.
Цирковой укротитель может сколько угодно вертеть башкой и звать на помощь, когда пасть льва уже захлопнулась. Помощи ждать бессмысленно. Я понимаю, что меня уже никто и ничто не спасет. Мой последний шанс на спасение растворился, когда я сделала шаг через порог квартиры, в которую привез меня Шамиль. Я могла уйти из ресторана пешком и не садиться в его машину. Но я села. Потом у меня был еще один шанс убежать или просто уйти. Но я почему-то снова им не воспользовалась. Я играла в какую-то придуманную мной игру до тех пор, пока ее второй участник не решил, что игра закончилась. То, что он предложил мне, я вначале не поняла. Потом восприняла как шутку. И начала нести какую-то детскую чушь.
Первый удар похож на электрический разряд. Мое тело мгновенно сжимается, и сотни иголок входят внутрь, через кожу. Кровь мгновенно приливает к голове, ногам и рукам. Тело перестает действовать.
Я слышу, как на мне рвется что-то из одежды. Но я не могу ни пошевелиться, ни закричать. Я превращаюсь в человека с картины Эдварда Мунка. Человека, тонущего в немом крике. Наверно, так я могу стоять вечность, парализованная.
Но второй удар выводит меня из этого ступора. Как по щелчку пальцев гипнотизера, я вдруг прихожу в себя. И в одно мгновение на меня обрушивается понимание того, что со мной происходит, и новая, ослепляющая боль. От удара по лицу свет в моих глазах выключается. Я лишь чувствую, как меня грубо хватают за руки и бросают на пружинящую поверхность. Только теперь из моих глаз начинают течь слезы и изнутри вырывается беспомощный и лишающий сил плач.
Не снимая одежды, Шамиль садится на постель, неторопливо, так же как за едой, начинает стягивать с меня одежду. Его сильная рука проходит по моему телу. Он пытается раздвинуть мне ноги. Я все еще сжимаюсь тугим нервным комком. И тогда он снова бьет меня. По лицу. По рукам. По голове. По ногам. Он делает это не в полную силу. Словно играет с драчливым котенком, выпустившим когти.
Эти удары, как уколы новокаина, обжигают меня, а потом делают ватной и неживой. Я чувствую, как мощное и голодное существо рядом со мной готовится к тому, чтобы поглотить меня и растерзать. Я вижу размытый и нечеткий мир через лопающиеся кровавые пузыри, которые выдуваются из моего носа. Я чувствую вкус железа и соли во рту.
Все, что происходит потом, напоминает операцию без наркоза, когда твое тело мнут, рвут, сжимают, выкручивают, в тебя вставляют какие-то предметы, а ты просто безвольно подергиваешься в такт движениям «врача», его рывкам и ударам. Мое тело перестает сопротивляться. Оно даже не чувствует боли. В него вламываются и выворачивают наизнанку так, как если бы это была тушка курицы. В это время жива только моя голова. Горячая и перепачканная кровью, слезами и соплями, она дергается и катается по кровати в такт с движениями терзаемого тела.
В какой-то момент в голове появляется тайаба-аль-хамам с легким покрывалом, пропитанным розовым маслом. Этим покрывалом она должна укрыть мое чистое обнаженное тело, чтобы проводить меня в девичьи покои и открыть передо мной тайны ожидающей меня первой брачной ночи. Но я просто сглатываю этот образ вместе со слезами и кровью.
Вездесущий и немилосердный бог рейтингов орет в моей голове голосом ведущего MTV: «Первое место! Сексуальные фантазии юных принцесс! Прощание с невинностью в лучших традициях маркиза де Сада! Реальные школьницы! Эксклюзивное видео! Только для взрослых! Только на нашем канале!»
Глава восьмая
Со временем я смирилась с тем, что у меня не будет свадьбы, на которой я отдам свою невинность, как священный сосуд, наполненный миром, в руки тому единственному человеку, которому захочу служить и подчиняться до самой смерти.
Вернемся в экспоцентр, где я работаю выставочной моделью.
На Международной выставке ногтевой индустрии я знакомлюсь с Викторией Дольче. Ее явление подобно шествию ангела. Ослепительная Виктория Дольче идет по проходам между стендами, на которых мастера художественного выпиливания и обтачивания превращают ногти в произведения декоративно-прикладного искусства. Виктория идет в сиянии своей славы, и ее свет отражается в отполированных ногтях, в наклеенных стразах, в хроме и позолоте щипчиков, ногтей, пилок и щеточек.
Виктория стройна и худа, как мальчик-подросток. Изгибы ее божественного тела создают ту особую сексуальную геометрию, которая способна довести до безумия своей необъяснимой притягательностью. Рельеф ее оголенного загорелого живота не имеет ничего общего с грубой маскулинной статью красавиц, часами изнуряющих себя занятиями на тренажерах и с персональными тренерами. Ненавязчивый рельеф живота Виктории – это радующий глаз спокойный рельеф альпийских долин. Такой рельеф может быть вылеплен только Творцом в порыве вдохновения.
Ноги Виктории Дольче ступают по земле легко и уверенно. Как и полагается легким ногам ангела.
Когда Виктория идет по проходу в направлении стенда «Школа ногтевого искусства», я, одетая в лиловый наряд, сделанный, по всей видимости, из термоизолирующей ткани для космических кораблей, сижу в кресле. На закрепленные специальным клеем на моих пальцах искусственные ногти полуметровой длины художница наносит хохломскую роспись. Ногти на пальцах одной руки уже разукрашены красно-черно-золотыми орнаментами из ядреных цветов, кудрявых листьев и развесистых ягод. Чтобы лак высох, а изображение не смазалось, я держу руку полусогнутой, направив вверх широко расставленные пальцы и шевеля ими в воздухе.
Кому и для чего могут понадобиться хохломские ногти размером с хлебный нож – вопрос, который может прийти в голову только очень отсталому от жизни человеку. Искусство вообще бесполезно. И чем бесполезней, тем дороже. Это я понимаю. Хотя что может делать обладательница такого маникюра, мне трудно представить.
Когда вторая рука будет закончена, я превращусь в лайт-версию Фредди Крюгера. Но в отличие от него мои ногти-кинжалы я не смогу снять сама. Я буду ходить с ними, пока не закончится оплаченное хозяевами стенда время моей аренды и помощник мастера не отклеит их. И мне очень повезет, если в предстоящие часы мой мочевой пузырь и кишечник не потребуют от меня никаких действий.
Но когда в дальнем конце ряда появляется в сиянии Виктория Дольче, я забываю обо всем. Мое сердце начинает биться в такт ее легким шагам. Она нигде не останавливается. Виктория только смотрит на происходящее ясным, не выражающим эмоций взглядом. Ее большие серо-зеленые глаза видят что-то невидимое остальными. Пухлые губы Виктории Дольче застыли в едва уловимой печальной улыбке архангела, который держит в руках огненный меч.
Я знаю, что она не могла появиться здесь просто так. Виктория Дольче пришла разрушить этот мир или забрать того, кто достоин находиться в мире ином, где обитает она. Я надеюсь, что она пришла за мной.
Но Виктория Дольче проходит мимо, едва взглянув в мою сторону.
Меня накрывает волной восхищения и благоговения. Я вижу, как дерзко и непреклонно раскинули крылья ее ястребы-брови. Я вижу ее пепельные волосы, собранные сзади и обнажающие длинную изящную шею. Ее ресницы рождают ветер. Изумрудные сферы украшают ее безупречные уши. За ее спиной сгорают миры и исчезают галактики. Я понимаю, что сейчас погибну, но не могу оторвать взгляд от этого совершенного создания с лицом ребенка, которому открыты все тайны вселенной.
Когда с ногтями, похожими на адские цветы, я выхожу из-под рук художницы, у меня есть только одно желание: найти ангела, который прошел мимо меня, и убедить его в том, что именно за мной он послан. Рассекая воздух лезвиями ногтей, я начинаю марафонский забег по лабиринту ногтевой выставки. Мимо меня пролетают стенды, где ногти украшают мозаикой. Стенды, где ногти разрисовывают аэрографом. Стенды, где ногти лечат, втирая в них индийские масла и минеральные составы. Стенды, где ногти шлифуют лазером. Стенды, где на ногти приклеивают стразы и полудрагоценные камни. Стенды, где ногти укрепляют шелком. Стенды, где ногти наращивают материалами, используемыми в протезировании зубов. Стенды, где делают хрустальные ногти с рисунком внутри. Стенды, где восстанавливают и протезируют ногти.
Если бы Бог попал на эту выставку, он смог бы убедиться, насколько примитивным, безвкусным, неоригинальным и неизобретательным он был, создавая человека. Но Бог не может стерпеть такого позора. Поэтому он послал сюда ангела с огненным мечом – Викторию Дольче. И ее я должна найти прежде, чем она уничтожит это богомерзкое сборище «улучшателей» человеческой природы. Если бы Гитлер победил в войне, нынешние специалисты по ногтям имели бы большие карьерные перспективы.
Я почти бегу, опустив руки, чтобы не изрубить хохломскими ногтями тех, кто попадается мне навстречу.
Наконец я обнаруживаю преследуемое мной неземное существо на стенде «Aura Soma». На каждой специализированной выставке обязательно найдутся один или несколько стендов, которые не имеют никакого прямого отношения к теме мероприятия. На выставке торгового оборудования можно легко наткнуться на стенд фирмы, продающей элитные массажные кресла, цена которых сопоставима с ценой семейного микроавтобуса. Прямо посреди выставки похоронной индустрии обязательно будет торчать стенд, на котором выставлено вино, коньяки или элитные сорта чая. Искать в этом какие-то закономерности и пытаться понять причины нет никакого смысла. Возможно, маркетологи коньячного бренда «вычислили», что продавцы гробов – один из сегментов их целевой аудитории. Или, может быть, крупный продавец массажных кресел живет по соседству с владельцем выставочного комплекса и имеет возможность за копеечную плату арендовать стенды на всех проводимых там выставках. Поэтому остается только приятно удивляться, внезапно обнаружив нечто неожиданное там, где, казалось, нет никаких поводов ждать такой встречи. Стенд «Aura Soma» – из разряда таких неожиданных открытий.
Виктория Дольче сидит в удобном кресле напротив женщины в мягком сером платье. На столе перед ней и на полках вокруг расставлены сотни бутылочек разных форм и размеров, заполненных жидкостями всех цветов радуги. В некоторых бутылочках жидкости залиты слоями, которые не смешиваются друг с другом. Полагаю, здесь под видом выставочного стенда размещается магазин, в котором продают пищу для ангелов.
Несколько секунд я стою у входа, застыв в благоговейном трепете. Наконец женщина без возраста в мягком сером платье обращает ко мне лицо с благосклонной улыбкой и указывает рукой на второе кресло, стоящее рядом с креслом Виктории Дольче.
– Проходите, пожалуйста. Присоединяйтесь к нам, – доброжелательно приглашает она.
Я послушно сажусь, положив ногти на колени.
Женщина ждет, когда я размещусь, и голосом мудрого друга поясняет:
– Я как раз рассказывала, что цвет – это объективная вибрация, которую можно описать физически, и даже слепые реагируют на цвет: изменением кровяного давления и ряда функций организма. Метод цветотерапии, который мы используем, изобрела в восемьдесят четвертом году слепая англичанка Вики Уолл, фармацевт, ароматерапевт и ясновидящая. Переняв по наследственной линии знания каббалы, древнего учения о строении мира, она интуитивно создала систему масел для красоты, не подозревая, какая сила от них исходит. Бутылочки выставлялись на эзотерических выставках, тогда-то и было замечено необычное отношение людей к ним, взаимодействие ауры и цвета. – Просветленная тетка ставит на свой стол целый ряд бутылочек и, обращаясь к нам двоим, предлагает: – Посмотрите на них и выберите четыре бутылочки, которые вам больше всего нравятся.
Виктория, практически не раздумывая, берет со стола четыре бутылочки, наполненные жидкостями разного цвета.
Белый…
Коралловый…
Синий…
Красный…
Просветленная тетка смотрит на меня успокаивающе и ободряюще.
В ответ я выжимаю из себя смущенно-кокетливую улыбку и слегка шевелю пальцами-кинжалами. Тетка понимающе кивает.
– Ну конечно! Просто покажите мне их.
Внимательно вглядываясь в манящую глубину бутылочек, осторожно, чтобы не поранить гуру в сером платье, я указываю ногтем, а тетка отодвигает их в сторону.
Оранжевый…
Фиолетовый…
Оливковый…
Розовый…
Все это время я потихоньку наблюдаю за Викторией Дольче. С момента моего появления она еще не произнесла ни слова. Ее взгляд все так же спокоен. Ее тонкие изящные руки не нуждаются в тюнинге.
Наконец я слышу ее голос:
– Я читала, что для счастья человеку нужен определенный цвет… Это научно установленный факт…
Голос Виктории не похож на голоса силиконовых блондинок из программ MTV. Он ниже и сильнее. И в то же время мягче. Этот голос не режет уши, как визг маленькой собачки. И не льется, как елейный голос моей мамы. Я бы сказала, что у Виктории глубокий голос.
И вот она уже обращается не только к женщине-гуру, но и ко мне:
– Эта идея кажется мне интересной по двум причинам. Во-первых, основных цветов всего семь. Поэтому, даже если ученые ошиблись, на поиски своего счастливого цвета не придется тратить много времени. И во-вторых, эта идея нравится мне своей новизной. До сих пор никто ничего подобного не высказывал. А ведь может так оказаться, что некоторых людей делают счастливыми не деньги или драгоценности, а тот цвет, который излучают эти предметы… – Виктория на секунду задумывается и продолжает: – Непонятно, правда, почему нельзя безболезненно заменить доллары на зеленый горох, а бриллианты на что-нибудь другое, ну да это предмет более глубокого изучения. А сейчас я, пожалуй, куплю у вас эти бутылочки.
Каждая бутылочка стоит пятьдесят долларов. И Виктория Дольче не задумываясь отдает гуру в сером платье двести долларов. В моей голове сразу возникает образ Марка, который втолковывает мне, что не нужно мерить счастье деньгами.
И я бы рада отдать любые деньги, чтобы еще минуту удержать ангела, спустившегося на землю в образе Виктории Дольче. Но у меня нет денег. А ангел, купив разноцветные пузырьки с эликсирами счастья, вот-вот снова воспарит на небеса.
Но я, как всегда, ошибаюсь.
Расплатившись с продавщицей счастья, Виктория Дольче протягивает мне руку.
– Мое имя Виктория Дольче. Могу я спросить вас? – И, не дожидаясь ответа, Виктория задает вопрос: – В каком агентстве вы работаете?
Я отвечаю. На лице Виктории появляется едва уловимая тень сомнения. Но Виктория задействует свое ангельское всемогущество и, сверившись с какими-то божественными базами данных, видимо, убеждается, что я не соврала.
– Что ж, прекрасно! Пойдемте, я хочу с вами поговорить.
Перед тем как унести меня на небо, Виктория произносит, не обращаясь ни к кому конкретно:
– Возможно, ты получила свое счастье, детка… Вот вам и пузырьки…
Так я оказалась на планете Виктории Дольче.
Здесь с меня снимают мою старую одежду и выбрасывают ее в пакет для мусора. Здесь меня ощупывают и оглядывают со всех сторон. То, что годилось для выставочной модели, неприемлемо для НАСТОЯЩЕЙ модели.
– Детка, тебе придется похудеть, – слышу я удручающий диагноз.
– Возможно, это еще подростковый жирок, который скоро сойдет, – слышу я слова утешения.
– Грудь маловата, но это и неплохо.
– Если разовьется еще на один размер – тоже не беда.
– И, детка! – в довершение прибавляет Виктория и делает болезненное лицо. – Твой акцент! С этим нужно что-то делать, если ты не собираешься всю жизнь раздавать буклеты и прокладки!
– А что не так с моим акцентом? – смущенно спрашиваю я.
Виктория мгновенно сообщает диагноз:
– У тебя иностранный акцент. Это, наверно, наследственное. Но ты не переживай – и немые начинают говорить правильно, если нужно.
Жизнь на планете Виктории Дольче подчинена закону, согласно которому Богатство и Красота являются двумя фундаментальными силами, создающими вселенную и приводящими ее в гармонию путем своего взаимодействия.
– Деньги и красота противоположны по своей сути, – рассуждает Виктория, запивая таблетку пирлиндола шампанским в двенадцать часов дня в большой квартире, которую снимает для нее один из «покровителей» – так в этом странном мире называют мужчин, которые платят деньги за возможность делать вид, что они трахают ту или иную самку. Хотя на самом деле, после того как нормальный секс превратился здесь в стратегический товар наряду с нефтью и газом, здесь, в этом мире стразов и больших денег, давно уже никто не трахается. По крайней мере, мне так кажется.
Виктория продолжает:
– Как правило, красота лишена денег. А обладатели денег уродливы, как комодские драконы. Посмотри на банкиров или на депутатов! Но деньги и красота зависят друг от друга. Они создают постоянное движение и поддерживают взаимную гармонию.
Согласно религиозным постулатам Виктории Дольче, наивысшим проявлением божественной гармонии на земле является слияние конкретного живого носителя денег с живым носителем красоты. Как в знаке, символизирующем единство и противоположность инь и ян, Красота и Богатство должны слиться в одной из экстатических поз этой космической камасутры.
Виктория неустанно работает над тем, чтобы реализовать эту цель. Во мне она видит проявление Красоты, поэтому я тоже становлюсь адептом ее веры.
Наш день начинается не раньше двенадцати часов. Выбравшись из постели, Виктория причащается бокалом шампанского и «таблетками счастья» – антидепрессантами, без которых, кажется, невозможно жить в этом «счастливом и благополучном мире», где обитают богатые, знаменитые и влиятельные.
После этого Виктория садится за телефон и начинает обзванивать десятки людей и агентств. Она должна знать все о том, где и какие кастинги будут проводиться, кто на какие вечеринки планирует пойти, премьеры каких фильмов намечены на вечер, кто с кем начал встречаться, кто кого бросил и что пишут газеты и журналы о самых богатых бизнесменах.
Когда вся информация уложена в ее голове, наступает пора привести себя в порядок. Быстро одевшись, она садится за руль, и мы едем к парикмахеру или визажисту, в солярий или на массаж, к косметологу или специалисту по педикюру. Посещение «Nail Room» – это как ежедневная молитва. Иногда все эти процедуры происходят в один день и продолжаются до вечера. Если мы освобождаемся раньше четырех часов, то нас ждут кастинги, где отбирают моделей для рекламы на телевидении, для съемок в толстых глянцевых журналах.
Здесь Виктория знает всех. Ведь это члены ее религиозного ордена. Ордена Богатства и Красоты.
До знакомства с Викторией Дольче я находилась во власти распространенного заблуждения, согласно которому встречи людей – это бесконечный процесс случайностей и совпадений. Теперь мои глаза открыты. В мире Виктории Дольче, где все служит главной цели слияния красоты и богатства, случайности тоже играют роль. Но там сделано все, чтобы максимально уменьшить их влияние. В мире Виктории существуют десятки мест и сотни поводов для того, чтобы богатство и красота могли встретиться и присмотреться друг к другу. Это чем-то напоминает случку породистых собак. Но лучше я не буду развивать эту мысль. Виктория Дольче не похвалила бы меня за нее. В ее мире нет места ничему грубому, пошлому, уродливому.
Вечера мы проводим в клубах и ресторанах, на частных вечеринках и официальных приемах.
Покончив со всеми этими важными делами, Виктория отправляется выгуливать своих покровителей, давая им возможность продемонстрировать в ресторане или каком-нибудь клубе, что они владеют этим совершенным телом, ну и конечно же позволяя им вручить ей очередную порцию пахнущих краской бумажек, чтобы поддерживать на должном уровне это тело, удовлетворять его потребности и капризы.
В мире Виктории Дольче торжествует диктатура пафоса и непрекращающегося праздника. Здесь все время происходит что-то торжественное и требующее присутствия большого числа пьяных и самовлюбленных субъектов. В моей голове вспыхивают неоновым светом бесчисленные события этого мира САМЫХ-САМЫХ.
ТОР-100 САМЫХ КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ МОСКВЫ
ФЕСТИВАЛЬ САМЫХ БОЛЬШИХ УСТРИЦ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«TOP-10-SEXY»
ЗОЛОТАЯ СОТНЯ СВЕТСКОЙ СТОЛИЦЫ
На какой-то вечеринке я обращаю внимание на бородатого человека в пиджаке, с копной волос на голове. Собрав возле себя круг таких же нестареющих мальчиков за пятьдесят, он громко травит анекдоты и байки и сам от смеха изгибается знаком вопроса и брызжет слюной.
– И вот он заходит к Евтушенкову в кабинет, – бородач скрючивается в приступе смеха, – и просит денег. – Пожилой юноша брызгает слюной, как пульверизатор. – А тот у него спрашивает: «У тебя что, на презервативы не хватает?!»
Вся компания стареющих мальчиков загибается от восторга.
Мне тоже становится весело, и я спрашиваю Викторию: кто этот бородатый?
– Ну, это же лучший друг ведущего, который умер, забыла, как его имя…
Не дав ей времени отыскать в памяти эту ненужную мне информацию, я перебиваю:
– А что он тут делает тогда, если у него друг умер?
Виктория смотрит на меня так, как будто я говорю на другом языке. При этом спокойная, ровная интонация ее голоса не меняется:
– Как что? То же, что и все, – это же вечеринка по случаю смерти. В общем, поминки…
Попав в этот мир, я впервые близко вижу людей, которые живут так, как будто они бессмертны. И понимаю, что именно поэтому они все производят впечатление сумасшедших.
Чтобы хоть как-то разогнать непрекращающуюся скуку своего бесконечно праздничного существования и ощутить хоть какой-то вкус жизни, обитатели этого мира все делают сверх меры и вопреки здравому смыслу.
Они нанимают десятки телохранителей и вооруженных секьюрити, но сами за бешеные деньги едут в джунгли, чтобы прожить несколько недель без еды, воды и связи с цивилизацией в окружении ядовитых змей и насекомых. Или ныряют в местах, кишащих акулами, чтобы поплавать в непосредственной близости к ним без всякой защиты.
Они покупают дома, в которых никогда не живут. Они заводят детей, которых немедленно отправляют на воспитание за границу, на попечение бесчисленных нянек и сиделок.
Они не едят мясо и пьют только минеральную воду из ледников, но несколько раз в год ездят компаниями, чтобы убивать слонов, львов, леопардов…
У них маленькие и дряблые члены, впавшие в летаргию от изысканной еды, пищевых добавок, безделья, скуки и пресыщения, но они продолжают строить глазки малолетним моделям, щипать журналисток, флиртовать с молодыми женами своих друзей, оглаживать секретарш, залезать пальцами в стриптизерш и облизывать дорогих проституток обоего пола.
Они тратят состояния на то, чтобы разгладить морщины вокруг глаз, улучшить цвет лица, гармонизировать свою жизненную энергию при помощи ведических ритуалов и древних медицинских практик, но каждый день заправляют себя кокаином с усердием кондитера, обсыпающего пончики сахарной пудрой…
Их наручные часы стоимостью, сравнимой с производством космического спутника связи, могут работать в открытой воде на такой глубине, на какую не опускаются даже подводные лодки.
В их гаражах стоят машины, на которых нельзя ездить по российским дорогам, потому что у них низкий клиренс и хрупкая подвеска. Каждая такая машина теряет тридцать процентов в своей стоимости сразу после покупки уже просто потому, что у нее появляется первый владелец. Но это неважно. Важно то, что, продав одну из таких машин, можно объехать весь мир и увидеть его главные чудеса и красоты. Но вместо этого обитатели мира Виктории Дольче лениво фланируют в замкнутых пространствах арт-галерей, где препарируют живых собак и кошек, мажут дерьмом репродукцию «Моны Лизы», рубят топором иконы и распинают на кресте живых свиней…
Гостиные в их пряничных особняках на Рублевке, и спальни в их железобетонно-кирпичных, подсмотренных в кино лофтах, и кабинеты в их раззолоченных ампирных квартирах завешаны подделками под русских реалистов и оригиналами нового поколения аферистов, которые могут выдать за искусство все: от собственных испачканных трусов до конфетных фантиков, приклеенных соплями к старой газете.
На их частные вечеринки приезжают Джордж Майкл, Кристина Агилера, Кайли Миноуг. А почему бы не приехать, если любая названная сумма гонорара не смутит заказчика, уставшего от того, что на свете нет вещи, которую он не может купить?!.
Да, эти люди живут так, как будто они бессмертны, и я, познакомившись с ними, осознаю, что бессмертие – страшно утомительная штука…
Бледный человек с перекошенным от безмолвного крика ртом с картины Эдварда Мунка снова возникает в моей голове. И от напряжения, сводящего судорогой его фигуру, он выгибается, как вопросительный знак. Я вспоминаю корчащегося в истерическом смехе бородача на поминках. И начинаю понимать, почему многие обитатели этого мира так громко разговаривают, буквально орут все время. Они не только стараются переорать друг друга и беспрерывно играющую музыку. Они пытаются заглушить ужас перед пустотой, скукой и одиночеством.
Но мне почти не страшно: ведь у меня есть опытный друг и учитель. Виктория вводит меня в этот мир с терпением мудрой наставницы, объясняя и комментируя все происходящее в нем.
С непременными, как обязательный элемент дресс-кода, очаровательно-идиотскими улыбками на лицах мы стоим посреди просторного помещения, окрашенного в цвет шоколада. В этом колоссальном шоколадном батончике в очередной раз собраны все сливки этого города.
С бокалом шампанского в руках, успевая здороваться и обмениваться ничего не значащими репликами со знакомыми, Виктория проводит для меня экскурс в мир обитателей своей планеты.
Белое длинное платьеBOSS Blackидеально подчеркивает ее фигуру мальчика-девочки – воплощенного прекрасного андрогина, делая ее объектом теплых и мягких, как растопленный сыр, взглядов. Кого-то Виктория просто не замечает. Кому-то улыбается. Периодически ее губы, такие правильные, естественные и свежие и такие подчеркнуто безразличные и отстраненные (что делает их еще более соблазнительными и притягательными) прикасаются к чьей-то щеке или шее. Иногда поджаренной на солнце или в солярии. Иногда покрытой сеткой нездоровых кровеносных сосудов. Кому-то Виктория может небрежно помахать оголенной до плеча легкой ручкой. Она произносит непринужденно и немного небрежно слова, адресованные тем, с кем она здоровается.
– У! Ты с новым кавалером!
– Прекрасно выглядишь!
– Да, ты тоже. Отдыхала?
– Да, в декабре была в Милане. А на Новый год ездила в Кур. А после Рождества улетели на месяц на Маврикий, расслабиться…
– Отлично. Ну а я была с семьей. А потом занималась шопингом…
На птичьем языке этой планеты этот диалог имеет куда больше смысла, чем может показаться. Это больше чем приветствие – это ритуальный танец языков и тел, призванный показать, кто есть кто на момент встречи. Но даже если участники этого диалога в момент разговора брошены любимым, находятся в депрессии и остро нуждаются в деньгах, то они всеми силами будут стараться не выдать этого. Наоборот, они так распушат свой хвост, чтобы у всех рты пооткрывались от их великолепия. В этом состоит главный смысл всех этих ритуалов.
В перерывах между обменом любезностями и знаками Виктория с упоением посвящает меня в тайны обитателей своего мира.
Не меняя положения рук и головы, Виктория улыбается немолодой невысокой брюнетке с бровями-ниточками, похожей на Эдит Пиаф. Одетая в черное короткое платьице дама улыбается в ответ одними губами.
– Это Нателла Азимова. Последний муж, владелец крупной телекомпании, оставил ей около ста миллионов долларов. И все свои акции. Умер от сердечного приступа в прошлом году. Самое интересное, что ее первый муж тоже был акционером этой же самой телекомпании. И тоже умер. Его убили в собственном подъезде. Убийц и заказчиков, естественно, не нашли. Он, естественно, тоже все завещал ей. В результате теперь она является крупнейшим акционером одной из самых успешных телекомпаний ну и наследницей счетов в банках, загородных домов, квартир, зарубежных вилл, оставшихся от двух мужей. – Предупреждая мой вопрос, Виктория коротко замечает: – Естественно, разговоры о том, что мужей заказала жена, тоже были. Но никто ничего не доказал. А главное, что особенно и не старались. Нателла – прекрасный художник и декоратор. Она дружит со всей Рублевкой. Всем делала интерьеры: от прокуроров до миллиардеров. Подозревать ее в чем-то даже не очень прилично. Кто хочет признаваться себе, что дружит с женщиной, которая убила двух мужей?
Пузырьки шампанского приятно покалывают язык и оставляют нежное мускатное послевкусие.
Когда из массы жующих, выпивающих, соприкасающихся друг с другом людей отделяется компактная фигура человека в дорогом костюме без галстука, Виктория на несколько секунд озаряется своим неповторимым ангельским сиянием.
К нам подходит мужчина с приятной неброской внешностью. Так должны выглядеть настоящие мачо: усталый взгляд, густые брови, темные, чуть редеющие волосы, выразительный подбородок, проступающая на щеках щетина. К сожалению, по причинам маркетингового характера в массовом сознании этот образ мачо вытеснили долговязые и длинноволосые пидоры с пухлыми губами, носами, выровненными ринопластикой, и прокачанными мышцами пресса.
Виктория обнимает незнакомца за плечи и целует в губы. Она представляет нас друг другу. У мачо странное имя – Илиас. Несколько минут мы мило беседуем ни о чем. Когда Илиас покидает нас, Виктория не забывает снабдить меня исчерпывающей информацией.
– Илиас – отличный парень. Правда. Верить ему не стоит, но доверять можно. Вокруг него много разных историй. Про его аристократические корни во Франции и еще где-то. Но скорее всего, он сам это все и придумал. Я знаю, что он учился в Ташкенте. Скорее всего, он там и родился. А потом, уже в Москве, понял, что себя нужно дорого продавать. И занялся этим вполне успешно. Илиас знает всех. И умеет стать необходимым именно тем людям, которые хотят потратить деньги на что-нибудь. На ресторан, на издательство, на клуб – не важно, на что… Илиас умеет давать людям то, что они просят. И получает от всего этого удовольствие. С такими людьми приятно дружить: после разговора не возникает желания мыть руки и лицо с мылом…
Я ловлю себя на мысли, что я уже что-то слышала о людях, которые умеют давать людям то, что они просят. Ну конечно же Марк! Иногда у меня возникает ощущение, что многие люди, которых я знаю, говорят одними и теми же словами. Как будто все они прочитали одну книгу и теперь цитируют ее целыми кусками, бросаются заученными готовыми фразами.
Вероятно, на каком-то этапе «посвящения» в этот чудный мир таким профанам, как я, наконец дают возможность почитать здешнюю библию, в которой все объяснено. Ведь именно ее, по всей видимости, цитируют и Марк, и Виктория, и еще десятки и сотни людей, которые говорят про «умение быть необходимыми», про талант «давать людям то, что они просят», про «правильные места», про то, что есть люди, «с которыми нужно дружить»…
В моей голове воскресают эти сакральные словечки из арсенала Марка: «гномить» и «циклопировать», дающие исчерпывающие инструкции относительно возможных моделей поведения в этом мире.
В это время Виктория уже тихонько толкает меня локтем в бок. Ее нордический взгляд направлен на человека, который идет мягкой походкой в сторону бара, скользя взглядом по окружающим и изредка нерешительно кивая кому-то в знак приветствия.
– А вот это Карпухин. Возьми себе на заметку. Темная лошадка. Вкладывает немереные деньги в производство кино. Продвигает себя как актер и продюсер. Но очень скользкий тип. Говорят, был простым телохранителем. Потом его пригрела какая-то пожилая клиентка. Ну, он ее потрахал года четыре и теперь прекрасно себя чувствует. Очень хочет быть своим в тусовке, но пока без успеха… Для этого ему нужна молодая и красивая спутница, которая всем приятна и симпатична и которая будет привлекать к этому слизняку внимание. Имей в виду. Считать его главной целью своей жизни, естественно, не стоит. Такой деревенский поросенок максимум на что способен – это денег на шмотки дать. Пожалуй, у него даже квартиру в Бутово не выпросишь… Но надо же с чего-то начинать…
– А по-моему, он просто мерзкий червяк, – тихо замечаю я.
Видя, как я хлопаю глазами, Виктория поворачивается ко мне всем телом и, внимательно глядя на меня, без раздражения и вполне по-дружески говорит:
– Ты же не собираешься искать здесь любовь, детка? Это было бы глупо даже для такой маленькой и наивной дурочки, как ты. Ну подумай сама. Люди, у которых есть большие деньги, способны любить только деньги. Ко всему остальному они относятся очень прагматично. Как к покупке дома или машины. Красиво – некрасиво. Удобно – неудобно. Дорого в эксплуатации – или нормально. Престижно – непрестижно. Понтово – непонтово. И ты вряд ли увидишь здесь благородных красивых юношей с горящими глазами и чистой душой. Здесь все больше старые, лысые, кривые, хромые, рябые. Если и есть красавцы – то голубые. Так что учись рациональному отношению к жизни. Да, ты можешь поработать фотомоделью лет до двадцати семи – двадцати восьми. Возможно, даже заработаешь немного денег. Но потом тебя перестанут приглашать на съемки рекламы для молодых и богатых. И что ты будешь делать? Рекламировать крем от морщин? Или пойдешь работать водителем трамвая?
В моей голове ветер яростно швыряет какие-то обрывки и куски, которые, как осенние листья, нельзя схватить. Я не знаю, что сказать, потому что просто никогда не думала об этом. Мне никто не говорил, что я должна об этом думать.
Покажите же мне свою книгу тайных знаний об этом мире, чтобы я сразу смогла все понять!
Глава девятая
Механизм разрушения, встроенный в меня Богом, уже запущен. Пока еще невидимые глазу изменения каждый день происходят внутри меня. С каждой отмирающей клеткой, с каждым литром прокачанной по сосудам крови уменьшается моя цена на бирже человеческих тел категории luxury. Как на только что погруженной в химический раствор фотографии, на моем лице еще не проявились морщинки и мимические складки, кожа еще не тронута воздействием токсинов, гормональных препаратов, транквилизаторов, алкоголя, сигарет, бессонницы, лжи, лицемерия, разочарований, измен. Но каждая улыбка, каждое сокращение мышц лица, каждое движение глаз проявляют горькую и неприглядную гримасу жизни.
В нашем мире страх перед реальностью заменил страх божий. Поэтому наиболее активная и экономически состоятельная часть человечества занята непрекращающейся борьбой со своим естеством. На застывших в неподвижной маске лицах телеведущих, нестареющих моделей, жен миллионеров написаны наши символы веры. Мы веруем в дарующие бесстрастие и вечную молодость инъекции ботокса! Веруем в животворящую силу липосакции! Мы веруем в одухотворяющую силу силикона! Мы веруем в исцеляющую силу пластической хирургии! С нами благодатная сила коллагена! Веруем в единородные стволовые клетки! Исповедуем таинство эмбриональной косметологии! Чаем использования клонированных органов!
Человечество больше не тешит себя наивными фантазиями о счастливом будущем без войн, голода и болезней. Мы давно стали реалистами. И теперь мы ждем того, когда в бутиках клонированных органов можно будет приобрести новую печень или здоровые яичники или купить несколько десятков метров сверхпрочного кишечника взамен уже изношенного.
А до тех пор мы с фанатичной верой истребляем все внешние признаки того гниения, которое происходит внутри нас.
Пока жизнь еще не оставила неизгладимый след на моем лице, у меня есть возможность заработать на все те спасительные блага, которые дарит современная медицина.
Все то, что продается, нуждается в красивом лице. Дорогие машины. Модные духи. Новая помада. Лак для волос. Колготки. Прокладки. Стильная одежда. Шоколад. Соки. Сотовая связь. Мобильные телефоны. Стиральные машины. Кошачий корм. Средства для мытья посуды. Отбеливающие порошки для унитазов. Освежители воздуха. Покупая шампунь, человек подсознательно покупает ту красивую девушку, которая рекламирует этот шампунь. Возможность почувствовать свою причастность к миру красивых, богатых и успешных избавляет человека от ненужных мыслей и сомнений. Никто ведь не думает о том, что в цену каждого товара заложены расходы на рекламу и эти расходы составляют иногда восемьдесят процентов от той суммы, которую мы отдаем за зубную пасту, питьевую воду, краску для волос, жевательную резинку…
Настоящая фабрика грез это не кино – это реклама. Кино – визуальный массажер, который расслабляет изнуренные стрессом, тупыми ТВ-шоу и рекламой мозги, щекочет нервы, атрофировавшиеся от постоянного вранья, страха перед реальностью и невыплатой банковского кредита за машину и квартиру. Киношные монстры, катастрофы, увлекательные сюжеты и спецэффекты помогают вернуть человеку чувствительность и восприимчивость, чтобы, выйдя из кинотеатра и придя домой или выключив свой DVD-плеер, он был более подвержен гипнозу рекламы. В отличие от кино, которое требует свободного времени, внимания, а иногда и просто нужного настроения, реклама не требует от вас ничего. Она приходит без спроса. Ежеминутно ударные дозы рекламных инъекций вкачиваются нам через глаза и уши посредством любимых программ, новостей, прогноза погоды, глянцевых журналов, музыкальных радиостанций и даже фасадов домов. Кино окончательно утратило первенство в области создания иллюзий, когда стало инструментом рекламы. Теперь, замирая у экрана, на котором злодей держит на прицеле молодую блондинистую героиню, мы видим у нее в руках новый супермодный телефон со встроенной видеокамерой и диктофоном, на который она записывает разоблачительный разговор с негодяем и одновременно посылает сигнал SOS секретному спецназу. Когда спецназ врывается и уничтожает логово злодея, задумавшего мировой заговор, наша блондинистая красотка на экране прыгнет в новую модель «БМВ», и камера покажет, как ее упругая попка царственно ложится на кожаную поверхность сиденья, а изящные руки с хрустальным маникюром берутся за руль с неизменным бело-синим логотипом. Когда на экране появится финальный титр «The end», сотни тысяч зомбированных лохушек в разных концах планеты понесут последние деньги, чтобы стать обладательницами телефона «как у Шарлиз Терон» или очков «как у Мэг Райан». А десятки тысяч лохушек, сумевших обзавестись передвижным кошельком в виде зарабатывающего мужа, проедят своим мужьям все мозги по поводу того, что те просто обязаны подарить им на день рождения «эту новую милую забавную машинку».
Я – материал, из которого криэйторы, копирайтеры, режиссеры, сценаристы, стилисты, гримеры, операторы создают самые дорогие в мире иллюзии.
Мое лицо украшает глянцевые страницы, продающие часы с бриллиантами и дизайнерскую одежду. Ролики, в которых я обворожительно улыбаюсь, вызывающе ухмыляюсь, целуюсь с мужественными красавцами и делаю еще много разных вещей, – эти ролики продают конфеты, часы, косметику, парфюмерию, телефоны, отдых в современных отелях, шопинг в огромных торговых центрах. Включив любой канал, можно наткнуться на ролик с моим участием. Это делает меня настоящей королевой в глазах миллионов жителей спальных районов, десятков миллионов зрителей телесериалов, ток-шоу и вечерних программ. Они узнают меня в магазине, когда я покупаю йогурты, яблоки и хлебцы с отрубями. Они подходят ко мне на улице. Бывшие одноклассники и одноклассницы передают друг другу мой электронный адрес и пишут мне восторженные письма. Они рады моему головокружительному успеху. Они называют меня «наша знаменитость», «звезда». Сотни мужчин и женщин обсуждают меня на интернет-форумах глянцевых журналов. Они делятся друг с другом «совершенно достоверной информацией» о том, чьей любовницей я являюсь и кому я обязана своим «успехом». Они подсчитывают мои гонорары и обсуждают количество моих машин и размеры моего жилища. Если верить этим источникам, то я «обслуживаю» всю первую десятку российского списка «Форбс», езжу сразу на трех машинах – «бентли», «мерседес» и «порше» – и живу в девятикомнатной квартире, выходящей окнами на храм Христа Спасителя.
Когда меня смертельно утомляет Виктория Дольче с ее бесконечными телефонными «сводками», восторгами по поводу сумок и маниакальными идеями и поздно ночью я возвращаюсь после работы в свою съемную однокомнатную квартиру в сером панельном доме, я включаю компьютер и развлекаю себя тем, что читаю чужие рассказы о своей красивой жизни. Когда мои мозги окончательно перестают воспринимать информацию, а в глазах начинают летать мухи, я валюсь на чужой продавленный диван, не раздеваясь, и проваливаюсь в темную глубокую пропасть до тех пор, пока на самом ее дне меня не настигает телефонный звонок.
Виктория не может позволить мне умереть или проваляться в кровати несколько дней, не думая ни о чем и наслаждаясь солнечными лучами, проникающими сквозь пыльные окна. У нее всегда есть целый список мест, куда мы должны попасть, чтобы в очередной раз продать мое лицо.
Просыпаясь, как солдат, я несусь в душ, наспех одеваюсь и убегаю из квартиры, не заглядывая в холодильник.
Однажды по дороге на работу я засыпаю, прижавшись острыми лопатками к дверям поезда метрополитена. В тот день у меня нет денег на такси, и я спускаюсь в метро. Надев поверх летнего платья джинсовую куртку и натянув бейсболку почти на глаза, я не опасаюсь взглядов, улыбок и идиотских вопросов от молодого быдла в кожаных пиджаках и в следах давленых угрей на пельменных лицах. Зная, что ехать мне как минимум двадцать минут, я забираюсь к тем дверям, которые не открываются, забиваюсь в угол и, прислонившись к холодной поверхности спиной, как в глубокий сугроб, проваливаюсь в полусон. Мое оцепенение нарушает почти поросячий визг:
– Ихиииии! Каринка! Это ты, что ли?! Точно!
По мне елозит толстой грудью коротконогое создание с крашеными волосами и в розовой майке, туго натянутой на тело, как на ветчину. Это Леночка Цепеш, которая училась со мной в одном классе. Мы общались, пожалуй, два раза в жизни. Сейчас, когда она прижимает меня своим мягким выменем, я не знаю, что ей сказать, и делаю свою обычную в таких случаях улыбку милой глупышки.
– Привет!
– Ну вот, так бы сразу, – радуется Леночка Цепеш. – А то едет, как будто не видит.
– Извини, я заснула.
Леночка вся расплывается как розовое мороженое.
– А че это ты в метро спишь?! Мы тут все только и говорим о тебе: тебя только по телику и видно. Совсем стала крутая. Звезда. – Леночка смотрит на меня острыми глазками злой собачки.
– Устаю очень, – нехотя, но дружелюбно, чтобы не злить собачку-Леночку, отвечаю я.
Она многозначительно хохочет – со смыслом.
– Ну да, да, рассказывай! Наверно, измоталась вся, по съемкам и ресторанам с богатыми мужиками гулять?! – Не обращая на меня внимания, Леночка продолжает верещать: – А че это ты имя сменила?
Леночка по-идиотски смеется, обдавая меня запахом пива, пота, дешевых духов и примешивающегося к ним какого-то островато-кислого пищевого запаха, возможно борща, пельменей или жаренной с луком картошки. Я пытаюсь увернуться от ее ароматов, выйти из зоны прямого поражения Леночкиного дыхания. Но она крепко зажала меня грудями и не собирается отпускать.
Подавляя отвращение и тошноту, я все-таки отвечаю грубо:
– Слушай, не твое дело. Захотела – и сменила, с тобой не посоветовалась.
Леночкина улыбка моментально превращается в натянутую тугую складку. Я почти вижу, как в Леночкиной голове медленно перетекают какие-то мутные жидкости, которые должны вызвать у Леночки какую-то реакцию. Я вспоминаю, как в школе Леночка схватила девочку за волосы и ударила коленкой ей в лицо за то, что та, по версии Леночки, «заложила» классной тех, кто списал какую-то контрольную по математике. Вспоминаю, как весело и остервенело Леночка в женском туалете вываливала в унитаз содержимое сумок и рюкзаков тех девчонок, которые ей просто не нравились. Что она сделает сейчас? Двинет мне кулаком в нос? Плюнет в лицо? Рванет меня за платье, повалит и начнет топтать ногами под устремленными в пол и в сторону трусливыми взглядами пассажиров?
Но косая складка на лице Леночки разглаживается, и ее рот снова принимает обычную форму. Это означает, что Леночка подумала и решила, что бить меня сейчас она не будет. Леночка почему-то решает, что в данный момент со мной лучше дружить.
– Да ладно ты! Не нервничай! Я все понимаю: диеты, таблетки, кокаин, героин… Вон по телику показывают, как модели живут… Не позавидуешь. Все истощенные, больные, с мозгами набекрень… Не знаю, за какие бы деньги я на все на это согласилась. – И как будто вспомнив что-то, Леночка снова прицепилась ко мне, вонзив в меня глаза-буравчики: – Я только не врубилась, а че это ты в метро ездишь? Вроде же, говорят, у тебя все в шоколаде: любовники богатые, денег до фига, машины, то-се…
Желая сделать Леночке приятное, я говорю правду вопреки своему правилу всегда врать в ответ на такие вопросы.
– Врут. Не верь. Платят мало. На мужиков времени нет. Да и здоровья не осталось от голода и бессонниц…
Лицо Леночки расплывается, как жирный ноздреватый блин на горячей сковороде. Она обрадована и польщена моей откровенностью. Естественно, ей приятно, что у меня не все так хорошо, как говорят, и что она не ошиблась в худших своих опасениях по поводу моделей. Но она все еще не удовлетворена. Внутри нее чешется и зудит чувство вселенской несправедливости по поводу того, что такие «дрищи» (слово из Леночкиного школьного лексикона) живут лучше нее. Леночка хочет верить мне, но не может. Ей кажется, я вру ей, не рассказывая о «радостях» и «сокровищах», которые существуют в том мире, дорогу в который я знаю. Она делает последнюю попытку докопаться до правды.
– Ну а че же ты тогда чем-нибудь другим не займешься, если все так плохо? – Она произносит «чем-нить». Леночка задает этот вопрос самым издевательским и глумливым тоном. Как будто хочет сказать: «Да будет тебе прибедняться. Знаем мы, что все вы как сыр в масле катаетесь. Только вид делаете, что бедные и несчастные». Она ждет, что сможет поймать меня на лжи таким хитрым, как она считает, способом. Но мне на самом деле насрать на ее уловки. Единственное, что меня беспокоит, – это тяжелое дыхание и грузное тело Леночки, которые придавили меня и не дают возможности освободиться, и то, что я могу пропустить свою остановку и опоздать на кастинг или на съемку (в моей голове перепутались все дела и планы, и я привыкла к тому, чтобы на месте узнавать, чем придется заниматься в данный момент). Я отвечаю ровно и почти без раздражения:
– А ничего другого не предлагают… – Краем уха я слышу, как сквозь грохот закрывающихся дверей и ураганный вой отходящего с другой платформы поезда голос в динамике объявляет следующую станцию. – Пропусти, мне выходить нужно, – говорю я, ощущая, как Леночка бесцеремонно прижимается ко мне.
– Да ладно, – глумливо смеется она. – Видимся-то раз в сто лет. Поехали дальше.
Я безуспешно пытаюсь выбраться. Но она грубо толкает меня животом, коленками и грудью, продолжая хихикать.
– Куда тебе торопиться? На свидание, что ли, опаздываешь? – Своей широкой фигурой Леночка преграждает мне путь и заставляет опуститься на сиденье. Глядя сверху, она продолжает довольно улыбаться. – Ну что? Или поважнее есть дела? Рассказывай!
Мой голос становится хрупким, как тонкий стеклянный бокал. Он вот-вот треснет в толстых и сильных руках.
– Ну хватит шутить, – опасно звенит мой голос. Хотя я понимаю, что она не шутит. Она забавляется со мной, как может забавляться кошка с выпавшим из гнезда птенцом. – Пусти. Я на работу опаздываю.
Моя беспомощность и страх только заводят ее еще больше.
– НА РАБОТУ! – Она гнется от смеха. – Знаю я твою работу. Ноги раздвигать! – Леночка радуется удачной, как она считает, шутке. Но уже через секунду она зло выплевывает: – Парит она мне тут мозг, целка семиабортная! Чего вылупилась? Думаешь, стала содержанкой, так теперь все можно?
Она нависает надо мной всем своим плотным, пропитанным запахами телом.
– Мало мы таких, как ты, в школе чморили… Недочморили. Думаешь, теперь крутая стала, да? Ходит с таким видом, как будто срать хотела на всех с высокой вышки. Мамаша твоя тоже, помню, все из себя чего-то корчила. Приходила в школу с поднятым носом учителям взятки давать, чтобы у детишек оценки хорошие были… Только ты лицо-то попроще сделай. А то ведь всякое бывает. Порежут мордашку или кислотой плеснут: была звезда – и нет звезды. Будешь на трассе у дальнобойщиков за сто рублей отсасывать…
Эта мысль доставляет Леночке удовольствие, как будто она мечтает о чем-то невероятно прекрасном. От удовольствия Леночка снова начинает улыбаться и даже отступает на шаг назад. Пользуясь этим, я вскакиваю с места и вылезаю в образовавшийся просвет. Я наступаю на чью-то ногу. Получаю тычки в спину. Слышу недовольное шипение сбоку. Толкаю кого-то в живот или в бок, прорываясь вперед. Но Леночка успевает схватить меня за край джинсовой куртки. Она делает это так, как будто забыла сказать что-то очень важное своей подруге, с которой случайно встретилась в метро и заговорилась, забыв о том, что подруге пора выходить, или вдруг вспомнила, что у нее в руках остался мой зонт или еще какая-то вещь… Она подтягивает меня к себе ровно настолько, чтобы успеть сказать мне перед тем, как я выбегу в закрывающиеся двери поезда:
– Ты учти, сучка, я тебя еще достану… Просто так, чтобы повеселиться. У меня муж в ФСБ работает, так что я тебя везде найду…
Реактивный грохот рвущегося в темный туннель поезда на несколько секунд полностью оглушает меня, и я застываю, как изображение на стоп-кадре. Но когда мир вокруг оживает и снова начинает двигаться, я обнаруживаю, что меня трясет так, как будто бешеный поезд все еще мчится мимо меня, распространяя волны страха и ненависти, делающие меня беспомощной. Я чувствую себя пластмассовой куклой с широко открытыми бессмысленными глазами, которые как будто удивляются тому, насколько огромным, разнообразным, жестоким и беспощадным может быть мир вокруг. Совсем некукольный мир вокруг глянцевого тельца, лишенного признаков пола. Живущие в этом мире недобрые дети могут с легкостью, просто ради развлечения, отвернуть кукле голову и выбросить эти жалкие остатки на помойку.
Мой кукольный мозг даже не вмещает того, что может сделать со мной Леночка Цепеш, ее муж-фээсбэшник и любой другой урод, которому почему-то кажется, что я живу лучше и счастливее его. Я бегу между двух тоннелей, по которым в разные стороны скользят, словно огромные адские черви, железные поезда. Они везут в своих утробах миллионы жадных и злых существ, питающихся друг другом. За что я попала в этот ад? Ведь я другая…
«Другая… Другая… Другая? Другая?» – стучит в моих висках растерянный вопрос. А другая ли? Чем я лучше Леночки и таких, как она? Тем, что прочитала несколько книг, которых не читали они? Тем, что принимаю душ два раза в день? Тем, что не выпиваю бутылку пива за завтраком? Да, всё это позволяет мне СЧИТАТЬ себя другой. Но я еду с ними в одних поездах, дышу одним воздухом и питаюсь одним дерьмом. Поэтому все, что я думаю по поводу самой себя, – это просто чушь. Кажется, я понимаю, за что Леночка Цепеш так ненавидит и презирает меня, нелепую куколку с задранным вверх носиком.
И я бегу по гранитному подиуму метро, быстрее и быстрее – туда, где меня научат быть действительно другой.
Глава десятая
Несколько часов спустя, слушая мой сбивчивый и нервный рассказ о том, что произошло в метро, Виктория заливается безудержным смехом. Но затем удрученно смолкает и некоторое время не отрываясь смотрит на меня.
– Господи, детка, откуда в тебе все это? – произносит она задумчиво. – Зачем все эти вопросы? Неужели ты считаешь, что, если поймешь всю эту чушь, тебе станет легче жить?!
Мои кукольные глаза мигают удивленно и беспомощно, прося утешения и надежды.
– Ты так ничего и не поняла, глупышка. – Виктория достает из сумочки конверт и протягивает его мне. В конверте несколько стодолларовых бумажек. – Это твой гонорар. Пятьсот долларов. Это не много и не мало. Это ровно столько, сколько ты готова сейчас заработать.
Виктория делает паузу, достает из сумочки какую-то таблетку. Проглатывает ее. И быстро запивает водой из тонкого бокала, который стоит на столе.
– Этих денег тебе достаточно для того, чтобы купить несколько недорогих китайских тряпочек, сходить в кафе, купить диск… Эти деньги дают тебе за возможность попользоваться твоим изображением… – Виктория смотрит на меня с состраданием, как смотрят на больных детей. – Понимаешь? За право быть самостоятельной, не просить у мамы с папой на газировку и мороженое ты готова жертвовать своим временем и тем, что твою милую мордашку снимают фотографы, а потом с ее помощью рекламируют трусы или телефоны. Но ты хочешь быть ДРУГОЙ, НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ. – Здесь глаза Виктории загораются каким-то насмешливым дьявольским блеском. – Наверно, ты не имеешь в виду, что хочешь быть сильнее, умнее, честнее. Ты просто не хочешь больше жить в таких же убогих квартирах, в которых живут обычные люди. Тебе хочется ездить на дорогих машинах. И тебе вообще не хочется думать о деньгах. Но я должна тебе кое-что объяснить. За ту работу, которую ты делаешь сейчас, никто не станет платить тебе больше. Скорее наоборот. Чем больше ты будешь сниматься, тем реже будут тебя приглашать, потому что все хотят нового. Новых впечатлений, новых лиц. И со временем тебе придется соглашаться работать за гораздо меньшие деньги, чем те, которые ты получаешь сейчас.
– Но ведь другие же как-то зарабатывают, – пытаюсь слабо возразить я. И почти ощущаю, как по-детски надуваются мои губки и начинают блестеть глаза.
Виктория вздыхает и произносит так, как будто меня нет рядом:
– Напрасно потраченное время. Она безнадежна. – Но через несколько секунд она берет себя в руки и продолжает все так же сочувственно: – Как странно, что ты еще ничего не поняла. Ты же уже несколько месяцев находишься рядом. И по-моему, я показала и рассказала тебе достаточно… Если ты хочешь, чтобы за тебя платили, ты должна перестать относится к себе как к человеку. Хороших людей много – и они никому не нужны. Хороших людей никто не покупает. Покупают что-то приятное, полезное, красивое. И заметь, изображение колбасы стоит гораздо дешевле, чем сама колбаса. В этом весь секрет. Не морщи лобик и не пытайся задавать всякие вопросы, которые ты обычно задаешь. Просто запомни это. Пока тебе платят только за изображение мяса. Если ты хочешь изменить свою жизнь – тебе придется овладеть искусством БЫТЬ мясом. Свежим, высококачественным, очень дорогим мясом.
И я стала осваивать искусство быть мясом.
В модный московский ресторан «Галерея» меня и Викторию привозит «мерседес» антрацитового цвета, который заезжает за нами в половине седьмого вечера и уверенно, как атомная подводная лодка, продвигается сквозь московские пробки.
По дороге Виктория объясняет мне, что мы едем на ужин с очень богатыми и влиятельными людьми (иначе и быть не может, думаю я), с которыми она давно знакома. Ради этого случая на мне облегающее легкое платье отCarolina Herreraи туфли отChanel. Не терпящий возражений ангельский голос Виктории лазерным лучом выводит в моем мозгу цель: «Я хочу познакомить тебя со своими друзьями. – Там есть очень интересные люди. – Веди себя естественно. – Если ты кому-то понравишься, то твоя жизнь может круто измениться».
Я смотрю сквозь тонированное окно, за которым проплывают вечные московские пробки, краснорожие менты, перемещающийся из центра в спальные районы «офисный планктон» (выражение Виктории). Из пахнущего деньгами кожаного салона дорогой и тяжелой, как танк, машины жизнь за окном кажется не такой отвратительной и страшной, как обычно. Развивая в голове эту мысль, я грызу наманикюренный ноготь – возможно, просто потому что меня всегда пугает неизвестность и я не очень хорошо представляю себе, о чем говорить в больших компаниях. Но пронзительный голос Виктории выводит меня из этого медитативного состояния:
– Детка, перестань жрать ногти! – Виктория шлепает меня по руке. – Ты едешь в приличное общество. Постарайся им понравиться.
Я вспоминаю, что нечто подобное я уже слышала раньше. Да, конечно! Мама толкает меня впереди себя по дорожке в сторону церкви и дома священника: «К тебе будут присматриваться! Постарайся произвести хорошее впечатление!» Это воспоминание поднимает мне настроение и придает уверенности: ничего нового, нужно просто улыбаться и не говорить лишнего. Эта роль мне знакома. Я справлюсь.
К моменту нашего прихода за большим круглым столом, рассчитанным на восемь персон, уже сидят четверо мужчин. Виктория уверенно проходит к столу и, склонясь, дружески целует загорелого крепыша с лучистыми глазами и щеточкой темных жестких усов над верхней губой. Судя по его раскованной домашней позе, уверенному взгляду и отсутствию суеты в движениях, он главный за этим столом. Рядом с ним более молодые и явно зависимые от него мужчины. Этот вывод я делаю в первые несколько секунд, когда руки Виктории еще продолжают обнимать широкие плечи хозяина этого вечера. Его спутники старательно улыбаются, нарочито громко смеются и, как стрелки компаса, четко реагируют на любое колебание этого «магнитного поля». Виктория дружески целуется и с ними. И представляет нас друг другу.
– Это Александр. – Виктория жестом указывает на крепыша. – Игорь, Женя, Дима, – перечисляет она. – А это Лиза. – Я скромно улыбаюсь и присаживаюсь на стул, предупредительно отодвинутый проворным официантом в переднике, обслуживающим наш стол.
Вскоре к нам присоединяются еще две женщины: длинноногая, стройная как карандаш брюнетка по имени Лена и уже немолодая, сухая, с выпирающими крупными костями Кристина. На протяжении всего этого времени, пока мы знакомимся с меню и перебрасываемся обрывочными фразами с сидящими за столом мужчинами, я наблюдаю какой-то почти языческий ритуал, который происходит за нашим столом. Когда в ресторане появляется очередной посетитель, одетый в дорогой костюм или просто в рубашку, небрежно заправленную в джинсы, он обводит глазами зал, и почти всегда его взгляд на несколько мгновений останавливается на нашем столе. Оценив обстановку, некоторые из входящих гостей начинают путь к своим столикам, но делают это так, чтобы попасть в поле зрения сидящих за нашим столом. Если в процессе их движения Александр замечает их, то они подходят и приветствуют его, иногда просто неслышно встав у стола и сказав несколько слов, иногда склонившись для дружеского рукопожатия. Если Александр не удостаивает их взглядом, то на почтительном расстоянии они удаляются к своему месту, на всякий случай улыбнувшись и почтительно кивнув в его сторону. Некоторые из входящих сразу направляются к нашему столу, чтобы выказать свое уважение. Но никто не задерживается около нас дольше чем на несколько секунд.
Какое-то время сидящие за столом мужчины шутят и разговаривают о вещах, о которых я не имею ни малейшего представления. Они перебрасываются словами и фразами, почти не обращая внимания на нас. Виктория неторопливо потягивает белое вино из узкого бокала. Брюнетка и блондинка пытаются вставлять какие-то фразы, томно рассматривают свои ногти и улыбаются, как актрисы, в тех местах пьесы, где стоит ремарка «Выразительно смеется». Я тоже время от времени улыбаюсь, ковыряя салат и вслушиваясь в разговоры больших мужчин.
Они называют имена и фамилии, которых я не знаю. Иногда в их репликах звучат имена, которые я уже слышала где-то среди тех людей, с которыми знакомит меня Виктория: Прохоров, Листерман, Дерипаска… Они обсуждают свои планы и говорят о местах, в которых я не была. Я понимаю, что просто не о чем говорить. Но, собственно, меня ни о чем и не спрашивают. Даже официант пользуется у них боґльшим вниманием, чем моя скромная персона.
Я наблюдаю, как едят большие мужчины. Евгений, самый молодой, невысокий, с сильной шеей и колючими глазами, заказывает себе рыбу и с аппетитом, быстро разделывает ее, как опытный патологоанатом своего безмолвного клиента. Игорь, худой и высокий, ест нехотя, как будто через силу, запивая пищу негазированной минеральной водой. Дима, плотный, среднего возраста, подвижный, заказавший больше всех, жадно хватает куски, почти не жует. Интересно, что бы сказала о них моя мама – доморощенный Зигмунд Фрейд? От этой мысли мне снова становится смешно, и это не укрывается от внимательных глаз Александра.
– Лиза наконец-то улыбается, – игриво произносит он. – Расскажите нам, Лиза, что вас рассмешило? – Он чуть склоняется над столом, и я вижу озорные искорки, пляшущие в его темных глазах.
– Я кое-что вспомнила… – смущенно произношу я. И добавляю: – Но это не относится к нашему ужину. Просто смешное наблюдение.
– Это что-то неприличное? – присоединяется к разговору Женя. – Настолько неприличное, что нельзя рассказать об этом своим друзьям?
Я стараюсь уйти от опасной темы.
– Нет, я просто вспомнила о том, как в детстве родители говорили мне, что если случайно проглотишь жевательную резинку, то кишки слипнутся и ты умрешь… вот…
Мое заявление вызывает приступ хохота у мужчин и натянутые ухмылки у женщин. Я хлопаю глазами и по-идиотски улыбаюсь, понимая, что, наверно, моя роль девочки-для-украшения-компании безнадежно провалена. Но Александр милосердно протягивает мне руку помощи:
– А я слышал, что у вас очень интересная семья… Что вы знаете о своей фамилии, Лиза?
Я начинаю рассказывать то, что слышала от отца: как мой предок султан Ахмад-шах вступил на престол в 1909 году в возрасте двенадцати лет, после того как был свергнут его отец…
К этому моменту за нашим столом все уже разговаривают друг с другом, не обращая на меня внимания. Только Александр, с лукавой улыбкой Чеширского кота, наклонившись над столом и подперев подбородок рукой, слушает мои обрывочные воспоминания об истории семьи.
На его тарелке остывает сочащийся кровью стейк средней прожарки в окружении овощей гриль, художественно выложенных в форме сердца.
Вскоре я уже сама перестаю слышать, что говорю, возможно, я несу полную чушь, я чувствую себя так, как будто выпила большой бокал крепкого пьянящего вина, от которого тело тонет в теплых волнах и реальность с каждой минутой теряет четкие очертания. Все, что я вижу, это внимательные темные глаза, одновременно строгие и нежные, насмешливые и серьезные. Эти глаза ласкают меня. И каким-то еще не поддавшимся этому гипнозу островком своего мозга я понимаю, что снова попалась… Маленькая девочка влюбилась в этого большого и сильного человека, сидящего напротив и слушающего ее детские бредни…
Когда я наконец замолкаю, Александр закуривает сигарету и спокойно, увлеченно начинает открывать передо мной те страницы истории моей семьи, о которых я ничего не знаю… Он рассказывает легенды о том, как воинственное племя каджаров появилось в Персии, как первый шах разделил каджаров на три части и поселил в разных районах государства… Он рассказывает о войнах и междоусобицах, кровавых переворотах и тайных заговорах. Имена, названия городов и стран, даты – все это переплетается в его рассказе, как диковинная арабеска или тончайшая, но прочная рыбацкая сеть, попав в которую уже нельзя освободиться.
Наверно, я уже давно сижу с открытым ртом или с широко раскрытыми от восторга и удивления глазами, потому что, докурив очередную сигарету, Александр раскрывает секрет своей осведомленности:
– Вообще-то я востоковед по образованию. Я сам человек восточный, Восток люблю и об этом предмете могу говорить много и долго. – Он делает глоток вина и добавляет: – И еще люблю читать. И вам, кстати, советую, если хотите чего-то достичь в жизни, ну или просто если хотите общаться с достойными людьми.
Нетронутый кусок отборного мяса с остывшим кровавым соком официант уносит незадолго до того, как мы покидаем ресторан с приглушенным светом, темными портьерами и жизнеутверждающей какофонией сытых голосов, звона бокалов и приборов, шипения кофе-машин в баре и смеха длинноногих девушек за столами.
В vip-зоне казино «Арбат», куда наша компания перемещается через какое-то время, мы переходим уже на «ты», и я сижу рядом с Александром за игровым столом.
К моменту нашего появления в vip-зоне уже фланируют пять или шесть моих ровесниц разных мастей и разной степени одетости. Я вижу лица, знакомые мне по кастингам, в которых я участвовала. Или они просто кажутся мне знакомыми, потому что, при всем разнообразии цвета волос, разреза глаз и формы скул, все посетительницы кастингов и завсегдатайницы таких вечеринок похожи друг на друга, как лошади одной выведенной селекционерами породы. Тонкий нос с изящными напряженными крыльями. Нежные трепетные розовые ушки домашних кошечек. Острые длинные коготки. Выразительные капризные губки. Изящный торс мальчика с золотистым пушком, заметным на фоне дорогого загара. Оценивающие стеклянные глаза в обрамлении ресниц, словно украденных с гравюр Бердслея, – глаза существа из другого, совершенного и лишенного эмоций мира. Мира Виктории Дольче. Если присмотреться, то можно понять, что все эти девушки – менее продвинутая модель Виктории Дольче, клоны, еще не доведенные до состояния полной комплектации. Я вижу, как Виктория непринужденно и почти незаметно управляет этими созданиями. Повинуясь этим незаметным приказам, девушки послушно перемещаются от одного посетителя vip-зала к другому, кокетливо улыбаются, подставляют губы и плечи для поцелуев, ласкают тонкими пальчиками волосатые груди и животы под рубашками расслабляющихся и сорящих деньгами мужчин.
Я вижу себя со стороны и понимаю, что отличаюсь от этой усовершенствованной породы человеческих существ. И от этого мне становится стыдно и неуютно. Я ловлю на себе их сканирующие холодные взгляды. Внезапно я чувствую себя угловатой, неуклюжей и глупой маленькой девочкой. Но потом ощущаю сильную и горячую руку Александра. Он объясняет мне правила игры. Ставит моей рукой фишки. Его глаза снова смотрят на меня, и мое смущение проходит. Я знаю, что все смогу. Я сделаюсь клоном ангела с холодным взглядом и совершенным механическим сердцем, которое не будет мешать мне стать своей в этом странном и чудесном неспящем мире, в котором обитают сильные и красивые существа.
– Ни в одном казино мира ты никогда не увидишь часов или еще чего-то, что напоминало бы о времени, – говорит мне негромким голосом стоящий рядом Александр. Одной рукой он обнимает меня за талию, другой направляет мои действия на игровом поле. – Казино – это особый мир, где человек должен отключаться от своих обычных повседневных проблем. Здесь ничто не должно напоминать ему о том, что есть что-то еще кроме ИГРЫ… Обязанности, долги, проблемы, семья – все это там, за звуконепроницаемыми дверями и наглухо затемненными окнами. Здесь всегда ночь. Здесь время останавливается. Ты хочешь, чтобы время остановилось?
Крупье бросает шарик, и рука Александра быстро направляет мою ладонь с фишками на те сектора, куда нужно успеть поставить до того, как прозвучит фраза «Ставки сделаны!».
– Крупье – это тоже игрок, – тихо говорит мне Александр. – Иногда очень опытный игрок. Его задача обыграть тебя. Хороший крупье бросает шарик так, что он ложится точно туда, куда ему нужно. Поэтому, если ты играешь на повторы или несколько раз ставишь на противоположный сектор, хороший крупье моментально вычислит тебя и шарик не попадет туда, куда ты хочешь. Делай ставку тогда, когда шарик уже брошен. И не пытайся ставить на чужие «счастливые» числа…
Александр рассказывает мне, как нужно делать ставки, чтобы выигрывать.
– Никогда не играй по интуиции, – щекой и шеей я чувствую его мягкий и теплый голос. – Наобум ставят только истеричные блондинки и спившиеся шулеры. Это игра. Смотри, как ведет себя крупье. Смотри, как играют другие. Ты должна перехитрить крупье. Это будет твоей стратегией. А тактика должна все время меняться. Не позволяй никому догадаться, что у тебя на уме.
Передо мной лежат стопки жетонов на тридцать тысяч долларов. Александр делает крупные ставки. И если проигрывает, только лукаво улыбается. Но это случается редко. Стопка жетонов и фишек передо мной растет.
Когда выпадает очередной выигрыш, он нежно сжимает мне предплечье и тихо произносит:
– Для первого раза достаточно. Запомни, всегда нужно уметь остановиться. В любой игре.
Обменяв жетоны на деньги, Александр протягивает мне увесистую пачку. Я непонимающе хлопаю глазами.
– Мы играли вдвоем, поэтому выигрыш будет честно поделить пополам. Бери, это твое. – И, не дожидаясь ответа, кладет деньги в мою сумочку.
Мы проходим сквозь вибрации звуков: голосов, напряженного тихого смеха, сухого треска жетонов, глухого звона бегущего по кругу шарика, тонущего в плотном ворсе ковров звука шагов. «Ставки сделаны!» – звучит в моей голове безэмоциональный, ровный голос невидимого крупье. И крутится перед глазами колесо большой игры с тревожными красными и черными секторами.
Проходя мимо одного из столов, Саша (он просит называть его просто Саша) неожиданно останавливается и с интересом изучает широкую спину сидящего за столом человека в сером пиджаке. Из пиджака торчит затылок с густым черным подшерстком, редеющим к вспотевшей макушке. На лице Саши появляется злая глумливая улыбка, переливающаяся, как северное сияние, разными оттенками неприязни: от злобы до отвращения.
Саша берет меня за локоть и тихо подводит к столу, а сам встает за спиной незнакомца. Он развалил на высоком стуле свое толстое немолодое тело и сосредоточенно следит за игрой. Перед ним внушительная стопка дорогих жетонов и фишек. Партнеры по столу с завистью и уважением косятся на восточного толстяка: ему явно везет. Когда очередная партия выигранных жетонов ложится на сукно перед ним, Саша опускает руку ему на плечо и, дружелюбно улыбаясь, произносит:
– Привет, Ахмет! И ты здесь!
От неожиданности толстяк животом спихивает столбик фишек, и они рассыпаются по полу под ногами игроков. Маслянистые глаза толстяка с воспаленными красными прожилками забегали по сторонам. Он растягивает рот в улыбке:
– Саша, дорогой, рад тебя видеть, друг. Слышал, ты уезжал нырять… Как отдохнул? – Толстяк подобострастно заглядывает в жесткие глаза Александра, который стоит, положив руку ему на плечо, и внимательно наблюдает за каждым его движением.
Саша молчит. Я вижу, как на лысине восточного толстяка созревают мелкие капельки пота. Он напряженно улыбается. Наконец Саша, улыбнувшись уголком рта, произносит:
– Да не получилось как следует отдохнуть, Ахмет. Каждый день было ощущение, что что-то недоделал… С тобой, например, не разобрался.
Темные, как колотый магнит, глаза внимательно смотрят на толстяка, продолжающего испарять влагу и страх.
Толстяк говорит:
– Саша, ты зря про меня плохо думаешь.
Толстяк говорит:
– С землей этой тебя Олег опередил просто.
Толстяк говорит:
– Я здесь ни при чем.
– Да ладно ты, не суетись. Я пошутил. – Саша похлопывает его по плечу. – Тебе сегодня везет? – Взглядом он показывает на горку фишек и жетонов на столе. – Азартно шпилишь. Своими деньгами так не рискуют.
Толстяк как будто не замечает, что над ним издеваются. Он энергично машет руками, ерзает на стуле и говорит что-то про хорошую игру.
– Я и говорю: везет. – Саша достает сигарету. – Ты же не умеешь по-настоящему играть.
Другие игроки за столом, кто с нескрываемым интересом, а кто незаметно, наблюдают за этим диалогом. Кое-кому эта сцена начинает действовать на нервы, и два человека отходят от стола. Саша садится на освободившийся стул и взглядом приглашает меня сесть рядом. Землистое лицо толстяка приобретает какой-то баклажанный оттенок. Мне кажется, он хочет убежать, возможно даже без денег. Но он понимает, что большой хищный зверь еще не наигрался с ним. Я наблюдаю, как под пристальным взглядом темных жестких глаз толстяк одну за другой начинает делать ставки. И раз за разом проигрывает.
– Ахмет, Ахмет… – с деланым сочувствием произносит Саша каждый раз, когда крупье сгребает очередную партию фишек и жетонов. – Я же говорил, что ты не умеешь играть.
Баклажановый толстяк остервенело делает ставки, меняет крупье. Ему даже снова начинает везти, но везение быстро заканчивается. Гора жетонов перед ним стремительно тает. Когда на столе остается только небольшая кучка фишек, баклажановый с каким-то бурлящим горловым звуком отшвыривает их движением кисти к крупье и встает из-за стола.
– Сколько проиграл? – холодно спрашивает Саша.
– Пятьсот тысяч.
Баклажановый протягивает ладонь для рукопожатия, но Саша не торопясь встает со стула и уже на ходу говорит:
– Ну, значит, с тебя еще столько же. Если перестанешь появляться в моем казино, можешь оставить эти деньги себе.
На мгновение умиротворяющие звуки казино смолкают в моей голове, и я слышу хруст костей, которые перемалываются в пасти хищника. Я слышу последний обреченный писк маленького зверька, который исчезает в глотке. И довольное урчание в животе крупного зверя.
Я успеваю подумать о том, что можно купить на пятьсот тысяч долларов. Но мои мысли неожиданно прерывает жутковатое хохотание гиен. Спутники Александра и стайка моделей-биороботов уже кружатся вокруг нас и требуют новых впечатлений. Мы грузимся в саркофаги тяжелых машин. На заднем сиденье одной из них я оказываюсь рядом с Александром, который посмеивается уголками глаз и наблюдает за мной. Я уже видела это выражение лица. Так смотрит большой человек, решивший поиграть с котенком… Другие ассоциации не приходят мне в голову.
В клубе «First», в одном из тех мест, куда деньги и красота приходят на встречу друг с другом, самые опытные охотницы за ходячими кошельками смотрят на меня с нескрываемой злобой хищниц, у которых украли добычу.
Я должна торжествовать. Я должна пользоваться случаем. Но я не понимаю, ЧТО конкретно я должна делать! Отдаться ему в туалете? Или щебетать глупости, касаясь губами самого уха, при этом как бы невзначай запустить руку в штаны и ласкать его член? Или сразу выставить счет за возможность провести со мной ночь?
Отдельные молекулы Богатства и Красоты хаотично перемещаются по пространству зала, создавая ощущение колышущейся лягушачьей икры. Они соприкасаются друг с другом и ищут свою пару, которая позволит им достичь гармонии на ближайший час или ночь.
Это инфернальное варево сопровождают вспышки стробоскопа, трассирующие зеленые лучи и звуки музыки, похожие на звон миллиардов металлических шариков, мчащихся по желобу рулетки. Я глохну от алкоголя и звуков. В моей голове остается только голос, который игриво спрашивает: «ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ?»
«ДА, черт возьми, ДА! Хочу! – беззвучно кричу я в ответ. – Хочу, чтобы время остановилось и кто-нибудь решил все за меня!»
Другой голос, прямо возле моего уха, говорит мне:
– Ну все, пора, пора домой. Саша уже уехал. Тебя отвезут.
Это Виктория.
Глава одиннадцатая
Если не существует глобального мирового заговора, в котором участвуют хозяева рекламных агентств, то кто тогда распространяет повсеместно слухи об огромных гонорарах, которые получают модели? Эту сладкую приманку видят во сне тысячи голодных провинциальных девочек, живущих в семьях пожарников, инженеров, уборщиц, сельских учительниц. Они мечтают о том, чтобы их заметили, и тогда только лишь за красоту их будут осыпать деньгами и бриллиантами, богатые и красивые женихи будут стелиться у их стройных длинных ног, их лица будут украшать глянцевые обложки, и каждый день после ванны с шампанским они будут выбирать, на какую бы закрытую вечеринку пойти сегодня… Лежа на тощих матрасах в своих маленьких постельках – в Новосибирске, Самаре, Калуге, Сызрани, Омске, Ярославле, – они во сне видят, как сосут эту сладкую золотую конфету: свою придуманную будущую жизнь. И не подозревают, какой на самом деле леденец приготовлен для маленьких наивных девочек, мечтающих стать моделями…
Чтобы заработать свои триста или шестьсот долларов за съемку, мне нужно вначале объехать несколько кастингов. Иногда бывает так, что меня берут на первом же кастинге. Но это почти чудо. Чтобы получить работу, нужно посетить пять кастингов, а иногда девять кастингов, а иногда пятнадцать кастингов. И наличие длинных ног, симпатичной мордашки, хорошей кожи и идеальной фигуры никак не увеличивает шансы. Все эти достоинства могут просто не совпадать с концепцией рекламного ролика или фотосессии, которую утвердили заказчики. Возможно, им требуется совершенно определенный тип модели, и вовсе не обязательно, что женщина-вамп; возможно, наоборот, им нужна «деревенская простушка» с волосами цвета прелой соломы, круглым подбородком и ямочками на щеках. А возможно, они вообще не представляют, кого они хотят видеть в своей рекламе, но и тогда шансов угадать их желания практически нет. Поэтому чаще всего агентства приглашают на кастинги максимальное количество моделей, с которыми они работают. Прежде чем получить работу, я записываю даты, время и адреса. Я приезжаю на кастинги и провожу часы и дни, снимая и надевая одежду, показывая, как я хожу, как я сижу, как я демонстрирую эмоции.
Покажите нам радость…
Покажите нам уверенность…
Покажите нам независимость…
Я не удивляюсь, если, стоя перед заказчиками и представителями агентства с голой грудью, я слышу просьбу: расскажите нам свое любимое детское стихотворение. Это не стеб и не издевательство. Просто заказчику приходит в голову идея увидеть, насколько непосредственно и живо может вести себя «лицо рекламной кампании». Хотя почти на любом кастинге присутствует человек, который пожирает маслянистыми глазами каждую входящую девочку, незаметно поправляет вздыбившиеся штаны и старается в коридоре сунуть тебе свою визитку, попросив взамен номер твоего телефона под предлогом «обсудить возможности сотрудничества».
Количество рекламируемых товаров в нашем похожем на Диснейленд мире так велико и разнообразно, что в конце концов каждая девочка, желающая получить работу модели, получает ее. Или получает какие-то другие возможности, которые могут предложить ей дяди и тети, отбирающие на кастингах лица для рекламы йогуртов, шоколадок, лосьонов, духов, макарон, стиральных порошков, прокладок… Свое лицо нужно даже крему для проблемной кожи, и лосьону от угрей, и даже средству для мытья унитазов.
Заглянем на съемочную площадку, где я пытаюсь заработать свои триста или пятьсот долларов, болтаясь на высоте десять метров над землей в длинном красном платье с глубоким декольте. Когда после завершения съемок полученные изображения обработают при помощи компьютерных программ, я буду просто парить над землей, как ангел нового поколения – сексуальный ангел с бесстрастным взглядом. А пока я привязана к лонжам и тросам и чувствую себя как маленькая муха, распятая между натянутых нитей большой и прочной паутины, раскинутой между мрачными корпусами какого-то заброшенного завода.
Там внизу кучка пигмеев вот уже в который по счету раз пытается решить какую-то очередную проблему. Ушел свет. Или, наоборот, слишком ярко. Потерялся сценарий. Или режиссеру срочно приспичило прогнать «фен» через нос, чтобы настроить себя на рабочий лад. Неизвестно, сколько мне еще придется висеть между небом и землей. Поэтому я стараюсь не думать о неприятном – например, о том, что какой-нибудь помощник режиссера, бутылкой пива с утра снявший негативные последствия вчерашнего приема «винта», забыл закрепить трос или лонжу. Пока есть время, я стараюсь насладиться пьянящим ощущением высоты и покоя. Меня не беспокоит даже то, что на улице едва ли больше плюс восьми градусов. Как-то раз в ноябре я двенадцать часов провела в открытом поле, где снималась в шмотках какого-то именитого кутюрье. Платья, как будто взятые напрокат в палате для неизлечимо больных, и сарафаны цвета перемазанных зеленкой бинтов как нельзя лучше смотрелись на фоне пожухлой травы и неба цвета тухлой селедки. На десятом часу съемки я не чувствовала ни рук, ни ног, ни лица… Позже я увидела по телевизору, как фотограф, делавший эту сессию, с удовольствием делится своими профессиональными секретами с эстетской аудиторией одной из программ: «Все, что снято в первые четыре-пять часов, я, не глядя, убиваю. Это шлак. Настоящая работа начинается, когда модель уже измотана настолько, что перестает контролировать свои эмоции и мимику. Тогда получается оголенная сексуальность, совершенно отфильтрованная красота». На экране идет слайд-шоу его работ, среди которых я вижу и себя, стоящую в мерзлом поле с обмазанной известью головой.
«Да, козел, – отвечаю я самовлюбленному персонажу, изображающему в телевизоре задумчивую гениальность. – Тебе неведомо, что такое цистит и какое количество таблеток нам приходится жрать, чтобы соответствовать твоим нездоровым представлениям о прекрасном и лечить последствия творческих экспериментов, проводимых такими же уродами, как ты».
Оголенная сексуальность – это две пачки ребоксетина в неделю, это таблетка гиперицина вместо завтрака и две таблетки лендормина вместо обеда. Оголенная сексуальность – это феназепам после ужина и пара таблеток донормила перед сном. А еще – диуретики, антибиотики, витаминные инъекции, антиаллергенные препараты…
Когда ты приходишь домой в четыре утра, засыпаешь в шесть, а к десяти часам утра тебе нужно быть на очередном кастинге, чтобы успеть перехватить двести долларов за фотосессию для рекламы копировальных аппаратов или соленых сухариков, таблетки становятся твоими главными союзниками. Ты просыпаешься утром с ощущением, что мгновенная и безболезненная смерть – это лучшее, что с тобой может случиться. Чтобы встать с кровати, привести себя в порядок и не рухнуть от истощения и усталости до обеда, ты заправляешься антидепрессантами. Гиперицин, ребоксетин, минасерин – все, что попадется под руку. Все для того, чтобы внутри тебя заработал моторчик, глаза начали различать предметы, а в голове включился легкий «хаус». На несколько часов ты превращаешься в жизнерадостного робота с пружинками и шарнирами в конечностях. Ты на позитиве! Не верьте партизанской рекламе: прозак – говно! Прозак – пустышка для прыщавых подростков, страдающих комплексом вины от навязчивого онанизма и подавленной гомосексуальности. Есть десятки других «таблеток счастья», которые на время заменят вам радость от утреннего оргазма, удовольствие от съеденного на завтрак бутерброда, счастье от чистого синего неба за окном. Амитриптилин, мелипрамин, герфонал, азафен, пиразидол… Это ракетное топливо счастья! Оно разгоняет тебя до космической скорости. Но примерно через шесть часов работы на этом горючем твой мотор начинает перегреваться и организм впадает в панику. Тебя трясет, тебя охватывает беспокойство, так что ты не можешь сидеть и стоять на месте, ты готова орать в ответ на любую сказанную фразу, внезапно руки или ноги сводит судорога, переходящая в мелкую дрожь.
И тогда приходит время закинуть в себя какое-то количество транквилизаторов. Лендормин, грандаксин, фенозепам… Таблетки покоя приносят с собой ватную волну, которая поглощает страх, судороги и сверхвозбудимость. С ними ты легко можешь продержаться до ночи, когда от перевозбуждения, усталости и головной боли не сможешь уснуть. Наступает время принять сильнодействующее снотворное, эффект от которого сравним с выключением электричества на центральной подстанции. Просто гаснет свет, и все основные приборы твоего роботизированного тела, при помощи которых ты видишь, слышишь, двигаешься, перестают работать.
Наутро будильники и звонки телефонов вытаскивают тебя из глубокой черной ямы, в которую ты рухнула ночью, и вместе с пробуждением приходят тошнота, головная боль, упадок сил, сердцебиение… И все начинается сначала: антидепрессанты – транквилизаторы – снотворное. Да, я забыла сказать про диуретики. Это основа основ «оголенной сексуальности и отфильтрованной красоты». В мире, где идеалом красоты является андрогинное бестелесное существо с узкими бедрами, дробным торсом мальчика и выразительным просветом между длинных ног, только диуретики помогают быть востребованным товаром. Диуретики являются основой всех препаратов для похудения, а в чистом виде диуретики выводят из организма жидкость, позволяя терять до двух килограммов веса за один день! Со временем диуретики вызывают сердечную и почечную недостаточность, но это уже неважно, потому что скорее всего вы умрете раньше. Выбросившись с крыши высотного дома в приступе паники, вызванной длительным приемом антидепрессантов. Или захлебнувшись рвотой во сне после того, как, вернувшись с вечеринки или со съемок клипа, примете обычную дозу снотворного… В конце концов, какая разница, что убьет вас быстрее: пьяный водитель маршрутки, проскочивший на красный свет; наркоман, который в поисках денег на дозу нападет на вас ночью, когда вы возвращаетесь домой; или какая-то из таблеток, которую вы глотаете ежедневно для того, чтобы продолжать участие в глобальных крысиных бегах?
…При применении миансерина могут возникать сонливость, артериальная гипотензия, нарушение функций печени, лейкопения, тяжелый агранулоцитоз, боли в суставах.
…Стандартными побочными эффектами ребоксетина являются бессонница, головокружение, сухость во рту, тахикардия, ортостатическая гипотензия, затруднение мочеиспускания, запоры, повышенное потоотделение, сексуальная дисфункция.
…При приеме гиперицина могут возникнуть усталость, беспокойство, спутанность сознания, развитие маниакального состояния, желудочно-кишечные расстройства, сухость во рту, покраснение кожи, зуд, фотосенсибилизация.
Всем, кто собирается в веселый мир диснейленда, нужно знать, что амитриптилин разрушает сердечно-сосудистую систему. И каждая из «таблеток счастья» достаточно быстро делает вас похожим на душевнобольного, а потом вы действительно им становитесь. Все такие таблетки увеличивают вероятность суицида. Это необязательно спрашивать у врачей: острое желание сдохнуть появляется у любого сидящего на антидепрессантах обитателя диснейленда, как только действие очередной порции таблеток проходит и на твою голову обрушивается страшная черная молотилка, которая желает переломать тебя в кроваво-костяное месиво…
На высоте десяти метров над землей я болтаюсь в теплых ватных волнах фенозепама. Дайте попробую угадать, что я должна рекламировать? Биойогурт? Детское питание? Молочный шоколад? Экологически чистые продукты, выращенные в мифической стране с изумрудными лугами, на которых пасутся тучные стада и над которыми не возвышаются стальные мачты высоковольтных линий, где на берегах прозрачных рек нет заводов и коттеджных поселков? Именно в эту страну, по замыслу криэйторов и режиссеров, маркетологов и копирайтеров, должны стремиться те, кто покупает экологически чистые продукты. И они обязательно попадут туда, но только после смерти от рака печени или еще от какой-нибудь болезни, вызванной содержащимися в «экологически чистых продуктах» пестицидами, нитратами и прочими «таблетками счастья» современной цивилизации.
Мои вялотекущие мысли прерывает трубный глас режиссера:
– Лиза! Соберись, мы снимаем. Где твоя грудь? Почему ты скрючилась, как дохлый зародыш?
Какие-то неведомые силы тянут меня по тонкому тросу в ту точку, откуда я должна начать свой полет над землей.
Режиссер орет:
– Внимание! Снимаем! Мотор!
И я плыву по волнам фенозепама, оскалившись от счастья и раскинув руки так, что могу гладить проплывающие облака.
– Нет! Нет! Нет! – орет режиссер, наблюдая снизу мой полет на экране монитора. – Это не яблочное пюре! Это духи! Больше секса! Покажи мне обольщение! Покажи мне загадку!
Полет в обратном направлении. Спиной вперед. Из точки Б в точку А. С полным боекомплектом эмоциональных бомб, которые нужно сбрасывать в мозг обывателям.
– Запускайте! – кричит режиссер.
Скользящее по тросу металлическое колесо сухо звенит, и я представляю себя шариком, который мчится по желобу рулетки, пущенный умелой рукой крупье. Мне нужно упасть именно на ту цифру, которую загадал режиссер. Тогда меня спустят на землю и дадут немного денег, чтобы я могла купить еще немного «таблеток счастья», еды и оплатить дорогу на новые кастинги и площадки.
Глава двенадцатая
Вернемся на планету Марка. Изменчивую планету-кунсткамеру, в каждом уголке которой тебя ожидает нечто, наличие чего ты даже не можешь предположить. Иконы на полке книжного шкафа прислонены к альбомам с коллекциями детской порнографии. Эсэсовская форма висит в шкафу рядом с арабской галабией. Старое полированное пианино превращено в бар, набитый абсентом и вином.
Марк – многоликий император этой затейливой, как балаган, планеты. Каждый день он рождается заново, чтобы стать медиумом или финансовым аналитиком, писателем или бизнесменом, журналистом-компроматчиком или специалистом по иглоукалыванию.
Агент спецслужб…
Пресс-секретарь…
Член экстремистской организации…
Черный рейдер…
Нигилист…
Бисексуал…
Мистик…
Консультант по связям с общественностью…
Продюсер…
Палач…
Монах в миру…
Частный детектив…
Коллекционер…
Телевизионный критик…
Охотник за сокровищами…
Провокатор…
Эротоман…
Абсентист…
Кулинар…
Режиссер порнофильмов…
Романтик…
Декадент…
Бандит…
Репетитор…
Киллер…
Издатель…
Эстет…
Путешественник…
Художник…
Юрист…
Криэйтор…
Он уже прожил, наверно, тысячи жизней и продолжает проживать новую едва ли не каждый день. Просыпаясь в его постели, я каждый раз не знаю, с какой из тысяч ипостасей Марка мне придется иметь дело. Это Планета-Тысячи-Превращений-Марка. Как я ее называю. И здесь не приходится скучать.
…Однажды ночью я просыпаюсь оттого, что мне становится холодно, и я понимаю, что рядом нет Марка. Тишину пустой квартиры нарушает судорожное дребезжание старого холодильника и придушенный трубами шум текущей воды и канализационных стоков. Я встаю с постели и, завернувшись в одеяло, осторожно ступаю по холодному обшарпанному паркету.
В свете желтого уличного фонаря, бьющего в окно, я вижу Марка, который скрючившись сидит у батареи и выглядывает в узкую полоску-просвет между спущенными жалюзи и подоконником.
– Пригнись, пригнись… – шепчет испуганно Марк.
Я ползу к нему по обшарпанному паркету, ощущая голыми коленками многочисленные острые песчинки и крошки, валяющиеся на полу.
– Что случилось? – спрашиваю я весело, полагая, что Марк готовится к своему очередному превращению, например в частного детектива или скрывающегося от слежки члена боевого крыла террористической организации.
– Они нашли меня! – Марк берет меня за шею и приближает мою голову к амбразуре между жалюзи и холодным белым подоконником. – Смотри! Видишь тонированную машину на другой стороне улицы? Вон там, с работающим двигателем.
Действительно, неприметная машина с затемненными стеклами и выключенными фарами стоит на улице. Выхлопная труба выдыхает в осенний воздух теплые ядовитые пары.
– Они стоят так уже третью ночь. Может быть, и дольше. Просто я заметил это позавчера. – Марк свистящим шепотом произносит слова. – Приезжают, когда уже стемнеет, встают напротив моих окон и стоят так почти до утра. Никто не выходит. Только курят иногда внутри, приоткрыв окно.
– Кто это?
– Возможно, федералы. А может быть, и нет. – Марк не шутит. – Я занимался одним делом, к которому имеют отношение очень крутые ублюдки со связями во власти. Они банкротят предприятия, отмывают миллиарды, организуют заказные уголовные дела… Там целый клубок интересов. И кое-кого мы серьезно задели. Но я не думал, что они доберутся до меня…
– Чего они от тебя хотят?
Марк держится за батарею.
– Я не знаю. Может быть, просто напугать. А может быть, завалить.
– Что ты будешь делать?
Марк долго дозванивается до кого-то по мобильному телефону и объясняет, что за ним следят. Он говорит: «Это серьезно». Он говорит: «Вы обещали помочь, если возникнет такая ситуация». Он делает ударение на словах «ВЫ» и «ОБЕЩАЛИ». Он долго слушает чей-то журчащий, как канализационная труба, голос в трубке. Он говорит: «Хорошо, я не буду выходить и позвоню, если что-то произойдет». Марк уползает в темноту и возвращается с открытой бутылкой вина. Мы сидим до утра возле теплой батареи, время от времени выглядывая в окно, за которым стоит темная машина. Иногда сквозь тонированные окна видно, как в машине загорается свет или вспыхивает огонек зажигалки.
Я прижимаюсь к теплому телу Марка. Мы передаем бутылку друг другу. Я смотрю в темноту, где в отсветах уличного фонаря желтеют бока и углы несуразных шкафов и различных предметов.
– Марк, каким ты был в детстве?
Каким-то внутренним чувством я улавливаю, что Марк несколько секунд выбирает одну из личин, которую собирается надеть.
– Хулиганом был. Уличной шпаной. Прогуливал школу, воровал сигареты, курил. Изводил родителей.
– Ты врешь, Марк… – устало отвечаю я. – Ты не похож на хулигана. Ты похож на тихого домашнего мальчика, которому не хватало игр и приключений. И вот теперь ты наверстываешь упущенное…
– Я не буду тебе ничего доказывать. Думай как хочешь… – огрызается Марк.
– Расскажи о своей семье, Марк, – не унимаюсь я. – Кто твои родители? Они живы? Почему ты не общаешься с ними?
Марк вздыхает, как будто его заставляют делать что-то тяжелое и неприятное.
– Мои родители – обычные люди. Очень простые и наивные. За всю свою жизнь они ничего не заработали и не достигли. Таких, как они, миллионы. Они хотели, чтобы и я стал таким же. Но я не хотел. Не знаю, как так получилось. – Марк делает долгую паузу. – Не общаемся потому, что так для всех лучше. Когда мы жили вместе, мы только издевались друг над другом. Постоянные истерики, скандалы, сердечные приступы у матери по поводу малейшей моей задержки или любой неприятности в жизни… Я их ненавидел. Мой отец неплохой человек, но он стал обычным алкоголиком. Больше всего на свете я хотел прикончить отца. Однажды, когда он не пришел ночевать и у матери случился очередной сердечный приступ, я нашел его в гараже. Он напился до беспамятства и валялся прямо на капоте свой старой машины, пуская слюни и сопли. Я схватил стоящую в углу щетку с длинной деревянной ручкой и вломил ему поперек спины. Он завизжал, как боров, но так и не встал. Тогда я огрел его еще несколько раз. Когда он пришел в себя, я схватил его за воротник и потащил к люку, ведущему в подвал. Подвал был глубокий, с бетонным полом и отвесной железной лестницей. Я повалил его на пол, просунул голову и плечи в дыру люка и держал так несколько минут. Я не боялся, я просто думал, сдохнет он или нет, если я сброшу его вниз, или будет лучше просто зарубить его топором. И я бы, наверно, сделал это, но прибежала мать, начала орать и плакать и оттащила меня от него. Ну вот… – Марк снова замолчал. – Я бы точно убил его рано или поздно. Но потом я уехал. И все как-то нормализовалось. Чем меньше видишься с родителями и вообще с родственниками – тем больше их любишь… И они тебя.
Мы замолкаем надолго и сидим в темноте, до тех пор пока уродливые шкафы не обретают свои реальные очертания. Машины за окном уже нет. Я сплю на плече у Марка и чувствую, как он осторожно несет меня, сонную, в постель и, прижавшись ко мне, гладит рукой мои волосы.
Планету Марка наполняет множество неожиданных и непонятных вещей, никак не связанных друг с другом. Щипцы для колки сахара. Литые старинные керосиновые лампы. Стеклянные шарики. Чемоданчики с непонятной техникой, похожей на портативные радиостанции. Старые пластинки. Связки ключей. Фотоаппараты. Гиря. Банка с болтающимся в спирте внематочным плодом.
После эпизода с черной машиной под окнами в квартире Марка появляются винтовка и пистолет. Винтовку он кладет под диван. Черный пистолет, который выглядит как игрушка, Марк оставляет на самой верхней полке в ванной. Чтобы найти его там, нужно встать на бортик ванны.
…Когда я возвращаюсь домой после съемок, Марк смотрит один из фильмов о Ганнибале Лектере. Он пересматривает их сотни раз. Особое удовольствие доставляет Марку ужинать и одновременно смотреть «Молчание ягнят» или «Ганнибал», в котором доктор Лектер скармливает федеральному чиновнику его собственные мозги. Марк гурман, и для такого ужина он готовит какие-то невообразимые блюда из мяса или потрохов. Иногда даже из мозгов. Я надеюсь, что все это он покупает в магазине или на рынке. Я уже выучила наизусть фразы из этих фильмов. «Из чего это приготовлено?» – наигранно спрашиваю я у Марка, дегустируя его очередной кулинарный шедевр. Он загадочно улыбается и произносит реплику доктора Лектера: «Если я скажу, вы не станете есть». На самом деле я не удивлюсь, если Марк когда-нибудь действительно соберет гостей и накормит их человечиной. Я уверена, что на Планете-Тысячи-Превращений-Марка рано или поздно любой приходит к необходимости стать Ганнибалом Лектером.
Планету Марка населяют люди, которые, кажется, взяты из сценариев артхаусных фильмов. Они курят и громко ругаются матом. Они могут молчать часами. Они одеты в барахло, взятое напрокат в театральной костюмерной. Для них не существует ни часов, ни времени суток. Уголовники; свихнувшиеся миллионеры; попы-расстриги; сумасшедшие гении; солдаты с «чеченским синдромом»; алкоголики-режиссеры; уличные певцы; мутные личности с одинаковыми лицами, одетые в строгие серые костюмы; поэты; скинхеды; драгдилеры; коротко стриженные парни с жестокими подбородками; манерные педерасты с депутатскими значками на лацканах итальянских костюмов; угрюмые небритые мужчины с печальными глазами и ворохом пронзительных жизненных историй; тонкие призрачные девушки в джинсах и кедах, смотрящие на мир сквозь холодный скандинавский голубой лед; молодые люди из картин Педро Альмодовара; огромные, раздутые, как водяные пузыри, существа с бритыми головами, приезжающие на больших черных джипах; подростки с глазами стариков и старухи в изящных шляпках с вуалетками.
…В солнечный осенний день Марк тащит меня на улицу. Он покупает шоколадку и ведет меня на старое монастырское кладбище. Гуляя среди могил, Марк скармливает мне шоколадку и сам с удовольствием растапливает во рту маслянистые черные пластинки. Марк останавливается возле старинных мраморных надгробий и саркофагов и с улыбкой читает эпитафии.
Тому, кто здесь лежит под травкой вешней, Прости, Господь, злой помысел и грех! Он был больной, измученный, нездешний, Он ангелов любил и детский смех. Не смял звезды сирени белоснежной, Хоть и желал Владыку побороть… Во всех грехах он был – ребенок нежный, И потому – прости ему, Господь!На вкопанных в землю желтых столбах висят таблички-указатели, которые особенно веселят Марка.
«Ряд 9, место 72. Княгиня Голицына. В ее салоне бывали Пушкин и Вяземский. Салон княгини в Петербурге с начала XIX века привлекал самые блестящие умы России. Его посещали многие французские эмигранты. Княгиня блистала на балах и была прозвана Ночной княгиней».
Марк смеется.
– Не кладбище, а бутик! Представь, что лет через сорок где-то будут лежать обладатели VIP-карточки клуба «Дягилев», а кто-то будет ходить и читать, как они блистали друг у друга на кокаиновых вечеринках и дружили с Сергеем Гулливером, Денисом Симачевым и Илиасом Меркури или Никасом Сафроновым. Ты думаешь о смерти? – неожиданно спрашивает Марк.
Мне почему-то очень неприятно думать, что меня может размазать по дороге какой-нибудь обдолбанный укурок или что мои кишки разлетятся по стенам вагона метро при взрыве чьей-то самодельной бомбы. Хотелось бы чего-то другого…
Мы молча идем по дорожкам, разбрасывая ногами опавшие желтые листья. Почерневшие мраморные ангелы и скорбные мадонны с преклоненными головами украдкой наслаждаются особой прозрачностью осеннего воздуха и холодным осенним солнцем. На границе кладбища и пустого монастырского сада Марк останавливается, берет мою ладонь и надевает на палец белое кольцо с прозрачным, похожим на застывшую слезу камнем.
– Будь моей женой. Давай хотя бы попробуем?
Я не бросаюсь ему на шею и не кричу, как героиня какого-нибудь фильма. Марк видит мои растерянно хлопающие удивленные и смущенные глаза. Он улыбается. И я просто целую его. Я думаю: Марк, я надеюсь, ты понимаешь, что все это шутка. Тебе нравится мое нежное, детское, покрытое золотистым пушком тело, ты любишь мои пухлые губки и наивные глаза маленького олененка. Но ты же не выдержишь того, что я буду постоянно просить у тебя денег на одежду, не сможешь ходить со мной в рестораны, у тебя не хватит денег и терпения потакать моим капризам и желаниям…
Мы идем молча, улыбаясь и время от времени бросая друг на друга смущенные взгляды, как будто играем в какую-то детскую игру.
На планете Марка все время идет война, с кем-то или с чем-то, неважно. Война за деньги. Война с самим собой. Война с теми, кто, по мнению Марка, разворовал страну. Война с безвкусицей. Война за тишину. Война за любовь.
Съемная квартира Марка находится на втором этаже серого кирпичного дома с тремя темными подъездами без лифта. Желтые окна квартир по вечерам светятся тусклым светом, вызывающим приступ тоски и тошноты. А на первом этаже прямо под окнами квартиры, в которой обитаем мы с Марком, находится продуктовый магазин, куда с утра до ночи весь район ходит покупать мороженые пельмени и дешевое бухло. Каждый раз, когда очередной перекошенный от этанола мужик или оплывшая баба в надетом поверх цветастого потного халата пальто заходит в быдловской супермаркет, здоровенная железная дверь на пружине с грохотом ударяет по железному косяку. Мы с Марком знаем о каждом входящем в магазин и можем сосчитать, сколько десятков человек ежедневно бывает там.
Хлопанье дверью начинается с самого утра и заканчивается только ночью. Когда грохот заполняет все сознание и становится невозможно думать о чем-то другом, я спрашиваю:
– Марк, почему ты живешь в этой помойке? Почему ты не снимешь другую, более приличную квартиру? Почему ты не купишь квартиру: ты же взрослый мужик?
Мои вопросы заводят Марка, и он разражается очередным монологом про врагов России, которые не дают нормально жить таким, как он.
– Ты ничего не знаешь о жизни, – говорит Марк. – Ты хочешь всего и сразу, а так не бывает. Десятки тысяч людей вообще снимают углы.
Когда грохот достает уже и Марка, он хватается за телефон, звонит в магазин и угрожает самыми страшными карами. Иногда это помогает, и магазинные работники привязывают к двери тряпку, которая смягчает удар. Но к середине дня тряпка перетирается, рвется, и в голове снова начинает работу невидимая кузница.
Когда Марк не выдерживает, он идет в ванную с ведром, наполняет его водой и выливает на пол под кухонной мойкой.
– Там есть щель между плитами, – говорит Марк. – Она находится прямо над отделом, где у них стоит бытовая химия.
Вода быстро уходит сквозь пол. Марк наливает второе ведро и снова выплескивает под мойку. Через несколько секунд снизу слышатся взволнованные голоса, а потом там что-то двигают и переставляют. Марк идет в ванную, чтобы наполнить еще одно ведро. Когда пять ведер вылиты на пол и окна маленькой кухни запотевают от влаги, Марк берет трубку телефона и снова звонит в магазин.
– Я живу над вами, и это я заливаю вас водой. И буду заливать до тех пор, пока вы не поставите на дверь бесшумный закрыватель или резиновую прокладку.
Война на планете Марка продолжается и ночью. За окном спальни один за другим куда-то едут тяжелые грузовики, которые, видимо, везут снаряды или продовольствие. Они рычат двигателями, гремят притороченными к бортам цепями и ведрами, подпрыгивают всем своим содержимым на ухабах и «лежачих полицейских». Дребезжат оконные стекла. Гул мчащегося на передовую груженого транспорта отдается от стен комнаты, влетает в сны, разгоняет первую самую сладостную дремоту после неспокойного тяжелого дня. Все окна в этой съемной норе выходят именно на ту улицу, по которой едут грузовики и идут, видимо в наступление, с диким ором и битьем бутылок обитатели рабочих районов. Поэтому спрятаться от войны, которая гремит на планете Марка, нельзя. Можно только накрыть голову подушкой и уткнуться в угол, чтобы хоть ненадолго заснуть и забыть, что ты живешь.
На планете Марка никогда не наступает завтра. Здесь вечноесейчасс непрекращающейся борьбой с неблагоприятными обстоятельствами и постоянная война всех против всех. В один из обычных дней – внизу хлопает дверь, за пыльным окном грохочут машины, но мне не хочется думать об этом, а хочется сидеть вместе с Марком за столиком кафе, пить ароматный напиток и смотреть, как ленивое солнце ласкает крыши, – я говорю Марку:
– Хочу детей! Марк, давай заведем ребенка. Ты будешь хорошим отцом, потому что с тобой всегда будет интересно. Наверно, я не смогу быть такой же хорошей матерью… Но я буду стараться. Я все сумею. Давай создадим настоящую семью, Марк!
Марк усаживает меня к себе на колени, обнимает и молчит. Наконец он произносит:
– Мне тоже хотелось бы иметь детей, но иногда я думаю о том, что это эгоистично и жестоко, приводить ребенка в наш безумный мир. Если бы у меня была возможность выбора, я бы не хотел рождаться в наше время и на нашей планете…
Снова грохот двери и рев грузовиков за окном. Я становлюсь такой чуткой, что слышу, как течет сверху вниз по канализационным трубам концентрированная смесь фекалий и мочи, как за стеной глухо и безразлично переругиваются немолодые и нетрезвые мужчина и женщина, как отсыхают от стен блеклые обои, как в кастрюльках булькают и испускают кислый запах дешевые пельмени… Я прикрываю ладонью губы Марка.
– Нет, нет, Марк! Лучше молчи! Не нужно ничего говорить… – Стоя посреди комнаты, я пытаюсь докричаться до него. – Прекрати этот спектакль, Марк! Засунь в задницу свои проповеди. Хоть раз позвони своим родителям и скажи им, что ты их ЛЮБИШЬ! Но даже если ты этого не сделаешь, они все равно знают, что у них есть сын, и уверена, что они счастливы. Подумай о том, что было бы, если бы они рассуждали, как ты?
Сидя на продавленном диване с выгоревшей обивкой, Марк продолжает снисходительно улыбаться в ответ на мои слова.
– Ты сама еще ребенок. И дети для тебя – это очередная игрушка. – Марк, как всегда, спокоен и рассудителен. – А ты представь, что тебе придется не спать ночами, вытирать грязную задницу, стирать обгаженные пеленки. Да и вряд ли мы сейчас можем позволить себе иметь ребенка: нужно встать на ноги. Давай подождем еще пару лет, а там посмотрим… Мы не готовы.
Но я не хочу его слушать.
– Это ты не готов, Марк! Только ты! Конечно, я ребенок. Но в моем возрасте это не так страшно, как в твоем. – Я чувствую, как саднит горло и режет глаза. – Ты же великовозрастный мальчик, который играет в игры. Ты живешь в этом клоповнике и убеждаешь самого себя в том, что это нормально. Ты боишься заводить детей и создавать семью, потому что для этого нужно быть взрослым: зарабатывать деньги, нести ответственность за своих близких…
Марк не дает мне договорить. Вскочив с дивана, он стремительно проносится мимо меня в коридор и остервенело сует ноги в ботинки. Перед тем как хлопнуть дверью, он зло выплевывает:
– Деньги! Деньги! Деньги! Ты повернута на деньгах! А это – дерьмо! У меня есть все, что мне нужно. И я не собираюсь тратить свою жизнь на ваши сраные деньги!
Звуковые волны от удара захлопнутой двери еще некоторое время расходятся по квартире. Я сижу на полу, вытирая глаза и растирая лоб, словно хочу, как фокусник, чтобы в моей голове растворился какой-то предмет, находящийся под моими пальцами. Но там только влага от крупных, как стразы, слез.
Глава тринадцатая
Перенесемся туда, где создаются желания и фантазии миллионов читателей глянцевых журналов и посетителей магазинов. На съемочную площадку, где я воплощаю образы, рожденные в голове человека, который выглядит как партизан постъядерной эры. Длинные сальные волосы заправлены под вылинявшую бейсболку с золотым якорем на лбу. Толстая шея в фурункулах с зеленоватыми гнойными головками перебинтована длинным рваным шарфом. Поверх лиловой майки с принтом, изображающим арабскую вязь, надета черная толстовка. Сверху наброшена суконная куртка в клетку со множеством карманов. Толстые ноги затянуты в камуфляжные штаны с таким количеством карманов, что в них можно рассовать приличный боевой арсенал…
Как вы уже, наверное, догадались, это режиссер. Мне даже не нужно обращать ваше внимание на то, что этот мудак сидит на холщовом стуле и чешет яйца. Возможно, вас занимает тот же вопрос, что и меня: их что, всех одевают в одном магазине «Спецодежда для режиссеров»? Я уверена, что в гардеробе любого российского режиссера есть как минимум три обязательные вещи: бейсболка, толстовка идиотского цвета и камуфляжные штаны со множеством карманов. Да, и, конечно, обязательный холщовый стул (желательно с фамилией режиссера, написанной белой краской на спинке, – как будто это вещь, которую специально пометили, потому что она принадлежит больному, зараженному опасным вирусом). В поисках ответа на мучивший меня вопрос я перебрала множество версий. Начиная с гипотезы, что почти все отечественные режиссеры одеваются у одного страдающего маниакально-депрессивным психозом модельера, заканчивая предположением, что их всех вывели искусственным путем в лаборатории на планете, которой правит безумный белый клоун из романов Стивена Кинга. Но все эти объяснения мне не подходили. Секрет этого странного дресс-кода обрушивается на меня внезапно в переходе метро, когда сидящий в коляске инвалид бодро вскакивает на ноги и стремительно удирает от пришедших его прессовать конкурирующих попрошаек.
Это же декорация! Для того чтобы заработать несколько тысяч, попрошайка пользуется каталкой. Для того чтобы заработать миллионы, режиссеру нужен холщовый стул. И кепка. И растянутый свитер. И черные очки. Потому что именно так представляют себе режиссера вчерашние каталы, ставшие продюсерами, и вчерашние мальчики-мажоры, ставшие банкирами и владельцами нефтедобывающих компаний. Это же диснейленд, детка! Глобальный диснейленд, где всё – от титек до храма Христа Спасителя – муляж какой-то несуществующей сказочной страны. В диснейленде нужен именно такой режиссер-зазывала в карикатурной кепке и черных очках, с недельной небритостью и холщовым стулом, прикрученным к заднице невидимыми шурупами.
Все, что происходит со мной на площадках или в студиях, в полной мере обусловлено законами, по которым живет наш диснейленд.
В ожидании озарения свыше, которое должно снизойти на сидящее на холщовом стуле существо с рукой, перебирающей промежность, я стою на холодном полу рядом с ванной, наполненной чем-то темным и плотным, похожим на черный пузырящийся кефир.
– Что ЭТО? – удивленно смотрю я на режиссера и кучку его ассистентов.
– Это нефть, – отвечает он невозмутимо, без тени иронии. – Не переживай, она не вредная.
Я скидываю махровый халат, наброшенный на голое тело, и, отдавая его ассистентке, не слишком уверенно перекидываю ногу через борт ванны и опускаю ее в колышущуюся темноту, сквозь которую не видно дна.
– Надеюсь, она когда-нибудь отмоется…
– Позовешь кого-нибудь, кто тебе поможет, – режиссер озабоченно потирает небритые щеки. – Кстати, если это тебя серьезно беспокоит, у нас есть ацетон и скипидар на случай, если водой не смоется.
Он критически осматривает мою голову, которая торчит над маслянистой, темной как космос поверхностью.
Несколько секунд пристально смотрит на получающуюся картинку, задумчиво потирает висок и подбородок. И, несколько раз вздохнув, произносит:
– Детка, я думаю тебе придется залезть туда с головой!
– Вы что, с ума сошли?! – Я ощущаю, как две таблетки пиразидола, съеденные утром, стремительно теряют свой энергетический заряд и на меня наваливается плаксивость и чувство беспомощности. – Что я потом буду делать с волосами? И эта гадость – я даже не знаю, может, она мне глаза проест… Какого хрена вообще мы тут снимаем?
Мой срывающийся голос действует ему на нервы.
– Кто-нибудь принесите ей воды или что-нибудь выпить! – После чего снова обращается ко мне: – Детка, я не думаю, что ты готова платить неустойку. Ты сюда работать пришла, так же как и все мы, так что давай, не капризничай и погружайся с головой. Это всего на несколько секунд. Ты погружаешься, задерживаешь дыхание, а после встаешь и выходишь из ванны.
После того как выставлен свет и включена камера, я так и делаю. Ощущая себя птицей, попавшей в зону экологической катастрофы, я выхожу из маслянистой ванны, оставляя за собой черный шлейф.
– Дай мне секса! Больше секса! – краснея, надрывается режиссер. – Вот так! Выше подбородок и работай бедрами!
Он корчится на своем холщовом стуле в приступе восторга.
– Дай мне шик, детка! Это же нефть! Нефть – это большие деньги и секс!
Самые непредсказуемые съемки – это съемки для глянца. Никогда не знаешь, что ждет тебя на этот раз. Тебя нанимают для съемок в рекламе джинсового бренда, а привозят на скотобойню. Или приглашают в рекламу нижнего белья, а снимают на аэродроме. Это все потому, что количество рекламы в глянцевых журналах таково, что читатели ее уже просто не воспринимают. Чтобы зацепить их усталый и пресыщенный взгляд, просто красивых лиц и голого тела недостаточно, нужно каждый раз придумывать что-то все более и более извращенное.
Стройплощадка высотного жилого здания. Здесь снимают fashion-сессию для женского глянцевого журнала. Виктория и я должны демонстрировать новые дизайнерские шмотки на тридцать девятом этаже среди торчащей арматуры, железобетонных стен и огромных незастекленных оконных проемов, за которыми начинается небо.
Переодеваться приходится здесь же, за одной из уродливых стен.
Виктория заводит разговор:
– У тебя с Сашей что-то было?
Стилист прилаживает на моей спине большие черные крылья ангела, сделанные из настоящих перьев. Визажисты спешат нанести еще несколько легких штрихов кисточками на наши лица, пока не раздастся чей-нибудь командный голос.
– Нет, – отвечаю я. – А что-то должно было быть?
Виктория в образе белого ангела, одетого в короткое белое платье без рукавов и сапоги – все отFendi, – произносит чуть более равнодушно, чем это бывает, когда человеку просто интересно:
– Ну, я не знаю… Он от тебя весь вечер не отрывался. Я такого не видела никогда. Мне кажется, он на тебя запал…
Даже если на улице стоит чудесная погода, на тридцать девятом этаже воздух холодный и разреженный, как в горах. Мой голый живот, символически прикрытый короткой черной блузкой с широким вырезом до пупка, судорожно подергивается от холода, так как расстегнутая курткаIcebergв моем случае не предназначена для того, чтобы согревать. Куртка и я – это две вещи, которые выгодно дополняют и подчеркивают достоинства друг друга. Вещи не должны испытывать чувство голода, холода, боли – иначе они потеряют свое очарование.
Я встаю вполоборота, так чтобы были видны бедра и полоска живота, и кокетливо отставляю ногу, опираясь только на самый носок черного сапога. Мои руки согнуты в локтях и придерживают капюшон, из-под которого выбивается копна кудряшек. Виктория с воинственным и бесстрастным видом стоит на втором плане.
Фотограф кричит:
– Виктория, убери эмоции. Еще холоднее! Губы не сжаты, как куриная жопа, а просто сомкнуты.
Виктория на втором плане превращается в прекрасный ледяной столб.
– Лиза, а ты наоборот – больше вызова, больше чувства! Рот немного приоткрой… Губы! Губы! Дай мне чувственные губы!
Когда стоишь перед камерой, не нужно бояться выглядеть смешной или вульгарной: при всем желании не получится стать настолько смешной и вульгарной, насколько это нужно фотографу или заказчику. Все равно через три часа съемки, когда от усталости и отвращения тебя накроет полное безразличие, ты, как под гипнозом, будешь делать все, что тебе скажут. То есть Я —!!! – буду делать. Улыбаться, до боли в скулах растягивая мышцы лица. Плакать на камеру, заставляя себя вспомнить о том, о чем я обычно стараюсь не думать, даже когда нахожусь одна. Выпячивать задницу. Целоваться с ухоженными киборгами-моделями. Выгибать спину. Вытягивать ноги. Сидеть в нелепой позе на зеркальном шаре. Или голой лежать по горло в каком-нибудь дерьме.
Продюсер съемки удовлетворенно осматривает несколько пробных кадров и дает знак, чтобы готовили следующий съемочный сет. В каменном углу, единственном, наверное, где нет окон, стилисты и гримеры орудуют над нашими образами, меняя наряды и аксессуары. Снисходительно подставляя себя под руки и кисточки, обрабатывающие нас, Виктория снова возвращается к незаконченному, по ее мнению, разговору:
– Думаю, тебе не стоит с ним связываться. Он каждый день меняет девочек. – Карандаш в руке визажистки на несколько секунд останавливает движение губ Виктории. – Конечно, если хочешь стать еще одной шлюшкой в его постели – то пожалуйста… Испортишь репутацию – только и всего.
Мне хочется спросить: «Интересно, почему ты не говорила об этом, когда тащила меня на эту вечеринку?» Мне хочется, глядя в глаза Виктории, задать вопрос: «А сколько денег ты получила за то, что привезла меня туда?» Мне хочется поинтересоваться: «Почему НА САМОМ ДЕЛЕ ты так беспокоишься?»
Но вместо этого я нехотя и со скукой в голосе отвечаю:
– Откуда у тебя такие мысли? Я уже и забыла про него…
– Это ничего не значит. Он не успокоится, пока не оттрахает еще одну пушистую кисочку. – Виктория говорит так, как должен говорить настоящий белый ангел мщения.
Поскольку я уже успела съесть пару таблеток герфонала и опорожнить мочевой пузырь прямо в соседней комнате с видом на панораму города, то меня распирает радостный смех:
– В таком случае я обречена!
Но Виктория уже решила сменить тему:
– Я забыла тебе сказать, вчера звонила твоя мама…
Я не поверила своим ушам.
– Что она хотела?
– Спросить у тебя, не забыла ли ты привезти ей денег. И, кажется, она что-то говорила о том, что у нее онкология… – Замолчав, чтобы не съесть очередную кисточку, Виктория добавляет: – Я плохо запомнила, что она говорила… Она была не очень-то любезна.
– Это ее нормальное состояние. Последний раз, когда я с ней разговаривала, она назвала меня проституткой как минимум три раза…
Процедура придания нашим телам нужного вида и цвета завершена. Крылья ангелов на этот раз из элемента костюма превращаются в декорацию и стоят приставленными к свинцового цвета бетонной стене с торчащими из нее ржавыми прутьями арматуры. Теперь мы бывшие ангелы, и, вероятно, именно по этой причине нам полагается быть особенно соблазнительными и вызывающими.
Продюсер заходится в экстазе:
– Зачем вы надели ей лифчик?! Лифчик убрать!
Я остаюсь с голой грудью в расстегнутой черной меховой курткеN. Picarielloи в кокетливом меховом берете, сдвинутом набок. О боги! Зачем мне крылья? В таком виде любой ангел не пропадет в этом городе.
– Отлично! – Это фотограф исполняет ритуальный танец перед камерой. – Покажи грудь! Левую руку на талию, так чтобы приоткрылась куртка… Так! Работаем!
Мои ресницы полуопущены. Я приоткрываю рот, как будто задыхаюсь от наслаждения. Так достаточно хорошо?
Виктория сидит на сером полу со следами цемента, грязи и белой краски. Края шубкиBoss Blackбеспомощно раскинулись среди цементной пыли и птичьего помета.
– Слушай, а что стало с Пашей? – неожиданно спрашивает она, так что я даже не сразу понимаю, о ком идет речь. – Ну с тем сыном священника, про которого ты рассказывала…
– А-а-а… Этот… – вспоминаю я без улыбки, потому что сейчас мне нельзя улыбаться или потому что улыбаться особенно нечему. – Через полтора года он сбежал из дому с проституткой-наркоманкой. И, кажется, женился на ней. А может, и не женился. Ну, в общем, его отец от него отрекся… Я читала об этом в газете…
– Жесть… – Виктория запрокидывает голову и устремляет глаза в воображаемое небо.
Я думаю про ангелов. Это, пожалуй, самые гламурные существа. Круче Сергея Зверева, это уж точно. Мало того, что у них есть эти чудные, совершенные крылья, сделанные, вероятнее всего, лучшими во вселенной дизайнерами. Так ко всему прочему никто уверенно не может сказать, есть у них член или нет. В наше время это уже большой плюс. На одном из модных показов в клубе «Рай» я видела парня во время переодевания, у него на лопатках были два настоящих косых шрама – типа на месте отрезанных крыльев. Офигенная тема! В сущности, все мы мечтаем быть ангелами, только с одним условием: чтобы крылья можно было снимать при необходимости. Просматривая перед сном блоги в Интернете, я просто умиляюсь от того, сколько среди нас ходит ангелов. Каждый второй немытый дрочер, работающий айтишником в какой-нибудь компании, а дома по вечерам шарящий в поисках «частного ню» в интернет-фототеках и на сайтах знакомств, АНГЕЛ. Пошли ему смайлик. Или спроси, как дела «у такого классного парня», и он тебе расскажет про сломанные крылья или про то, как он отстегивает их каждый вечер, устав от тяжелой работы…
Думаю, только такие люди, как Саша, не мечтают стать ангелами. Богам нет нужды мечтать о таких глупостях. Они ведь боги. По крайней мере, так считают те легионы ангелов, которые слетаются к их престолам, чтобы исполнить любое их желание.
Сломанные крылья… Отстегнутые крылья… Крылья – красивый аксессуар, который запросто можно купить в магазине «Империя чувств», если не хватает денег на то, чтобы сделать себе шрамирование на лопатках. Чертов садомазохистский диснейленд! – думаю я.
Откуда-то из сумеречной зоны моей памяти всплывают строчки стихотворения:
Ты не поверишь А ты не поверишь, но ангелы тоже с работы приходят под вечер, порою изрядно устав. И их утомляют любые мирские заботы – попробуй быть бодрым, веселым, весь день отлетав… А ты не поверишь, но ангелы крылья снимают, идут (ну, наверно, куда?) прямиком сразу в душ, Пылинки и грязь аккуратно мочалкой смывают, пытаясь (напрасно) отчистить усталость из душ… А ты не поверишь, но ангелы, чайник поставив, садятся на кухне и молча глядят за окно. И думают – утром проснутся и, крылья расправив, пойдут-полетят на работу свою все равно… А ты не поверишь, но ангелы плачут ночами, припомнив какую-то (детскую? взрослую?) смерть. И столько в слезах этих боли, горючей печали о том, что помочь не смогли, не успев прилететь…Наверно, когда-то я где-то прочитала или услышала эти стихи. И запомнила их, а может быть, даже записала в каком-нибудь своем тайном детском дневнике с замочком и наклеенными сердечками и бабочками. И мое маленькое сердечко билось, а в глазах становилось горячо, когда я представляла себе незаметного и доброго ангела, который плакал о чьей-то нелепой смерти… Почему сейчас эти стихи вызывают у меня только усмешку? И откуда внутри меня столько ядовитой горечи, которую я чувствую даже во вкусе своей слюны?
Я говорила, что под гипнозом камеры на площадке могу сделать все, даже заплакать. Это ложь. Плачут только розовые девочки-нимфетки, которых привезли из их маленьких городов и поселков. Они плачут оттого, что нужно улыбаться пять или шесть часов без перерыва. Они плачут, когда на них кто-то начинает орать на площадке: «Куда ты поперлась, тупая сука?! Встань на место, корова, и раздвинь ноги пошире!» Это нормальная реакция любого живого существа на процесс дрессировки. Я давно не плачу, даже когда мне жалко НЕ СЕБЯ. Я бы хотела уткнуться в чье-то плечо и выплакать всю горечь, которая плещется во мне, как густая нефть. Но я не могу.
Как будто подслушав мои мысли, визажист перед следующим сетом просит меня прикрыть глаза и берет в руки пинцет. Через несколько секунд две холодные прозрачные капли сверкают в уголках глаз.
– Можно открывать, – говорит визажист.
Я открываю глаза и смотрю в зеркало. Две капли застыли в уголках глаз.
– Это стразы! – с удовольствием от хорошо сделанной работы комментирует визажист. – По-моему, очаровательно!
Действительно очаровательно! Стразы вместо слез… Почему мне раньше это в голову не пришло?! Как все просто в этом мире нефтяного диснейленда!
Глава четырнадцатая
Нанесем визит в сказочную страну, куда жители диснейленда тащат свои тела, устав от «невыносимой легкости» собственного бытия. Мое путешествие в эту страну происходит в салоне арендованного частного самолета, осуществляющего рейс Москва–Женева, в компании Александра, неразлучных, как я поняла, Жени, Игоря и Димы, а также пяти девушек разного возраста, знакомых мне по многочисленным кастингам, съемкам и тем «присутственным местам», где я регулярно бываю с Викторией.
Такие перелеты чартерным рейсом проходят по стандартному сценарию. Привычный спектакль, где компания малознакомых и совершенно разных людей пытается делать вид, что всем весело и интересно, и заполняет томительные перерывы между едой и выпивкой развязными шутками, подколами и фразами, сказанными невпопад.
Если наблюдать за происходящим в комфортабельном кожаном салоне дорогого самолета, может показаться, что в ночное зимнее небо подняли один из залов ресторана «Аист» с посетителями, креслами, черной икрой, дорогим шампанским, официантами и всей той изобильной какофонией, которая сопровождает тамошние посиделки.
Впрочем, я соврала. Кое о чем все-таки нельзя не сказать. Да это обстоятельство и само бросается в глаза: в освещенном нежным светом кожаном брюхе самолета нет моей подруги Виктории Дольче! И еще один момент. В тот день, когда Женя приезжает ко мне, чтобы взять у меня загранпаспорт, он мягким и веселым голосом говорит мне, что лучше не распространяться о том, где я проведу зимние каникулы.
– Особенно это касается Виктории, – доверительно сообщает он. И из этой доверительной интонации я делаю вывод, что присутствие Виктории на празднике жизни не предполагается. И я не знаю, хорошо это для меня или плохо. Пока я не знаю, как к этому относиться.
В остальном – все как обычно. Ржач и жрач – так я называю этот процесс. Процесс, в котором и я участвую в меру своих скромных сил и способностей. Впрочем, несмотря на все мои старания, мне есть чем выделиться. Мои простенькие джинсы за сто долларов и черная водолазка «под горло» выглядят почти вызывающе на фоне шубного ряда из шиншилл, соболей и рысей, принадлежащего входящим в компанию девушкам. Сезонная миграция московской золотой тусовки происходит по тому же принципу «годового говнооборота», что и переезды французского королевского двора из замка в замок. Весной все засиживают диваны дорогих клубов и ресторанов, не забывая в перерывах между приемами пищи и развеселыми вечеринками заниматься волшебным превращением денег в золу и опять в деньги. Летом народ перебирается на яхты и виллы в районе Лазурного Берега. А наименее состоятельные и оттого более склонные к экстриму и эпатажу граждане диснейленда едут на острова – кормить экзотических паразитов и употреблять легкие наркотики. А также практиковать какие-нибудь необычные занятия, которыми можно будет осенью хвастаться перед более состоятельными собратьями. Осенью, оставив насиженные шезлонги, граждане диснейленда снова возвращаются в Москву. Осень – хорошее время для того, чтобы избавиться от привезенных из дальних стран паразитов и обсудить предстоящие планы. Осень вообще лучше весны. Не так ломает. От недавно закончившегося лета еще осталось ощущение приятной усталости, а впереди уже сверкают бриллиантами и стразами, сверкают золотом шляпок на бутылках дорогого шампанского – ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ с обязательным большим сбором в Куршевеле.
Куршевель – это самый любимый «замок» московской золотой тусовки, засирающей его своим присутствием. Это – зимняя столица России, куда перетекают на веселое время зимних праздников Богатство и Красота.
Дорога из Швейцарии во Францию запоминается мне только тем, что я по-прежнему не представляю, зачем еду сюда и какая сила тянет меня в эту непонятную и довольно опасную сказку. Я ловлю себя на мысли, что как дура начинаю с волнением ждать каких-то удивительных и волшебных событий. Это предвкушение приближающейся таинственной новогодней ночи. Забытое. Детское. Стыдное. И такое манящее и захватывающее…
Это моя первая поездка в Куршевель, что придает мне особый метафизический статус человека, причастного к величественному и ужасному процессу коллективного засирания пространства. Странно, что еще никто из современных художников не догадался сделать из большого московского выезда в Куршевель что-то вроде художественной акции. Ведь в галереях и на выставках регулярно превращают в шоу процесс изгаживания чего-то великого, чистого и почитаемого. Последним подобным зрелищем, которое я видела, было разрубание топором икон. Впрочем, нет. Еще была акция, в ходе которой копию «Моны Лизы» поливали жидким коровьим дерьмом. Почему бы и шумный русский десант на территорию консервативной французской деревни не превратить в культурный проект? Но оставим мои идеи…
Мы приезжаем в Куршевель за несколько дней до того, как сюда нагрянет «основной состав» диснейлендовских обитателей. То есть до того, как семизвездочная французская деревня превращается в филиал «Галереи», «First» и других островов нашего сверкающего стразами архипелага с традиционным русским пьянством, русским блядством, русским показушеством, помноженными на миллиардные состояния жителей этого славного края. Наверно, стоит сказать, что мы прибываем в курортную зону Куршевель-1850. Хотя, услышав это название, я представляю себе секретный полигон из фантастического блокбастера, это самое шикарное место на всем курорте. Что-то вроде резервации не просто очень богатых, а самых-самых богатых.
Так вот, наша часть «королевского двора» заявляется раньше, чем все остальные. Но «праздничное настроение» уже блестит в глазах. Мы еще не успеваем разместиться, а бригада прилетевших с нами «the телок» тащит мужскую часть компании на шопинг: покупать наряды и украшения к празднику. Эта идея вызывает у них дикий восторг. И, побросав символический багаж, ватага отправляется опустошать дорогие бутики, уже готовые к заезду сумасшедших русских. А я остаюсь наедине с Сашей и французским поваром, которого Саша учит готовить узбекский плов. Мне доверяют почетную миссию резать лук. И вот я уже стою, заливаюсь слезами, верчу головой, чтобы отбиться от луковых паров, смеюсь над всем происходящим. Русский миллиардер на высоте 1850 метров над уровнем моря, во Французских Альпах, учит французского повара готовить плов… В этом есть, согласитесь, что-то смешное. Но я смеюсь еще и потому, что мне действительно весело и хорошо. Хорошо рядом с этим большим и обаятельным человеком, который увлеченно играет в очередную придуманную им игру…
И я хочу прижаться к нему щекой и почувствовать его сильную руку у себя на плече. И сидеть так долго в тишине у огня и слушать его негромкий голос. Я хотела бы, чтобы он был моим отцом. Эта мысль стучится у меня под ребрами и наполняет меня странным теплом, от которого хочется заплакать.
Перед тем как я провела первую ночь с Сашей, мы вышли на улицу. Шумный ужин уже закончился, компания разошлась по своим апартаментам и ночным дискотекам. Не изуродованное неоновой подсветкой небо, мягкий пушистый белый снег, звезды вместо стразов… Мы идем по заснеженному сказочному городку, освещенному золотым мягким светом окон, звездами и фонарями. Он закутывает меня в одолженный у кого-то из нашей компании длинный теплый шарф и надевает мне на голову свою шапку. Греет мою руку в своей ладони. И рассказывает удивительные вещи про море и акул, про южный город, в котором он провел детство. Я говорю:
– Если там, где ты рос, не было снега, значит, ты не умеешь делать бабочек на снегу?
И, не дожидаясь ответа, я делаю несколько широких шагов в сторону незатоптанной белой площадки, припорошенной свежим снегом, и падаю в снег на спину, широко расставив руки.
– Смотри, бабочка! – кричу я, делаю несколько движений руками и ногами, сгребая снег, и поднимаюсь. На снегу остается вдавленный след, похожий на громадную бабочку (вероятно, из снов Сальвадора Дали или кокаиновых кошмаров какой-нибудь ботоксной блондинки). Через несколько секунд на снегу уже две гигантские бабочки, потому что Саша тоже летит в снег недалеко от меня и загребает руками и ногами так, как будто плывет на спине по белым волнам. Я перекатываюсь ближе к нему. Он обнимает меня, и мы тихо лежим в снегу, улыбаясь и глядя на звезды.
– Ты сумасшедшая, Лиза…
– Я знаю…
– Как ты это делаешь?
– Что?
– Что мне кажется, как будто мне двадцать лет…
– Извини, я не специально. Просто мне с тобой хорошо.
– Не обольщайся. Обычно я жестокий и злой…
– Я пока еще не верю…
– Увидишь…
– Когда смотришь на небо и пытаешься представить, сколько там звезд и что там бесконечность, такое ощущение появляется, ну знаешь…
– Да, как будто сознание может отключиться. Чувствуешь, как мозг начинает подвисать…
– Точно…
– Тебе уже холодно?
– Мне – нет! А тебе?
– А у меня куртка теплая, я могу долго лежать.
– Ну и ладно… Пускай я замерзну…
– Ну что, полетели?
– Полетели!
– Только снег с крыльев отряхни!
Но любая сказка заканчивается. Через несколько месяцев после рождественских каникул я прихожу в агентство на очередной кастинг. Поправлюсь: я приезжаю в агентство. И приезжаю не на метро, а на новеньком «мерседесе» модели «SLK». Для жителей диснейленда это не лишнее замечание. Потому что в этом чудном мире появление у тебя дорогой машины не может остаться незамеченным. И благодаря этому тебя переводят на более высокую иерархическую ступеньку. Появление у модели дорогой машины означает, что у нее завелся богатый покровитель, или любовник, или папик (называйте это как хотите в зависимости от того, какие эротические фантазии вам более интересны и приятны). Собственно, для окружающих важна не суть этих отношений, а сам факт таковых. И от этого факта теперь никак нельзя отмахнуться. Потому что появление у девочки состоятельного патрона означает, во-первых, то, что девочка действительно заслуживает внимания. В диснейленде деньги обладают практически безупречным чувством прекрасного, а также невероятно тонким вкусом. Если девочку оценили, да еще так высоко, то для агентства, в котором она работает, а также для многочисленных продюсеров и режиссеров это сигнал: можно запускать проект по раскручиванию папика на то, чтобы сделать из девочки «звезду» или как минимум певицу. Поэтому всех и сразу начинает интересовать вопрос: КТО ОН? Во-вторых, теперь каждому понятно, что девочка узнала себе цену. И значит, к ней нужно относиться чуть-чуть по-другому, чем раньше. На практике это означает, что тебе все улыбаются и лезут с поцелуями, но на самом деле готовы убить тебя, потому что им повезло меньше.
Видимо, мне действительно повезло. Потому что я отчетливо слышу, как за спиной шипят и рассекают воздух лапами с выпущенными наманикюренными когтями.
Сообщение на моем мобильном телефоне: «Сколько километров пришлось отсосать, чтобы заработать на такую машину?» Возможно, это Марк…
Другое сообщение на моем мобильном телефоне: «Чтоб ты сгнила, сучка». Это уже точно не Марк. По-женски тонко.
Еще одно сообщение на моем мобильном телефоне: «Секс?» От того банкира, с которым меня познакомила Виктория на одной из вечеринок в честь каких-то очередных «самых-самых». Мой ответ: НЕТ. Впрочем, это старое сообщение. Сейчас мне уже не пишут таких, потому что жители диснейленда всегда знают, кто с кем спит, и не совершают глупых и рискованных поступков. Поэтому секс мне теперь не предлагают. И я этому очень рада.
А что ты делаешь в агентстве, детка? – спросите вы. И я отвечу вам: то же, что и всегда: работаю. Для чего? Для того, чтобы не просить денег на кофе, прокладки, бензин, лак для ногтей, парикмахера, подарки для НЕГО. А еще для того, чтобы не сидеть одной в огромной квартире, дожидаясь до поздней ночи, когда любимый человек вернется после всех своих дел, забот, игр, встреч. И еще для того, чтобы не БЫТЬ СОДЕРЖАНКОЙ. Или, по крайней мере, не считать себя таковой. Это кажется вам странным? Или необычным?
Вот я приезжаю в агентство на черном «мерседесе» и в белом кожаном плащикеRoberto Cavalli, застегнутом на все пуговицы в два ряда. С сумкой в одной руке (оставлять нельзя: начинающие граждане диснейленда имеют милое свойство воровать все, что плохо лежит) и композиткой в другой – на тот случай, если в агентстве затерялась моя карточка или если будет необходимость вручить ее клиенту, – я прохожу в зал, где собираются модели, вызванные на кастинг. Свой белый плащик я оставляю на одной из вешалок вместе с одеждой других моделей. Клиент, или представитель клиента, или фотограф, который будет заниматься съемкой проекта, или все они вместе заседают в комнате, куда модели заходят по одной. Иногда нас приглашает в комнату представитель агентства. Но чаще все идет само собой… Кто-то торопится и без особых возражений со стороны других участниц проходит на кастинг в числе первых. А кто-то сидит на диванах и беззаботно болтает еще с кем-то из пришедших, попутно выясняя у тех, кто уже вышел из кабинета, о чем спрашивают и что просят сделать клиенты… Это напоминает сказочный сад, в котором прекрасные цветы разговаривают друг с другом, или наслаждаются своей собственной красотой, или просто колышутся, волнуемые легким ветерком. Райская картина, в которой нет места ни уродству, ни чему-либо темному и злому.
– Привет, девчонки! – радостно говорю я. И, обращаясь к тем, кто находится ближе всех к двери, ведущей в кастинг-зал, спрашиваю: – Можно я сейчас зайду? Опаздываю на другой кастинг.
Я не вру. И никто, кроме меня, особенно не торопится, поэтому я без проблем захожу следующим номером.
Через час мой плащик по-прежнему висит на вешалке. Через спину сверху вниз тянутся три длинных рваных разреза, через которые видна разодранная подкладка. Несколько минут я остолбенело смотрю на свою изуродованную одежду. Стучит в висках. И хочется заплакать от обиды и беспомощности, как в детстве, когда ты не понимаешь, ЗА ЧТО тебе сделали больно. Но я вспоминаю шипение за спиной и вновь ощущаю, как хищная лапа с выпущенными когтями рассекает воздух. Плакать нельзя!
Просто из любопытства я делаю несколько шагов назад и незаметно заглядываю в холл, где собрались на кастинг модели. Пухленькие губки. Розовые щечки. Золотые глаза. Звенит колокольчиком чей-то смех. Длинные тонкие ножки милого зеленоглазого кузнечика закинуты на подлокотник кресла. И кузнечик по-детски болтает ими. Трогательные ямочки у ключиц. Ангельские ореолы над золотыми головками от проникающего через окно солнечного луча… Наблюдая все это со стороны, я улыбаюсь своей самой невинной и обаятельной улыбкой этому чудному месту и прекрасным его обитателям. Просто ангелы! Как можно подумать, что кто-то из них несколько минут назад располосовал мой плащ чем-то острым? Что это было? Нож с выкидным лезвием, купленный в подземном переходе? Или опасная бритва? Или заточенная металлическая железка, которую при необходимости можно воткнуть в ляжку какого-нибудь обдолбанного придурка, что нападет на тебя, когда ты будешь возвращаться одна домой? Такую штуку можно легко спрятать в любой сумочке.
Ангелы! Улыбаясь своим мыслям, я тихонечко возвращаюсь к своей вспоротой оболочке, жалко и безжизненно висящей на вешалке, и уезжаю, чтобы продолжить сегодняшний забег.
Глава пятнадцатая
– Покажи мне любовь! – кричит режиссер. – Дай мне ощущение переполняющего тебя счастья! Дай мне сияние в глазах!
На съемочной площадке установлена декорация из стоящей у стены широкой кровати с кованым черным изголовьем. Над кроватью висит голова оленя с блестящими черными глазами. Кажется, меня будут снимать для того, чтобы вмонтировать в клип какой-то модной группы. Впрочем, это неважно… Со временем к тому, что будет происходить с тобой на съемочной площадке или в фотостудии, начинаешь относиться с меньшим интересом, чем к походу в туалет. Просто приходишь и снимаешь штаны. И ждешь, что тебе скажут.
На этот раз на мне маленькие шелковые трусики в темную полоску, корсет и смешная шапочка с черной вуалеткой. Лежа на скользящем лиловом белье, я выгибаю спину в воображаемом акте любви, совершаемом с невидимым партнером. Мое тело извивается в лиловых волнах простыней и покрывал, как фантастический живой гидрант, прокачивающий сотни тысяч баррелей любви, которая стремится наружу и вот-вот разорвет меня изнутри.
Чтобы создать определенное настроение у меня и у всей съемочной группы, в павильоне включена музыка, и до меня доносятся слова, которые выплевывает невидимый исполнитель:
Люди – такими – чужими – сталииии… …налили – сердце – стальюююю…– Сядь на кровати! – орет режиссер. – Раздвинь ноги! Шире! Шире!
Движущаяся камера, как конечность огромного инопланетного монстра, приближается ко мне, чтобы взять крупный план. На площадке я становлюсь механизмом, который подчиняется чужим командам. Киборг с мягкой бархатистой кожей, предназначенный для того, чтобы создавать иллюзии любви, нежности, успеха, счастья, страха… Всего, что заставляет людей отдавать свои деньги за новый CD, красивое платье, плитку шоколада или бриллиантовое колье.
Голые ноги скользят на лиловом шелке в томительном напряженном танце. Перекатываясь на спину, я вижу застывшие над кроватью черные глаза мертвого оленя, который испуганно наблюдает за происходящим в этом причудливом мире, где по чьей-то прихоти оказалась его голова.
Моя голова тоже далеко отсюда…
Накануне я была на вечеринке по случаю чьего-то дня рождения или чьей-то смерти: в мире диснейленда они мало чем отличаются. Это просто способ борьбы со скукой и ожирением, наравне с фитнесом и шопингом. Одни и те же лица, всеми силами пытающиеся доказать себе и окружающим, что они свои на этом празднике жизни. Если бы моя мама была моложе, ей бы все это очень понравилось.
Обмен поцелуями. Обмен взглядами. Обмен дежурными фразами. Обмен шутками. Обмен завистью, ненавистью и лучезарными улыбками. Пользуясь сведениями, полученными от Виктории, и своим личным опытом, могу сказать, что по ширине и яркости улыбки здесь можно почти безошибочно определить, как у кого идут дела. Чем шире и статичней оскал, тем хуже дела у его обладателя… Самые развитые мышцы лица и самый громкий смех у брошенных содержанок, чей возраст подошел к критическому, и у средней руки государственных чиновников, находящихся под подпиской о невыезде.
Виктория сегодня просто ослепляет всех своей улыбкой, которая блестит, как решетка «мерседеса».
– Какие планы на выходные? – спрашивает Виктория, потягивая коктейль.
– Не знаю… Саша уезжает по делам… Наверно, буду просто спать и ходить по дому в одном носке, – улыбаюсь я. – Ужасно устала: пять съемок за две недели и еще больше кастингов…
– А полетели в Канны! – предлагает Виктория. – У меня друзья собираются. Да ты их знаешь, как-то раз с Сашей ужинали… Может быть, помнишь, толстый Миша, владелец казино, и Леня-киношник. Отдохнем, на солнце погреемся, – продолжает соблазнять Виктория.
– А что там будет? – вяло интересуюсь я.
– Ну вообще-то там фестиваль, – ослепляет улыбкой-вспышкой Виктория. – Все там будут. Так что присоединяйся…
Подогнув коленки на диване, я грустно улыбаюсь ей в ответ, выражая сожаление, что не смогу поехать.
– Нет, наверно, вряд ли получится. Ну правда, устала, совсем сил нет…
На этом разговор о поездке заканчивается. И наше общение переключается в обычный режим: мы хаотично перебрасываемся словами, сплетнями и шутками. Я называю это застольным бильярдом, когда каждый пытается попасть в лузу и не очень расстраивается, если его слово, отскочив от всех бортов, откатывается в дальний угол.
Через несколько часов я оказываюсь совершенно одна в огромной и пустой квартире. Телефон молчит весь вечер. Я сама набираю номер Саши, но он не берет трубку. В ожидании звонка я сижу, загипнотизированная телевизором. Пока наконец в ночи телефон не прерывает мой полусон. Голос Виктории в трубке нежно вползает в мое ухо:
– Детка, ты же все равно ничего не делаешь в выходные?
– По-прежнему ничего, – устало отвечаю я.
– Мне кажется, что для нас есть работа. Все там же, в Каннах. – Не услышав возражений с моей стороны, Виктория продолжает: – На русской вечеринке в рамках фестиваля нужно будет вручать разным выдающимся людям дипломы и цветы. Что скажешь? Платят неплохо. Всех моделей расселяют на отдельной вилле. – Виктория добавляет еще несколько украшений к своему предложению, как кондитер, венчающий торт обтекающей сиропом коктейльной вишенкой, будто сделанной из красного янтаря.
Я слушаю ее, не прекращая переключать телевизор с канала на канал. В конце концов я соглашаюсь и иду спать, чтобы утром успеть собрать вещи и не опоздать в аэропорт.
На набережной Круазетт в Каннах пахнет соленой влагой, разогретым асфальтом и терпкими ароматами, текущими с кухонь бесчисленных кафе и ресторанов. Оставив свой скромный багаж на вилле, где расквартированы приглашенные на вечеринку модели, я беру такси и в одиночку отправляюсь бродить по лабиринтам узеньких улочек, уходящих вверх, и переулков, пустеющих ближе к полудню и открывающих ставни и двери забегаловок и магазинов к вечеру. Я поднимаюсь по стертым ступеням каменных лестниц, выхожу к высоким бордюрам автомобильных дорог и снова спускаюсь по мощеным тротуарам к набережной, в сквер, где потрепанные жизнью мужчины играют в петанк и в перерывах угощаются выпивкой у пожилого хозяина уличного кафе. Мне нравятся такие молчаливые одинокие прогулки без цели и без опасения опоздать куда-то. Так, в тонких сандаликах на босу ногу и коротеньком летнем бежевом платьице отBurberry, я брожу до вечера, глядя на чужую жизнь сквозь темные стекла очков. Мои нервы щекочет мысль о том, что можно затеряться в этих улочках и кривых переулках, смешаться с людьми и, забыв обо всем, ПРОСТО ЖИТЬ. Ходить пешком за булками в кафе через дорогу, пить кофе, курить сигареты, работать продавцом в каком-нибудь магазине, торгующем готовой едой, и заниматься ни к чему не обязывающим сексом с каким-нибудь немолодым жизнелюбивым рантье. Греться на солнце. Жить в квартире с запахом пыли и старого дерева. Трепать волнистые локоны цвета золотистого французского багета на голове у маленького озорного мальчишки, кричать ему вслед: «Жан, не задерживайся после школы!» и, улыбаясь, мурлыкать его отцу: «…C’est vraiment ton portrait…»[1]
Из мира фантазий меня выдергивает звонок мобильного телефона. Это, конечно, Виктория.
– Детка, мы тебя потеряли… – Ее голос напоминает мне сейчас фразу из какой-то дешевой театральной постановки, где молодые актеры все время переигрывают. Да здравствует диснейленд! Узнав, где я, она сообщает мне программу сегодняшнего вечера. – Подходи к дворцу фестивалей. Мы заберем тебя оттуда и поедем кататься на яхте.
Когда я забираюсь в «мерседес»-кабриолет, за рулем которого сидит Лёня – человек с лицом сытого кота, сделавший деньги на кино и казино, – я задаю удивленный вопрос: а где Виктория?
Рядом с Лёней на переднем сиденье сидит узкобедрая и плоская девочка-блондинка не старше двадцати лет с длинными распущенными волосами. Еще один пассажир, бритый почти под ноль, с лицом острым и опасным, как финский нож, и колючими глазами, развалился на заднем сиденье. Присутствия Виктории не наблюдается.
– По дороге она решила переодеться, – жмурится Лёня. – Сказала, что позже подъедет с кем-то из девочек.
Дверца машины захлопывается за мной. И на секунду у меня появляется ощущение, что все это со мной когда-то уже было. Но я гоню его прочь. Второй раз оно настигает меня уже на яхте, отплывающей от причала, так и не дождавшись Викторию, которая говорит мне по телефону, что у нее появились срочные дела, и что ей дико жаль, и что она желает нам хорошо провести время… Пока Виктория говорит мне все это, а я боковым зрением наблюдаю жилистую фигуру коротко стриженного приятеля Лёни, дежавю возникает снова. Но тут я слышу где-то за спиной смех и, обернувшись, вижу, что мне навстречу идет молодая обнимающаяся пара, которая так и просится на глянцевые страницы какого-нибудь модного издания о прекрасной жизни диснейленда. Она – изящная маленькая пантера с пепельными прямыми волосами и глазами-изумрудами. Он – молодой баловень судьбы с проработанным прессом и наверняка с золотой кредитной карточкой в кармашке маечкиLacosteили в кармане белых брюк отLouis Vuitton. Несмотря на все это, они так естественны и искренни, что мои тревоги улетают и я делаю несколько шагов навстречу, чтобы познакомиться с ними.
Даша и Рома, влюбленная пара, тоже приехали на русскую вечеринку в Канны и напросились на морскую прогулку, которую устраивал Лёня. Кроме них и нашей компании на яхте еще пять гостей: самодовольный мужик средних лет, какой-то длинный плотный жеребец с сальной гривой и три модели, приехавшие с ними. Мы мило общаемся втроем с Дашей и Ромой, пока наверху не начинается суета с разливанием напитков, приготовлением коктейлей, раскладыванием закусок и Лёня, на правах хозяина, не созывает всех наверх…
Наливая водки «Absolut» в широкий стакан, бритый Лёнин друг осклабляется узкой тонкой улыбкой:
– А вот и мой кузнечик прискакал!
Острые темные глаза нацелены на меня. От неожиданности у меня начинается приступ нервного смеха.
– Может, и кузнечик, но не твой, – стараюсь я попасть в тон его шутки. Но, по всей видимости, мне это плохо удается… Два темных, как отверстия пистолетного дула, глаза, пошарив по мне, обращаются в сторону Лёни:
– А она еще и говорить умеет! Не обломанная еще малышка.
Лёня, обучающий блондинку готовить «Кровавую Мэри», улыбается щелочками глаз и тонкой полоской губ, сквозь которую видны редкие зубы.
– Прекрати смущать девушку, грубиян!
Отправившись за бокалом вина, я оставляю влюбленную парочку – Дашу и Рому – наедине с Лёниным приятелем-шутником. Проходя мимо, я замечаю, как Рома, стоящий позади Даши, крепче прижимает ее к себе и нежно целует в затылок, стараясь не смотреть в глаза-стволы, принадлежащие коротко стриженному.
Но вскоре «веселье» приобретает более организованный характер. И морская прогулка быстро набирает обороты, превращаясь в морскую пьянку. Кошачье лицо Лёни становится красным и воспаленным, кинжальное лицо его приятеля, наоборот, – все более бледным и холодным, а глаза остекленевшими. Очень скоро я начинаю понимать, что эти двое уходили вместе с палубы не для того, чтобы вдвоем пописать или отсосать друг у друга. Но моих догадок и не требуется. Лёня предлагает всем собравшимся «попробовать первого». И, склоняя на разные лады слова «снежок», «кокс», «белый», боґльшая часть компании перемещается за барную стойку, где Лёня, изгибаясь и пританцовывая, формирует белые дорожки.
Я стараюсь выглядеть как можно более пьяной и под предлогом того, что меня тошнит, вежливо отказываюсь от угощения.
Спасибо, ребята. Мне хватает того набора таблеток, которые я поглощаю каждый день вместо еды.
Я была бы рада пойти в каюту и уснуть. Но вряд ли это удачная мысль. Когда рядом с тобой находятся пять человек, испытывающих на себе весь спектр ощущений от всасывающегося в кровь кокаина, разумней не закрывать глаза и не поворачиваться к ним спиной.
Два черных дула-глаза внимательно исследуют меня, словно живую мишень.
– Кузнеееечииик, – осклабляется коротко стриженный. – А поскакали в постельку?
Самое умное, что я могу сделать, – это «включить дурочку».
– Да я пока спать не хочу…
– А кто предлагает спать? – игриво переспрашивает коротко стриженный. Глаза его при этом остаются такими же черными и стеклянными, как глаза оленя, висящего на стене. – Отсосешь у меня. А после я покажу тебе капитанский мостик.
Есть ситуации, в которых «дурочка» не работает.
– А не пойти ли тебе подрочить прямо на палубе?
Синеватая кожа на лице стриженого мгновенно натягивается. Двумя пальцами он хватает меня за шею и пригибает голову к столу.
– Ах ты сучка кусючая! – Его голос похож на звук ножа, который затачивают об камень. – Совсем нюх потеряла? Слушай сюда. Ты тут передо мной целку из себя не строй. Если я предлагаю – мне не отказывают. Так что давай: встала и пошла в каюту мыть рот!
Скажи ему еще что-нибудь, говорю я сама себе, понимая, что определение «кузнечик» сейчас подходит ко мне как нельзя лучше… Глупый маленький кузнечик попался…
Мои мысли прерывает голос Лёни, который раздается откуда-то сверху:
– Ты чего, Семен! Ты зачем девушку обижаешь? Ну-ка убери свои лапищи…
Пальцы на моей шее расслабляются. И стриженый резко встает и уходит, оставив меня вдвоем с Лёней.
– Не расстраивайся. – Лёня садится рядом, держа в одной руке бокал виски, а в другой вонючую сигару. – Мы немножечко перебрали. У Семы иногда сносит крышу.
– Да, я уже поняла. – На меня вдруг наваливается невероятная усталость, накопившаяся за весь день. Внутри меня все еще продолжает трясти от ярости и унижения. Но голова и ноги уже становятся тяжелыми и болезненными, как при высокой температуре. Леня протягивает мне свой бокал, и я делаю несколько глотков холодной, пахнущей землей жидкости.
– Вообще Сема хороший парень, но ему не хватает воспитания, – произносит Лёня, выпуская изо рта облако влажного, пахнущего прелым подгузником дыма. – Знаешь что? Пошли в мою каюту, там тебя никто не тронет. – Лёня встает и протягивает мне свободную руку. – Пойдем. Там все есть – и еда, и выпивка. Можно просто посмотреть фильм вдвоем.
В каюте, больше похожей на двухкомнатный номер люкс дорогого отеля, Лёня наливает мне бокал виски и усаживает на белый кожаный диван. Оставив меня одну, он включает спокойную музыку, льющуюся из невидимых динамиков, наливает себе очередную порцию виски, бросив в стакан звонкие кубики льда, и включает воду в душе. Монотонный шум воды и спокойные волны джаза усыпляют меня на какое-то время. Я просто теряю ощущение времени и пространства. И прихожу в себя только тогда, когда вижу над собой расплывшуюся от удовольствия кошачью морду Лёни, который шарит у меня под платьем.
Секунду или две я просто неподвижно лежу с широко открытыми глазами, пытаясь понять, сплю я или нет.
– Раздевайся и пойдем спать, – мурлычет Лёня.
Моего вялого соображения и медленно возвращающихся сил хватает на то, чтобы сесть на диване и залепить ладонью в жмурящееся рыло.
Животная реакция Лёни срабатывает мгновенно: с размаху он бьет меня по лицу, попадая по уху и щеке. Моя голова тонет в звенящей глухоте. Но я все-таки вскакиваю на ноги и бешено ору ему в лицо, так чтобы перекричать звон в ушах и собственный страх:
– Ты – покойник. Или я тебя сама ночью прикончу, или это сделает Саша, когда узнает!
Я разворачиваюсь, чтобы выбежать из каюты, но он догоняет меня и хватает за предплечье, до боли впиваясь пальцами в тело.
Он уже не жмурится. Его лицо превращается в морду взбешенного кота, с вздыбленной шерстью, сверкающими глазами и оскаленной пастью.
Он шипит мне в ухо:
– Ну что ты дергаешься! Как девочка. Сама согласилась ехать развлекаться, так не выпендривайся. Ты меня возбуждаешь! Ты понимаешь это? То, что ты брыкаешься, меня еще больше заводит! – Внезапно злое шипение прекращается. И Лёня снова начинает мурлыкать: – Ну пошли. Что тебе стоит… Просто дружеский перепихончик.
Невидимый фотограф в моей голове ослепляет меня вспышками: «Дай мне отвращение! Дай мне ярость! Дай мне невозмутимость!»
– Ты знаешь, что с тобой будет, если Саша узнает, что ты пытался сделать? – Я держу в руке мобильный телефон, как распятие, которым отгоняют вампира.
С намерением провести остаток ночи без сна и с мобильным телефоном в руке я поднимаюсь наверх, где гости продолжают убивать время, накачиваясь спиртным и подергиваясь в такт музыке. Жеребец с квадратной челюстью и сальной гривой, по всей видимости, уже успел слить накопившийся запас спермы и теперь вместе с одной из трех моделей, которые приехали вместе с ним и его приятелем, танцует какой-то разухабистый танец. От производимых ими движений их самих так прет, что они прямо корчатся от смеха.
Завалившись на один из стоящих поодаль диванов с каким-то подвернувшимся под руку журналом, я стараюсь оставаться незаметной и держать в поле зрения все происходящее вокруг. Внутри меня колотятся страх и ненависть.
У барной стойки коротко стриженный курит сигарету, тщательно обтирая пепел с ее кончика о край пепельницы. Черные колючие глаза неспешно шарят в поисках мишени.
В журнале мне попадается интервью с Микки Рурком, и, чтобы успокоиться, я начинаю читать его, время от времени посматривая в сторону барной стойки, лестницы, выхода на палубу.
«…Я изменился, но внутри меня есть что-то, что не изменится никогда. Если я на секунду ослаблю хоть одну пуговицу, ад вырвется из меня наружу…»
Еще одна модель присоединяется к танцевальным конвульсиям жеребца и его подруги. Вслед за ней появляется третья девушка вместе со своим спутником – плотным обладателем бровей-домиков и волчьих ушей без мочек. Мужик облизывает свои какие-то очень аккуратные, как будто нарисованные, губы. И приветливо улыбается всей компании.
«…потому что здесь все зависит от тебя. Это не бизнес и не политика. Либо ты хороший актер, либо ты сосешь…»
Стриженый протягивает руку Даше и выходит с ней на палубу. Рома остается сидеть за стойкой, потягивая текилу с мартини и делая вид, что с интересом наблюдает за танцами моделей, изображающими групповой секс с жеребцом.
«…Когда отец Локки (чихуахуа Рурка. –Ред.) умер, я был вне себя, я был в отчаянии. Я позвонил отцу Питеру в Нью-Йорк, и он сказал: „Всех, кого ты любишь с такой силой, ты обязательно увидишь снова“. И это было как раз то…»
Я не успеваю дочитать фразу до конца, потому что какое-то движение и звук отвлекают меня. Я вижу, как с палубы вбегает Даша, улыбаясь и хлопая глазами, как кукла. Следом за ней быстро входит Сема. Когда он хватает ее за талию и тащит обратно на палубу, Даша все еще продолжает старательно улыбаться, но все происходящее уже не выглядит забавным. Поэтому я почти не удивляюсь тому, что еще через несколько минут стриженый пинками и тычками, как овцу, прогоняет Дашу со следами потекшей туши через весь салон, сопровождая свои действия громким матом.
Сидящий за барной стойкой Рома только втягивает голову в плечи, когда стриженый проходит мимо него, ногой подгоняя его дергающуюся от ударов девушку. Три модели посреди салона застывают в тупом оцепенении. Танцующий жеребец выходит из их круга и делает несколько широких шагов в сторону стриженого, пытаясь схватить его за плечо или за руку. Но стриженый уже толкает девушку на ступеньки лестницы, ведущей вниз…
Звук падающего вниз по лестнице человеческого тела в реальности мало чем отличается от звука рассыпавшейся из порвавшегося пакета картошки. Как раз в этом и есть весь ужас. Просто предмет, катящийся по ступенькам… На несколько мгновений этот звук как будто заглушает собой все остальные. И все застывают в немых позах, как будто считая в уме, за сколько секунд двадцатитрехлетняя фотомодель докатится до самого низа. Затем все мы слышим, как спустившийся по лестнице Сема молча сгребает скулящую фотомодель и тащит куда-то… После этого в салон снова вваливаются звуки лаунжа, приглушенный плеск волн и мерный гул работающей электроники.
С телефоном в трясущейся руке я сижу на диване. Журнал с интервью Микки Рурка валяется у моих ног. Я пытаюсь набрать номер, но мои пальцы нажимают совсем не те цифры, которые мне нужны… Внезапно телефон звонит.
Глава шестнадцатая
Когда телефон в моей дрожащей руке начинает напевать одну из своих идиотских мелодий, я подношу трубку к уху и слышу обеспокоенный голос Саши. Короткий вопрос:
– Ты где?
У меня нет ни сил, ни желания врать и придумывать истории о заболевших бабушках и дачах друзей. Я еще слышу жалобное поскуливание модели, лежащей внизу у ног обнюхавшегося кокаина уголовника, и звук рассыпанной картошки, катящейся по ступеням лестницы. Поэтому я просто говорю сквозь внезапно хлынувшие слезы о том, где я, с кем я и что здесь происходит.
Я слышу далекий щелчок зажигалки и звук выдыхаемой струи дыма. Глухой и твердый голос произносит вторую фразу:
– Не реви. И иди спать. Тебе никто ничего не сделает: я уже позвонил Лёне. Я закажу тебе обратный билет на завтра.
Это значит, что кто-то позвонил Саше и рассказал о том, куда и с кем я уехала. А возможно, прибавил и еще что-то, о чем я пока не знаю. И я почти не сомневаюсь, что это сделала Виктория. Я бы не сказала, что такой поступок меня удивляет. Живя в диснейленде, перестаешь удивляться очень многим вещам. Меня скорее волнует отсутствие какого-то разумного объяснения поведению Виктории. Во всяком случае, желание убить Викторию появляется у меня не на яхте. Желание убить Викторию появляется позже.
Своим ключом, который остался у меня с того времени, когда я жила здесь, я открываю дверь в квартиру Виктории. Откровенно говоря, я не знаю, зачем пришла сюда. Увидеть здесь Викторию я не ожидала: вряд ли она полетит из Канн вслед за мной, узнав о моем внезапном возвращении домой… Да, здесь еще остались мои вещи: несколько платьев, юбок и пара туфель, розданных моделям после показов, какие-то безделушки и старинное зеркало в затейливой серебряной оправе с ручкой, подаренное Марком в самом начале нашего знакомства, – со всеми этими вещами, за исключением, пожалуй, зеркала, я рассталась бы без особого сожаления. Но какая-то необъяснимая сила сегодня затащила меня сюда. И вот я одна созерцаю пустой дворец, на время оставленный Королевой-Поцелуй-Меня-в-Зад-Викторией… После убогой конуры Марка с облезлым темным паркетом, старыми бумажными обоями и тошнотворного цвета синей плиткой в туалете обиталище Виктории действительно казалось мне настоящим дворцом. Стоя теперь посреди зеркального холла с дверями в гардеробную, спальню и столовую, я понимаю, что блеск и очарование этих покоев несколько померкли на фоне других гостиных, столовых, кабинетов, в которых я побывала… Но в большей степени даже не поэтому.
Я смотрю на предметы, которыми наполнена эта квартира, и понимаю, что все они не имеют никакого отношения ни к Виктории, ни к кому-либо еще. Они живут сами по себе. Ради себя. Их взяли, как реквизит на театральном складе, и поставили здесь как декорацию к какой-то неизвестно кем придуманной пьесе. Прозрачные стулья от Филиппа Старка. Круглая люстра, состоящая из одних стразов. Какие-то нелепые серебряные канделябры со свечами. Гравюры в золоченых рамах. Чья-то белая шкура на полу. И обязательный для всех диснейлендовских интерьеров белый кожаный диван. Сколько раз, разглядывая чужие, в том числе Сашины, апартаменты, я ловила себя на мысли, что все это создано НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ, а для чего-то другого… Вот только для чего? Публиковать фотографии своих квартир и домов в глянцевых журналах? Удивлять гостей? Эти мысли всегда занимали мое воображение. Но только сейчас, при взгляде на обстановку пустого дворца Виктории, мне становится почему-то по-настоящему грустно. Как только может быть грустно посреди пустой декорации, оставшейся после спектакля.
«А ведь это и мой мир. Наш общий картонный диснейленд», – грустно улыбаюсь я своим мыслям.
Но я расслабилась, а мне еще многое нужно успеть. Чтобы мой визит не был напрасным, я складываю в мешок для мусора свои платья, туфли, коробочки со всякой мелочью… Я собираю все это так, как собирала бы разбросанные листы бумаги или хлам – просто потому, что, как мне представляется, это нужно сделать. Единственная вещь, которую я не могу найти, это подаренное Марком зеркало. Оно почему-то кажется мне талисманом, который приносит удачу. Мне не хочется думать, что Виктория что-то сделала с ним или увезла с собой. Поэтому я открываю один за другим зеркальные дверцы шкафов в холле, потом перехожу в спальню и проверяю тумбочки в изголовье кровати и ящики какого-то невероятного комода, привезенного из Китая. Этот процесс даже доставляет мне удовольствие, как игра в детектива, который ищет важную улику на месте преступления. По мнению Виктории, настоящим преступлением являются семейные альбомы, непрокрашенные корни волос и джинсы из прошлогодней коллекции… Но я ищу не это.
Открыв ящик антикварного бюро, я наконец нахожу то, что ищу. Серебряная ручка торчит из-под сваленных в кучу бумаг, которые высыпаются на пол, когда я достаю зеркало. Это квитанции, ежемесячные выписки по кредитным карточкам, присылаемые из банка, оплаченные счета за коммунальные услуги, распечатанные конверты и просто листки с чьими-то телефонными номерами и именами… Можно было бы оставить все как есть. Но мне кажется некрасивым и невежливым оставлять после себя беспорядок. Поэтому я встаю на колени и начинаю собирать разлетевшиеся бумаги. Я не сразу замечаю на некоторых из них свою фамилию. Словно я собирала большой пазл с изображением живописного замка или красивого парусника и вдруг нашла фрагмент, который напомнил мне часть какой-то детали на картинке… Я подбираю очередную квитанцию, и у меня вдруг возникает ощущение, что я вижу перед собой что-то знакомое. Я даже не сразу понимаю что. И только внимательно приглядевшись, начинаю осознавать, что вижу свою фамилию, напечатанную на квитанции об оплате коммунальных услуг. Мой мозг еще некоторое время отказывается воспринимать информацию, которую сообщают ему глаза. Я, наверно, очень глупо выгляжу, сидя на полу и непонимающе уставившись на чужую квартирную квитанцию, в которой по какой-то причине оказалась моя фамилия. Но постепено ко мне возвращается способность соображать. И рядом с отпечатанной на бланке своей фамилией я вижу имя. Это имя моего отца.
Я снова превращаюсь в детектива, который сопоставляет события и факты. Виктория говорила, что живет в квартире, которая принадлежит ее любовнику. В квитанции, которую я держу в руках, написан адрес этой квартиры и имя моего отца… Это же элементарно!.. Задыхаясь от переполняющих меня чувств, я лихорадочно роюсь в уже собранных и еще разбросанных по полу бумагах в поисках других квитанций. Вот еще одна… Еще… И еще… Я подношу их к самым глазам, чтобы удостовериться, что это не галлюцинация, вызванная употреблением гиперицина. Но имя моего отца не исчезает, не рассеивается, как это бывает с галлюцинациями. Оно напечатано на всех оплаченных бланках скучными казенными буквами.
И вот когда это становится для меня очевидным и все детали пазла вдруг складываются в одну картинку, именно в этот момент у меня возникает желание убить Викторию.
Однако для начала я хочу отметить свое неожиданное открытие. Поднявшись на ноги, я начинаю быстро и беспорядочно ходить по квартире, как лунатик или человек, перебравший с экстази. Я пытаюсь понять, как мне устроить свой маленький праздник и с чего начать… Но на глаза мне не попадается ни одного подходящего предмета: в картонных диснейлендовских замках сложно найти что-то более тяжелое, чем фен, и более острое, чем щипчики для ногтей. Ни молотка, ни топора в пространстве, занимаемом Викторией, конечно, нет…
Что ж, зато здесь есть масса посуды, которой никто не пользуется, потому что жрать дома считается дурным тоном. Я останавливаюсь в столовой и, оглядевшись, решаю, что это подходящее место для начала торжественной части. Открыв шкаф, в котором хранятся большие плоские тарелки, я достаю одну из них и с наслаждением запускаю ее в покрашенную в нежный бежевый цвет стену столовой. Ударившись, она взрывается, как граната, разбрасывая в стороны брызги острых осколков и облако пыли от разбитой штукатурки. На несколько секунд я глохну и в воздухе повисает сплошной звон. Вторая тарелка отправляется вслед за первой. Пыль, осколки и звон оседают в плотном от моей ярости воздухе. С остервенением и наслаждением я вдребезги разбиваю предметы из мира Виктории Дольче, вымещая на них всю свою обиду и злобу. Впервые в жизни я начинаю понимать маму. Если не можешь уничтожить того, кто сломал твою жизнь, разбей, взорви, растопчи его мир! Только это приносит облегчение.
Каждая втыкающаяся в стену тарелка – это мой удар, который я посылаю отцу и Виктории, разрушившей мою семью.
Я вспоминаю дни, когда дома было нечего есть…
Я вспоминаю чувство унижения, когда мама была вынуждена умасливать церковных матушек и приходских старост, улыбаться, упрашивать, умолять, чтобы добыть нам еду и одежду…
Я вспоминаю безжизненное тело мамы, валяющееся на диване, как сломанная кукла, потому что она снова наелась снотворного и непонятно – умерла она или просто спит, закатив глаза…
Я вспоминаю, как после пожара отец, к которому мать пришла за помощью, уходит в дом, закрыв за собой дверь и оставив ее на улице…
Я вспоминаю косые взгляды одноклассников на мои заштопанные блузки и кофты…
Я вспоминаю…
Всей посуды вашего сраного диснейленда не хватит, чтобы выместить все то, что причиняет мне боль!
Когда плоские тарелки заканчиваются, бежевая стена представляет собой жалкое зрелище, а пол столовой покрывают отлетевшие куски штукатурки и авангардная мозаика из посудных осколков.
Покончив с тарелками, я возвращаюсь в спальню. Теперь я смотрю на эту комнату новым взглядом! Взглядом ребенка, чей отец платил «щедрые» алименты в размере трехсот рублей на трех своих детей! Вот, значит, на что нужны были папочке деньги! На широкую кровать с позолоченными ампирными завитками, которая отлично смотрелась бы в будуаре какой-нибудь аристократки-нимфоманки позапрошлого века, а теперь выглядит просто смешной и безвкусной подделкой. На шелковые покрывала с черно-золотыми узорами в стилеVersace! На шик леопардовых кресельных драпировок!
Интересно, занимался ли отец с ней сексом в этой постели? Или просто купил квартиру и поселил в ней содержанку, которая ходила с ним по ресторанам, летала вместе с ним в отпуск, приезжала к нему домой? Интересно, кто все-таки обустраивал это гнездышко? Гравюры в золотых рамах – это, конечно, похоже на отца. А вот леопардовые драпировки – это явно уже Виктория…
Просто поджечь эту квартиру было бы для меня недостаточной компенсацией за унижения детства. В моей голове вспыхивают картины прошлого, как кадры какой-то адской фотосессии.
Я вспоминаю пепелище нашей квартиры и плесень на одежде…
Я вспоминаю отслаивающиеся сальные обои расселенных старых квартир, в которых мы ютились…
Я вспоминаю цвет и запах чужих матрасов…
Я вспоминаю, как по ночам мое сердце сжималось от маминого плача за стеной…
Я вспоминаю тяжелую тишину нашей еще не сгоревшей квартиры…
Я вспоминаю все те мерзкие и страшные картины, которые мерещились мне, когда сестра не приходила ночевать…
Я вспоминаю, как сквозь слезы и текущую из носа и разбитых губ кровь я, как умалишенная, звала на помощь отца, понимая, что он не придет, и человек, придавивший меня кулаком к постели, будет рвать мою плоть до тех пор, пока не устанет и не насытит свою звериную жажду…
Вернувшись в столовую, соединенную с кухней, я беру самый большой нож, который только сумела найти. С этим ножом я снова иду в спальню и несколько минут молча стою у широкой кровати, обдумывая, с чего начать.
Наконец, забравшись с ногами на покрывало, я начинаю потрошить постель. Взяв нож двумя руками, я с размаху вонзаю его в кровать и тяну по направлению к себе. Шелковое покрывало при каждом ударе разлезается, как открытая рана. Из образовавшихся дырок лезут синтетические волокна, вата и что-то вроде соломы…
От каждого удара кровать вздрагивает и стонет. Я слышу, как нож, проткнув нежную кожу шелка, раздирает простыни, вспарывает тугие мышцы матраса, задевает кости пружин и каких-то хрящей-перегородок. Эти звуки доставляют мне истинное наслаждение. Для полного экстаза мне не хватает только крови. Но я знаю, что нужно делать. Еще раз сходив на кухню, я возвращаюсь с бутылкой вина. Я пью вино прямо из горлышка и, пьянея от алкоголя и злости, продолжаю вспарывать брюхо кровати. Когда моя рука устает наносить удары, я сбрасываю истерзанное покрывало и выливаю остатки вина на кремовые простыни. Растянутые рваные отверстия и резаные раны, приправленные красным вином, выглядят очень эффектно.
Когда я заканчиваю с кроватью, мне в голову приходит новая мысль. И вот я уже в святая святых – в гардеробной Виктория Дольче. Я не могу покинуть эту квартиру, не заглянув в этот алтарь. На одну руку я вешаю наиболее дорогие и наиболее приглянувшиеся мне сумочки. Иссиня-черная из кожи питона отJil Sander. Красная атласная сумкаGianfranco Ferreґ, расшитая кристалламиSwarowski. Белая шелковая сумкаEtro, расшитая бисером. Сумка отDolce & Gabbanaиз пятнистой кожи какого-то хищного зверя. Сплетенная из широких полосок тонкой кожи коричневая сумкаPolliniс крупными металлическими цепями вместо ручек. СумкаSalvatore Ferragamoиз кожи крокодила. Когда на моей левой руке нанизано уже достаточное для создания хорошего настроения количество сумок, я начинаю отбирать соответствующие случаю платья. Моя правая рука стаскивает с вешалок настоящие шедевры последних коллекций. Красное платье из кашемира и шелкового джерси отTuleh. Шелковое платьеJeremy Laingлимонного цвета. Коралловое платье из шелкового атласа отValentino. Шерстяное платье отLouis Vuitton. Шифоновое платьеLa Perla. Синее платье из крепа отMarni, похожее на вывернутую наизнанку хозяйственную сумку… Когда я уже не могу навешивать на себя новые платья, я выхожу из гардеробной и через холл и столовую направляюсь прямиком в кухню. Здесь я сваливаю на пол все висящие на мне предметы в роскошную кучу. И, не тратя времени на пустяки, отыскав вытянутую, как гигантское жало, зажигалку, развожу огонь в газовой духовке. Пока духовка разогревается, я снова возвращаюсь в гардеробную и, уже не выбирая, вытаскиваю оттуда кружевные, ажурные и шелковые трусики Виктории Дольче, шелковые пеньюары, топы, корсеты, лифчики, бюстье – и все прочее нежное великолепие, которое попадается мне под руку. Все эти вещи тоже отправляются в кучу, лежащую в кухне. Свой последний поход в гардеробную я совершаю, чтобы прихватить оттуда какое-то количество туфель, которые я забираю, не очень-то обращая внимание на такие пустяки, как наличие пар. В данный момент меня интересует сама по себе необходимость присутствия туфель в моем плане… Когда все ингредиенты для создания прекрасного настроения собраны в кухне в две кучи, я приступаю к самому главному. Приглушив огонь в духовке и вооружившись для удобства трубой от моющего пылесоса, я принимаюсь трамбовать в духовку предметы религиозного культа Виктории Дольче. В горячее нутро духовки я пихаю их слоями: сумки, потом платья, потом снова сумки… Когда первые два слоя начинают пропекаться, из самой духовки и почему-то из задней части плиты выделяется удушливый грязновато-серый дым. Но я не останавливаюсь и впихиваю в топку новую партию дорогих шмоток. Плотно забив духовку, я закрываю дверцу. У меня еще осталась куча прекрасных туфель, которые туда не поместились. Но я быстро нахожу им применение, забросив их в пустующее чрево посудомоечной машины и включив программу для мытья сильнозагрязненной посуды. Я где-то слышала, что обильное полоскание в горячей воде с добавлением чистящих средств очень благоприятно сказывается на состоянии дорогой кожаной обуви, особенно женских туфель. К сожалению, у меня нет возможности посмотреть на результат, потому что кухня и столовая постепенно наполняются тошнотворным запахом тлеющей кожи и тряпья. Поэтому, чтобы не угореть, мне нужно торопиться.
Я вспоминаю адские звуки, которые доносились из кухни, где мама выясняла отношения с Богом, миром и прочими «виновниками» того, что муж бросил ее одну с тремя детьми без средств к существованию…
Теперь я могу попробовать, как это делается. Взяв в гостиной изящный торшер с конусообразным колпачком, соединенным с блестящей металлической стойкой подвижным кронштейном, я начинаю действовать. Колпачок мне приходится просто оторвать, отбив его ногой, потому что самой необходимой мне частью торшера является тяжелая металлическая подставка, которой заканчивается блестящая стойка. Взявшись за стойку, как за рукоятку какого-то фантастического молота, я опускаю круглую тяжелую подставку на поверхность большого стеклянного стола. Он раскалывается, как льдина, на несколько больших частей и сотни мельчайших острых брызг. Затем наступает очередь темного приземистого буфета с золочеными ручками. На нем стоит ваза в виде огромного коньячного бокала, в котором находится букет пошлейших красных роз, запакованных в целлофан и перетянутых кудрявой серебристой лентой. Мой молот опускается на эту вазу и вмиг превращает ее в мешанину воды, стекла и искалеченных растений. Разлетевшиеся по деревянной поверхности осколки я начинаю методично вколачивать в нутро комода до тех пор, пока верхние доски не проламываются, обнажая внутренности в виде лежащих в ящиках столовых приборов, салфеток, пепельниц и еще какой-то жалобно звенящей дребедени. Поднимая и опуская молот, я крушу все подряд, включая шкафы, стулья, похожую на черную надгробную плиту панель телевизора, вазы, канделябры, висящие на стенах золоченые светильники и гравюры в золотых рамах.
Ядовитый дым продолжает наполнять то, что осталось от разгромленной резиденции королевы Виктории Дольче. Интересно, можно ли отравиться продуктами горения люкс-брендов? – думаю я. Это, пожалуй, могло бы стать одной из самых нелепых смертей, за которые присуждают Дарвиновскую премию… В моей голове выстраивается полный рейтинг самых нелепых смертей за последние три года… Но сейчас мне не до этого. Мне нужно торопиться.
Зеркальное великолепие холла требует от меня особой сноровки и осторожности. Любое из огромных зеркал, достающих до подсвеченного скрытыми светильниками потолка, может легко отрубить мне руку, ногу или даже голову, как невероятная сюрреалистическая гильотина. Но умирать не входит в мои планы. Как укротитель, работающий с крупными хищниками, выставив вперед свою сияющую металлическую пику, я делаю стремительные выпады и отбегаю, уворачиваясь от сотен острых осколков, выстреливающих после того, как очередной зеркальный айсберг низвергается на каменный пол. Зеркальные иглы впиваются мне в ноги, из них течет кровь, и я оставляю неровные широкие следы. Когда-то я видела репродукцию старинной картины, на которой полуголый молодой и очень эротичный святой был прикован к столбу. Его тело было пронзено множеством торчащих стрел, и из ран аппетитными сиропными подтеками стекала рубиновая кровь. Сейчас я напоминаю себе этого святого, имени которого не запомнила.
Покончив с зеркалами, я стою посреди квартиры, задыхаясь от усталости, напряжения и ядовитого дыма. Я не сразу понимаю, что за посторонний звук пробивается сквозь мое шумное дыхание, дым и тишину. Но тут до меня доходит, что это телефон. Не выпуская из рук свой молот-пику, я возвращаюсь в гостиную, где на чудом уцелевшем консольном (естественно, стеклянном) столике надрывается аппарат.
Сняв радиотрубку, я молча подношу ее к уху.
– Алло, Виктория? – слышу я знакомый голос и пытаюсь не верить самой себе.
– Нет, это не Виктория. – Я превращаюсь в слух. И понимаю, что я все-таки не напрасно проделала всю сегодняшнюю сложную работу: это голос моего отца.
– А кто это? – Легкое непонимание пополам с недовольством. О, какое знакомое настроение! Именно с таким настроением, папочка, ты шпынял меня и отвешивал подзатыльники, когда я прибегала к тебе вечером в кабинет, чтобы ты почитал мне.
Я начинаю хохотать, как буйнопомешанная.
– Это твой самый страшный кошмар, папочка! Твоя потерянная совесть, нашедшая тебя! Твой судный день!
Я чувствую, что настал его черед не верить собственным ушам.
– Карина?! – Остается только легкое непонимание. – А где Виктория?
– Она умерла, папочка! – Весело и дико кричу я в трубку, отвечая только на второй его вопрос. – Она лежит в постели с проломленной башкой и ждет, когда ты приедешь и привезешь ей немножечко денег, чтобы купить новую голову.
Мне совершенно неинтересно услышать, что он на это ответит. Поэтому я просто кладу трубку рядом с аппаратом, отхожу на некоторое расстояние, необходимое для удара, и, размахнувшись своим волшебным молотом, опускаю его на телефон. Удар получается более чем удачный и эффектный, потому что под тяжестью моей железной дубины разлетается не только телефон вместе с трубкой, но и стеклянная поверхность столика, установленная на кованом основании.
Ощущая, как легкие жжет от ядовитого дыма, я спешу покинуть место расправы. Но напоследок с наслаждением еще раз размахиваюсь своим орудием и обрушиваю его на переливающуюся круглую люстру. Тяжелый град из кристалловSwarovskiи того, что от них осталось, обрушивается на меня сверху, смывая боль, ярость и злобу.
Вечером я прихожу в дом Саши. Он встречает меня, сидя с книгой в кресле. Изредка он поднимает глаза от страниц и задает дежурные вопросы. Односложно и как будто нехотя отвечает на мои. Напряженно молчит.
Когда мы ложимся спать, он отодвигается на свою половину кровати и поворачивается ко мне спиной. Я долго лежу в темноте с открытыми глазами, чувствуя, как медленные горячие капли стекают по щекам на подушку, оставляя за собой жгучий след.
Наконец я не выдерживаю.
– Почему ты так поступаешь? – Мой голос в темноте звучит глухо и призрачно.
– Как? – отзывается он эхом.
– Так! Так, как ты сейчас ведешь себя со мной. Может быть, мне лучше вообще встать и уйти?
Вместо ответа он садится на кровати, опустив ноги на пол, и, нашарив где-то в темноте пачку с сигаретами, закуривает. Сделав несколько затяжек, не поворачиваясь ко мне, Саша выдыхает вместе с дымом:
– Скажи мне честно, ты отдалась ему? Там, на яхте, – добавляет он, уставившись в темноту.
Мне почему-то снова становится дико смешно, как будто я действительно окончательно спятила.
– А… Вот, оказывается, кем ты меня считаешь… Конечно, именно так и сделала: там отдалась, теперь к тебе приехала…
– Да ладно, не юродствуй… Просто мне трудно поверить, что мужик не добился того, чего хотел…
Теперь я смеюсь уже в голос. Нервно и зло.
– Жаль, что тебя там не оказалось. А ты позвони этому уроду, спроси у него! Может быть, он тебе расскажет. Только ведь ты не позвонишь… И знаешь почему? Даже если бы он меня оттрахал там, прямо на палубе, на виду у всех, тебе бы все равно никто ничего не сказал. Потому что тебя все боятся. И на самом деле тебя беспокоит не то, что меня кто-то оттрахал, а то, что тебя поимел какой-то козел и что об этом теперь кто-то знает…
И тут меня прорвало. Уткнувшись лицом в горячую мокрую подушку, я колочу кулаками по постели и кричу, кричу, кричу дико и бессвязно, не находя подходящих слов, чтобы высказать все, что кипит у меня внутри. Меня рвет словами и невысказанной обидой, болью, любовью, надеждой… Когда этот поток заканчивается, мне кажется, что от меня остается только тонкая, непрочная и пустая оболочка, которая лежит в постели среди скомканных простыней и одеял.
Глава семнадцатая
В мире рекламных слоганов и раскрученных брендов слова, не подкрепленные многомиллионными бюджетами, перестают что-либо значить. И без того стертые до дыр, как старые шлепанцы, все эти «люблю», «верю», «мечтаю», «помоги», «счастье» становятся пустыми и бесполезными, как надутый ради забавы презерватив… Поэтому я не вполне уверена, что знаю, что значит «любовь». Я избегаю этого слова, потому что боюсь неправильно употребить его. И еще я боюсь, что любовь это совсем не то, что я чувствую по отношению к Саше. Трудно любить, не зная, что это такое… Трудно любить, будучи мясом, которое оценивается по степени свежести, наличию или отсутствию жира и цвету поверхности.
«Они общаются», «у них отношения», «мой партнер», «удачный союз», «общие дети» – практичный язык диснейленда… Язык поколения киборгов.
Сидя перед телевизором, на экране которого разворачивается очередная семейная драма из жизни «золотых» обитателей диснейленда, я почему-то думаю о своей жизни. В кадре прекрасный образец достижений пластической хирургии и эстетической косметологии доказывает свое право на «общих детей», ссылаясь на то, что если они будут жить с ней, то им удобнее будет ездить в элитную школу… В следующем кадре уже другой партнер, сидя в дорогом кожаном кресле, говорит о том, что именно с ним дети чувствуют себя КОМФОРТНО.
Вот оно! То слово, которое я так долго искала и которое все объясняет! Вот в чем смысл всей этой картонной цивилизации под названием Диснейленд!
Что там кто-то занудно бубнит под нос? «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает…» Как все это сложно и уныло! Зачем все это, если есть прекрасное слово КОМФОРТ, которое все расставляет по местам и сразу позволяет понять, когда отношения теряют смысл…
Еще какое-то время я вполне могу быть комфортным партнером: гладкой, теплой, соблазнительной куклой, которая забавно хлопает глазами, смешно злится и трогательно плачет, когда ей больно… А потом? Вы хотите знать правду? Правда заключается в том, что каждый из нас мечтает О КОМФОРТЕ. Принцессы, официантки, секретарши, учителя, дорогие содержанки… Все мы хотим не думать о том, где взять денег, чтобы заплатить за квартиру, купить новую красивую вещь… Все мы хотим иметь возможность отдыхать, делать покупки, баловать детей. Как бы там ни было, каждый из нас обеспечивает себе ту или иную степень комфорта.
Вот такие мысли крутятся в моей маленькой глупой голове. Почему же тогда я так ненавижу своего отца и Викторию Дольче? Разве они не заслужили своего права на КОМФОРТ?
В ту ночь, когда я, захлебываясь плачем, колочу руками по постели, а потом до утра мы с Сашей перебрасываемся фразами, которые позволяют нам снова научиться смотреть в глаза друг другу, меня ждет еще одно открытие. Выясняется, что Виктория – невеста Саши. Вернее сказать, она была невестой, пока в эту историю не пришла я со своим удивленно приоткрытым ротиком, наивными глазами олененка и ветром в голове…
Прекрасная история в стиле нашего чудесного диснейленда! Не правда ли? Я бы не удивилась, если бы Виктория оказалась дочерью Саши, рожденной от одной из тех девочек, с которыми ему было комфортно, например, лет двадцать назад. Или если бы она была одной из внебрачных дочерей моего отца. И при этом и тот и другой спали бы с ней и с удовольствием выводили бы ее в рестораны, чтобы показывать друзьям свою новую молоденькую и очаровательную игрушку. Я не удивлюсь, если через десять-пятнадцать лет кто-нибудь из них, сидя в шезлонге на палубе яхты, будет держать на коленях одну из своих незнакомых ему дочек… Причем, как вы понимаете, побуждаемый вовсе не отцовскими чувствами…
Иногда мне кажется, что в этом сумасшедшем мире вообще не осталось места ничему естественному и нормальному. Да и могу ли я теперь понять, что на самом деле естественно и нормально…
Это странно, но я больше не хочу убивать Викторию. Но не уверена, что она испытывает схожие чувства по отношению ко мне.
Глава восемнадцатая
На свой последний бал в диснейленде я отправляюсь в платье из шелка и кружева отJean Paul Gaultier, похожем одновременно на мрачно-торжественное одеяние католического епископа и пеньюар дорогой шлюхи из ковбойского фильма. Черное кружево поверх кремового шелка расшито скорбными ликами королев в россыпи карт червонной и крестовой мастей. Ажурные оборки платья украшает узор из черных сердец и черных крестов. Любовь. Смерть. Любовь. Смерть. А рубиновые капли сердечек на шелке сквозь черное кружево кажутся каплями крови на исколотом теле безымянного святого. Отличный наряд для последней вечеринки! Впрочем, кто мог знать? Просто так совпало…
Так совпало, что я увела жениха у своей подруги, которая отняла у меня отца. Так совпало, что на этой вечеринке мы снова оказались вместе. О, хренов диснейленд! Его ненавидящие друг друга обитатели обречены все время встречаться на закрытых вечеринках, куда приглашают только избранных, но сползаются, конечно, все кому не лень. Потому что в диснейленде нет первых и вторых мест: здесь у каждого свой персональный пьедестал с единственно возможным первым местом. Это проклятие диснейленда: везде видеть одних и тех же людей, которых друг от друга уже воротит.
Когда я в сопровождении Александра появляюсь в старинном особняке с наборным паркетом и отбрасывающими голубые и желтые отблески выпуклыми стеклами в дверях и окнах, здесь уже воняет жжеными подгузниками от смачиваемых слюнями толстых сигар. Камерный оркестр деликатно подстраивается под какофонию голосов, звона бокалов с шампанским, смеха и стука ножей и вилок, периодически падающих на пол. Это музыка диснейленда. Так я это называю. Музыка вечно голодных. Когда тебе не нужно заводить полезные связи, обхаживать режиссеров, владельцев модельных агентств, руководителей рекламных отделов крупных компаний и просто богатых бездельников, с которыми можно время от времени выбраться на ужин, вся абсурдность этого картонного мира становится еще заметнее. Просто начинаешь воспринимать это не так остро. Начинаешь относиться ко всему этому цирку как к домашнему театру, в котором наперед знаешь, кто напьется во втором действии и рухнет за кулисы вместе с декорациями.
Но в этот раз меня ожидают сюрпризы. В тот момент, когда Саша останавливается, чтобы поговорить с кем-то из тех, кого он называет «люди-акулы», в дверях появляется еще одна участница спектакля, который начнется совсем скоро, – Виктория Дольче. Одетая в белое платье-смокинг отYves Saint Laurent, она выглядит роскошно. Винтажная шляпка из атласа делает ее бледное лицо с едва заметными темными кругами под глазами не более чем тщательно продуманной деталью образа. В руке Виктория сжимает вместительный и удобный белый кожаный клатч отFendi, который выглядит так респектабельно и иронично, что ни у одного секьюрити никогда не возникнет мысли попросить открыть его. Если бы кто-то из охранников догадался это сделать, то с удивлением обнаружил бы лежащий там миниатюрный пистолет. Пожалуй, слишком миниатюрный, чтобы считаться настоящим оружием.
На секунду вернемся назад. В те зимние дни, когда я поняла, что что-то удивительное произошло в моей жизни, и когда, вернувшись в промозглую Москву, заваленную мусором после прошедших праздников, я приехала к Марку, чтобы попрощаться с ним и отдать ему кольцо, которое он мне подарил.
Все произошло не так, как я хотела. А КАК я хотела? Да я и сама не знаю… Еще в самолете я прокручивала эту ситуацию в голове… И мне казалось, что я просто смогу сказать: Марк, это было глупостью. Мы оба это знаем. Давай отпустим друг друга…
Но все происходит не так. Марк как будто ждал меня. Незапертая дверь. И он сидит у стола напряженный и мрачный, ломая в пальцах незажженную сигарету. Он старается не смотреть на меня, как будто знает, что я пришла с дурными вестями, и думает, что, не замечая меня, можно предотвратить неизбежное.
Мы долго сидим молча в полутемной квартире, слушая, как внизу холодно и жестко гремит дверь магазина.
Когда я молча снимаю кольцо и оставляю его на столе, Марк некоторое время, как загипнотизированный, смотрит на него.
– Какая ты дурра, Лиза… – наконец произносит он горько и зло. – Неужели ты думаешь, что будешь счастлива с этим жирным говнюком, который набит деньгами?! Ты думаешь, он купит тебе счастье?
Я пытаюсь взять его за руку, но он нервно вырывает ладонь.
– Марк, а почему ты не можешь поверить, – тихо говорю я, – что я просто полюбила? Первый раз в своей никчемной маленькой жизни. По-настоящему. И мне неважно, сколько у него денег…
– Да потому что так не бывает! – выкрикивает Марк мне в лицо.
Когда я встаю и подхожу к нему, чтобы обнять, Марк обхватывает меня руками, как будто хочет навсегда привязать к себе.
– Какая ты дурра, дурра, Лиза! – шепчет он, и я чувствую, как на мои шею и плечо падают тяжелые слезы, и сама начинаю реветь. Так мы стоим, обнявшись, и плачем каждый о своем, пока не кончаются силы и слезы…
Когда я покидаю Марка и его квартиру, я зачем-то захожу в ванную и, встав на бортик, дотягиваюсь до верхней полки. Мои пальцы ощущают холодный металл. Я осторожно беру пистолет и кладу его в свою сумку. И ухожу, тихо закрыв дверь.
Этот пистолет я оставила потом в квартире Виктории.
Как вы, возможно, догадались, в клатче Виктории лежит тот самый пистолет. И, как вы, возможно, догадались, Виктория приходит на этот прием, чтобы убить меня. Не знаю, что расстроило ее больше: то, что я, сама того не подозревая, разрушила ее многоходовую партию по завладению одним из самых богатых холостяков диснейленда, или то, что я надругалась над ее гардеробом.
Признаюсь, в тот момент, когда в моей голове складывается весь этот довольно банальный пазл, в котором я и Виктория – всего лишь две вещи, поменявшие хозяев, у меня возникает мысль о том, что Виктория захочет сделать что-то подобное. Просто потому, что она никогда не смирится с тем, что ей нашли замену… Но я быстро расстаюсь с этим предположением – ведь в картонном мире диснейленда даже месть не может быть настоящей. Но диснейленд любит преподносить сюрпризы!
Пьющие и жующие гости этого очередного праздника и не подозревают, что прямо рядом с ними затевается кое-что увлекательное. Я тоже продолжаю улыбаться и говорить глупости. И нахожу, что быть большой безмозглой говорящей куклой не так уж и плохо. Пожалуй, в мире диснейленда это единственная роль, подходящая для существа, наделенного исключительно совершенными пропорциями и внешней привлекательностью. К сожалению, на эту роль претендует очень много желающих…
Пока я беззаботно вживаюсь в эту счастливую роль, Виктория за кулисами готовится к своему эффектному выходу на сцену. В одной из комнат, приспособленных под раздевалку и гримерную для участвующих в вечеринке нанятых моделей, стриптизерш и музыкантов, она щедро поливает чехлы от фраков и наспех брошенную одежду дорогим односолодовым виски. Как только Виктория подносит зажигалку к разлитой жидкости, счастливые обитатели диснейленда, присутствующие на празднике, оказываются в западне, потому что комната-раздевалка находится как раз на пути к выходу из здания. Огонь мгновенно растекается по висящим на спинках стульев, вешалках и лежащим на полу вещам. Полюбовавшись этим гипнотическим зрелищем, Виктория выходит из комнаты и осторожно закрывает за собой дверь. Чтобы устроить настоящую охоту, Виктория, как профессиональный загонщик, перемещается к одному из баров, работающих рядом с оркестром, чтобы замкнуть огненное кольцо вокруг своей жертвы. Хороший бар – это настоящий пороховой погреб. Пятидесятиградусный ямайский ром горит лучше бензина. Текила, водка, самбука, виски легко образуют смесь, схожую с напалмом. Для того чтобы устроить ад в каком-нибудь клубе, достаточно случайно разлить любой крепкий напиток рядом с источником пламени. Свечой или спиртовой горелкой, которая находится здесь же рядом, согревая каких-нибудь приготовленных в вине перепелок, лежащих в серебристом саркофаге из пищевой нержавеющей стали.
Когда спиртовое пламя растекается по столу со стоящими на нем многочисленными подогреваемыми блюдами и стекает на пол, это вначале воспринимается как увлекательное шоу. Что-то вроде фейерверка. Те, кто находится рядом, издают сдавленный звук, обозначающий крайнюю степень восхищения, после чего замирают, очарованные открывающимся зрелищем. Через несколько секунд те, кто находится дальше от места действия, замечают нечто поразительное и начинают восторженно орать: «Смотрите! Вот туда! Огонь! Вааауууу!» И только через минуту, когда синий ручеек холодного пламени уже превращается в настоящее море горячего огня, который охватывает скатерти, салфетки, шторы, удивление сменяется животным ужасом и невероятной паникой.
Вероятно, к этому моменту кто-то из секьюрити уже замечает дым, выползающий из-под закрытой двери на мраморную лестницу, в курительную комнату и просторный холл. И, открыв дверь, обнаруживает, что огонь в комнате уже взялся за дубовые стенные панели, дорогую обивку стен и стащенные туда стулья, кресла и диваны…
Выскакивающие в холл перед лестницей гости натыкаются на густую стену дыма, сквозь который вырывается огонь, и устремляются обратно в залы с уставленными едой столами, все еще играющими музыкантами и полуголыми моделями, продолжающими развлекать нефтяных королей, медных королей, макаронных королей, королей порно и других самопровозглашенных монархов диснейленда.
Но паника как огонь: разгоревшись, она начинает пожирать всех вокруг. И вот уже шикарная вечеринка похожа на объятый огнем цирк, где в запертом вольере с дикими воплями мечутся обезьяны, сбивая друг друга и пытаясь расшатать прутья клетки. Особое сходство с цирком ситуации придают маленькие ухоженные собачки разных пород, сидящие на руках у ополоумевших ухоженных женщин. Они (собачки, а не женщины) заливаются пронзительным лаем и подвывают на все лады, чувствуя разгуливающую рядом смерть.
Ситуацией владеют только попавшие на золотую вечеринку светские репортеры глянцевых журналов, а также секретарши и жены личных шоферов королей и их приближенных, сумевшие разжиться приглашениями. Моментально сориентировавшись в обстановке, они начинают набивать сумки и карманы всем, что попадается под руку, начиная от бутылок с дорогими напитками, заканчивая столовыми приборами и оставленными в панике дамскими сумочками. Наблюдая за тем, как известный современный художник ползает под столом, пытаясь подобрать выпавший у кого-то из рук телефонVertu, я думаю о том, что все находящиеся в зале вполне заслуживают того, чтобы быть сожженными заживо.
Особенно комично смотрятся макаронные и прочие короли, которые с растерянным видом крутят головами, видимо в поисках какого-то отдельного спасательного VIP-трапа, который должны им подать для выхода из этого с каждой минутой теряющего свою респектабельность дома. Или кто-то все еще думает, что это часть развлекательной программы – новое эксклюзивное огненное шоу, придуманное специально для того, чтобы расшевелить гормоны перед предстоящей длинной ночью в компании разодетых в брендованные шмотки школьниц? По лицам присутствующих я вижу, что это предположение все еще вертится в голове у многих. Ведь каждый из них всерьез считает, что все происходящее здесь придумано только для него, чтобы разогнать его вечную скуку и порадовать новыми ощущениями перекормленные органы восприятия.
Впечатление грандиозного праздничного шоу портят только похоронного вида телохранители, обеспокоенно снующие по залу в поисках своих дорогостоящих подопечных. Они держат руки за обшлагами темных пиджаков, там, где у них висит оружие. Оно может понадобиться им очень скоро, потому что по мере того, как огонь охватывает все новые площади, поведение участников вечеринки становится все более агрессивным. И вот уже я вижу, как, сбивая и давя друг друга, группа luxury-обитателей диснейленда в разодранных платьях из новых коллекций и в висящих, как удавки, галстуках, болтающихся поверх перепачканных рубах, несется через анфиладу комнат в поисках черной лестницы. Должна же быть черная лестница в старинном особняке! (Потому что только в наш просвещенный век прислуге великодушно разрешили с гордым и презрительным видом входить в господские дома через парадные подъезды со стоящими возле них швейцарами и охраной.)
Все происходящее вызывает у меня какое-то радостное возбуждение. Возможно, это продолжает действовать принятый с утра траницилпромин, вступивший во взаимодействие с выпитым шампанским.
Похоронного вида телохранители отодвигают нас с Сашей в какой-то, по их мнению, безопасный угол рядом с остатками бара и подиумом, на котором играли музыканты. Здесь уже выжженная земля, политая газировкой, воняющая тлеющей свалкой и усыпанная осколками и каким-то черным месивом.
В этом разворошенном luxury-муравейнике, где тяжелый едкий воздух дрожит от напряжения, криков, звона бьющейся посуды и топота сотен ног, я не успеваю заметить, как Виктория оказывается за моей спиной с пистолетом в руке. Я поворачиваюсь к ней лицом только тогда, когда телохранитель Саши, привычно стреляющий глазами по сторонам, вдруг резко разворачивается, вытащив из-за пазухи пистолет. Инстинктивно обернувшись назад, я вижу направленное на меня темное дуло в руке Виктории, одетой как настоящая бешеная сука.
В следующий миг все происходит как в фильме, когда хотят показать какой-нибудь кульминационный момент, после которого напряженные зрители должны содрогнуться в эмоциональном оргазме. Время вдруг исчезает вместе со звуками. Я как будто зависаю между кадрами кинопленки и вижу сразу все происходящее. Смотрящую на меня темноту ствола. Руку телохранителя рядом с собой. Разинутый рот бегущей мимо модели с черной гнилой дыркой в одном из коренных зубов. Людей, пытающихся выбраться в одно из открытых окон, отталкивающих и бьющих друг друга. Догорающую штору, которая опадает на пол черными тлеющими кусками. Человека, лежащего на полу, видимо без сознания, и молодого парня, снимающего с него золотые часы под видом оказания первой помощи. Огонь, беззвучно танцующий где-то в холле второго этажа. Раскатившийся по полу фальшивый жемчуг. Растоптанную еду. Двух накрашенных старух, вырывающих друг у друга серебряное блюдо. Забившегося под стол немолодого плешивого музыканта, стоящего на коленях и прижимающего к груди скрипку так, как будто это маленький ребенок, которого он закрывает своим телом.
Потом я слышу хлопок, и все вдруг начинает двигаться, сыпаться и меняться, как стеклышки в калейдоскопе. По всей видимости, одно из этих острых разноцветных стеклышек впилось мне в плечо и пульсирует там горячей острой точкой. И я тоже вместе с этими цветными стеклышками вдруг лечу куда-то вниз, переворачиваясь в крутящейся трубе калейдоскопа. Уже в полете я слышу еще один хлопок. И вижу, как где-то рядом с тем местом, где стояли я и Саша, образовалась куча мала, в которой кого-то бьют, оттаскивают, придавливают к полу… Я сразу глохну от множества звуков.
Прихожу в себя я уже сидя на полу. Неподалеку от меня корчится, истекая чем-то похожим на вишневый сироп, Виктория.
– Ты бы тоже хотела меня убить? – спрашивает Виктория, когда я оказываюсь рядом с ней и успокаиваю ее, как могу.
Но, что бы я ни ответила ей, это уже неважно.
Когда я лежу на полу рядом с Викторией, взяв ее за руку, я уже не думаю о том, какая она сука, потому что увела моего отца, разрушила мою семью и всадила в меня пулю. Правда заключается в том, что и она и я – просто две красивые куклы, которые сейчас лежат рядом. И я не знаю, что было бы, если бы не произошло то, что произошло. Возможно, какая-нибудь другая девочка захлебывалась бы в волнах мучительного беззвучного крика оттого, что ее отец, которому наскучила его постаревшая жена и пресные семейные будни, оставил семью и выбрал бы меня. Красивую куклу с шелковистой кожей, упругим телом и вечно приоткрытым в удивленной полуулыбке ротиком. Выбрал бы, как выбирают в магазине, и играл бы со мной, покупая наряды и украшения, вывозя меня в рестораны, обустраивая мой кукольный домик и укладывая с собой в постель… И нам было бы комфортно. И мне бы не пришло в голову, что где-то есть эта девочка, которая мечтает убить меня и задыхается в бессловесном крике… Девочка, которая не торопится домой, потому что там ее ждет холодная и молчаливая пустота. И эта девочка непременно наделает глупостей, о чем потом будет очень жалеть, или попадет в неприятности, из которых будет очень сложно выползти живой…
Сейчас, лежа на полу, я спокойно думаю обо всем этом. И мне кажется, я даже улыбаюсь, потому что мне наконец-то все стало понятно в этом мире…
– Почему ты молчишь? – капризно-плаксиво спрашивает Виктория. Ей хочется, чтобы ее пожалели. – О чем ты думаешь?
Я думаю о будущем. Потому что именно туда я сейчас направляюсь.
Напоследок мне хочется сказать Виктории, что я горжусь ею. Потому что впервые в жизни она совершила настоящий поступок… Но я не буду ей говорить об этом. Вряд ли сейчас она захочет думать о том, что произошло с нами.
Глава девятнадцатая
Попытаемся заглянуть в будущее, о котором я, лежа на полу среди разлитых коктейлей, растоптанной еды, сгоревших тряпок и беспорядочно передвигающейся дорогой обуви, еще ничего не знаю. Которого еще нет, но приближение которого я уже чувствую…
Прикрыв глаза, я кладу на колени недочитанную книгу. Чтобы не потерять страницу, я держу ее пальцем. Откинув голову на жесткую спинку деревянного шезлонга с натянутыми шнурами, я просто замираю и слушаю… В дюнах на берегу редко бывает штиль. Ветер подхватывает и несет мириады песчинок. Из их бесчисленных столкновений в дюнах рождается тихая, грустная мелодия.
Я улыбаюсь, вспоминая, как впервые услышала эту музыку. Знакомый голос в моей голове произносит с легкой усмешкой: «Это бог ветра Эол, зачарованный зрелищем песчаных волн, перебирает струны своей арфы…»
Сейчас в этой мелодии я уже научилась различать и легкий гул моря, и звон просоленного вереска, и сухой шелест зеленой травы, которая тянется выше, за моей спиной, вдоль дороги к дому.
Солнце просвечивает сквозь веки теплым красноватым сиянием. Не двигаясь, я только слегка поворачиваю голову, чтобы лучше слышать звуки, которые уносит ветер.
Лай собаки и звонкий смех. Наверно, у самой кромки воды.
Мне хочется крикнуть: «Жан! Не уходи далеко от дома!»
Но солнце наполнило веки теплом. И ветер тихо поет свою колдовскую песню. И у меня нет ни сил, ни желания прерывать ее. Где-то рядом должен стоять бокал с белым вином. Но и до него не дотянуться. На дне, наверно, уже скопились песчинки.
Голыми ступнями я ощущаю, как ветер невидимой рукой гладит меня, щекочет щиколотки и играет широкими штанинами легких брюк.
Фотограф кричит:
– Дай мне счастье! Дай мне наполненность! Дай мне покой!
Я вздрагиваю всем телом. Книга падает с моих колен в песок, выскользнув из руки. И я понимаю, что это был только сон. Сон о чем-то забытом.
Открыв глаза, я напряженно смотрю на песчаные холмы и прислушиваюсь.
Лай собаки и детский голос то приближаются, то удаляются вместе с ветром.
Я улыбаюсь.
Примечания
1
Он просто вылитый ты… (фр.) – слова из популярной французской песни.
(обратно)
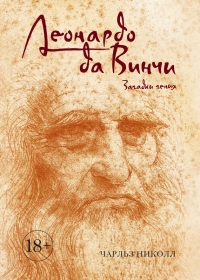

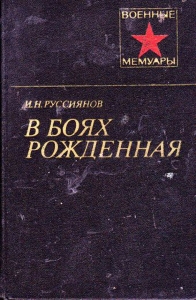
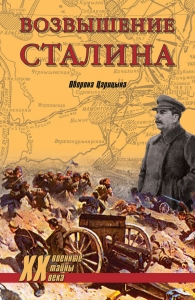



Комментарии к книге «Записки фотомодели - стразы вместо слез», Полина Бон
Всего 0 комментариев