Элиас Канетти
Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице
Перевод с немецкого и послесловие М.Рудницкого
I
Нy вот наконец они и опубликованы, эти письма пятилетней муки, целый том в 750 страниц, и имя суженой, многие годы деликатно обозначаемое лишь инициалом Ф. с точечкой,-- очень похоже на К., так что мы долгое время даже не знали, как оно на самом деле звучит, и довольно часто об этом гадали, но среди всех имен, что перебирались в умах, ни разу не было названо правильное, будто оно заколдовано, будто на него и невозможно было набрести, это имя крупными буквами набрано теперь в названии книги. Женщины, которой адресованы эти письма, уже восемь лет нет в живых. За пять лет до своей кончины она продала письма издателю Кафки, и как бы к этому поступку ни относиться, одно ясно: та, кого Кафка называл своей «ненаглядной делячкой», до конца осталась верна себе и своей практичности, которая значила для Kафки так много и подчас вызывала у него даже нежность.
Да, это правда, что когда эти письма стали достоянием гласности, его уже сорок три года не было в живых, и все же первым побуждением, которое испытываешь, виной тому, должно быть, благоговение перед ним и его болью, остается чувство неловкости и стыда. Я знаю людей, у которых это чувство по мере чтения писем росло, они не могли отделаться от ощущения, что именно в эту область им никак не следовало вторгаться.
Я их очень за это уважаю, но я не из их числа.
Меня эти письма захватили так, как уже много лет не увлекало ни одно произведение словесности. И отныне они сами войдут в число тех неизгладимых мемуаров, автобиографий и эпистолярий, чтением которых Кафка столь часто поддерживал свои силы. Он, чьим первейшим, пожалуй, качеством была деликатность, тем не менее не стеснялся снова и снова заглядывать в письма Клейста, Флобера или Геббеля. В одно из тягчайших мгновений своей жизни он, как утопающий за соломинку, хватается за мысль, что Грильпарцер ровным счетом ничего не испытал, когда наконец усадил Кати Фрелих к себе на колени. Против ужаса жизни, который большинством людей, по счастью, осознается лишь иногда, но немногими избранниками, которым волею глубинных сил назначено быть свидетелями, ощущается каждосекундно, есть только одно утешение: сопряженность с ужасом свидетелей-предшественников. Так что мы и вправду должны быть благодарны
142
Фелице Бауэр за то, что она сохранила и спасла для нас эти адресованные ей письма, хоть и переступила через самое себя, решившись их продать.
Сказать о них «документ» - значит сказать слишком мало. Это слово годится разве лишь с оговоркой, что так же мы назовем и сокровеннейшие жизненные свидетельства Паскаля, Кьеркегора и Достоевского. Что до меня, то могу сказать лишь одно: в меня эти письма вошли как некая особая, своя жизнь, и отныне стали мне такими родными во всей своей загадочности, словно принадлежат мне давным-давно, с той поры, как я пытаюсь вбирать в себя людей целиком, дабы снова и снова постигать их во всей их непостижимости...
Поздним вечером 13 августа 1912 года на квартире у Бродов Кафка познакомился с Фелицей Бауэр. Имеется несколько его высказываний об этой встрече. Первое упоминание обнаруживается в письме Максу Броду от 14 августа. Речь идет о рукописи «Созерцания», которую он накануне принес Броду, чтобы вместе с другом придать ей окончательный вид.
«Вчера, когда мы из кусочков сооружали целое, я был под сильным влиянием той девушки и легко допускаю, что из-за этого вышла какая-нибудь несуразица, какая-нибудь скрытая, непредусмотренная и непреднамеренная странность в расположении частей». Он просит Брода просмотреть все еще раз и заранее его благодарит. День спустя, 15 августа, в дневнике появляется вот какая фраза: «Много думал ...ну что за нерешительность при написании имен...- о Ф. Б.»
Потом, 20 августа, через неделю после встречи, он пытается дать объективную зарисовку первого впечатления. Он описывает внешность девушки и чувствует, что как бы слегка отчуждается от нее как раз потому, что в этой зарисовке «подступает к ней слишком назойливо». Он счел вполне естественным, что она, незнакомка, оказалась в этом обществе. Он как-то тотчас же с ней свыкся. «Усаживаясь, я впервые как следует на нее взглянул, а когда сел, у меня уже было о ней неколебимое суждение». На середине следующей фразы запись обрывается. Все более важное осталось недописанным, а сколько всего осталось недописанным это выяснится лишь позже, со временем.
Первое письмо ей он пишет 20 сентября, напоминая о себе -- ведь прошло, как-никак, уже больше месяца после их встречи как о человеке, который за столом в доме Бродов одну за другой протягивал ей через стол фотографии, а «под конец той же самой рукой, пальцы которой выстукивают сейчас по клавишам машинки, держал вашу ладонь, когда вы рукопожатием скрепили обещание совершить вместе с ним на будущий год путешествие в Палестину».
Быстрота этого обещания, но и твердость, с которой оно было дано, -- вот что поначалу произвело на Кафку наибольшее впечатление. Он воспринимает это рукопожатие как поруку, за словом «обещание» где-то близко брезжит другое «обручение», и его, человека мучительно медленных решений, от которого всякая цель, к которой он стремится, с каждым шагом отдаляется тысячью сомнений, вместо того чтобы приближаться, такая быстрота, конечно, завораживает. К тому же обещание касается Палестины, а для него в эту пору вряд ли найдется слово более заветное, ведь это земля обетованная.
Вся ситуация обретает еще более содержательный контекст, если вспомнить, какие именно снимки он передал ей через стол. Ведь это фотографии его «Талийского путешествия» 1. В первые дни июля, всего каких-нибудь пять-шесть недель назад, он вместе с Бродом побывал в Веймаре, где в доме Гёте разыгрались весьма странные для него события. Ему попалась на глаза дочка смотрителя, красивая девушка, да еще в доме Гёте. Ему
1. Называя «Талийским путешествием» свою поездку в Веймар, «столицу немецкой классики», Кафка шутливо соединяет название издававшегося Шиллером журнала «Талия» и знаменитых путевых заметок Гёте «Путешествие в Италию». (Прим. перевод.)
143
удалось завести с ней знакомство, он был представлен родителям, фотографировался с семьей в саду и перед домом, его пригласили заходить еще, и он стал в доме Гёте не просто заурядным посетителем, допускаемым строго отведенные часы, а почти своим человеком. Но он встречал девушку и вне дома, частенько сталкиваясь с ней в переулках маленького городишка, с грустью наблюдая ее в обществе молодых людей, назначил ей свидание, на которое та не пришла, пока не понял, что ее больше интересует некий студент. Все это пронеслось за каких-то несколько дней, калейдоскоп путешествия -- в дороге все происходит быстрей -- ускорил и оживил это знакомство. Сразу после этого Кафка направляется - уже один, без Брода, на несколько недель в курортное местечко Юнгборн на Гарце. Об этих неделях в дневниках остались редкостно богатые записи, свободные и от темы «Талии», и от пиетета перед историко-литературными достопримечательностями. Но на открытки, которые он посылает в Веймар красивой дочке смотрителя, он получает любезные ответы. Один из них он целиком приводит в своем письме Броду, сопровождая его комментарием, который, зная склад его характера, можно считать почти изъявлением надежды: «Ибо если я даже ей не неприятен, то уж безразличен, как горшок, это уж точно. Тогда зачем она мне пишет так, как я того хочу? А вдруг бы и вправду оказалось, что девушек можно привораживать письменами?»
Так что та встреча в доме Гёте придала ему смелости. А снимки, что он протягивал Фелице через стол в первый вечер, были сделаны как раз в той поездке. Воспоминание о той попытке сближения, о своей тогдашней активности -- как-никак дело дошло до фотографий, которые он вот, пожалуйста, даже может предъявить, -- невольно переносится на девушку, что сейчас сидит против него, на Фелицу.
Нельзя не сказать и о том, что в этом путешествии, которое началось в Лейпциге, Кафка был представлен Ровольту, и тот вознамерился издать его первую книгу. Выборка коротких миниатюр из своих дневников для этой книги, которую он назвал «Созерцание», отняла у Кафки много времени и сил. Он колебался, ему все казалось, что тексты недостаточно хороши, но Брод торопил и не отставал, наконец все было готово, вечером 13 августа Кафка принес окончательный вариант подборки и хотел, как уже было замечено, обсудить с Бродом расположение частей.
Так что в тот вечер при нем было все, что могло придать ему мужества: рукопись его первой книги; снимки «Талийского путешествия», среди которых были и фотографии девушки, что так любезно отвечала на его письма; наконец, в кармане у него был номер журнала «Палестина».
К тому же встреча происходила в доме, где ему всегда бывало хорошо. Он сам признается, что пытался доколе возможно продлить эти вечера у Бродов, покуда хозяева, которых уже клонило в сон, дружественным образом его не выпроваживали. Тут была семья, к которой его так тянуло от своей собственной. Здесь не презирали литературу. Здесь гордились выросшим в доме юным писательским дарованием, сыном Максом, который уже успел сделать себе имя, и друзей Макса здесь тоже принимали всерьез.
Для Кафки это время -- время разнообразного и тщательного записывания. Юнгборнские дневники пожалуй, лучшие из его путевых заметок и, кстати, более всего связанные непосредственно с его творчеством, в данном случае с «Америкой»,-- вполне это подтверждают.
Сколь богата его память на конкретные детали, доказывает его удивительное шестое письмо к Фелице от 27 октября, где он точнейшим образом живописует их первую встречу. С того вечера 13 августа прошло меж тем 75 дней. Из конкретных деталей, которые несет в себе его память, не все равнозначны. Кое-что он записывает, можно сказать, почти из озорства, лишь бы дать ей понять, что он все в ней заметил, ничего не упустил. Тем самым он утверждает себя как художника во флоберовском смысле, для которого не бывает тривиальной правды, есть только правда, какая бы она ни была. С едва заметным налетом гордости он выкладывает ей все, это двойной панегирик -- ей, поскольку она достойна столь тщательного, во
144
всех мелочах и с первой же секунды запоминания, но немного и себе, своему всевидящему оку.
Среди прочего он замечает и особое, только для него значимое, -- то ли потому, что оно отвечает каким-то важным склонностям его натуры, то ли потому, что, напротив, в его натуре как раз начисто отсутствует, то ли потому, что вызывает в нем восхищение и так, на крыльях восторга, приближает его к ней физически. Только об этих чертах мы сейчас и скажем, ибо именно они целых семь месяцев будут определять ее образ в его душе, да, целых семь долгих месяцев пройдут, пока он не увидит ее снова, и на это время приходится почти половина писем из всей их весьма обильной корреспонденции.
К рассматриванию фотографий, причем как раз тех самых, талийских, она отнеслась очень серьезно и поднимала глаза, только когда что-то поясняли или когда он протягивал ей новый снимок, ради фотографий она совсем забыла о еде, а когда Макс что-то на этот счет заметил, она возразила: мол, нет ничего отвратительнее людей, которые беспрерывно едят. (Об особых проблемах Кафки по части еды речь еще впереди.) Она рассказала, что в детстве братья и кузены часто ее били, а она чувствовала себя совершенно беззащитной. Она провела ладонью по своей левой руке, которая тогда, в те времена, бывала вся в синяках. Но говорила она об этом без всякой жалости к себе, скорее с усмешкой, так что ему трудно было представить, чтобы кто-то отважился ее бить, пусть она и была маленькой девчушкой. Он думает о том, что в детстве тоже был слабаком и плаксой, но вот она сумела это преодолеть, а он нет. Он смотрит на ее руку и восхищается тем, какая она сейчас крепкая, от прежней детской слабости не осталось и следа.
Между делом, что-то разглядывая или читая, она заметила, что учила древнееврейский. Его это, конечно, изумило, но ему не понравилось, что она упомянула об этом так подчеркнуто вскользь, потому втайне он слегка позлорадствовал, когда чуть позже она не смогла прочесть даже слово Тель-Авив на обложке. Но тут выяснилось, что она сионистка, и вот это ему пришлось по душе.
Она сказала, что обожает переписывать рукописи, и попросила Макса при случае какие-нибудь ей прислать. Его, Кафку, это настолько поразило, что он даже пристукнул ладонью по столу.
Выяснилось, что она направляется в Будапешт на свадьбу, госпожа Брод упомянула изумительное батистовое платье, которое видела у нее в гостинице. Потом все общество из столовой переместилось в музыкальную гостиную. «Когда вы встали, обнаружилось, что вы в домашних тапочках госпожи Брод, поскольку сапожки ваши сохнут. В тот день погода была ужасная. Эти тапочки, по-видимому, несколько вас смущали, и в конце темного пути из одной комнаты в другую вы мне сказали, что привыкли носить домашние туфли на каблуках. Я про такие прежде не слыхал, для меня это была новость». Итак, тапочки пожилой женщины ее смущали, а ее объяснение насчет собственных домашних туфель в конце темного пути из одной комнаты в другую приблизило его к ней физически еще сильнее, чем прежде разглядывание ее руки, на которой сейчас уже не было синяков.
Позже, когда все поднялись расходиться, к этому добавилось и еще кое-что: «А быстрота, с которой вы под конец вышмыгнули из комнаты, чтобы тут же снова появиться уже в сапожках, моему уму вообще непостижима». На сей раз его поразила, очевидно, быстрота ее превращения. Ибо у него-то совсем другой взгляд на превращение, для него это всегда особенно длительный процесс, который он должен совершать медленно, шаг за шагом, чтобы в него поверить. Он строит свои превращения по порядку, снизу доверху, как дом. А она, наоборот, не успела выскользнуть из комнаты в домашних тапочках -- и нате вам, уже стоит перед ним в элегантных сапожках.
Еще до того, правда вскользь, он успел упомянуть, что у него случайно с собой номер журнала «Палестина». Тотчас же договорились о путешествии в Палестину, и она в знак обещания протянула ему руку, «а вернее, это
145
выманил вашу руку силой внезапного озарения». Потом отец Брода и он пошли провожать ее в гостиницу. На улице он впал в одно из своих «сумрачных состояний» и вел себя неловко. Еще он успел узнать, что в поезде она забыла свой зонт, крохотная деталь, которая тем не менее обогатила для него ее облик. На следующий день рано утром ей уже надо было уезжать. «Я нервничал из-за того, что вы еще не упаковали вещи и к тому же еще собрались в постели читать. Накануне вы тоже читали до четырех утра». Несмотря на беспокойство из-за раннего отъезда эта ее черта должна была еще больше его к ней приблизить. Ведь он и сам ночи напролет писал.
В целом из этого описания возникает представление о Фелице как о личности вполне ясной, которая быстро и открыто устанавливает отношения с другими людьми и без боязни высказывается на всевозможные темы.
Переписка между ними, которая у него сразу же, а у нее вскоре учащается до одного письма в день -- тут надо заметить, что сохранены лишь его письма, -- отличается некоторыми поистине удивительными чертами. Первое, что должно броситься в глаза непредвзятому читателю, это беспрерывные жалобы на физическое самочувствие. Они начинаются уже со второго письма, хотя пока еще несколько завуалированно: «Что за капризы одолели меня, милая барышня! Целый дождь нервических потрясений так и сыплется на мою голову. То я хочу одного, то совсем другого. Поднявшись к себе домой по лестнице, я все еще не знаю, в каком самочувствии войду в квартиру. Приходится копить в себе множество неуверенностей, покуда они не перерастут хоть в крохотную уверенность или вот в письмо... К тому же и память у меня ужасно плохая... Моя хандра... Однажды... я даже уже встал с кровати, дабы записать то, что я для вас придумал. Но тут же залез обратно, поскольку устыдился -- это второй из моих недугов -- собственной глупой поспешности...»
Сразу видно: первое, что он хочет ей показать, -- это собственную неуверенность, и именно так стремится ее завоевать. Причем уже связывает неуверенность со своим физическим самочувствием.
В пятом письме он сразу начинает с жалоб на бессонницу, а заканчивает сетованиями на помехи у себя на работе, в конторе, откуда он ей пишет. После этого буквально почти ни одно письмо не обходится без жалоб. Поначалу жалобы эти еще как-то уравновешиваются интересом к Фелице. Он задает ей сотню вопросов, хочет все про нее знать, хочет в точности представлять, что делается у нее на работе, что творится у нее дома. Но и это, пожалуй, только общие слова, его вопросы гораздо конкретней. Она должна ему написать: когда приходит на работу, что ела на завтрак, куда выходят окна конторы, где она работает, и что это вообще за контора, что она там делает, как зовут ее друзей и подружек и кто из них вознамерился подорвать ее здоровье, даря ей конфеты, -- а это ведь только самый первый опросный лист, за которым в несметном числе последуют другие. Он от всей души желает, чтобы она была здорова и уверена в себе. Расположение комнат, по которым она движется, он хочет знать так же отчетливо, как и ее распорядок дня. Он не терпит никаких возражений и требует отчета немедленно. Точность, которой он от нее добивается, соответствует той, с которой он описывает свои собственные состояния.
О них, об этих состояниях, еще придется сказать особо: без попытки понять их будет непостижимо и все остальное. Но здесь пока что возьмем на заметку лишь то, что обнаруживается в подоплеке этих первых писем: во что бы то ни стало он хочет установить связь, пробить канал между ее целеустремленностью и здоровьем и собственной нерешительностью и слабостью. Сквозь даль, презрев расстояние от Праги до Мюнхена, он хочет уцепиться за ее твердость. Слабое слово, которое он осмеливается ей адресовать, возвращается от нее с удесятеренной силой. Он пишет ей по два-три раза в день. Он ведет --кстати, совершенно вопреки уверениям о собственной слабости -- отчаянную, просто беспощадную борьбу за ее ответы. Ибо тут -- но только в одном этом отношении -- она куда менее обязательна, чем он, ибо у нее нет той жгучей потребности в этих письмах.
146
Но ему удастся заразить ее собственным голодом, проходит совсем немного времени и вот уже и она пишет ему ежедневно, а то и по два раза на дню.
Дело в том, что борьба, которую он ведет за то, чтобы исправно получать от нее письма,-- это вовсе не потеха его тщеславию, не самоцель, не утоленное самолюбие; ее ответы дают ему силу писать. Две ночи спустя после своего первого письма к ней он выплескивает на бумагу «Приговор», за один присест, в одну ночь, за десять часов. Можно смело сказать: этой вещью он вполне утверждает себя как писатель даже в собственных глазах. Он читает ее друзьям, несомненность удачи только подтверждается, и он, кстати, никогда впредь от нее не отречется -- в отличие от многих других своих вещей. Еще неделю спустя возникает «Кочегар», а в течение следующих двух месяцев еще пять глав «Америки», всего, значит, шесть. А когда работа над романом прервется, он - за две недели - напишет «Превращение».
Так что это и не только с позднейшей, историко-литературной точки зрения - замечательное для него время, в его жизни совсем нечасто выпадали светлые полосы, которые могли бы сравниться с этой. Судя по итогам -- а по чему еще надо судить жизнь писателя? -- его поведение в первые три месяца переписки с Фелицей было самым для него правильным, оптимальным. Он чувствовал то, что ему требовалось: уверенность откуда-то издали, некий родник сил, не вспугивавший его восприимчивость слишком близким соприкосновением, женщину, которая принадлежала ему, не ожидая от него в ответ ничего, кроме слов, своего рода трансформатор, чьи возможные технические дефекты он настолько хорошо знал и изучил, что посредством писем мог устранять их мгновенно. Женщину, служившую столь важной цели, нельзя было подвергать пагубному воздействию его семьи, от которого сам он так страдал, нет, от семьи ее надо держать подальше. Эта женщина должна все, что он может о себе сказать, принимать всерьез. Он, в устном общении человек скорее замкнутый, получит возможность раскрыться перед нею письменно; безоглядно излить душу в жалобах, ничего не удерживать в себе из того, что может стать помехой его писанию; в малейших подробностях донести до нее всю важность его писательской работы, ее продвижение, все ее мучительные остановки и заминки. Его дневник в это время зияет пропусками, дневником -- причем подробнейшим -- становятся письма к Фелице, в них то преимущество, что пишутся они действительно ежедневно и он чаще может тут повторяться, уступая некоей важной внутренней потребности своей натуры. То, что он ей пишет, это ведь не навсегда, это не связано обязательством окончательности, в следующем письме можно поправиться, усилить или, наоборот, вовсе взять все назад, и даже перескакивание мыслей, которое его строгий вкус весьма неохотно допускал внутри отдельных, пусть даже и разрозненных дневниковых записей, воспринимая его как беспорядок, в непринужденном течении письма вполне можно себе позволить. Но самое большое преимущество -- это, как уже упомянуто, возможность самоповторов «до литании». Ибо если кто и осознавал необходимость и функцию подобных «литаний», так это Кафка. Среди других достаточно определенно выраженных свойств его прозы именно это повлекло за собой наибольшее число ошибочных, «религиозных» толкований его творчества.
Но если установившийся порядок переписки был для него так важен, если в течение трех месяцев он к тому же доказал свою действенность, раз повлек за собой возникновение столь удивительных, уникальных созданий, как, допустим, «Превращение»,-- почему, спрашивается, в январе 1913 года его писательство вдруг столь внезапно застопорилось? Тут никак нельзя довольствоваться общими фразами о продуктивных и непродуктивных периодах в творчестве писателя. Всякая продуктивность обусловлена, так что надо просто взять на себя труд доискаться до тех помех, из-за которых продуктивность иссякает.
Пожалуй, тут не стоит упускать из вида, что в этих первых письмах к Фелице, сколь бы мало они ни были похожи на любовные письма
147
в традиционном смысле, есть нечто, что всенепременно и обязательно присуще любви: ему крайне важно, что Фелица чего-то от него ожидает. При той первой встрече, которой он потом так долго кормился, на которую столько всего возложил, у него была с собой рукопись его первой книги. Познакомившись с ним, она познакомилась с писателем, а не просто с приятелем другого писателя, и все его притязания на ее письма на том и основаны, что она считает его писателем. Первый рассказ, которым он по-настоящему доволен -- а именно «Приговор», -- это её рассказ, он ей им обязан, ей его посвятил. Он, впрочем, не вполне уверен, насколько безупречен ее приговор в литературных делах, и пытается в этом смысле как-то повлиять на нее своими письмами. Требует даже список ее книг, которого так никогда и не получит.
Фелица была натурой простой, отдельные фразы из ее писем, которые он цитирует, хоть их и немного, доказывают это более чем наглядно. Диалог -- если только дозволено столь шаблонным словом обозначить нечто гораздо более сложное и сокровенное,-- который он через нее ведет с самим собой, мог бы, вероятно, продолжаться еще долго. Но все сбила ее тяга к самообразованию: она читала других писателей и имела неосторожность некоторых упоминать в своих письмах. Он же успел приоткрыть ей лишь самую малость из того, что миром чудищ жило в его сознании, и как писатель хотел владеть ею безраздельно.
11 декабря он посылает ей свою первую книгу, «Созерцание», она только что вышла. И пишет при этом: «Послушай, будь поласковей с моей бедной книжонкой! Это ведь как раз из тех несчастных листков, что я сортировал в тот наш вечер... Интересно, распознаешь ли ты, как различаются эти фрагменты по возрасту. Там есть один, которому уж точно лет восемь - десять, не меньше. Только поменьше ее показывай, чтобы тебе не испортили эту встречу со мной».
13 декабря он упоминает о книге снова: «Я так счастлив при мысли, что моя книга, хоть я и знаю все ее недостатки... в твоих дорогих руках».
В письме от 23 декабря по тому же поводу обронена уже только следующая одинокая фраза: «Ах, если бы барышня Линднер (сотрудница в конторе Фелицы) знала, до чего это трудно - писать так мало, как я!» Реплика относится к скромному объему «Созерцания», истолковать ее можно лишь как обиженный ответ на какое-то уклончивое замечание в письме Фелицы.
И это все -- вплоть до грандиозной сцены ревности, которую он устраивает ей в письме от 28 декабря, то есть семнадцать дней спустя после того, как послал ей книгу, -- между тем как письма, написанные за это время (а это, напомним снова, только его письма), занимают целых сорок весьма убористых страниц тома и говорится в них о тысяче самых разных вещей. В общем, ясно, что по поводу «Созерцания» Фелица всерьез вообще ничего не написала. Но вспышка его гнева адресована не ей, а Ойленбергу, которым она зачитывается и «восхищена».
«Я ревную тебя ко всем людям в твоем письме, к названным и безымянным, к мужчинам и девушкам, к предпринимателям и писателям (к этим последним, конечно, в первую очередь)... Я ревную тебя к Верфелю, Софоклу, Рикарде Хух, Лагерлёф, к Якобсону. Моя ревность по-детски ликует из-за того, что ты Ойленберга называешь Германом вместо Герберта. В то время как Франца ты, несомненно, уже затвердила назубок. Так тебе нравятся «Блики и тени»? Ты находишь их ясными и простыми? Целиком я знаю только его «Моцарта», Ойленберг... у нас тут его читал, но я еле досидел, это же проза, в которой одна одышка и сплошные погрешности... Разумеется, я в нынешнем моем состоянии очень даже к нему несправедлив, это несомненно. Но ты вообще не должна читать «Блики и тени»! А я вдруг вижу, что ты не просто их читаешь, но к тому же и «восхищена». (Вы слышите, Фелица вами восхищена, она от вас просто в восторге,-- и вот уже я среди ночи пылаю к нему ненавистью.) Но в твоем письме упомянуты и другие люди, и с каждым, с каждым я готов тут же
148
вступить в драку не для того, чтобы причинить им зло, а чтобы оттолкнуть их от тебя, освободить тебя от них и читать письма, в которых речь только о тебе, твоих домашних... и конечно -- конечно же! -- обо мне».
На следующий день - а это как раз воскресенье, когда обычную почту не разносят, он неожиданно получает от нее срочное письмо и тут же благодарит: «Милая, наконец-то снова письмо, от которого бросает в жар ровной и безмятежной радости. Где не кишат все эти бесконечные знакомые и писатели...»
И в ту же ночь он находит объяснение своей ревности накануне: «Я, кстати, теперь отчетливей понимаю, почему вчерашнее твое письмо вызвало у меня такой приступ ревности: моя книга тебе не нравится точно так же, как тогда не понравилась моя фотография. Само по себе это не так уж страшно, в книге напечатаны в основном старые вещи... а я столь сильно чувствую твою близость во всем прочем, что легко готов... сам, первым, своей собственной ногой отшвырнуть эту маленькую книжонку... Но ты о ней молчишь, ты двух слов не хочешь сказать,-- мол, мне не нравится... Это очень даже объяснимо, что книга ничего тебе не говорит... Она вообще мало кому что может сказать, мне с самого начала это было ясно, все это только напрасная трата сил и денег, щедрый подарок расточительного издателя, совершенно впустую, меня и это еще мучит... Но ты же совсем ничего не сказала, однажды только пообещала сказать, а потом ничего...»
В конце января он вновь возвращается к «Созерцанию»; венский автор Отто Штёсль, которого он очень ценит, да и человек он симпатичный, написал ему письмо. «Он и о книге моей отзывается, но настолько мимо сути, что на какой-то миг я даже подумал: быть может, книга моя и впрямь хороша, раз уж даже такого многоопытного и проницательного литератора, как Штёсль, способна ввести в заблуждение...» И специально для нее он переписывает целый пассаж этого письма, довольно, кстати, длинный. Там и вправду встречаются суждения удивительные. «Некий растворенный в глубине души юмор... в точности, как если бы всласть выспавшись ночью, приняв освежающую ванну и одевшись во все чистое, вы встречаете ясный, солнечный день в радостном ожидании и с чувством неизъяснимой бодрости во всем теле. Юмор прекрасного внутреннего самочувствия». Что называется -- пальцем в небо, тут просто каждое слово невпопад, а уж «юмор прекрасного внутреннего самочувствия» Кафку поражает до такой степени, что чуть позже он цитирует этот перл снова. Но тут же добавляет: «Письмо это, кстати, как нельзя лучше сочетается с вышедшей сегодня преувеличенно хвалебной рецензией, где сказано, что в книге безраздельно властвует скорбь».
Совершенно очевидно, что невнимания к своему творению он ей не простил, дотошность, с которой он разбирает здесь отзывы на свою книгу, ему вообще-то не свойственна, за ней кроется порицание. Он хочет преподать ей урок, она слишком поверхностно к нему отнеслась -- и этой своей настойчивостью он лишний раз выдает, сколь болезненно она его ранила, никак не отозвавшись на его книгу.
Яростные выпады против собратьев по перу приходятся еще и на первую половину февраля. Фелица спрашивает его про Эльзу Ласкер-Шюлер, он ей на это пишет: «Я ее стихотворений терпеть не могу, я ничего в них не ощущаю, кроме скуки от их пустоты и отвращения к их искусственной выспренности. Да и проза ее мне претит по тем же причинам, в ней слишком много безрассудных содроганий ума нервической городской дамочки... Да, живется ей плохо, от нее, сколько мне известно, ушел ее второй муж, у нас тут тоже были для нее сборы; пришлось и мне выложить 5 крон, я сделал это без малейшего душевного сочувствия; не знаю, право, почему, но мне она всегда представляется алкоголичкой, что ночами таскается по кафе и пивным... Все, долой Ласкер-Шюлер! Милая, приди ко мне! Пусть никого не будет ни вокруг нас, ни между нами».
Фелица захотела пойти в театр на «Профессора Бернхарди»... «Мы ведь с тобой связаны одной веревочкой, -- пишет он ей. -- ... Так что теперь, дорогая, если ты пойдешь на «Профессора Бернхарди», то, несомненно, на
149
этой самой веревочке потянешь за собой и меня, подвергая нас обоих риску впасть в плохую литературу, которую Шницлер по большей части для меня воплощает». Вот почему в тот же самый вечер он пойдет на «Гидаллу», где играют Ведекинд с женой. «Потому что Шницлера этого я вовсе не люблю, лишь иногда почитываю, но не почитаю; конечно, кое-что он может, но крупные его вещи, пьесы и проза, переполнены, на мой взгляд, чуть ли не колышущимся месивом самой омерзительной писанины. Он скатился так низко, что дальше просто некуда... И лишь глядя на его фотографию, на эту пустую мечтательность, на эту мягкотелость души, к которой я побрезгую даже кончиком пальцев прикоснуться, я понимаю, почему и как от первых, отчасти превосходных вещей («Анатоль» , «Хоровод», «Лейтенант Густль») он мог проделать такой удручающий путь. Не кочу в том же письме писать о Ведекинде, неудобно.
Довольно, довольно, теперь вот я еще и Шницлера стер с лица земли -- только за то, что он хотел лечь между нами, как недавно Ласкер-Шюлер».
Ревность его к другим писателям, когда дело касается Фелицы, настолько сильна, что похожа на самую обыкновенную, любовную ревность; при виде столь натуральной и столь откровенной его агрессивности испытываешь оторопь, но и облегчение. Ибо обычно-то в каждом из его писем слышишь только выпады против себя, к этим самообвинениям настолько привыкаешь, что в голосе автора начинаешь слышать свой собственный. В данном же случае необычная агрессивность его нападок на других писателей, их убийственная ярость и даже грубость -- свойства, Кафке по сути совершенно чуждые, -- это все симптомы перемен в его отношении к Фелице. Отношение, которое претерпевает трагический надлом ввиду того, что Фелица не понимает его, Кафки, творчества. Она, чья внутренняя сила так нужна ему для беспрерывной подпитки его писательства, не в состоянии оценить, кого она питает собой, своими письмами.
Положение его в этом смысле особенно усугубляется судьбой и характером его первой книжной публикации. Он слишком умен и серьезен, чтобы переоценивать вес и значимость «Созерцания». Да, это книга, в которой намечены некоторые его темы. Но книга явно наспех сколоченная, неровная, есть в ней что-то манерно-капризное и искусственное, к тому же слышны и посторонние влияния (Роберт Вальзер), а главное, нет внутренней цельности и ощущения настоятельности сказанного. Да, она имеет для него свое значение, поскольку рукопись ее была при нем, когда он впервые увидел Фелицу.
Но шесть недель спустя после того вечера, сразу после первого своего письма к Фелице, он в «Приговоре», а потом и в«Кочегаре» наконец-то всецело стал самим собой. Пожалуй, еще более важным в этой связи представляется тот факт, что ценность и значимость обоих этих произведений была им вполне осознана. Переписка с Фелицей набирала силу, он из ночи в ночь работал над своими вещами, уже через два месяца в «Превращении» он достигнет вершины своего мастерства. Вершины, которую превзойти уже не сможет, ибо нельзя, невозможно превзойти «Превращение», один из немногих великих шедевров нашего столетия.
Четыре дня спустя после того как закончено «Превращение», выходит в свет «Созерцание». Он посылает эту первую свою книгу Фелице и семнадцать дней ждет от нее хоть словечка. Письма приходят иногда по нескольку раз на дню, он ждет тщетно, а ведь он уже написал «Превращение» и добрую часть «Америки». Да тут камень -- и тот бы прослезился! Так он понял, что животворная сила, которой он питается из ее писем и без которой не может творить, дарована ему слепо, бездумно. Она не ведает, кого питает. Сомнения -- а они всегда тлеют в нем и точат его душу -- тут же разрастаются до чудовищных размеров, он уже не уверен в своем праве на ее письма, завоеванном в иные, лучшие времена, и его писание -- а это для него, собственно, и есть жизнь -- начинает давать сбои.
Побочным, но по силе проявления весьма знаменательным последствием этой катастрофы стала его ревность к другим писателям. Других Фелица читала, и его глубоко ранили имена, что без всякого разбора скакали по
150
строчкам ее писем. В ее глазах все это писатели. Но кто же тогда он в ее глазах?
Благодать, от нее исходящая, для него на этом кончилась. С неистовым упорством, которое всегда было поразительной изнанкой его слабости, он ухватился за традиционную форму любовных отношений и оттуда, из этой формы, с тоской взирал назад, на потерянный рай тех трех месяцев, которые так никогда и не вернулись, на счастливое равновесие, которое она когда-то подарила.
Разумеется, в те дни происходят и другие вещи, которые тоже способствовали крушению. Это помолвка Макса Брода, лучшего его друга, который больше, чем кто бы то ни было, побуждал его к писательству, подгонял и пришпоривал. Кафка боится перемен в этой дружбе, а перемены просто оттого, что возле друга теперь появилась женщина -- кажутся ему неминуемыми. На это же время приходятся приготовления к свадьбе его сестры Валли. Все, что с этими приготовлениями связано, проходит перед его глазами, в родительской квартире, а ведь это и его квартира. Ему грустно, что сестра уходит, он чувствует в этом начинающийся раскол семьи, которая, впрочем, в то же время ему и ненавистна. Но он в этой своей ненависти угнездился и без нее уже не может жить. Множество непривычных событий, которые заполняют месяц перед свадьбой, он воспринимает как досадную помеху. Он спрашивает себя, почему обе эти помолвки причиняют ему такое странное страдание, словно сию секунду именно его, его одного, постигло несчастье, в то время как сами главные виновники события неожиданно счастливы.
Его неприязнь к браку как форме жизни, для которой на его глазах происходят столь обширные приготовления, резко усиливается, и он дает ей выход там, где, как он считает, от него подобной формы жизни могут ожидать: он начинает видеть в Фелице опасность, угрозу своему ночному затворничеству и немедленно дает ей это почувствовать.
Но прежде чем сказать, как он пытается защититься от опасности, надо бы поподробнее разузнать, откуда в нем самом это чувство угрозы, где его корни.
«Мой образ жизни всецело подчинен работе -- я пишу... Время мое коротко, силы ничтожны, в конторе у меня кошмар, дома шум, вот и приходится перебиваться всяким штукарством, раз уж красивой и прямой жизни не получается». Так пишет Кафка уже в одном из ранних, точнее в девятом письме к Фелице от 1 ноября 1912 года. После чего он излагает ей свой новый распорядок, благодаря которому ему удается из вечера в вечер садиться за стол в половине одиннадцатого и в зависимости от своих сил, охоты и удачливости работать до часа, двух, а то и трех ночи.
Но еще прежде, в том же самом письме, он позволяет о себе такое высказывание, что пропустить его трудно, а отделаться потом невозможно, в этом месте оно звучит чудовищно: «Я, должно быть, самый худой человек на свете, и это, конечно, неспроста, раз уж я побывал в стольких санаториях...» Этот человек добивается любви -- ибо, конечно, он добивается любви, добивается всерьез -- и тут же говорит, что он самый худой человек на свете! Почему, собственно, это высказывание кажется в такой момент, в таком контексте столь неуместным, даже почти непростительным? Да потому что любовь требует веса, тут нужно тело. Вы должны наличествовать, смешно добиваться любви, намекая при этом на собственную бестелесность. Можно недостаток веса возместить повышенной гибкостью, мужеством, мускульной силой. Но надо что-то сулить, показывать себя, предъявлять, как говорится, товар лицом. Кафка вместо всего этого пускает в ход то единственно сокровенное, чем располагает: полноту зрительных впечатлений, полноту того, что он увидел в облике понравившейся ему девушки; полнота эта и есть его тело. Но подобным образом можно поразить лишь человека со столь же богатым спектром зрительной памяти, всякого другого это либо вовсе оставит безучастным, либо, чего доброго, еще и отпугнет.
151
Поскольку он сразу же заявляет о своей худобе, да притом еще с таким нажимом, это может означать только одно: он очень от этого страдает и считает необходимым первым делом сообщить именно об этом. Это все равно, как если бы он сказал о себе «я глухой» или «я слепой», попытка скрыть столь серьезное увечье сделала бы его обманщиком.
Нам не придется долго рыться в его дневниках и письмах, чтобы увериться в том, что тут мы нащупали сердцевину, корни его «ипохондрии». 22 ноября 1911 года он заносит в свой дневник следующую запись: «Ясно одно: главное препятствие на моем пути к успеху -- мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься... При такой хилости тело у меня непомерно длинное, в нем нет ни капельки жира для производства блаженного тепла, для поддержания внутреннего огня, того жира, которым при случае без ущерба для организма мог бы прокормиться мой дух, презрев повседневные нужды. Но где уж этому слабому сердцу, которое в последнее время так часто покалывает, прогнать кровь по всей длине этих ног...»
3 января 1912 года он составляет для себя реестр того, чем ему пришлось пожертвовать ради писательства: «Когда где-то внутри моего организма стало ясно, что писательство есть наиболее продуктивное употребление моего существа, все внутренние силы устремились туда, бросив в полном запустении все те мои способности, которые прежде первым делом направлялись на радости плоти, пола, еды, питья, философского раздумья и музыки. По всем этим направлениям я сразу отощал. Это оказалось необходимо, поскольку силы мои в совокупности своей столь скудны, что делу писательства могут худо-бедно служить лишь сообща...»
17 июля 1912 года он пишет Максу Броду из уже упомянутого курортного местечка Юнгборн: «А еще я заигрываю с дурацкой идеей растолстеть и уже с этого нового рубежа начать изнутри общий процесс выздоровления, как будто последнее -- или хотя бы даже только первое -- вообще возможно».
Следующее по времени его высказывание, касающееся его худобы, это уже процитированное нами место из письма Фелице от 1 ноября того же года. Два с небольшим месяца спустя, 10 января 1913 года, он снова пишет Фелице: «Ну и как прошло семейное купание? Увы, следующую реплику я вынужден в себе подавить (она касается моего вида в ванной, моей худобы). Я в ванной выгляжу сиротой из приюта». И после этого он рассказывает, как маленьким мальчиком в каком-то дачном местечке на Эльбе избегал ходить в тесную, битком забитую купальню, поскольку стеснялся своего внешнего вида.
В сентябре 1916 года он решается сходить к врачу -- событие для него чрезвычайное и рискованное, ибо врачам он не доверяет,-- и вот как он повествует Фелице об этом визите: «Врач, у которого я был... был мне очень приятен. Спокойный, немного чудной, но уже в годах и такой толстый (для меня навсегда останется загадкой, как ты смогла проникнуться доверием к такой длинной и тощей жерди, как я), так вот, такой толстый, что к нему сразу испытываешь доверие!»
Я процитирую еще несколько высказываний за последние семь лет его жизни, когда отношения с Фелицей были окончательно расторгнуты. Важно понять, что эта идефикс насчет собственной худобы никогда его не покидала, ею окрашено всякое его воспоминание.
В знаменитом «Письме к отцу» 1919 года опять-таки встречается место по поводу детского купания: «Вспоминаю, например, как мы нередко переодевались в одной кабине. Я худой, слабый, узкоплечий, ты сильный, большой, необъятный. Уже тогда, в кабине, я казался себе жалким, причем не только перед тобой, но и перед всем миром, ибо ты был для меня мерой всех вещей».
Самое впечатляющее свидетельство мы найдем в одном из первых писем к Милене в 1920 году. И здесь он не может обойтись без того, чтобы как можно скорее предстать перед женщиной, которой он добивается -- а Милены он добивается страстно,-- во всей своей худобе. «Несколько лет назад я часто катался на лодке по Влтаве, я греб против течения, а потом,
152
растянувшись в лодке во весь рост, спускался вниз по реке под всеми мостами. С моста все это, надо полагать, выглядело довольно странно из-за моей худобы. Сослуживец с моей работы, увидев меня однажды вот так, с моста, подытожил свои впечатления -- после того, как вволю надо мной повеселился -- следующим образом: это выглядело как перед Страшным судом. Как будто крышки с гробов уже сорвало, но мертвые еще не восстали».
Образ худого и образ мертвеца слились тут воедино, представление Кафки о собственной телесности воплощено в прямой сопряженности с метафорикой Страшного суда, и трудно, невозможно придумать картину более безутешную и роковую. Как будто в этом худом или в этом мертвеце, которые тут слились, жизни осталось ровно столько, чтобы успеть сплавиться вниз по течению и предстать перед Страшным судом.
В последние недели жизни, в санатории в Кирлинге, Кафка по настоянию врачей не разговаривал. На вопросы собеседников он отвечал записками, некоторые из них сохранились. Однажды его спросили о Фелице, и он написал следующий ответ. «Я собирался как-то поехать с ней (и с ее знакомыми) на море, но из-за худобы и прочих мелких страхов устыдился».
Особая чувствительность во всем, что касается собственного тела, не покидала Кафку никогда. Как явствует из приведенных выше высказываний, она проявилась, видимо, еще в детстве. Он очень рано стал обращать внимание на свое тело -- в первую очередь на свою худобу. И привык отмечать все, чего его телу недостает. Собственное тело стало для него объектом наблюдений, от которого он не в состоянии был ни убежать, ни оторваться. Здесь все, что он видел и чувствовал, было ему близко, все было взаимосвязано и неотделимо друг от друга. Размышляя о своей худобе, он пришел к несокрушимому убеждению в собственной слабости, и в конце концов не так уж важно знать, всегда ли эта слабость и в самом деле имела место. Ибо безусловно всегда имело место другое: основанное на убеждении в собственной слабости чувство угрозы. Он страшится проникновения враждебных сил в свое тело и, дабы его предотвратить, зорко прослеживает пути возможных вторжений. Постепенно его мысли сосредоточиваются на отдельных органах. У него вырабатывается особая чувствительность к ним, покуда каждый орган не оказывается под своей особой охраной. Но тем самым число возможных напастей только увеличивается -- ведь тревожных симптомов великое множество, особенно когда столь мнительный наблюдатель берется следить за каждым органом по отдельности. То тут, то там органы напоминают о себе уколами боли, было бы преступной самонадеянностью не взять эти боли на заметку. Это предвестники опасности, вражеские лазутчики. Ипохондрия - только разменная монета страха, это страх, дабы слегка рассеяться, подыскивает и находит себе другие имена.
Его повышенная восприимчивость к шуму -- тоже своего рода охранная сигнализация, она фиксирует некие дополнительные, еще неведомые опасности. От них, впрочем, можно уберечься, избегая шума пуще нечистой силы,-- с него довольно опасностей распознанных, чьи сплоченные атаки он отражает только благодаря тому, что способен эти опасности назвать поименно.
Его комната -- это тоже его защита, она становится как бы его внешним телом, это, можно сказать, его пред-тело. «Я должен спать в комнате совершенно один... Это просто неизбежная уступка страху: как лежащий на полу уже не упадет, так и с тем, кто один в комнате, ничего не случится». Он не выносит, когда кто-то заходит к нему в комнату. Даже совместная жизнь в одной квартире с домочадцами для него сущая мука. «Я не могу жить с другими людьми, я начинаю ненавидеть всех без исключения своих родственников -- и не потому, что они мне родня, и не потому, допустим, что они нехорошие люди... а просто потому, что это люди, живущие ко мне ближе всех».
Чаще всего он жалуется на бессонницу. Но, быть может, его бессонница -- просто оборотная сторона его бдительности, той неусыпной охра-
153
ны собственного тела, которую невозможно снять, ибо со всех сторон она принимает тревожные сигналы, прислушивается к грозным предвестьям, истолковывает их и связывает воедино, срочно вырабатывает систему защиты и обязательно должна достигнуть некоей спасительной точки, когда эта система кажется надежной: это точка взаимного равновесия угроз, их уравновешенности на чашах весов и, следовательно, точка покоя, неподвижности. Сон при этом становится воистину избавлением, когда сверхвосприимчивость, неизбывная его мука, наконец-то его отпускает и дает ему передышку. У Кафки легко обнаружить нечто вроде молитвенного поклонения сну, для него это лекарство от всех болезней, панацея от всех бед, лучшее, что он может порекомендовать Фелице, когда состояние ее его беспокоит, это: «Спи! Спи!» Даже сторонний читатель воспринимает эти слова как заклинание, как благословение.
Еще угрожают телу, конечно же, все яды, которые в него проникают вместе с дыханием, с едой и питьем, с медикаментами.
Плохой, спертый воздух опасен. У Кафки часто об этом речь. Достаточно вспомнить канцелярии на чердаке в« Процессе» или душную, жаркую, перетопленную мастерскую художника Титорелли. Плохой воздух для него -- это несчастье и нередко ведет чуть ли не к катастрофам. Путевые дневники исповедуют культ чистого воздуха; по его письмам легко увидеть, сколько надежд он возлагает на свежий воздух. Спит он - даже в зимние морозы - всегда только с открытым окном. Курение решительно осуждает; отопление пожирает воздух, поэтому он пишет в неотапливаемой комнате. Он регулярно делает зарядку у открытого окна. Тело подставляет свежему воздуху, который струится по коже, проникает в поры. Но настоящий воздух, конечно, только за городом, в деревне; деревенская жизнь, к которой он так побуждает свою любимую сестру Оттлу, позже на много месяцев становится и его уделом.
Он тщательно подбирает пищу; в безопасности которой может себя убедить. Не раз и подолгу живет вегетарианцем. Поначалу в этой его жизненной установке не ощущается никакой аскезы; в ответ на тревожные расспросы Фелицы он посылает ей перечень овощей и фруктов, которые съедает на ужин. Просто надо уберечь свое тело от ядов и прочих опасностей. Кофе, чай и алкоголь он, разумеется, давно себе запретил.
В его фразах нетрудно расслышать радостную легкость и даже озорство, когда он пишет об этой стороне своей жизни, в то время как сообщения о бессоннице неизменно пронизаны отчаянием. Этот контраст настолько бросается в глаза, что трудно избежать соблазна как-то его объяснить. Кафку увлекла природная медицина, прежде всего исповедуемая ею концепция тела как единства, и, что его особенно убеждало, принципиальный отказ от терапии отдельных органов. Он, кто бессонными ночами распадается на части, прислушиваясь к своим органам, ловя их сигналы, тревожась из-за каждого сомнительного движения внутри, конечно, нуждается в научной методе, которая предписывает его телу единство. Официальная медицина представляется ему вредной, поскольку она слишком много занимается отдельными органами. Впрочем, в этой его неприязни к официальной медицине есть и некоторая примесь ненависти к самому себе: он ведь тоже выискивает в себе разные симптомы, когда ночами лежит без сна.
Вот почему он, испытывая почти чувство счастья, с головой ныряет в ту кипучую деятельность, которая потребна для целостности тела, для восстановления его единства. Плавание, гимнастика нагишом, дома дикие прыжки вниз по лестницам, пробежки, долгие пешие прогулки, походы за город, где так хорошо, так привольно дышится,-- все это оживляет его и дает надежду хотя бы сегодня, а может, и на более долгий срок избавиться, освободиться от мучительного распада бессонной ночи.
Где-то в конце января 1913 года, после неоднократных и безуспешных подступов, Кафка окончательно прекращает работать над своим романом, после и вследствие чего акцент в его письмах все больше и больше смещается в сторону жалобы. Хочется даже сказать, что эти письма теперь вообще
154
служат только жалобе. Его недовольство теперь не имеет никакого противовеса; ночи, когда он становился самим собой, ночи, которые оправдывали все, его истинная, его единственная жизнь -- все это отныне принадлежит только прошлому. Ничто теперь его не держит, не скрепляет воедино, кроме жалобы -- она заступила на место писательства и стала его новым -- куда менее ценным -- единством, но без нее он вовсе бы замолк, подчинившись распаду и боли. Он привык к внутренней свободе этих писем, когда можно высказывать все, по крайней мере тут его отпускало то оцепенение, которое так мешало ему в живом общении с другими. Ему нужны эти письма к Фелице, которая, как и прежде, повествует ему о своем берлинском житье-бытье, а когда нет от нее свежей весточки, хоть словечка, за которое можно уцепиться, он повисает, «как в пустоте». Ибо невзирая на неуверенность, что «шагает следом за творческим бессилием, за моим не-писанием, точно злой дух», он остается для себя предметом самых пристальных наблюдений; и если свыкнуться с тем, что литания жалобы -- это своего рода язык, в котором должно быть спасено все остальное, то этот никогда не умолкающий медиум поведает нам о нем самые удивительные вещи словами такой точности и такой истинности, какая дана была только очень немногим.
В этих письмах непредставимая мера интимности: они куда интимней, чем могло бы быть самое совершенное описание счастья. Этот отчет о собственной нерешительности не с чем сопоставить, мир не знал саморазоблачения, до такой же степени беспощадного и точного. Примитивному человеку эту переписку почти невозможно читать, она покажется ему лишь бесстыдным балаганом духовной импотенции, ибо все, что подтверждает такую точку зрения, в этих письмах есть: нерешительность, боязливость, душевный холод, во всех подробностях изображенная недостача любви, беспомощность -- причем такого масштаба, что только именно это сверхточное ее описание и делает ее сколько-нибудь правдоподобной. Но все это «схвачено» так, что сразу и на месте становится законом и откровением. Поначалу с легким сомнением, но затем со стремительно возрастающей уверенностью понимаешь, что ничего из этого ты больше никогда не забудешь, словно написали все это, как в «Исправительной колонии», на твоей собственной шкуре. Есть писатели, правда, их очень немного, которые проявились настолько сильно, что всякое постороннее о них высказывание начинает представляться варварством. Франц Кафка как раз такой писатель; поэтому, пусть даже с некоторым риском для свободы изложения, будем как можно ближе придерживаться его собственных слов. Конечно, испытываешь чувство стыда, когда начинаешь вторгаться в интимность этих писем. Но они же сами потом тебя от всякого стыда избавляют. Ибо, читая их, вдруг открываешь, что такой рассказ, как «Превращение», еще интимнее, чем эти письма, и наконец-то осознаешь, чем этот рассказ отличается от всех других рассказов на свете.
Самое главное в Фелице то, что она была, что она не придумана и что такую, какой она была, Кафка не смог бы ее придумать. Она была такая разная, такая деятельная, такая настоящая. Покуда он кружил над ней где-то далеко, он ее боготворил и мучил. Он засыпает ее своими вопросами, просьбами, страхами, лишь бы выбить из нее ответные письма. Тепло любви, что она ему дарит, это кровь для его сердца, и другой крови у него нет. Заметила ли она, что в своих письмах он ее, собственно, не столько любит -- ибо тогда бы он думал и писал только о ней одной,-- сколько, скорее, боготворит, ожидая от нее помощи и благодати в самых невероятных вещах. «Иногда я думаю, Фелица, раз уже тебе дана такая власть надо мной, преврати же меня в человека, способного на самое обыкновенное». А в светлую минуту он благодарит ее -- и вот за что: «Какое дивное чувство быть укрытым тобою, спрятанным от этого чудовищного мира; с которым я лишь ночами, если пишу, могу тягаться».
Малейшую рану другого он ощущает собственной кожей. Ужас его положения в том, что он, совсем не боец, всякую рану чувствует заранее. Поэтому он так страшится столкновения: все врежется только в его плоть,
155
а враг останется невредим. Если в одном из писем он обронил что-то, что могло Фелицу задеть, он в следующем непременно об этом напомнит, можно сказать, носом ткнет, чтобы тут же повторить извинения, а она даже не замечает, вообще не понимает, о чем речь. Вот так и получалось, что он -- на свой манер -- начинал видеть в ней врага.
В немногих словах ему удается объяснить самую суть своей нерешительности: «Тебе когда-нибудь... случалось колебаться, видя, как для тебя одной, только для тебя и вне всякой связи с другими, открывается множество самых разных возможностей тут и там, но именно поэтому возникает запрет и ты вообще не можешь сдвинуться с места...»
Значения этих разных возможностей, что открываются тут и там, равно как и тот факт, что он видит их все сразу, нельзя недооценивать. Это признание объясняет его особое отношение к будущему. Ибо из шагов, нащупывающих каждый раз новые возможности будущего, во многом состоит его творчество. Он не признает одно будущее, будущих много, и эта их множественность его почти парализует, сковывая его шаги. Лишь за письменным столом, когда он, колеблясь, но все же поборов нерешительность, ступает на одну из этих тропок, он останавливает на ней и тогда уж только на ней, начисто забыв про остальные -- свой взгляд и ощупью движется вперед, но при этом никогда не видит дальше следующего шага. Закрытость дальней перспективы и оказывается тогда, собственно, его искусством. Вероятно, именно эти шаги в одном направлении, возможность напрочь забыть о других путях, которые тоже ему открывались, и дарят ему чувство счастья, когда он пишет. Мерой успеха становится сама ходьба, чеканность шагов, которые ему так легко даются, и ни один не собьется, ни один раз уж он сделан - не будет робким. «Я ведь по сути... не умею рассказывать, я даже почти говорить не умею; когда я рассказываю, я обычно испытываю то же, что, должно быть, чувствуют дети, когда впервые пробуют ходить».
Снова и снова он жалуется на трудности общения, на свою скованность в обществе, описывая их с пугающей отчетливостью: «Опять бессмысленный вечер в обществе самых разных людей... Я кусал губы, стараясь не упустить предмет беседы, но при всем напряжении мои мысли не могли за него удержаться, я был не здесь, хотя ни в каком другом месте меня тоже не было; может, я эти два часа вообще не существовал? Должно быть, так оно и есть, потому что проспи я там весь вечер в кресле -- и то мое присутствие было бы более заметным». «Я и вправду полагаю, что для общения с людьми я человек пропащий». Он договаривается даже до совсем уж невозможного утверждения, что за много недель своих совместных путешествий с Максом Бродом будто бы не провел с ним ни одного связного разговора, в котором раскрылось бы все его существо.
«Более или менее я еще переносим в привычной для меня обстановке, в окружении двух-трех знакомых, тогда я чувствую себя свободно, не надо постоянно напрягать внимание и утруждаться общением, но если охота, то я могу и поучаствовать в общей беседе, если хочу и сколько хочу, никому до меня нет дела, и я никому не в тягость. Если есть незнакомый человек, который меня занимает, будоражит, тем лучше, я могу тогда -- как бы позаимствовав чужие силы -- очень даже оживляться. Но если я в незнакомой квартире, в окружении множества чужих людей -- или людей, которых я ощущаю чужими, тогда вся комната давит мне на грудь и я не могу шелохнуться...»
Подобные живописания он постоянно использует, чтобы предостеречь ее от себя, и хотя их и без того великое множество, он все не может остановиться. «В том-то и дело, что я не нахожусь в себе, я не всегда есмь «что-то», а если я какое-то время и был «чем-то», то потом плачу за это месяцами «небытия». Он сравнивает себя с птицей, которую некое зловещее заклятье отделило от ее собственного гнезда, и вот она кружит и кружит над этим совершенно пустым гнездом, не спуская с нero глаз.
«Я совсем другой человек, чем был в первые два месяца нашей переписки; это вовсе не новое превращение, это обратное превращение, и теперь уже
156
надолго».- «Нынешнее мое состояние... вовсе не исключительное. Не поддавайся, Фелица, таким иллюзиям. Ты и двух дней рядом со мной не сможешь прожить». «В конце концов ты же нормальная девушка и ждешь мужчину, а не мягкотелого земляного червя».
Среди прочих мифов, которыми он обгородился, дабы не допустить физического сближения с Фелицей и ее проникновения в его жизнь, есть и миф о его неприязни к детям.
«У меня никогда не будет ребенка», пишет он ей уже в первые месяцы, 8 ноября, но пока что только из зависти к одной из своих сестер, которая как раз родила девочку. Более серьезный оборот дело принимает в декабре, когда его разочарование Фелицей четыре ночи подряд изливается во все более мрачных и враждебных письмах. Первое мы уже знаем, это его яростная вспышка ревности к Ойленбергу, знаем и второе, где он упрекает ее за то, что она никак не отозвалась на его «Созерцание». В третьем он цитирует ей из собрания высказываний Наполеона следующую фразу: «Страшно умереть бездетным». И добавляет: «Мне надо приготовиться принять на себя и это несчастье, поскольку... я никогда не позволю подвергнуть себя риску отцовства». В четвертом письме, написанном в новогоднюю ночь, он чувствует себя брошенным, как собака, и почти с ненавистью живописует праздничный шум на улице. В конце письма, отвечая на ее слова «мы обязательно будем вместе»... он замечает, что это тысячу раз так, и сейчас, в первые часы нового года, у него нет более страстного и более дурацкого желания, чем ощутить «что мы неразрывно связаны друг с другом по запястьям твоей левой и моей правой руки. Не знаю, почему мне пришло это в голову, может, потому, что передо мной на полке стоит книга воспоминаний современников о Французской революции, которая доказывает, что такая неразрывная связь все же возможна... ибо когда-то, связанные именно таким образом, пары всходили на эшафот. Но что это, право, мне в голову взбрело... Наверно, всему виной число 13 в этом новом году».
Брак как эшафот -- вот какой образ знаменует для него начало нового года. И в предзнаменовании этом -- невзирая на все колебания, перемены и противоречивые события -- в течение всего года ничто для него не изменилось. Самым мучительным в его представлениях о браке, видимо, было то, что тут нельзя спрятаться, исчезнуть, сойти на нет -- надо всегда быть. Страх перед чужой силой -- главное переживание Кафки, и его средство от этого страха защититься -- это превращение в нечто маленькое. Фетишизация мест и состояний, которая выражена у него столь настойчиво, что это начинает казаться манией, на самом деле есть сакрализация человека. Всякое место, всякий миг, каждое передвижение, каждый шаг необычайно ответственны, важны, своеобычны, неповторимы. От насилия, гнета несправедливости можно спастись, только если от него скрыться, исчезнуть. Надо стать очень маленьким, превратиться в букашку, чтобы избавить других от соблазна вины, которую те взгромоздят на себя нелюбовью и убиением; надо «не допустить до себя голод других», тех, которые не отстают от тебя со своими мерзкими обычаями и привычками. Но нигде такое отъединение до такой степени мало возможно, как в браке. Ты всегда должен быть тут, хочешь ты того или нет, по крайней мере часть дня и часть ночи, и все это в иерархии величин, которая задана партнером и которую не изменишь, иначе это не брак. А место маленького -- такое в браке тоже есть -- узурпировано детьми.
Однажды в воскресенье он целый день слушал дома «безумные, монотонные, неумолчные, то и дело возобновляемые со свежей силой крики, пение, хлопанье в ладоши» -- это его отец с утра забавлял внучатого племянника, а после обеда -- внука. Негритянские пляски -- и те ему, Кафке, ближе. Но быть может, размышляет он далее, его донимает вовсе не крик, он просто вообще с трудом переносит присутствие детей в квартире. «Я просто этого не могу, не могу забыть самого себя, моя кровь не хочет течь в жилах, она останавливается, стынет»,--- вот этот голос крови и есть то, что он чувствует по отношению к детям.
Пожалуй, в присутствии детей Кафка испытывает уже и зависть, но не
157
ту добрую зависть, которой, быть может, следовало ожидать, а зависть, смешанную с неодобрением. Дети не только кажутся ему узурпаторами маленького, того, во что он сам хотел бы шмыгнуть. Выясняется, что они еще и совсем другое маленькое, чем он, не то маленькое, которое, как он, хочет исчезнуть. Они -- ложное маленькое, которое подвержено шуму и пагубному воздействию взрослых, маленькое, которое всячески побуждаемо стать большим и которое даже хочет стать большим -- вопреки сокровеннейшим чаяниям его, Кафки, натуры: становиться все меньше, тише, легче, покуда не исчезнешь вовсе.
После стольких свидетельств хандры, скованности, бессилия уже почти не надеешься найти в этих письмах хоть какие-то проблески счастья или, по крайней мере, доброго самочувствия, и с тем большим изумлением их обнаруживаешь, причем выраженные вполне определенно и энергично.
Это первым делом одиночество за письменным столом. В самый разгар работы над «Превращением», то есть в самую благодатную свою пору, он просит Фелицу не писать ему еще и по ночам в постели, а лучше спать. Ночное писание, эту маленькую возможность гордиться своей ночной работой, она должна оставить ему; а в доказательство того, что ночная работа повсюду в мире, даже в Китае, есть удел мужчины, он переписывает ей маленькое китайское стихотворение, которое особенно любит. Ученый за своей книгой пропустил час отхода ко сну. Его подруга, устав сдерживать гнев, забирает у него лампу и сердито спрашивает: «Ты хоть знаешь, который час?».
Вот так ему видятся его ночные бдения - это когда работа идет хорошо; цитируя это стихотворение, он еще не осознает, что тут есть скрытый выпад против Фелицы. Позднее, 14 января, когда ситуация изменилась, Фелица его разочаровала, а работа застопорилась, ему снова вспоминается китайский ученый из стихотворения, но теперь он прибегает к нему, чтобы отгородиться от Фелицы: «Ты однажды написала, что хотела бы сидеть рядом, когда я пишу, но поверь, я тогда не смогу писать вовсе... Писать - это ведь значит открываться сверх всякой меры... Поэтому всякого одиночества мало, когда пишешь, и даже мертвой тишины недостаточно, когда пишешь, и самая темная ночь еще не совсем ночь. Поэтому и никакого времени никогда не хватает, ибо пути тянутся нескончаемо, и заблудиться ничего не стоит... Я уже не раз думал о том, что лучшим образом жизни для меня было бы запереться, прихватив с собой перо, бумагу, лампу, в самом дальнем помещении длинного, узкого подвала. Еду бы мне приносили и ставили где-нибудь далеко, при входе в подвал. Поход за едой в шлафроке, под сводами подвальных склепов и был бы моей единственной каждодневной прогулкой. Потом я возвращался бы к столу, медленно, вдумчиво съедал бы свою пищу и снова принимался бы за работу. Ах, как бы мне писалось тогда! Из каких глубин я бы себя мог исторгнуть!»
Это замечательное письмо надо прочесть все, от начала до конца, никто и никогда еще не говорил о писательстве чище и строже. Все на свете башни из слоновой кости меркнут и рушатся перед ликом этого подземного жителя, и затасканные, пустопорожние слова об «одиночестве» поэта внезапно снова обретают и убедительность и весомость.
Это и есть единственное и подлинное счастье, которое ему нужно, к которому он рвется каждой клеточкой своего существа. Вторая ситуация, совсем иного рода, которая приносит ему удовлетворение,-- это стоять рядом, созерцая удовольствие других, когда самого его как бы исключили и никто ничего от него не ждет. Так, например, он, оказывается, любит находиться среди людей, которые едят и пьют все то, что сам он себе запретил. «Когда я сижу за столом в компании десятерых знакомых и все они пьют кофе, я, глядя на них, испытываю что-то вроде счастья. И пусть вокруг меня дымятся огромные куски мяса, залпом опорожняются пивные кружки, взрезаются моей многочисленной родней... эти сочные еврейские колбасы...-- все эти, равно как и более страшные вещи не вызывают у меня ни малейшей неприязни, напротив, доставляют мне необычайное
158
удовольствие. И это, разумеется, отнюдь не злорадство... это скорее покой, совершенно беззавистливый покой при виде чужих радостей».
Пожалуй, оба этих вида хорошего самочувствия от него можно было ожидать, хотя второй, надо признаться, выражен сильнее, чем представлялось. Что действительно удивляет, так это то, что ему, оказывается, ведомо и счастье экспансии, а именно в процессе чтения своей прозы. Всякий раз, когда он сообщает Фелице, что выступал с чтением своих вещей, тон его писем тут же меняется. У него, не умеющего плакать, в конце чтения «Приговора» стоят в глазах слезы. Письмо от 4 декабря, то есть непосредственно после этого вечера, изумляет своим чуть ли не диким темпераментом: «Дорогая, я дьявольски люблю эти чтения, кричать в отверстые, внимательные уши слушателей -- о, какое это блаженство для бедного сердца. И я, поверь, вдоволь накричался, музыку, что из соседних залов пыталась избавить меня от мук чтения, я своим голосом попросту выгнал вон. Знаешь, командовать людьми или, по крайней мере, верить в силу своих команд -- для тела, пожалуй, нет большего удовольствия». Еще за несколько лет до этого он предается мечтаниям о том, как в большом, переполненном зале прочтет все «Воспитание чувств» -- книгу Флобера, которую он страстно любил, -- без перерыва от начала и до конца, столько дней и ночей подряд, сколько понадобится, по-французски -- «и чтобы стены отзывались эхом».
На самом деле привлекает его, конечно, не «командование» -- тут, в порядке исключения, он, еще не остыв от экзальтации, позволяет себе выразиться не вполне точно,-- он хочет провозгласить закон, окончательно непреложный и непререкаемый закон, а если это еще и Флобер, то тогда для него это Закон Бога, а он, Кафка, пророк его. Но он ведает и веселую свободу, обретаемую в такой экспансии; среди тоски февраля и марта он вдруг коротко сообщает Фелице: «Дивный вечер у Макса. Читал свою историю и довел себя до неистовства». (Вероятно, речь тут о заключительной части «Превращения».) «Нам потом всем было очень хорошо, и мы много смеялись. Если отгородиться от этого мира, заперев все окна и двери, то оказывается, еще можно заложить первый камень иной действительности, начало прекрасного бытия».
В конце февраля Кафка получает от Фелицы письмо, которое его пугает до смерти, оно звучит так, словно он все это время ничего на себя не наговаривал, словно она ничего не слышала, ничего не поняла, ничему не поверила. Он даже не сразу откликается на вопрос, который она ему задала, но, собравшись с духом, отвечает с удивительной резкостью: «Напоследок ты спрашиваешь меня... о моих планах и видах. Меня этот вопрос удивил... Разумеется, у меня нет вовсе никаких планов, вовсе никаких видов, ходить в будущее я не умею, я могу в будущее только проваливаться, нырять с головой, скатываться в будущее, споткнувшись, лететь в будущее кувырком, -- это я могу, а лучше всего умею просто лежать лежмя. Но уж планов и видов на будущее у меня точно никаких нет, если мне хорошо, то я до краев переполнен настоящим, если мне плохо -- я кляну настоящее, как только что клял будущее».
Это ответ риторический, неконкретный и неточный, что доказывается хотя бы тем, сколь неправдоподобно он обрисовывает здесь свое отношение к будущему. Он не отвечает, а панически отбивается; несколькими месяцами позже за этой риторической эскападой последуют и другие, мы сможем познакомиться с ними лучше и увидим, сколь резко выпадают они из обычного, сбалансированного и выверенного строя его предложений.
Но начиная с этого письма в нем всерьез укрепляется мысль о поездке в Берлин, с которой он заигрывал неделями раньше. Он хочет снова увидеться с Фелицей, дабы отпугнуть ее самим собой, своим видом, раз уж его письма на нее не подействовали. Для своего визита он выбирает Пасху, у него тогда два выходных дня. Манера, в которой он предваряет свой визит, столь характерна для его нерешительности, что эти письма за неделю до Пасхи просто необходимо процитировать. Напомним, в первый раз за
159
более чем семь месяцев они должны снова увидеться, речь идет об их действительно первом свидании после того знаменательного вечера.
Итак, 16 марта 1913 года, в воскресенье перед Страстной, он ей пишет: «Скажи начистоту, Фелица, на Пасху, в воскресенье или понедельник, не найдется ли у тебя, когда угодно, часок свободного времени для меня, а если найдется, как ты считаешь, будет ли хорошо, если я приеду?»
В понедельник он сообщает. «Не знаю, смогу ли я поехать, сегодня это еще неясно, но завтра уже будет известно точно... Так что в среду в десять ты уже определенно это будешь знать».
Во вторник: «Препятствие к моей поездке само по себе все еще не устранено, и боюсь, не будет устранено и дальше, но как препятствие оно свое значение утратило, так что я мог бы, если это вообще возможно, и приехать. Вот что я хотел сообщить в спешке».
В среду: «В Берлин я еду ни с какой иной целью, кроме как сказать и показать тебе, введенной в заблуждение моими письмами, каков я на самом деле. Смогу ли я лично сделать это убедительней, нежели делал это письменно?.. Так что, где бы я мог тебя увидеть в воскресенье до обеда? Если же поездка моя почему-либо сорвется, я телеграфирую тебе самое позднее в субботу».
В четверг: «...а к прежним угрозам нынче добавились новые угрозы возможных препятствий моему маленькому путешествию. Сейчас повелось на Пасху -- я как-то об этом не подумал -- устраивать конгрессы всевозможных объединений...» В одном из таких конгрессов ему, быть может, придется принять участие в качестве делегата от своего страхового агентства.
В пятницу: «...При этом еще совершенно неясно, еду я или нет, только завтра утром все решится... Если я поеду, то остановлюсь, скорее всего, в отеле «Асканийское подворье»... Но прежде чем предстать перед тобой, мне надо будет хорошенько выспаться».
Это письмо он отправляет только в субботу утром, 22 марта. На конверте, в качестве последней приписки, стоит: «Все еще неизвестно». После чего, в тот же самый день, он садится в поезд и поздно вечером прибывает в Берлин.
В пасхальное воскресенье, двадцать третьего числа, он пишет ей уже из гостиницы. «Что происходит, Фелица?.. И вот я в БерлинеТ мне после обеда, в четыре или пять, надо уже уезжать, часы проходят, а о тебе ни слуха ни духа. Пожалуйста, пришли мне ответ с этим мальчишкой-курьером... Я сижу в гостинице и жду».
Фелица меж тем, как нетрудно догадаться по его сбивчивым и противоречивым извещениям в течение всей недели, вообще почти не верила в его приезд. Он около пяти часов пролежал на кушетке у себя в номере, дожидаясь от нее звонка и не зная, позвонит ли она вообще. Жила она далеко, в конце концов он ее увидел, но у нее было мало времени, всего же они в этот раз виделись дважды, но оба раза очень недолго. Так прошло их свидание -- первое за семь месяцев.
Но похоже, даже этими недолгими мгновениями Фелица сумела распорядиться с толком. Она берет на себя ответственность за все. Она говорит ему, что он теперь ей необходим. Важный результат этой поездки -- их решение снова увидеться на Троицу. Вместо прежних семи месяцев разлука продлится теперь только семь недель. Создается впечатление, что Фелица поставила перед ними обоими цель и теперь пытается вдохнуть в него решимость на некий важный шаг.
Две недели по возвращении он огорошивает ее известием, что работал за городом, в предместье Праги, у какого-то садовника, под холодным дождем, почти раздетый, только в рубашке и брюках. Ему это пошло на пользу. Ведь его главная задача сейчас -- «хоть на несколько часов избавиться от мучительного самокопания и в отличие от призрачной, пустопорожней деятельности в конторе... отдаться тупому, честному, полезному, молчаливому, одинокому, здоровому, утомительному физическому труду». Этим он надеется к тому же заслужить чуть более крепкий сон ночью.
160
Незадолго до этого он приложил к своему посланию письмо от Курта Вольфа, в котором тот просит передать ему «Кочегара» и «Превращение». Похоже, в нем вновь ожила надежда, что Фелица увидит и оценит в нем писателя.
Но он напишет ей и совсем другое письмо, уже 1 апреля, одно из тех своих контрписем, которые он имеет обыкновение предуведомлять, сообщать о них заранее, чтобы подчеркнуть их непреложность. «Главная моя боязнь -- пожалуй, ничего худшего нельзя сказать и, значит, услышать -- состоит в том, что я никогда не смогу владеть, обладать тобою... Что я буду сидеть подле тебя и, как это уже бывало, прислушиваясь к дыханию и жизни твоего тела возле моего плеча, буду на самом деле бесконечно далек от тебя, гораздо дальше, чем сейчас, когда я сижу в своей комнате... Что я навсегда останусь отъединенным от тебя, сколь бы низко ты ни склонялась надо мной, презрев всяческую опасность...» Письмо намекает, конечно, на его страх перед импотенцией, но не стоит эти намеки переоценивать, это всего лишь один из многих его телесных страхов, о которых уже достаточно подробно было сказано. Фелица на это вовсе никак не отреагировала, словно бы и не поняла, о чем речь, или словно уже слишком хорошо его знает и вообще отчаялась понять.
Но в течение десяти дней, что она проводит во Франкфурте на выставке по делам своей фирмы, он получает от нее только скудные весточки -- то открытку, то телеграмму из главного павильона. И по возвращении, уже из Берлина, она пишет ему реже и короче. Возможно, она догадалась, что это единственное ее средство воздействия, и что таким образом, лишая его своих писем, она подталкивает его к решению, которого от него ждет. Он сразу же обнаруживает признаки тревоги. «Твои последние письма совсем другие. Мои дела тебе уже не так интересны и, что еще хуже, тебе уже не так важно сообщать мне о себе». Но он обсуждает с ней совместное путешествие на Троицу. Он хочет познакомиться с ее родителями, тоже важный шаг. Он заклинает ее не встречать его в Берлине на вокзале, он всегда приезжает в ужасном состоянии.
11 и 12 мая он снова видится с ней в Берлине. На сей раз он проводит с ней больше времени, чем на Пасху, он принят в доме и знакомится с семьей Фелицы. Эта семья, пишет он вскоре, взирала на него, являя собой картину величественного равнодушия. «Я чувствовал себя таким маленьким, а они обступили меня такими гигантами, с такими роковыми лицами. И это все соответствовало соотношению сил, они владеют тобой и потому большие, я тобой не владею и поэтому маленький... Я должен был произвести на них весьма гадкое впечатление...» Знаменателен в этом письме перевод отношений владения и власти в физические соизмерения величин. Малое как воплощение бессилия нам более чем хорошо известно по его произведениям. Противоположностью малому выступают, естественно, гигантские, в его глазах -- невероятно огромные члены семейства Бауэров.
Но дело не только в семье, особенно в матери, при виде которой его просто берет оторопь, -- его беспокоит и то, как сам он влияет на Фелицу. «...Ты же совсем не то, что я, суть твоя -- в действии. Ты энергична, быстро соображаешь, все мгновенно схватываешь, я же видел тебя дома, ...видел тебя и в Праге, в окружении незнакомых людей, ты во всех принимала участие, но при этом не теряла уверенности,-- но при мне ты сникаешь, смотришь в сторону или в траву, терпишь мои дурацкие разглагольствования или мое куда более уместное молчание, ничего не хочешь толком обо мне узнать и лишь страдаешь, страдаешь, страдаешь без конца...» Стоит ей остаться с ним наедине, она тут же начинает вести себя, как он: умолкает, становится неуверенной, невеселой. Впрочем, весьма вероятно, что истинные причины ее неуверенности он просто не распознал. Она не хочет слышать от него ничего серьезного, потому что знает, что ее в таком случае ждет: новые и весьма красноречиво изложенные сомнения, которым она ничегошеньки не смогла бы противопоставить кроме своей твердой и бесхитростной решимости довести дело до помолвки. Любопытно все-таки, до какой степени его представление о ней все еще определяется тем вечером
161
в Праге, когда он видел ее «в окружении незнакомых людей». Теперь, вероятно, читатель поймет, почему вначале об этом вечере так подробно было рассказано.
Но какие бы новые сомнения, навеянные ее поведением в его присутствии, ни терзали его душу, он обещает написать ее отцу письмо и предварительно прислать это письмо ей, на ее суд. 16 мая он сообщает ей, что письмо вот-вот вышлет, 18 числа повторяет обещание, 23-го подробно перечисляет, что в нем будет написано, но само письмо так никогда и не приходит, оно ему не дается, он не в состоянии его написать. Она в ответ пользуется единственным своим оружием --молчанием, и десять дней не пишет ему ни строчки. Потом от нее приходит «призрак письма», на который он горько сетует, он его даже цитирует. «Мы сидим сейчас все вместе в ресторане у зоопарка после того, как целый день просидели в зоопарке. Я пишу эти строки под столом и одновременно поддерживаю беседу о планах на лето». Он умоляет ее писать ему, как прежде: «Фелица, милая, пожалуйста, пиши мне о себе, как в прежние времена, о твоей работе, о подружках, домочадцах, о твоих прогулках и книгах, ты же знаешь, сколь мне все это жизненно необходимо». И тут же хочет знать, обнаружила ли она хоть какой-то смысл в его «Приговоре». Посылает ей только что напечатанного «Кочегара». Она лишь однажды пишет ему подробнее, и на сей раз сама делится своими сомнениями. Он в ответ сулит ей целый «трактат», который, правда, пока не совсем готов, после чего от нее опять ни строчки. 15 июня, в отчаянии от ее безмолвия, он пишет. «И что только мне от тебя надо? Что гонит меня за тобой? Почему я не отступаюсь, не верю в очевидные предзнаменования? Под предлогом избавить тебя от себя я только все больше к тебе пристаю...» А после, 16 июня, он наконец высылает ей «трактат», который писал в муках, с перерывами и заминками целую неделю. Это письмо, в котором он просит ее стать его женой.
Должно быть, это самое странное брачное предложение на свете. Он нагромождает препятствие на препятствие, он сообщает о себе несметное количество вещей, которые делают совместную жизнь с ним в браке невозможной, и требует, чтобы она все эти вещи признала и приняла. В письмах, которые последуют за этим, перечень трудностей будет расширяться. Его собственная неприязнь к совместной жизни с женщиной выражена в этих письмах вполне ясно. Но не менее ясно и то, что он страшится одиночества и помышляет о силе, которую ему может даровать присутствие рядом другого человека. По сути, он ставит невыполнимые условия для супружества и втайне рассчитывает на отказ, которого желает, который он провоцирует. Но в то же время он и надеется на неколебимую силу ее чувства, которая сметет все преграды и вопреки всему соединит их друг с другом. Как только она отвечает ему согласием, он начинает сокрушаться: ему вовсе не следовало передоверять столь важное решение ей. «Противопоказания не кончились, ибо шеренга их нескончаема». На ее «да» он соглашается как бы для вида, он принимает ее как свою дорогую невесту. «Но сразу вслед за этим я говорю тебе, что испытываю безотчетный страх перед нашим будущим и перед теми несчастьями, что по моей вине и природе могут вырасти из нашей совместной жизни и первым делом всею тяжестью падут на тебя, ибо в основе своей я холодный, своекорыстный и бесчувственный человек, невзирая на всю свою слабость, которая эти черты скорее маскирует, чем смягчает».
Так начинается его ожесточенная борьба против собственной помолвки, которая продлится два следующих месяца и завершится бегством. Процитированная фраза характеризует манеру этой борьбы, ее приемы и способы. Если раньше он описывал себя, скажем так, вполне честно, то теперь, по мере возрастающей паники, в его письма проникает риторический тон. Он сам себе становится прокурором, в борьбе против себя же он не брезгует никакими, в том числе -- приходится это признать -- и весьма постыдными средствами. По настоянию матери он поручает частному детективному агентству в Берлине навести справки о репутации Фелицы
162
и потом сам же сообщает невесте о полученном «столь же чудовищном, сколь и престранном отчете. У нас еще будет время вдоволь над ним посмеяться». Она, похоже, отнеслась к этому сообщению спокойно - может, из-за шутливого тона, наигранность которого могла не расслышать. Но вскоре после этого, 3 июля, в день своего тридцатилетия, он пишет ей, что его родители изъявили желание подобным же образом навести справки о ее, Фелицы, семье, и что он дал на это свое согласие. Вот тут он уже глубоко ее обидел, Фелица любит свою семью. Оправдывая этот свой шаг, Кафка прибегает к совершенной софистике, даже свою бессонницу исхитряется приплести, и хотя так и не признает свою неправоту, все же просит у нее прощения, раз уж ее это так обидело, после чего берет назад данное родителям согласие на наведение соответствующих справок. Вся эта неприглядная история настолько не вяжется с его характером, что объяснить ее, наверно, можно только его паническим страхом перед помолвкой и ее последствиями.
Спасти от брака его может уже только одно -- пылкое красноречие, направленное против себя же. Его ничего не стоит обнаружить в письмах, главный его признак -- это когда он собственные страхи начинает выдавать за заботу о Фелице. «Разве я не вьюсь вокруг тебя месяцами этакой ядовитой тварью? Разве это не я то там, то тут, то такой, то другой? Разве не делается тебе тошно от одного моего вида? Неужели ты не видишь, что я по-прежнему замкнут в себе и не могу вырваться, когда надо предотвратить несчастье, твое, твое, Фелица, несчастье?» Он побуждает ее пойти к отцу и сделать ему, ее жениху, плохую рекламу, ради чего даже готов пожертвовать всеми тайнами своих писем. «Фелица, будь хоть ты честна с отцом, раз уж мне не удалось, скажи ему, каков я на самом деле, покажи ему мои письма, выберись, наконец, с его помощью из того заклятого порочного круга, в который я, ослепленный любовью и прежде, и теперь, загнал тебя своими письмами, просьбами и увещеваниями». Рапсодический тон у Кафки здесь почти как у Верфеля, которого он хорошо знал и к которому испытывал странную, на сегодняшний взгляд совершенно необъяснимую тягу.
Непритворность его мук не подлежит сомнению, и когда он перестает впутывать в них Фелицу, которая здесь уже не более чем фантом, он говорит о себе вещи, способные кого угодно ранить в самое сердце. Его взгляд проникает в собственную натуру и душу столь глубоко и беспощадно, что делается жутко. Приведу здесь лишь одну из многих его фраз, которая представляется мне самой важной и самой убийственной; это когда он пишет о том, что страх и равнодушие главные чувства, которые он питает к людям.
Этим, возможно, объясняется все уникальное своеобразие его творчества: большинство аффектов, которыми хаотически и болтливо кишит литература, в его прозе отсутствуют. Но если набраться мужества и взглянуть правде в глаза, то нельзя не увидеть: мы стали жить в мире, где господствуют страх и равнодушие. Не побоявшись сказать жестокую правду о себе, Кафка первым явил нам образ нашего мира.
2 сентября, после двух месяцев непрерывной нарастающей муки, Кафка внезапно сообщает Фелице о своем бегстве. Это очень длинное письмо, написанное сразу на двух языках -- и на ложном, риторическом, и на языке его беспощадных самооткровений. Он пожертвует тем, что для нее «высшее человеческое счастье»,-- для него оно, разумеется, таковым не является, пожертвует ради писательства. Для него это урок, который оп почерпнул у своих великих учителей: «Из четверых людей, с которыми я... чувствую свое подлинное кровное родство -- Грильпарцер, Достоевский, Клейст, Флобер, -- один Достоевский был женат, и, наверно, один только Клейст нашел правильный выход, когда, устав от бедствий мира и души, застрелился». Так что он в субботу уезжает в Вену на международный конгресс по спасательному делу и гигиене, пробудет там, вероятно, до следующей субботы, потом отправится в санаторий в Риву, какое-то время пробудет там, а в последние дни, возможно, совершит еще небольшое путешествие по
163
Северной Италии. Она же пусть использует это время, чтобы успокоиться. Ради ее покоя он готов вообще отказаться от писем. Он не просит от нее писем, это впервые. Да и сам он не особенно будет писать. Вероятно, из соображений такта он умалчивает, что конгресс, который действительно привлекает его в Вене, это конгресс сионистов: миновал год с той поры, когда они замышляли совместное путешествие в Палестину.
В Вене он провел скверные дни. Конгресс и множество людей, которых он увидел, в его плачевном душевном состоянии были ему невыносимы. Несколько попыток взять себя в руки, сосредоточиться с помощью дневниковых записей оказались тщетными, и он поехал дальше, в Венецию. В письме, которое он посылает Фелице отсюда, его нежелание продолжать отношения выражено уже не столь резко. Потом наступили дни в санатории в Риве, где он познакомился со «швейцаркой». Сближение произошло очень быстро и переросло в любовь, которую он при всей своей предельной стыдливости и деликатности никогда не отрицал; продлилось все это не дольше десяти дней. Похоже, это чувство на некоторое время избавило его от жгучей ненависти к самому себе. На полтора месяца -- с середины сентября до конца октября -- всякое сообщение между ним и Фелиций оборвалось. Он не писал ей больше, он готов был вынести что угодно, только не ее настояния на помолвке. Поскольку от него не было ровно никаких вестей, Фелица послала к нему в Прагу свою подругу Грету Блох, попросив ту стать посредницей между ними. Так -- через третье лицо -- их отношения вступили в новую и весьма примечательную фазу.
Как только на арену вышла Грета Блох, Кафка ощутил некое раздвоение. Такие же письма, какие год назад он писал Фелице, он теперь отправляет Грете Блох. Теперь он о ней все хочет знать и засыпает ёе теми же вопросами. Он желает представить, как она живет, где и как работает. Куда ездит. Он требует немедленных ответов на свои письма, а поскольку ответы иногда -- хотя и редко и совсем ненамного -- запаздывают, он, не мудрствуя, просит ее писать ему регулярно, каковую просьбу она, впрочем, отклоняет. Он начинает интересоваться ее здоровьем; хочет знать, что она читает. Кое в чем ему с ней легче, чем с Фелицей; Грета Блох -- натура более динамичная, восприимчивая и страстная. Она больше прислушивается к его наставлениям; пусть и не сразу читает то, что он ей рекомендует, но запоминает рекомендации, дабы позже ими воспользоваться. Хотя она ведет менее упорядоченный и здоровый образ жизни, чем Фелица, она и тут задумывается над его советами, взвешивает их в своих ответных письмах, тем самым побуждая его к еще более решительным предложениям, пусть он не думает, что его слова расходуются впустую. Он в этих письмах выглядит гораздо более уверенным; если бы речь шла не о нем, можно было бы даже сказать: властным. Новый сколок начальной стадии переписки дается ему, конечно же, гораздо легче, чем тогда давался оригинал, это клавиатура, к которой он уже приноровился. Есть что-то игривое в этих письмах, чего в тех, прежних, почти не было, и он неприкрыто добивается в них ее благосклонности.
Но в двух моментах эти письма существенно отличаются от прежних. Кафка теперь гораздо меньше жалуется, почти скуп на жалобы. Поскольку Грета Блох уже очень скоро поверяет ему свои личные невзгоды, он горюет вместе с ней, утешает ее, она становится как бы его подружкой по несчастью, и даже больше того -- как бы им самим. Поэтому он пытается привить ей свои вкусы, свои антипатии -- к Вене, например, которую он после той злосчастной недели прошлым летом стал ненавидеть и куда он ей пишет. Он делает все, чтобы убедить ее уехать из Вены, и в конце концов ему это удается. При всем том ей даровано счастье натуры очень деятельной, по крайней мере так он ее воспринимает, это единственная черта, которая роднит ее с Фелицей и в которой он, как и прежде, находит себе поддержку.
Главным предметом переписки остается, однако, конечно же, Фелица. Ведь Грета Блох появилась в Праге именно в качестве поверенной Фелицы.
164
Поэтому с самого начала он имел возможность открыто обсуждать с ней все перипетии этой своей драмы. Грета, мгновенно распознав этот первоисточник его интереса, умело питает его новыми сведениями. В первых же разговорах она сообщает ему о Фелице вещи, которые вызывают в нем смутную неприязнь, -- например, историю о том, как Фелица лечила зубы, о еe новых золотых зубах нам кое-что еще предстоит услышать. Но Грета и посредничает по мере сил, когда ему худо, а если иные средства не действуют, ей удается подвигнуть Фелицу написать ему открытку или как-то иначе дать о себе знать. Благодарность за это обостряет его симпатию к Грете Блох, но он очень недвусмысленно дает понять, что его интерес к девушке связан отнюдь не только с отношением их обоих к Фелице. Письма его становятся все теплей, когда он обращается непосредственно к Грете, о Фелице же он пишет с иронией и как бы отстраненно.
Именно чувство дистанции, обретенное в переписке с Гретой Блох, а также, конечно, беседы с писателем Эрнстом Вайсом, его новым другом, который Фелицу невзлюбил и Кафку от свадьбы отговаривал, все это странным образом только усиливает упрямство, с которым он возобновляет свои ухаживания. Теперь он полон решимости довести дело до помолвки и свадьбы и борется за это с настойчивостью, которой, судя по прежнему его поведению, от него никак нельзя было ожидать. Он, конечно, вполне осознает свою прошлогоднюю вину перед Фелицей, когда бросил ее, можно сказать, накануне официальной помолвки и попросту сбежал в Вену и в Риву. В большом, на сорок страниц, письме накануне нового, 1914 года, он среди прочего рассказывает Фелице и о швейцарке, после чего во второй раз просит ее руки.
Но сопротивление ее на сей раз не уступает в упорстве его ухаживанию, и учитывая все, что она из-за него пережила, странно было бы ее за это укорить. Однако как раз в этом сопротивлении он черпает новую уверенность и новые силы. Он сносит унижения и удары, потому что может рассказать о них Грете, ей все докладывается тут же, и подробно. Тем самым изрядная доля его мучительных самокопаний преобразуется теперь в обвинения против Фелицы. Когда читаешь его письма Грете и Фелице, написанные нередко в один и тот же день, не остается места для сомнений в том, кому принадлежит его любовь. Слова любви в письмах к Фелице звучат неправдоподобно и натужно, в то время как в письмах Грете их чувствуешь, по большей части невысказанные, но тем более внятные, они прячутся между строк.
Фелица, однако, на протяжении двух с половиной месяцев остается холодна и неприступна. Все то скверное, что он высказал о себе в прошлом году, возвращается теперь к нему, как бумеранг, предельно упрощенное в ее примитивных фразах. Чаще всего, впрочем, она вовсе не удостаивает его ответа. Во время его внезапного наезда в Берлин, когда они вместе гуляют в Зоолоrическом саду, на его долю выпадает самое горькое унижение. Он унижается перед ней «как собака» и не добивается ровным счетом ничего. Подробный отчет Кафки об этой сцене и о том, как она на него подействовала, протянется через несколько писем к Грете Блох и имеет самостоятельное значение вне зависимости от всей истории этой помолвки. Он наглядно демонстрирует, сколь мучительно Кафка страдал от унижений. Разумеется, его способность к внутреннему самоумалению в своем роде уникальна, но он пользовался ею, чтобы уменьшить свои унижения и радовался, когда это ему удавалось. В этом смысле он не похож на Достоевского, в отличие от него Кафка один из самых гордых людей на свете. Просто он насквозь Достоевским пропитан и часто выступает как бы его медиумом, что нередко влечет за собой соблазн превратных истолкований. Но он никогда не назовет себя червем, не испытывая при этом к себе презрения и ненависти.
Неожиданная потеря красивого и обожаемого ею брата, который, судя по всему, из-за некой сомнительной денежной аферы вынужден был срочно покинуть Берлин и эмигрировал в Америку, стала для Фелицы ударом: она утратила уверенность в себе, ее стойкость дала трещины. Кафка мгновенно
165
оценил выгоды создавшегося положения, и уже месяц спустя ему удается наконец-то добиться ее согласия на помолвку. Каковая -- неофициальная -- помолвка и состоялась в Берлине весной 1914 года, на Пасху.
Сразу по возвращении в Прагу Кафка так напишет об этом Грете Блох: «Ничего на свете я не делал с такой же уверенностью». Но было и кое-что еще, о чем он тоже торопится ей написать: «Помолвка моя, равно как и свадьба ничего не изменят в наших отношениях, в которых -- по крайней мере для меня -- кроется еще много прекрасных и насущно необходимых возможностей». Он снова просит ее о свидании, не в первый раз рисуя ей заманчивые перспективы такой встречи, лучше всего в Гмюнде, как раз на полпути между Прагой и Веной. Но если прежде он предполагал, что они встретятся в Гмюнде наедине в субботу вечером, а в воскресенье, сутки спустя, разъедутся по домам, то теперь он мыслит такую встречу уже втроем, вместе с Фелицей.
После пасхальной помолвки его нежность к Грете только усиливается. Без нее эта помолвка не могла состояться, это он понимает. Грета придала ему сил, помогла обрести чувство дистанции в отношениях с Фелицей. Но теперь, когда дело сделано, она ему нужна еще насущнее, чем прежде. Его просьбы не обрывать их дружбу приобретают для его темперамента характер просто неистовый. Она требует вернуть ей письма, он не хочет их отдавать. Они ему дороги так, будто это она теперь его невеста. Он, кто ничьего присутствия в комнате и даже в квартире не выносит, приглашает, и даже весьма настойчиво приглашает ее провести зиму в одной квартире с ним и с Фелицей. Он умоляет, чуть ли не заклинает ее приехать в Прагу и вместо его отца сопровождать его в Берлин на официальную помолвку. Как и прежде -- и даже более рьяно,-- он принимает участие в ее сокровеннейших личных делах. Она сообщает, что посетила в венском музее комнату Грильпарцера, куда он уже давно упрашивал ее сходить. Он благодарит ее за это известие в следующих выражениях: «Очень мило с вашей стороны, что вы сходили в музей... У меня была острая надобность знать, что вы побывали в комнате Грильпарцера и что благодаря этому между мной и этой комнатой возникла физическая связь». У нее болят зубы, он отзывается на это сообщение множеством тревожных вопросов и под этим предлогом описывает ей, какое впечатление произвели на него зубы Фелицы , ее «почти сплошь золотые челюсти». «В первое время, по правде говоря, я при виде ее зубов невольно опускал глаза, до такой степени пугал меня этот золотой блеск (в столь неподобающем месте и впрямь чуть ли не адский)... Некоторое время спустя я, напротив, при малейшей возможности стал их разглядывать... чтобы помучить себя, но и дабы окончательно увериться, что все это не сон. Однажды, совсем забывшись, я даже спросил Ф., не стыдно ли ей. По счастью, ей, конечно же, ничуть не стыдно. Теперь же я с этим... почти полностью примирился. Теперь я уже не хочу от вида этих золотых зубов избавиться... собственно, избавиться я и не хотел никогда. Но нынче они мне кажутся деталью почти уместной и даже особенно точной... Это совершенно отчетливый, но приятный, постоянно бросающийся в глаза и бесспорный человеческий изъян, который, пожалуй, делает Фелицу для меня даже более близкой, чем если бы у нее были нормальные -- в сущности, ведь тоже очень страшные -- здоровые зубы».
Итак, вместе с ее изъянами, которые он теперь в ней видит -- ибо есть и другие, помимо золотых зубов,-- он готов взять Фелицу в жены. В прошлом году он, не жалея самых жутких красок, со всеми изъянами изобразил ей себя. Он создал тогда образ чудовища -- и все же не смог ее отпугнуть, однако истинность этой картины возымела такую власть над ним самим, что он бежал от нее -- а заодно и от Фелицы -- в Вену, а потом в Риву. Там, в одиночестве и в горе, он встретил «швейцарку» и даже сумел -- хотя не чувствовал себя способным на это -- полюбить. И тем самым сильно поколебал всю, как он потом это назовет, сконструированную о себе мыслительную постройку. Мне кажется, для него это стало еще и как бы вопросом чести -- завоевать Фелицу в жены и тем самьтм загладить позор своего поражения. Но тут ему пришлось изведать на себе силу прошлогод-
166
них саморазоблачений, которые обернулись теперь упорным сопротивлением Фелицы. Выровнять положение могла лишь мысль, что он берет ее в жены точно так же, как она его в мужья, то есть со всеми изъянами, которые он теперь жадно в ней выискивает. Но это уже не любовь, хоть он и уверяет Фелицу в обратном. В ходе неистовой, яростной борьбы за Фелицу в нем зарождается любовь к другой женщине, к той, без чьей поддержки ему в этой борьбе не выстоять,-- к Грете Блох. Супружество обретает для него полноту лишь тогда, когда в мыслях о нем присутствует и Грета. Все его неосознанные, инстинктивные шаги за семь недель между Пасхой и Троицей направлены в эту сторону. Разумеется, он рассчитывает и на ее помощь во всех тех щекотливых, неприятных ситуациях, которые вскоре ему предстоят и которых он страшится. Но решающим здесь все же оказывается другая мысль: брак, который он воспринимает как своего рода долг, как моральное обязательство, без любви не получится, а благодаря присутствию Греты Блох, к которой он это чувство испытывает, он привнесет в свой брак любовь.
В этой связи надо еще сказать, что любовь у Кафки, который крайне редко чувствовал себя свободно в устном общении, возникает в написанном слове. Говоря о женщинах в, его жизни, следует в первую очередь назвать Фелицу, Грету Блох и Милену. Его чувства к каждой из них возникали в письмах, благодаря письмам.
Затем произошло все то, чего и следовало ожидать: официальная помолвка в Берлине оказалась для Кафки сплошным кошмаром. На приеме, который семейство Бауэр устроило 1 июня 1914 года, он, несмотря на столь желанное присутствие Греты Блох, «был связан по рукам и ногам, точно преступник. Если бы меня заковали в настоящие цепи и, поместив где-нибудь в углу, под охраной жандармов, показывали бы присутствующим только в таком виде, и то было бы не так мучительно. А ведь это была моя помолвка, и все старались хоть как-то вернуть меня к жизни, и когда это не удавалось, терпели таким, как есть». Это запись в его дневнике через несколько дней после события. А почти два года спустя в письме к Фелице он рассказывает еще об одном ужасе тех дней, ужасе, который по сей день пробирает его до костей, -- он испытал его, когда они вместе отправились в Берлине покупать «мебель, подходящую для квартиры пражского чиновника». «Тяжеленную мебель, которую, однажды расставив, никогда уже не стронешь с места. Как раз эту солидность ты и ценила более всего. Буфет сразу навалился мне на грудь, точь-в-точь надгробие, если не памятник всему пражскому чиновничеству. Раздайся где-то в глубинах мебельного склада, по которому мы тогда бродили, похоронный звон, он пришелся бы весьма кстати».
Уже 6 июня, несколько дней спустя после того приема, он, снова в Праге, пишет Грете Блох письмо, которое внимательному читателю его прошлогодней корреспонденции покажется до жути знакомым: «Милая м-ль Грета! Вчера опять выдался ужасный день, я был совершенно скован, не в силах шелохнуться, не в силах написать Вам письмо, к которому меня так влекло все, что еще осталось во мне живого. Порою -- и Вы единственная, кому я пока что в этом сознаюсь,-- я и вправду не знаю, как это я, таков, как есть, беру на себя ответственность женитьбы».
Но отношение к нему Греты Блох решительно переменилось. Она теперь живет в Берлине, как он сам того ей желал, и чувствует себя здесь уже не столь неприкаянно, как в Вене. У нее в Берлине брат, в котором она души не чает, свой круг старых знакомых, она видится с Фелицей. Миссия, в которую она, вероятно, верила, а именно восстановление расторгнутой помолвки, совершенно ей удалась. Но ведь еще совсем недавно, незадолго до переезда в Берлин, она получала от Кафки письма, да что письма -- плохо замаскированные любовные послания, и отвечала на них, между ними были свои секреты, касающиеся Фелицы, и конечно же, в ее душе зародилось сильное ответное чувство. Платье, котороё она собиралась надеть на помолвку, обсуждается в их переписке так, словно это она, Грета, а вовсе не Фелица будет невестой. «Больше ничего не меняйте, -- пишет он
167
ей об ее платье, каким бы оно ни было, все равно, словом, на ваше платье будут смотретъ самые преданные и нежные глаза». Это письмо он пишет Грете за день до своего отъезда и до своей помолвки.
Помолвка, невестой на которой все же была другая, видимо, неприятно поразила Грету. Несколько дней спустя, когда Кафка жалуется ей в письме, что вот, мол, до свадьбы ждать еще целых три месяца, она ему отвечает: «Ничего, три месяца вы уж как-нибудь протянете, не умрете». Сам тон этой фразы, столь для нее необычный, достаточно явно выказывает ревность, от которой она, конечно же, страдала. К тому же она ведь жила теперь рядом с Фелицей и оттого еще острее, должно быть, чувствовала свою вину перед ней. Освободиться от этой вины она могла лишь одним способом -- переметнувшись на сторону Фелицы. Так она внезапно стала врагиней Кафки и начала неприязненно присматриваться к его жениховским колебаниям. Он же писал ей с прежним доверием, все больше и больше стараясь разрядить в этих письмах свои страхи перед предстоящим браком с Фелицей. Она в ответ стала приставать с расспросами, он отбивался своими старыми доводами, напирая на ипохондрию и объясняясь на сей раз -- поскольку обращался все-таки к ней, к посреднице,-- убедительней и уверенней, нежели в прошлогодних письмах к Фелице. И добился того, что Грета встревожилась, известила обо всем Фелицу, в результате чего его вызвали в Берлин на «суд».
Этот «суд», состоявшийся в июле 1914 года в отеле «Асканийское подворье», стал точкой кризиса в отношении Кафки к обеим женщинам. Расторжение помолвки, к которому Кафка стремился всей душой, пришло как бы извне, независимо от его воли. А все равно все выглядит так, будто он сам и подобрал всех участников этого судилища, и сумел так их «подготовить», как не удавалось еще ни одному обвиняемому. Писатель Эрнст Вайс, тоже живший в Берлине, вот уже семь месяцев был другом Кафки, привнеся в эту дружбу помимо своих чисто литературных достоинств и еще одно свойство, для Кафки тогда просто бесценное: стойкую, неколебимую неприязнь к Фелице, он с самого начала был противником этой помолвки. Любви Греты Блох Кафка тоже добивался долго и настойчиво. Он околдовал ее своими письмами и все больше перетягивал на свою сторону. В промежутке между неофициальной и официальной помолвками его любовные письма написаны Грете, а вовсе не Фелице. Из-за чего Грета оказалась в двусмысленном положении, из которого смогла освободиться лишь одним способом: перебежав в другой лагерь, благодаря чему она, а не кто-то еще, тоже вошла в число его судей. Это она дала Фелице в руки главные пункты обвинения -- те места в письмах Кафки, которые она, Грета, подчеркнула красным карандашом. Фелица привела на «суд» еще и свою сестру Эрну, должно быть, в противовес своему врагу Эрнсту Вайсу, который тоже присутствовал. Обвинение -- жесткое и полное ненависти -- произнесла сама Фелица, из скудных свидетельств трудно понять, добавила ли что-нибудь к нему Грета, и если да, то сколько и что именно. Но она была, присутствовала, и именно в ней Кафка прежде всего видел судью. Он не сказал ни слова, не стал себя защищать, и помолвка рассыпалась в прах, как он того и желал. Он уехал из Берлина и две недели провел на море в обществе Эрнста Вайса. В дневнике он описывает оцепенение тех берлинских дней.
Задним числом вполне можно истолковать все события и в том смысле, что это Грета расстроила отношения, вызывавшие у нее ревность. А можно рассудить и так, что это Кафка, проявив фантастическую предусмотрительность, специально убедил Грету уехать в Берлин и там довел ее своими письмами до такого состояния, что она -- вместо него - сумела спасти его от этой помолвки.
Но то, как это произошло, самый способ разрыва в форме «суда» -- а он с тех пор не называл происшедшее иначе,-- все это подействовало на Кафку сильнейшим образом. И уже в августе эта его реакция начала искать выхода в словах. Процесс, который в течение двух лет развивался
168
в переписке между ним и Фелицей, стал превращаться в нечто другое -- в тот «Процесс», который известен теперь каждому. Да, это тот же самый процесс, Кафка хорошо освоил его механику; и пусть он вобрал в себя неизмеримо больше, чем можно обнаружить в одних только письмах, -- это не должно обмануть нас относительно идентичности обоих процессов. Силу, которую он прежде искал у Фелицы, ему теперь дает потрясение от «суда». Одновременно начинает свои заседания и иной, мировой суд -- разразилась первая мировая война. Страх и неприязнь к волнениям масс, которыми сопровождалось начало войны, удвоили его силы. Ему неведомо было презрение к собственной частной, внутренней жизни -- а это одна из черт, которая и отличает настоящего писателя от никчемного графомана. Кто полагает, что ему дано отделить внутренний мир от внешнего, просто лишен внутреннего мира и, значит, ему и отделять нечего. Но особенность Кафки в том, что слабость, от которой он страдал, длительное отключение жизненных сил лишь крайне редко, спорадически давали ему возможность выразить себя, объективировать свою частную жизнь. Чтобы достичь целостности,-- а это для него была совершенно необходимая предпосылка, нужны были две вещи: во-первых, очень сильное, хотя все же и как бы не до конца взаправдашнее потрясение -- нечто вроде «суда», -- которое мобилизовало бы все его самоистязания во имя точности на нечто другое, на самозащиту, направило бы его энергию вовне, -- и, во-вторых, та самая взаимосвязь внешнего мира, а вернее ада, с его внутренним адом.
В августе 1914 года именно так и произошло, причем Кафка сам эту взаимосвязь распознал и сам, на свой манер, вполне ясно это высказал.
II
Два решающих события в жизни Кафки, которые он, по своему природному складу, особенно не хотел афишировать, разыгрались прилюдно, в обстановке самой постыдной публичности официальная помолвка на квартире y Бауэров 1 июня 1914 года и, полтора месяца спустя, 12 июля, «суд» в «Асканийском подворье», повлекший за собой расторжение помолвки. Остается доказать, что эмоциональное содержание обоих событии самым непосредственным образом вошло в роман «Процесс», писать который Кафка начал в августе. Помолвка стала арестом первой главы, «суд» - сценой казни в последней.
Несколько мест в дневниках обнаруживают эту связь столь отчетливо, что попытка обосновать ее, надеюсь, не покажется неуместной. Внутреннюю целостность романа мы этим никак не затронем. Если бы существовала необходимость возвысить значение романа, тогда знание этого тома переписки могло бы стать тому хорошим подспорьем. Такой необходимости, по счастью, нет. Все последующие соображения, являясь все же попыткой интерпретации романа, тем не менее ни в коей мере не имеют целью хоть сколько-нибудь умалить его удивительную и c каждым годом все более глубокую загадку.
Арест Йозефа K. производится у него на дому, в квартире, которую он прекрасно знает. Арест происходит утром, когда Иозеф K. еще в постели, то есть в самом укромном и привычном для каждого из нас месте. Тем непостижимей для него все, что творится вокруг: сперва он видит перед собой совершенно незнакомого человека, a вслед за тем и второго, который сообщает ему об аресте. Но это уведомление скорее предварительное, сам ритуальный акт ареста осуществляется инспектором в комнате барышни Бюрстнер, где вообще-то никому из присутствующих и даже самому K. делать совершенно нечего. Его заставляют по такому случаю надеть парадный костюм. B комнате барышни Бюрстнер помимо инспектора и двоих стражей находятся еще трое молодых людей, которых K. не узнает, вернее, лишь позже узнает в них служащих банка, в котором сам он занимает более важный пост. Из окон напротив на него глазеют незнакомые люди. Причину ареста ему не сообщают, и, что самое странное, он получает -- по крайней мере, так ему сказано -- разрешение отправиться на работу в банк, да и вообще свободно передвигаться по собственному усмотрению.
169
Именно странность -- свобода передвижения после ареста -- и есть тот первый штришок, который вызывает в памяти обстоятельства помолвки Кафки в Берлине. У Кафки тогда возникло чувство, что все происходящее вообще его не касается. Он был скован и, как ему казалось, находился среди совершенно чужих людей. В уже цитированном пассаже из дневников по этому поводу сказано так: «Был связан по рукам и ногам, точно преступник. Если бы меня заковали в настоящие цепи и, поместив где-нибудь в углу, под охраной жандармов, показывали присутствующим только в таком виде, и то было бы не так мучительно. А ведь это была моя помолвка...» Самое неприятное, что присуще обоим этим событиям,- это их публичность. Присутствие обоих семейств на помолвке -- а ему и от одной своей-то всегда было трудно отгородиться -- больше, чем когда-либо, загнало его, как улитку, в раковину самоизоляции. От них исходило принуждение, поэтому он и видел в них чужаков. Некоторых из присутствующих родственников Фелицы он и вправду не знал, а кроме них были и другие незнакомыe гости, например, брат Греты Блох. Иных он, быть может, если и видел раньше, то мельком, раз или два, но даже мать Фелицы, с которой ему уже доводилось говорить, никогда не вызывала в нем симпатии. Что же касается его собственных родственников, то он вдруг словно бы утратил способность их узнавать, поскольку они ведь тоже участвовали в этом акте насилия, направленном против него.
Подобную же смесь незнакомых и в разной мере знакомых людей мы наблюдаем в сцене ареста Йозефа К. Тут перёд нами два стража и инспектор - люди, которых он прежде никогда не видел; жильцы из дома напротив, которых он, возможно, встречал, и даже не один раз, не придавая этому особого значения; это и молодые чиновники из его банка, которых он, правда, на службе у себя видел ежедневно, но сейчас, во время процедуры ареста, в которой они одним своим присутствием участвовали, они стали для него незнакомцами.
Еще важнее, однако, само место, где производится арест, комната барышни Бюрстнер. Фамилия начинается с той же буквы, что и фамилия Фелицы, но с той же буквы начинается и фамилия Греты Блох. В ее комнате бросаются в глаза семейные фотографии, на ручке окна висит белая блузка. Во время ареста в комнате нет ни одной женщины, только эта блузка заметным штрихом обозначает весь женский пол.
Однако это вторжение в комнату барышни Бюрстнер без ее ведома не дает Йозефу К. покоя, мысль об учиненном там беспорядке не оставляет его. Возвратившись вечером домой из банка, он обсуждает происшедшее со своей квартирной хозяйкой, госпожой Грубах. Та, несмотря на все утренние события, не утратила к нему доверия. «Ведь ваше счастье решается»,-- так начинает она одну из своих утешительных фраз. Слово «счастье» в этом контексте царапает слух, оно здесь неуместно и напоминает о письмах к Фелице, где это слово всегда употребляется с какой-то странной двусмысленностью, оно звучит так, будто одновременно, а пожалуй что даже скорее, обозначает свою противоположность, «несчастье». К. замечает, что хотел бы извиниться перед барышней Бюрстнер за вторжение в ее комнату. Госпожа Грубах его успокаивает и показывает комнату, где все снова на своих местах. «Даже блузка уже не висела на оконной ручке». Уже довольно поздно; но барышня Бюрстнер все еще не вернулась. Госпожа Грубах без всякого умысла позволяет себе несколько замечаний о личной жизни девушки, в которых есть что-то будоражащее. К. дожидается прихода барышни Бюрстнер, почти против ее воли проникает в ее комнату; втягивает ее в разговор о событиях сегодняшнего утра и при изложении этик событий вдруг так повышает голос, что из соседней комнаты раздается стук. Барышня чувствует, что она скомпрометирована, из-за чего она весьма огорчена, и К., как бы желая ее утешить, целует ее в лоб. Он обещает ей, что неприятностей с квартирной хозяйкой не будет, что он все возьмет на себя, но она не желает его слушать и выпроваживает в прихожую. Тут К. «схватил ее, поцёловал в губы, потом стал осыпать поцелуями все ее лицо, как изжаждавшийся зверь лакает из ручья, гоняя языком воду. Наконец он
170
прильнул к ее шее у самого горла и долго не отнимал губ». Возвратившись в свою комнату, он очень скоро заснул, «но, засыпая, успел подумать о своем поведении, остался им доволен, но с удивлением заметил, что доволен все же не так, как ему бы хотелось».
Трудно отделаться от ощущения, что в этой сцене в образе барышни Бюрстнер подразумевается Грета Блох. Желание, влекшее к ней Кафку, выражено здесь сильно и недвусмысленно. Арест, как бы воплотивший в себе всю мучительную процедуру помолвки, неспроста перенесен в комнату другой женщины. К., который еще утром не знал за собой никакой вины, теперь, после того как он следующей же ночью повел себя плохо, набросившись на барышню Бюрстнер, сразу становится виновным. Ибо своим поведением он «доволен».
Сложная и почти неразрешимая ситуация, в которой Кафка оказался во время помолвки, раскрыта им в первой главе «Процесса» с подкупающей откровенностью. Он желал и добивался присутствия Греты Блох на помолвке; даже выказывал интерес к платью, которое она по такому случаю намеревалась надеть. Не исключено, что как раз это платье и превратилось в белую блузку; висевшую в комнате барышни Бюрстнер. В дальнейшем по ходу действия романа Иозефу К., несмотря на все усилия; так и не удается объясниться с барышней Бюрстнер обо всем происшедшем. Она, к немалой его досаде, весьма ловко от этого уклоняется, эскапада той ночи остается их общей и как бы неприкосновенной тайной.
И это тоже напоминает об отношениях Кафки и Греты Блох. Что бы ни происходило между ними, все это осталось тайной. Нет оснований предполагать -- ибо ничто об этом не свидетельствует, -- что тайна эта стала предметом обсуждения во время «суда» в «Асканийском подворье». Да, там шла речь о его колебаниях относительно помолвки, пассажи из его писем Грете Блох, которые та сделала достоянием гласности, касались Фелицы и помолвки, но тайны, существовавшие между Гретой и Кафкой, ни один из них обоих не затронул. И в том корпусе писем, каким он представлен нам сейчас, мы не найдем ничего, что проливало бы хоть какую-то ясность на эти вопросы; достаточно очевидно, что некоторые из ее писем уничтожены.
Чтобы понять, как от «суда», который оказался для Кафки невероятным потрясением, дошло до казни в последней главе «Процесса»; необходимо процитировать несколько мест из дневников и писем. Так, уже в конце июля Кафка пытается записать для себя, пока что предварительно и наспех, как бы извне, канву и ход событий.
«Судилище в отеле... Лицо Ф. Она запускает руки себе в волосы, зевает. А потом, вдруг подобравшись, выпаливает все, что давно обдумывала и таила в душе, злобно, враждебно. Возвращение с барышней Б...
У родителей. Скупые слезы матери. Я отвечаю, как на уроке. Отец понимает меня верно во всех отношениях... Они признают мою правоту, меня ни в чем или мало в чем можно упрекнуть. Нечто дьявольское при всей святой невинности. Мнимая вина г-жи Б.
Почему родители и тетя так махали мне вслед?..
На следующий день к родителям больше не пошел. Только отправил прощальное письмо с курьером-велосипедистом. Нечестное письмо и кокетливое. «Не поминайте меня лихом». Речь перед эшафотом».
Значит, уже тогда, 27 июля, через две недели после берлинских событий, в его сознании утвердился образ эшафота, лобного места. Произнеся слово «судилище», он вошел в сферы романа. А «эшафот» уже предвосхищает итог и цель, финал. Столь рано распознанный финал -- примета весьма знаменательная. Она объясняет, почему «Процесс» писался так уверенно и быстро.
Лишь один человек в Берлине был к нему «сверх всякой меры добр» -- Эрна, сестра Фелицы , и он всю жизнь об этом помнил. Это о ней в дневнике от 28 июля сделана следующая запись: «Вспоминаю о том, как мы, Э. и я, шли вдвоем от одного вокзала к другому. Мы оба молчали, я думал только об одном: что каждый мой шаг сейчас -- это маленький выигрыш. А Э. очень ко мне мила, непостижимым образом все еще сохранила в меня веру,
171
хоть и видела меня перед судом; я даже чувствую порой благотворное действие на меня этой ее веры, хоть и не вполне верю этому своему чувству».
Доброта Эрны и загадочное расставание с родителями, когда те вдруг стали махать ему вслед, -- все это нашло воплощение на последней странице «Процесса», в сцене перед самой казнью, и всякому, кто читал роман, навсегда врезается в память это удивительное, безмерно прекрасное место:
«Взгляд его скользнул по верхним этажам дома, что стоял у каменоломни. И как вспыхивает вдруг свет, так распахнулось там, наверху, окно, и человек, казавшийся издали, в высоте, худеньким и слабым, вдруг резко наклонился вперед и протянул руки. Кто это? Друг? Просто добрый человек? Сочувствует ли он? Хочет ли помочь? Одинок ли? Или за ним многие? Может, еще подоспеет помощь?»
(А несколькими строками ниже в первоначальном варианте написано: «Так где же судья? Где высокий суд? Я хочу сказать. Я поднимаю руки».)
В «Асканийском подворье» Кафка не защищался. Он молчал. Он не признал правомочность этого суда над собой и своим молчанием дал это ясно понять. Молчание воцарилось надолго: на три месяца всякая связь между ним и Фелицей оборвалась. Но он иногда писал ее сестре Эрне, которая все еще в него верила. В октябре Грета Блох вдруг вспомнила о своей посреднической роли и попыталась что-то предпринять. Ее письмо к нему не сохранилось, но сохранился его ответ. «Вы, среди прочего, говорите, что я Вас ненавижу, -- читаем мы в этом письме, -- но это не так... Правда, Вы сидели в«Асканийском подворье», Вы были судьей надо мной, это было отвратительно Вам, мне, всем, но ведь это была только видимость, на самом-то деле на Вашем месте сидел я -- и по сей день этого места не покинул».
Легче всего понять последние слова этой фразы в смысле самообвинения -- самообвинения, которое давно, не сегодня, началось и никогда не кончится. Но я не думаю, что смысл сказанного только этим и исчерпывается. Куда более важным мне представляется, что он в этом пассаже смещает Грету Блох с ее судейского места, присвоенного ею незаконно, и сам это место занимает. Нет такого внешнего суда, который бы он над собой признал, он сам себе суд, но зато уж беспощадный, и суд этот будет заседать всю его жизнь. Об акте узурпации с ее стороны он говорит весьма сдержанно «это была только видимость», но в том, как он «раскусил» ее «самозванство», есть и оттенок легкого пренебрежения, словно бы в действительности она и не сидела на судейском месте, пытаясь выполнять роль судьи. Вместо того чтобы низвергать ее силой, он развенчивает ее как иллюзию. Он не вступает с ней в схватку, но за безупречной любезностью его ответа постепенно становится очевидным, сколь малого, в сущности, он ее удостаивает --даже до ненависти не снизойдет. Он уже вполне осознал; он сам ведет против себя свой процесс, никому другому вести его не пристало, и процесс этот, когда он отвечал Грете, был еще очень далек от завершения.
Две недели спустя в своем первом, очень пространном письме к Фелице он объясняет, что в «Асканийском подворье» молчал вовсе не из упрямства. Утверждение не слишком убедительное, ибо уже строчкой ниже написано: «Ведь ты высказалась более чем определенно, я не хочу всего этого повторять, но среди прочего ты говорила о таких вещах, о которых даже с глазу на глаз говорить неловко... Я и сегодня не могу возражать против того, что ты взяла с собой барышню Блох, ведь я тебя в том письме к ней почти унизил, она имела право присутствовать. Но вот что ты и сестру свою пригласила, которую я тогда почти не знал, этого я никак не мог понять...»
Итог всей этой истории -- расторжение помолвки -- вполне соответствовал его желаниям, тут он мог испытывать только облегчение. Поразила и до крайности обидела его постыдная публичность всего происшедшего. Стыд этого унижения, тяжесть которого можно измерить лишь мерой его
172
гордости, стыд остался, он скапливался, он вынес на себе роман «Процесс», пока весь не излился в последней главе. Почти безропотно, почти покорно К. дает отвести себя на казнь. Его сопротивление, упорством которого определялось движение сюжета, сломлено внезапно и полностью. Его последний путь через город словно бы подытоживает все пути, на которых К. прежде искал защиты. «И тут далеко впереди, по лесенке, что вела из залегшего где-то внизу переулка, на площадь вдруг вышла барышня Бюрстнер. К. не вполне был уверен, она ли это, но сходство было явное». Он стронулся с места и теперь уже сам направлял своих провожатых. «Он направлял их тем же путем, которым шла барышня перед ними, не столько потому, что хотел ее нагнать, и не потому даже, что хотел видеть ее как можно дольше, а скорее лишь для того, чтобы не позабыть тревожного напоминания, знаком которого она была». Это напоминание о его тайне и его так никогда и не высказанной вине. Напоминание, не зависящее ни от суда, который так и не удостоил его встречи, ни от обвинения, с которым ему тоже так и не довелось познакомиться. Но напоминание это укрепляет его уверенность в том, что на этом последнем пути сопротивляться бессмысленно. Однако унижение, о котором уже было сказано, на этом не окончено, оно длится до самой последней страницы.
«Но тут на горло К. легли руки одного господина, в то время как другой всадил ему нож прямо в сердце и дважды повернул. Меркнущим взглядом К. успел увидеть, как оба они, щека к щеке, склонились над самым его лицом и наблюдают за развязкой.
-- Как собаку,-- пробормотал он, словно его позор способен его пережить».
Последнее унижение - публичность его смерти, за которой, щека к щеке, склонившись над самым его лицом, наблюдают оба палача. Меркнущие глаза К. свидетели этой публичности смерти. Последняя его мысль -- о собственном позоре, который настолько велик, что способен его пережить, а последние слова, которые он успевает выговорить: «Как собаку...»
В августе 1914 года, как уже было упомянуто, Кафка снова начал писать. В последующие три месяца, как не без гордости заметит он потом в одном из писем, ему удавалось ежедневно посвящать себя этому занятию, лишь два вечера у него пропали. Главная работа в это время -- роман «Процесс», которому он отдается со всем пылом. Но попутно он принимается и за другие вещи, очевидно, непрерывно заниматься одним «Процессом» ему не по силам. Тогда же, в августе, он начинает «Воспоминание о дороге на Кальду», рассказ, так и оставшийся незавершенным. В октябре он берет на две недели отпуск, чтобы продолжить работу над романом, а вместо этого пишет «В исправительной колонии» и последнюю главу «Америки».
Кстати, как раз на время этого отпуска приходятся первые попытки возобновить отношения, предпринятые со стороны женщин. Сначала он получает письмо от Греты Блох -- один отрывок из ответа Кафки на него мы уже процитировали. Ответ этот «выглядит непреклонно», Кафка заносит его в свой дневник, замечая при этом: «Я знаю, мне на веку определено оставаться одному». Он вспоминает о своей неприязни к Фелице, «когда она танцевала, упорно не поднимая глаз, или когда она перед тем как уйти из «Асканийского подворья», провела рукой по носу и по волосам, и еще бессчетное множество таких же мигов полнейшей чуждости». И все же он целый вечер с этим письмом «игрался», работа застопорилась, хотя он чувствовал себя вполне работоспособным. «Лучше всего для всех нас, если она не ответит, но она ответит, и я буду этого ответа ждать».
Уже на следующий день усиливается и соблазн, и желание ему не поддаться. Он спокойно жил без всякой реальной связи с Фелицей, даже видел ее во сне мертвой, которая никогда уже не оживет, «а теперь, когда открылась возможность подступиться к ней, она опять центр вселенной. Видимо, она и работе моей мешает. В последнее время, когда я изредка
173
о ней думал, до какой же степени она казалась мне чуждой -- едва ли не самой чуждой из всех, с кем сводила судьба...»
«Центр вселенной» -- это и вправду для него серьезная опасность, центром она никак не должна быть, это причина, по которой он не может жениться -- ни на той, ни на другой. Его жилище, которое она хочет заполучить, -- вот он, настоящий центр. И этот центр, что и так постоянно под угрозой, может принадлежать лишь ему одному. Уязвимость его тела, как и его головы,-- это, по сути, необходимое условие его творчества. И пусть зачастую все выглядит совсем наоборот, будто он только о том и заботится, как бы прикрыть, защитить, обезопасить всю свою уязвимость, все эти его усилия притворны, обманчивы, одиночество нужно ему во всей его незащищенности.
Спустя десять дней приходит ответ от Греты Блох. «Я в полнейшей нерешительности, что и как ей отвечать. Мысли до того подлые, что даже записать не могу».
То, что он называет «подлыми мыслями»,-- это накапливающаяся в нем решимость к обороне, и силу его сопротивления на сей раз не следует недооценивать. В конце октября он пишет Фелице весьма пространное письмо, уведомив ее о нем телеграммой. Письмо на удивление сдержанное и отстраненное. Письмо почти без единой жалобы, которое, зная характер Кафки, надо считать почти агрессивным проявлением душевного здоровья.
Он, вообще-то говоря, не собирался когда-либо ей писать -- никчемность переписки и вообще любой писанины обнаружилась в «Асканийском подворье» слишком очевидно. Куда спокойнее, чем в прежних письмах, он объясняет Фелице, почему именно писательство заставляет его отбиваться от нее как от самого страшного своего врага. Он описывает ей свою нынешнюю жизнь, которой он, пожалуй, почти доволен. Он живет сейчас один на квартире своей старшей сестры (поскольку муж ее на фронте, она временно переехала к родителям). В этой тихой трехкомнатной квартире он обитает совершенно один, ни с кем не видится, даже с друзьями. Последние три месяца он каждый день работает... Сегодня только второй вечер, когда он пробездельничал. Сказать, что он счастлив, нельзя, чего нет, того нет, но временами он доволен тем, что выполняет, насколько возмбжно в данных обстоятельствах, свой долг.
Это как раз такой жизненный распорядок, к которому он всегда стремился, в ней же все его представления о такой жизни неизменно встречали лишь раздражение и неприязнь. Он перечисляет ей все случаи, когда это ее недовольство прорывалось наружу, в последний раз и сильнее всего -- в«Асканийском подворье». Его долг в том, чтобы корпеть ночами над письменным столом, а в ее недовольстве он давно распознал самую большую угрозу этой стороне своей жизни.
В качестве конкретного примера трудности их взаимоотношений он подробно говорит об их разногласиях относительно квартиры. «Тебе нужно было нечто общепринятое: спокойная, добротно обставленная «семейная» квартира, какие обычно бывают в семействах твоего и моего круга... Но что означает это твое представление? Оно означает, что ты солидарна со всеми прочими, но не со мной... Все прочие, когда заводят семью, уже почти насытились, и брак для них только последний, особенно лакомый кусок. Но не для меня, я отнюдь не насытился, я не основал собственного дела, которое, развиваясь из года в год, обеспечивало бы мою семейную жизнь, мне не нужна квартира навсегда, квартира, из упорядоченного спокойствия которой я бы мог за этим делом присматривать,-- мне такая квартира не только не нужна, она меня пугает. Я так изголодался по своей работе... но мои здешние обстоятельства этой работе противопоказаны, если же я оборудую квартиру в подобном же стиле, сообразуясь с твоими желаниями, то сие будет означать... лишь попытку эти обстоятельства превратить в пожизненные, то есть худшее из всего, что меня может постигнуть».
В конце он отстаивает свое право на переписку с ее сестрой Эрной, которой собирается написать завтра.
1 ноября в дневнике Кафки среди прочих записей встречается крайне
174
необычная фраза: «Весь день полон самодовольства». Самодовольство, очевидно, следует отнести за счет процитированного письма, которое он, по всей вероятности, уже отправил. Он возобновил отношения с Фелицей, но ничем при этом не поступился. Позиция его ясна и тверда, и хотя порой он подвергает ее сомнению, она очень долго останется неизменной. 3 ноября он заносит в дневник «Начиная с августа это лишь четвертый день, когда я ни строчки не написал. Всему виной письма, надо попытаться либо вовсе их не писать, либо только совсем короткие».
Значит, помеха -- его собственные письма. Очень важное признание, которое многое объясняет. Пока он занят тем, что вычленяет «Процесс» из своих взаимоотношений с Фелицей, ему трудно общаться с ней в столь подробной переписке. От этого пострадает, запутается роман, всякое пристальное разбирательство их отношений отбрасывает Кафку назад, в те времена, когда он роман еще не начал, то есть он словно бы сам подрывает собственные корни. Вот почему он теперь избегает ей писать, за последующие три месяца, до конца января 1915 года, не пишет ни разу -- во всяком случае, ни одного письма не найдено. За работу он цепляется изо всех сил, старается не запускать, это получается не всегда, но он, во всяком случае, не сдается. В начале декабря он читает своим друзьям «В исправительной колонии» и остается «не так уж недоволен». Подытоживая этот день, он пишет: «Обязательно работать дальше, чего бы это ни стоило, несмотря на бессонницу и контору».
5 декабря он получает письмо от Эрны, где та описывает нынешнее положение их семьи, весьма ухудшившееся после того, как несколько недель назад умер отец. Кафка видит в себе чуть ли не «порчу», постигшую все семейство, которое ему, впрочем, эмоционально совершенно чуждо. «И только порча действует. Я принес несчастье Ф., подорвал у всех волю к сопротивлению, которая сейчас так необходима, послужил причиною смерти отца, рассорил Ф. и Э., а в довершение всего и Э. принес несчастье... В общем и целом я достаточно наказан, одно мое положение относительно этой семьи -- уже достаточно тяжкое наказание, да и настрадался я так, что никогда не оправлюсь,.. но в данное время я страдаю от отношений с этой семьей несильно, во всяком случае меньше, чем страдают Ф. или Э.».
Воздействие этой необъятной вины, которую он на себя взваливает, объявив себя «порчей» всего семейства Бауэр, оказалось, как и следовало ожидать, успокоительным. Подробностям его взаимоотношений с Фелицей тут просто уже нет места, в грандиозном несчастье «порче» целого семейства они тонут без следа, как и все прочие мелочи. В последующие полтора месяца, до 17 февраля, ни Фелица, ни Эрна, ни кто-либо еще из членов несчастной семьи ни разу не упоминаются ни в дневниках, ни в письмах. В декабре он пишет главу «В соборе» для «Процесса» и начинает две новые вещи: «Гигантский крот» и «Младший прокурор». 31 декабря в дневнике он подводит баланс уходящего года. Это совершенно против его обыкновения и напоминает скорее дневники Геббеля.
«Начиная с августа работал в целом немало и неплохо». Потом, после нескольких оговорок и упреков себе, без чего у него никогда не обходится, следует список из шести произведений, над которыми он трудился. Не зная рукописей, которые мне сейчас недоступны, трудно установить, какая часть романа «Процесс» к этому времени уже легла на бумагу. Большая часть наверняка уже была готова. Как бы там ни было, список этот впечатляет, так что эти пять последних месяцев 1914 года можно без малейших колебаний назвать вторым значительным периодом в его художественном самораскрытии.
23 и 24 января 1915 года Кафка и Фелица встретились в местечке Боденбах, на границе. Лишь за шесть дней до того о предстоящей встрече появляется упоминание в дневнике: «В субботу увижусь с Ф. Если она меня любит, значит, я этой встречи не заслужил... В последнее время я был слишком самодоволен, у меня появилось много доводов против моего отпора Ф. и самоутверждения за её счет...» А три дня спустя -- новая запись: «Конец писательству. Когда-то еще оно призовет меня к себе?
175
И в каком скверном состоянии я встречусь с Ф.... Неспособность подготовиться к этой встрече, а ведь на прошлой неделе меня просто одолевали важные мысли в связи с ней».
Это было его первое свидание с Фелицей после «суда», и более неприятного впечатления она, пожалуй, никогда на него не производила. Поскольку роман «Процесс» уже изрядно от нее удалился, Кафка смог взглянуть на нее более отстраненно и беспристрастно. Но меты, оставленные на нем тем «судилищем», все равно оказались неизгладимыми. Более сдержанно в письме к ней и совершенно беспощадно в дневнике Кафка это свое впечатление отразил:
«Каждый про себя твердит, что это другой непреклонен и безжалостен. Я не отступлюсь от намерения построить некий фантастический, лишь работе подчиненный образ жизни, а она, глухая ко всем немым мольбам, хочет заурядности: уютную квартиру, интерес к делам на фабрике, обильных трапез, с одиннадцати вечера -- сон, натопленную комнату и переставляет мои часы, которые последние три месяца спешат на полтора часа, на правильное время.
Два часа мы были с ней в комнате наедине. Вокруг меня лишь скука и безнадежность. Не было у нас друг с другом ни одного хорошего мгновенья, когда бы я мог свободно вздохнуть... Я ей читал кое-что, но фразы омерзительно запинались, ибо не было никакого отклика от слушательницы, что лежала, закрыв глаза, на кушетке и внимала мне молча... Мое утверждение оказалось верным и даже было таковым признано: каждый из нас любит другого таким, как есть. Но полагает, что с таким, как есть, жить невозможно». Самое бестактное ее вмешательство -- это манипуляция с его часами. Его часы идут иначе, чем у всех прочих, это дает ему крохотную толику свободы. Она переставляет часы на правильное время, бездумно попирая эту свободу, приспосабливая его время к своему, обычному, ко времени конторы и фабрики. А слово «любит» в цитате несколькими строками выше звучит уже как удар в лицо, с тем же успехом там могло стоять слово «ненавидит».
Отныне характер их корреспонденции меняется полностью. Он ни в коем случае не хочет впадать в прежний тон переписки. Он остерегается еще раз впутывать Фелицу в «Процесс», ибо в том, что от него осталось, ей уже почти нет места. Он решает писать ей раз в две недели, но даже столь скупой квоты не «вырабатывает». Из 716 страниц, составляющих весь корпус переписки, 580 приходятся на первые два года до конца 1914-го. Письма последующих трех лет (1915-1917) занимают всего 136 страниц. Правда, кое-какие -- немногие -- письма этих лет утрачены, но даже если бы они сокранились, существенно повлиять на это количественное соотношение они бы все равно не смогли. Сообщение становится теперь все реже, да и короче, он все чаще посылает открытки, переписка 1916 года по большей части состоит из открыток. Был тут, впрочем, и тот практический резон, что открытки легче проходили почтовую цензуру, установленную между Германией и Австрией во время войны. Но и тон изменился, теперь уже Фелица часто жалуется на его молчание, вообще это исключительно только она теперь проявляет инициативу, он же обороняется. В 1915 году, два года спустя после выхода в свет, она -- воистину чудо из чудес! -- даже удосуживается прочесть «Созерцание».
Встречу в Боденбахе следует считать водоразделом в отношении Кафки к Фелице. Как только ему удалось посмотреть на нее столь же беспощадно, как он смотрел на себя, образ ее утратил над ним свою безраздельную власть. После «суда» он просто отодвинул мысли о ней куда-то в сторону, хорошо понимая, что достаточно одного ее письма -- и мысли тотчас же вернутся. Но теперь, когда он нашел в себе мужество для новой встречи с ней, роли поменялись. Новый период ик отношений хочется назвать периодом перевоспитания: он, когда-то черпавший силы в ее старательности, теперь пытается сделать из нее другого человека.
Иногда хочется спросить себя, действительно ли вся эта история пятилетнего уклонения настолько важна, чтобы вникать в нее с такими подроб-
176
ностями. Конечно, интерес к жизни и творчеству писателя может простираться очень далеко, а когда свидетельства столь обильны, как в данном случае, соблазн досконально их изучить и постичь их глубинные взаимосвязи может стать просто необоримым; чем богаче и разнообразнее эти свидетельства, тем ненасытней любознательность наблюдателя. Человек, считающий себя мерой всех вещей, еще почти не изучен, его успехи в познании самого себя минимальны, и всякая новая теория затемняет в нем гораздо больше, чем высвечивает. Лишь непредвзятое конкретное исследование отдельных человеческих особей способно мало-помалу продвигать нас вперед. А поскольку так давно повелось и лучшие умы всегда это знали, то человек, предлагающий себя для изучения в такой всеобъемлющей полноте, -- это всегда и при всех обстоятельствах невероятно счастливая находка. Но в случае с Кафкой это нечто большее, и это чувствует каждый, кто хоть раз приблизился к сфере его частной жизни. Есть нечто глубоко волнующее в этом упорном стремлении бессильного, немощного человека во что бы то ни стало уклониться от насилия власти в любой ее форме. И прежде чем мы проследим дальнейшее развитие его отношений с Фелицей, имеет смысл показать, насколько весь он переполнен этим феноменом, который стал зловещей доминантой нашей эпохи. Среди всех художников слова Кафка величайший эксперт в вопросах власти. Он пережил и воплотил феномен власти во всех его аспектах.
Одна из центральных тем Кафки -- унижение; к тому же это одна из наиболее очевидных его тем, легче других доступных анализу. Уже в «Приговоре», вещи, которую он сам считал началом своего серьезного творчества, эта тема вычленяется без труда. В «Приговоре» перед нами два взаимосвязанных унижения: унижение отца и унижение сына. Отец уязвлен и напуган предполагаемым беспутством сына; произнося свою обвинительную речь, он встает во весь свой немалый рост на кровати и так, став непомерно огромным, пытается собственное унижение превратить в нечто противоположное -- в унижение сына: он приговаривает его к смерти утопленника. Сын не считает приговор справедливым, однако сам же приводит его в исполнение, как бы признавая меру собственного унижения, которое стоит ему жизни. Унижение представлено здесь само по себе, отдельно от всего остального; беспричинное и бессмысленное, оно тем не менее действенно -- и в этом вся страшная сила рассказа.
В «Превращении» унижению подвергнуто тело, и предмет унижения явлен нам с самого начала с поразительной художественной компактностью: вместо сына, кормильца и опоры семьи, внезапно объявился жук. Эта метаморфоза с неизбежностью влечет за собой унижение, вся семья чувствует неодолимую потребность унизить жертву. Унижение вступает в свои права не сразу, но ему дано достаточно времени, чтобы разрастись и набрать силу. Постепенно почти против воли, но не в силах ему противостоять -- в унижение вовлекаются все. Явленную в начале рассказа метаморфозу они как бы проводят еще раз, лишь семье дано окончательно и бесповоротно превратить Грегора Замзу в жука. Превращение обретает тем самым социальный смысл: просто жук становится паразитом.
Изобилует сценами унижения и роман «Америка», но унижение здесь все же не столь абсурдное и не столь непоправимое зло. Свою роль играют тут представления Кафки о континенте, название которого вынесено на титульный лист книги: возвышение Росмана благодаря дяде и его столь же внезапное падение -- пример достаточно показательный, чтобы им и ограничиться. Суровость жизни в новой незнакомой стране сглаживается за счет ее социальной динамичности. Надежда на лучшее продолжает теплиться в душе униженного, за всяким падением может последовать чудо взлета. Ни одно из злоключений, постигших Росмана, не несет в себе фатальной окончательности. Вот почему из всех произведений Кафки эта книга больше других исполнена надежды и не столь безысходна.
В «Процессе» унижение исходит от инстанции гораздо более многосложной, чем семья в«Превращении». Суд, лишь однажды предъявившись герою, затем унижает его своей неуловимостью, он облекается в завесу
177
тайны, за которую не проникнуть никакими силами. Чем упорнее усилия -- тем очевиднее их тщета и бессмысленность. Всякий след, по которому направляются поиски, оказывается никчемным и ложным. Вопрос о вине и невиновности, казалось бы, определяющий целесообразность существования всякого суда, не имеет никакого значения, более того, выясняется, что из непрестанных попыток приблизиться к суду вина как раз и возникает. Но главная тема, тема унижения, каким оно предстает в отношениях человека к человеку, обогащается здесь в ряде эпизодов новыми вариациями. Сцена у художника Титорелли, открывающаяся необъяснимыми издевками соседских девочек, завершается тем, что художник демонстрирует и продает К., уже почти задыхающемуся от удушья в этой тесной и жаркой мастерской, совершенно одинаковые картины. К., кроме того, вынужден наблюдать, как подвергаются унижению другие люди: он, например, видит, как становится на колени у постели адвоката коммерсант Блок, превращаясь чуть ли не в собаку, но даже это, как и многое другое, в конечном счете ничего не дает.
О финальной сцене «Процесса», о позоре прилюдной казни, уже было сказано выше.
Образ собаки в этом контексте возникает у Кафки снова и снова, в том числе и в письмах, где он говорит уже не о вымышленных персонажах, а о событиях собственной жизни. Вот, например, как он живописует эпизод своих взаимоотношений с Фелицей, имевший место весной 1914 года, в одном из писем к ней: «...когда во время прогулки по зоопарку я бегу за тобой и в любую секунду ты готова повернуться и вовсе уйти; а я броситься тебе под ноги... это унижение, какого не знает даже распоследняя собака». Первый абзац рассказа «В исправительной колонии» с описанием осужденного на казнь, прикованного к большой цепи множеством мелких цепочек, завершается следующей сентенцией: «Впрочем, весь облик осужденного был преисполнен такой собачьей покорности, что казалось, отпусти его на волю погулять по пригоркам, а потом, перед началом экзекуции, только свистни и он придет».
«Замок», произведение гораздо более позднего периода жизни Кафки, вводит в его творчество новое измерение -- образ простора. Ощущение простора возникает здесь не столько даже из описания пейзажей, сколько из гораздо более сложной картины мира, прежде всего из ее многолюдства. И здесь, как и в «Процессе», власть уклоняется, она неуловима. Кламм, бесконечная иерархия чиновников, Замок -- их видишь, но без твердой уверенности, что видел их на самом деле; по сути, отношение бесправного люда, что ютится у подножья замковой горы, к чиновничеству - это упование на верхи. Вопрос о причинах существования этих верхов ни разу даже не возникает. Но исходит-то от этих верхов, расползаясь между простыми смертными, лишь одно: унижение подданных. Единственная попытка бунта против этого господства -- отказ Амалии покориться воле одного из чиновников -- влечет за собой отторжение всей ее семьи от общины деревни. Сочувствие и симпатии автора на стороне низов, тех, кто уповает понапрасну; к верхам, кто справляет массовые оргии бюрократического произвола, он питает неприкрытую неприязнь. «Религиозный элемент», который столь многие в «Замке» усматривают, возможно, тут проявляется, но обнаженно, в чистом виде, как неутолимое и непостижимое стремление человека ввысь. В то же время более открытого обличения раболепной покорности верхам, будь то действительно высшая, небесная сила или просто земная власть, пожалуй, еще никто не писал. Ибо здесь сведено воедино всякое господство и показана его пагубность, вера и власть слились в одно сомнительное целое, а верноподданность жертв, которым даже в голову не придет хотя бы помечтать о возможности иного устройства жизни, столь безгранична, что заставит содрогнуться от возмущения даже того, кого ничуть не трогают самые звонкие лозунги самых влиятельных в мире идеологий, из которых столькие уже опровергнуты и забыты.
Кафка с самого начала встал на сторону униженных. Многие поступали так же и, чтобы что-то исправить, объединялись с другими людьми. Однако
178
чувство силы, которое дает подобное единение, очень вскоре помогает забыть о переживании унижения во всей его остроте, о таком унижении, которому конца не видно, которое длится ежедневно и ежечасно. Кафка же каждое такое переживание -- свое ли, похожих на себя, но и совсем не похожих на себя людей -- хранил в душе как бы по отдельности. Ему было не дано от этих переживаний освободиться -- посредством единения с другими или сообщения другим; он замирает над ними в таком оцепенении, словно это самое дорогое, что у него ёсть. В этом, пожалуй, и воплотилось его совершенно особое дарование.
Люди с такой же, как у него, ранимостью восприятия, вероятно, не так уж редки; куда реже встречается столь крайняя замедленность ответных реакций, выразившаяся в его натуре столь странным образом. Он часто жалуется на свою плохую память; но на самом деле эта память не упускает ничего. Поразительная точность его памяти выдает себя в том, как он подправляет и дополняет воспоминания Фелицы о событиях прежних лет. Другое дело, что он не всегда властен над своими воспоминаниями, не всегда может свободно ими распоряжаться. Оцепенение, с которым он их в себе прячет, ему мешает, он не может, как другие писатели, безответственно играть воспоминаниями. У этого оцепенения свои строгие законы, оно, если можно так выразиться, помогает ему сберечь ресурсы сопротивляемости. Оно, например, позволяет ему подчиняться приказам не тотчас же, но при этом чувствовать пришпоривающий укол приказа с такой остротой, будто он уже подчинился, от этого сила его сопротивления только возрастает. Когда же он в конце концов подчинится, это будет уже как бы не совсем тот приказ, ибо он уже изъял этот приказ из прежней временной взаимосвязи, взвесил и обдумал его так и эдак, ослабил его настоятельность своим размышлением и тем самым как бы лишил приказ его угрожающей силы.
Процесс этот, безусловно достойный куда более подробного изучения, можно было бы проиллюстрировать многими конкретными примерами. Я довольствуюсь здесь только одним: это его стойкая неприязнь к определенным блюдам. Проживя большую часть жизни в доме родителей, Кафка нисколько не поддался царящим в этом доме гастрономическим привычкам, воспринимая их, очевидно, как враждебный приказ. И вот он сидит за родительским столом, но ест только свои, особые блюда, навлекая на себя суровое недовольство отца. Однако неуступчивость в этом вопросе дает ему силы сопротивляться другим вещам и другим людям. В борьбе против навязываемых ему Фелицей удручающих представлений о браке подчеркнутое внимание к этой сфере играет решающую роль. Раз за разом он упорно не желает приспосабливаться к общепринятому стандарту, чего от него так ждет невеста. Но едва помолвка расторгнута -- и он, оказывается, теперь может позволить себе и мясные блюда. В письме с балтийского побережья, где он на курорте приходит в себя после берлинского «судилища», он -- не без отвращения -- расписывает пражским друзьям свой «мясной загул». И еще месяцы спустя в одном из писем Фелице с мрачным удовлетворением вспоминает, как вскоре после расторжения помолвки пригласил ее сестру Эрну пообедать и как они ели мясо. Если бы он пошел с ней, с Фелицей, то заказал бы неочищенный миндаль. Вот так, задним числом, освободившись от ее давления, он исполняет ее приказы, ибо они уже не угрожают его независимости.
Молчаливость Кафки, его склонность из всего делать тайну, которую он ревниво оберегает даже от лучших своих друзей, -- все это тоже надо понимать как своеобразную тренировку этой его способности к внутреннему оцепенению. Он ведь даже не всегда осознает, что что-то замалчивает. Но когда его персонажи, будь то в «Процессе» или особенно в «Замке», вдруг впадают в многословие, произнося, словно в прениях сторон на суде, целые речи,-- сразу чувствуешь, что это в нем самом открываются некие шлюзы: он обретает язык. Насколько обычно оцепенение лишает его дара речи, настолько же здесь, в полупрозрачных одеяниях персонажа, ему вдруг
179
даруется свобода слова. Нет, это не исповеди, какие мы знаем у героев Достоевского, здесь иной, не столь накаленный «градус», да и нет здесь ничего аморфного -- скорее это демонстрация владения инструментом, у которого строго ограниченный диапазон звучания, -- демонстрация аккуратного, даже педантичного, но несомненно виртуозного мастерства.
История его противостояния отцу, к которой нельзя подходить с обычными, банальными трактовками, это тоже история его оцепенения, причем чуть ли не от истоков. Многое из того, что об этом сказано, представляется в корне неверным; зная самостоятельное отношение Кафки к психоанализу, можно было бы по крайней мере избавить его от убогих истолкований в этом, к тому же весьма примитивно и узко понятом ключе. Его борьба против отца была по сути своей не чем другим, как борьбой против самовластья. Он ненавидел семью как целое, отец был не чем иным, как наиболее мощной частью этой семьи; когда возникла угроза образования собственной семьи, его борьба против Фелицы приобрела тот же смысл и тот же характер.
Имеет смысл еще раз вспомнить о его молчании в «Асканийском подворье», это наиболее исчерпывающий пример его оцепенения. Он не реагирует так, как отреагировал бы на его месте любой другой, не отвечает ударом на удар, обвинением на обвинение. Зная меру его ранимости, не приходится сомневаться в том, что все сказанное против него он ясно воспринимает и остро чувствует. И ничуть как можно было бы выразиться применительно к подобной ситуации - не «вытесняет». Он прячет это в себя, но прекрасно осознает, что он в себя прячет, он то и дело думает об этом и так часто извлекает свои муки на поверхность сознания, что тут впору говорить о чем-то, прямо противоположном «вытеснению». Отсутствует только одно какая бы то ни было внешняя реакция, способная выдать его душевное состояние, воздействие на него чужих слов. То, что в нем этими словами вызвано, то, что он в себе хранит; острей ножа, но ни ярость, ни ненависть, ни гнев, ни жажда отмщения никогда не побудят его за этот нож схватиться. Все это существует как бы отдельно от аффектов, само по себе. Но, отмежевавшись таким образом от аффектов, он вывел себя из-под их власти.
Наверно, надо было бы извиниться за столь наивное употребление слова «власты», если бы не сам Кафка, который, всякой многозначности вопреки, бесстрашно употребляет его снова и снова. Это слово всплывает у него в самых разных контекстах и взаимосвязях. Он боялся «громких», напыщенных слов, и этой его боязни мы обязаны тем, что он не оставил после себя ни единого «риторического» произведения; вот почему и «читабельность» их никогда не уменьшится, обычный, неизбежный процесс выхолащивания слов и наполнения их новым смыслом, из-за которого стареет практически всякая литература, никогда не затронет его прозу. Но он никогда не испытывал этой боязни перед словами «власть» и «властный», он употребляет их, не подыскивая синонимов, не избегая и не обинуясь. Стоило бы составить словарь употребления этих слов в его прозе, письмах, дневниках -- этот труд окупился бы сторицею.
Но он не просто употребляет слово -- с беспримерным мужеством и небывалой отчетливостью он обозначает суть, которая во всем своем зловещем многообразии в этом слове содержится. Ибо, поскольку он страшится власти в любой ее форме и сущностное стремление всей его жизни состоит в том, чтобы от любой формы власти уклониться, он распознает, называет и воплощает феномен власти повсюду, в том числе и там, где все прочие готовы смиренно принять эту власть как нечто само собой разумеющееся.
В наброске, который можно найти в сборнике «Приготовления к свадьбе в деревне», он воплощает зверскую сущность власти, в восьми строчках создавая чудовищную картину мира:
«Перед этой фигурой напротив я был беззащитен, она спокойно восседала за столом и изучала столешницу. Я ходил вокруг нее кругами
180
и чувствовал, как она меня душит. Вокруг меня кругами ходил третий и чувствовал, как я душу его. Вокруг третьего кругами ходил четвертый и чувствовал, как его душит третий. И так далее - вплоть до коловращения созвездий и еще дальше. Все и вся чувствовало удушающую хватку на горле».
Угроза, хватка на горле, исходит из некоего средоточия, там она возникает, в этом центре всемирного удушения, что держит вокруг себя кольца орбит «вплоть до коловращения созвездий и еще дальше». Из пифагорейской сферической гармонии возникло сферическое насилие, где все решает тяжесть человеческих особей, каждая из которых образует свою собственную сферу.
Он настолько остро ощущает угрозу, исходящую от зубов, что его «удерживает» даже не их сомкнутый двурядный строй, а каждый зуб по отдельности.
«Был обычный день; он показал мне зубы; эти зубы притягивали и удерживали меня, я не мог от них скрыться; я не знал, как и чем они меня держат, ведь они даже не были сомкнуты; да и видел я не сомкнутый строй двух челюстей, а всего лишь несколько зубов тут, несколько там. Я хотел ухватиться за них и, оттолкнувшись, улететь прочь, но у меня ничего не получилось»:
В одном из писем к Фелице он вдруг находит удивительный образ: «страх прямостояния». Он толкует ей сон, который она ему рассказала, «сюжет» сна из этого толкования легко просматривается:
«Лучше я тебе твой сон растолкую. Если бы ты не улеглась на землю среди зверья, ты бы не увидела и небо в звездах и не обрела бы избавление. Ты бы, возможно, этот страх прямостояния не смогла пережить. Со мной бывает точно так же; это наш общий сон, который тебе приснился за нас обоих».
Чтобы обрести избавление, надо лечь среди зверья. Прямостояние обеспечило человеку власть над животным миром, но именно в такой, наиболее очевидной позе своего полновластья он более всего подвержен опасности, уязвим, да просто виден. Ибо его власть - это в то же время его вина, и только лежа на земле, вместе со зверьем, можно увидеть звезды, которые способны дать избавление от этого тяжкого бремени человечьей власти.
Об этой же вине человека перед животными свидетельствует самое громкое место в прозе Кафки. Приведенный ниже абзац можно найти в рассказе «Старинная запись» из сборника «Сельский врач».
«В конце концов мясник решил избавить себя хотя бы от трудов убоя и однажды утром привел живого вола. Горе ему, если он вздумает сделать это еще раз. Наверно, цёлый час я провалялся ничком на полу в самом дальнем углу мастерской, навалив на себя всю свою одежду, одеяла, подушки, лишь бы не слышать рева несчастного животного, которого со всех сторон облепили кочевники, зубами отрывая куски теплого мяса. Потом все стихло, но я не сразу отважился выйти на площадь; как пьянь вокруг винной бочки, полегли кочевники вокруг останков воловьей туши».
«Потом все стихло...» Дозволено ли сказать, что от самой страшной правды рассказчик тут уклонился, уверяя, будто снова обрел тишину, хотя после такого рева тишины не бывает? В том-то и своеобразие позиции Кафки: никакие одежки, одеяла и подушки на свете не могли бы навсегда заглушить в его ушах рев терзаемой твари. Если он тут и уклонился, то только для того, чтобы потом услышать рев снова, ибо для него этот рев никогда не кончается. Впрочем, слово «уклониться», которое мы здесь употребили, применительно к Кафке весьма неточно. В данном случае оно означает, что он искал тишины, дабы не слышать ничего другого, ничего мелкого и постороннего, ему важно было расслышать один только страх.
Повсюду сталкиваясь с властью, он все же от поры до поры -- благодаря все той же способности к оцепенению -- получал передышку. Когда же этой способности бывало недостаточно либо она ему отказывала, он практиковался в исчезновении; тут ему очень даже пригождалась его худоба,
181
хоть он, как мы знаем, частенько презирал себя за это свойство. Но благодаря телесному умалению он как бы выводил себя из-под чужой власти, да и сам меньше власти источал, то есть и тут его аскетизм был направлен против власти. Эта склонность к исчезновению проявляется, например, в его отношении к своему имени и фамилии. В двух его романах, в «Процессе» и в«Замке», он свою фамилию сокращает до начальной буквы. В письмах к Фелице нередко можно наблюдать, как имя сокращается по ходу письма, покуда не исчезает совсем.
Но наиболее поразительно другое средство защиты, которым он владеет с такой уверенностью, какая отличает еще разве что китайцев: это умение превращаться в маленькое. Ненавидя насилие и не чувствуя в себе достаточно сил, чтобы открыто ему противостоять, он увеличивал дистанцию между заведомо более сильным и собой за счет того, что сам уменьшался в размерах. Благодаря этому он достигал двоякой цели: ускользал от угрозы, становясь для нее слишком ничтожным, и избавлялся сам от всех презренных атрибутов и соблазнов насилия; ведь мелкие зверушки, в которых он особенно любил превращаться, совершенно безобидны.
На происхождение этого его необычного дара весьма яркий свет проливает одно из ранних писем Броду. Оно датируется 1904 годом, когда отправителю был всего двадцать один год; я называю это письмо «кротовым» и часто его цитирую, когда пытаюсь объяснить, что подразумеваю под способностью Кафки превращаться в маленькое. Но сейчас предпошлю этим цитатам еще одну, из письма, написанного даже годом раньше и адресованного другу юности Оскару Поллаку: «Почтение кроту и его повадке, но все же не стоит делать из него святого». Пока что ничего особенно вроде не сказано, но все же -- крот появился. К тому же есть нечто необычное в упоминании его «повадки», а в предостережении «не делать из него святого» нельзя не расслышать провозвестья будущего отношения Кафки к этому зверьку. Что же до письма Броду, то в нем говорится следующее:
«Мы разгребаем тьму, точно кроты, дабы выбраться на поверхность и, лоснясь почерневшей бархатистой шкуркой, простереть наши бедные розовые лапки, взыскуя нежности и сострадания.
Как-то во время прогулки мой пес перехватил крота, не успевшего перебежать нам дорогу. Пес то кидался на зверька, то снова его выпускал, он у меня еще молодой и несмелый. Поначалу меня все это развлекало, особенно забавно было наблюдать за перепуганным кротом, который в панике прямо-таки отчаянно, хотя и тщетно, пытался найти расщелину или норку в утоптанном грунте проселка. Но в какой-то миг, когда пес снова к нему подскочил и тронул лапой, крот вдруг вскрикнул. К-с-с-с, к-с-с -- так он кричал. Может, мне показалось -- нет, ничего мне не показалось. Просто почудилось, наверно, оттого, что у меня в тот день была ужасно тяжелая голова, ее так и клонило вниз, покуда к вечеру я с изумлением не обнаружил, что подбородок мой намертво прирос к груди».
К этому стоит, пожалуй, лишь добавить, что собака, погнавшаяся за кротом,-- это собака Кафки, следовательно, он выступает тут ее хозяином, господином. Для крота, что в смертном страхе тычется в утоптанный грунт дороги, пытаясь найти спасительную норку, самого человека как бы и не существует вовсе, зверек боится только собаки, воспринимает только ее. Человек же, столь величественный в своем прямостоянии, владеющий к тому же собакой, которую он и не подумает бояться, -- человек сперва смеется над отчаянными и тщетными метаниями крота. А тот даже не ведает, что может обратиться к человеку за помощью, он не обучен молитве, все, что он может,-- это пронзительно вскрикнуть. Это единственное, что способно тронуть Бога, -- ибо здесь человек, конечно же, выступает Богом, он -- высшее существо, он -- средоточие власти и в данном случае он, Бог, даже есть, он присутствует. К-с-с, к-с-с -- вскрикивает крот, и этот его вскрик превращает наблюдателя в крота; он, не ведающий страха перед собакой, своим рабом, вдруг чувствует, что это такое -- быть кротом.
Внезапный крик -- не единственный импульс для превращения
182
в маленькое. Другой -- это «бедные розовые лапки», простертые, словно руки, взыскуя сострадания. Во фрагменте «Воспоминание о дороге на Кальду», написанном в августе 1914 года, можно найти сходную попытку приближения к маленькому существу, на сей раз речь идет об умирающей крысе и ее «ручонках».
«Что же касается крыс, посягавших иногда на мою провизию, то тут мне вполне хватало моего длинного ножа. На первых порах, когда мне еще все было любопытно, я как-то раз даже насадил одну на нож и, словно на булавке, пришпилил к стене на уровне глаз. Мелких тварей по-настоящему разглядеть можно, только если держишь их на уровне глаз; если же к ним наклоняться и рассматривать их на земле, представление будет неточным и неполным. Самое удивительное в этих крысах -- это их когти, мощные, внутри как бы слегка полые, но очень острые на концах, видно, они отлично приспособлены для рытья. У крысы, что дергалась передо мной на стене в предсмертной судороге, когти очень странно, совсем не как при жизни, растопырились, словно своей ручонкой она силилась кого-то оттолкнуть».
Мелких тварей, чтобы как следует разглядеть, надо держать на уровне глаз -- то есть как бы возвысить их до своего уровня, приравнять к себе. Склоняться к земле, как бы опускаться до их уровня не следует -- представление будет неверным и неточным. Но подобное возвышение мелких зверьков, поднятие их на уровень глаз заставляет подумать и о другом пристрастии Кафки -- о его склонности этих мелких тварей многократно увеличивать: вспомним жука в«Превращении», кротообразное существо в «Норе». Превращение в маленькое становится нагляднеё, ощутимей, правдоподобней благодаря встречному увеличению мелких зверушек.
Столь же живой, как у Кафки, интерес к очень маленьким животным, особенно к насекомым, можно обнаружить еще разве что в обиходе и литературе китайцев. К их любимейшим представителям фауны издавна относятся, например, сверчки. Во времена династии Сун существовал обычай держать у себя дома сверчков, специально тренируя их для сверчковых боев. Сверчков носили на груди в «домике» из скорлупы грецкого ореха, причем домик был оборудован как жилище сверчка. Владелец одного из особенно знаменитых бойцовых сверчков подставлял комарам свой бицепс, дожидался, пока те насосутся его крови, после чего приготовлял из убитых комаров своеобразное суфле и подавал это блюдо своему любимцу, дабы поднять его боевой дух. Существовали особые кисточки, с помощью которых сверчков дразнили, готовя к схватке, а потом, лежа на животе или сидя на корточках, наблюдали за ходом боя. Особо отличившимся бойцовым сверчкам присваивались имена выдающихся полководцев китайской истории, причем считалось, что душа полководца переселяется в тельце нареченного его именем насекомого. Благодаря буддизму вера в переселение душ была для большинства китайцев чем-то само собой разумеющимся, так что ничего необычного в этом представлении не было. Поисками доблестных сверчков для императорского двора занималась вся страна, за многообещающих особей платили очень большие деньги. Предание гласит, что, когда империя Сун подверглась нападению монголов, верховный главнокомандующий, лежа на животе, увлеченно наблюдал за поединком сверчков, в каковой позе его и застал гонец, принесший весть о том, что неприятель уже окружает столицу. Полководец не смог оторваться от сверчков, ему важнее было знать, кто победит в этом бою; столица пала, и империи Сун пришел конец.
Но и много раньше, еще в правление династии Тан, сверчков ценили за мелодичное пение и держали в маленьких клетках. И всякий раз -- поднимая ли сверчка на ладони, чтобы поближе разглядеть его во время пения, извлекая ли его из «домика», который, как самое дорогое, носили на груди и тщательно убирали, -- сверчка держали на уровне глаз, в точности как рекомендует Кафка. На сверчков смотрели как на равных себе, а когда сверчки бились друг с другом, люди опускались к ним, садясь на корточки или ложась на пол. Души сверчков считались душами великих полководцев,
183
а исход их поединка бывал, оказывается, важнее, чем судьба целой огромной империи.
Истории, в которых маленькие твари играют немаловажные роли, чрезвычайно популярны у китайцев; особенно распространены такие, где повествуется о сверчках, муравьях и пчелах, человек попадает в их царство, и они обращаются с ним, как люди. Из писем к Фелице, впрочем, не вполне ясно, прочел или не прочел Кафка «Китайские истории о духах и любви» Мартина Бyбepa, книгу, в которой приведено несколько таких историй. (Все-таки книга эта с похвалой им упомянута, причем, к неудовольствию его -- это как раз время: его яростной ревности к другим писателям, выясняется, что Фелица и так, без его подсказки, эту книгу уже купила.) Как бы там ни было, некоторые из его рассказов будто сами просятся в китайскую литературную традицию. Китайские темы вообще довольно часто подхватываются европейской литературой еще с XVIII столетия. Но единственный истинно китайский по своему духу писатель, выросший на Западе, это Кафка 1. В одном из набросков, который вполне мог возникнуть из даоистских текстов, он сам сформулировал свое понимание «маленького»: «Есть две возможности: либо делаться бесконечно маленьким, либо постоянно таким быть. Второе -- это завершенность, то есть бездействие, первое -- начало, то есть дело».
Я вполне отдаю себе отчет, что здесь затронута лишь малая толика из того, что можно было бы сказать о власти и превращении у Кафки. Попытка довести все это до полноты и необходимой подробности уместна лишь в рамках более объемистой книги, здесь же нам следует проследить до конца историю его взаимоотношений с Фелицей, которым предстоит длиться еще три года.
Из всех тощих лет этой любви 1915 год был самым тощим. Он прошел под знаком встречи в Боденбахе: все, что Кафке удавалось хоть раз облечь в слова, все, что ему случалось записать, надолго сохраняло над ним свою власть. Поначалу -- как бы вслед этой встрече, но со все большими промежутками -- Фелица еще получила несколько писем. В них были жалобы на то, что ему не пишется -- тут дело и впрямь снова совсем заглохло, и на шум в новой квартире, куда он въехал; о шуме он пишет наиболее подробно, и эти места в письмах производят наиболее сильное впечатление. Ему все труднее выносить свое канцелярское существование чиновника; среди упреков, которых он для Фелицы не жалеет, самый тяжелый сводится к тому, что она хотела жить с ним в Праге. Прага ему теперь невыносима, и чтобы бежать от нее, он носится с мыслью пойти на фронт. Война причиняет ему страдания главным образом тем, что он в ней не участвует. Но не исключено, что он пойдет на войну сам, добровольцем. Скоро у него освидетельствование, пусть Фелица пожелает, чтобы его взяли; ибо сам он очень этого хочет. Но его, несмотря на неоднократные попытки, конечно же, никуда не берут, и он остается, «в отчаянии, как пойманная крыса», в своей пражской конторе.
Она посылает ему «Саламбо» с очень грустной дарственной надписью. Его это чрезвычайно огорчает, и он пытается даже -- хотя бы раз -- написать ей утешительное письмо. «Ничто не кончается, ни тьма, ни колод. Сама посуди, Фелица, ведь единственное, что изменилось, это что мои письма теперь другие и приходят реже. Но каков был результат тех, прежних писем, что приходили чаще? Ты же сама знаешь. Нам надо начать сначала...»
1. В подкрепление этой мысли упомяну, что ее разделяет ведущий исследователь и знаток восточнык литератур Артур Уэйли, в беседах с которым мы не раз эту тему детально обсуждали. Безусловно, именно по этой причине Кафка был единственным немецкоязычным прозаиком, кого он с увлечением читал и знал так же хорошо, как стихи Бо Цжюйи или буддийский роман об Обезьяне (видимо, имеется в виду знаменитый средневековый роман «Путешествие на Запад».-- Прим. перев.), которые он сам перевел. В тех наших беседах речь довольно часто шла о«естественном» даоизме Кафки, но кроме того -- чтобы уж не упустить ни одного «китайского» аспекта,- и о совершенно особой окраске его ритуализма. Превосходными его образцами Уэйли считал «Отклоненное прошение» и «Как строилась Великая Китайская стена», но в этой же связи упоминались и другие рассказы. (Прим. автора.)
184
Как знать, не эта ли грустная надпись на книге Флобера побудила его на Троицу снова встретиться с Фелицей и с Гретой Блох в Богемской Швейцарии? Для обоих это время оказалось единственным светлым пятном в году. Возможно, благотворно сказалось присутствие Греты Блох, и эти два дня прошли хорошо. Должно быть, леденящий ужас «суда», который обе женщины над ним учинили, теперь хотя бы частично его отпустил.
У Фелицы болели зубы, ему было дозволено принести ей аспирин и «в коридоре любоваться ею лицом к лицу». Видела бы она его, пишет он ей сразу по возвращении в Прагу, как он всю дорогу не отрывал глаз от букета сирени, черпая в нем воспоминание о ней, об ее комнате. Обычно он никогда ничего подобного в дорогу не берет, он вообще не большой любитель цветов. А на следующий день он пишет, что ему тоскливо, он слишком долго с ней, Фелицей, пробыл. Два дня -- это слишком много. Если бы один -- было бы легче расстаться, а за двое суток возникает привязанность, которую потом больно рвать.
Еще несколько нёдель спустя, в июне, происходит новая встреча -- в Карлсбаде. На сей раз встреча очень недолгая и, видимо, крайне неудачная. Подробности тут неизвестны, но в более позднем письме упоминается Карлсбад и «поистине отвратительная поездка в Ауссиг» 1. Видимо, после счастливой Троицы контраст оказался особенно резким, ибо Карлсбад попадает в перечень самых болезненных переживаний, он в этом списке стоит сразу после злополучной прогулки в зоопарке и суда в«Асканийском подворье».
После этого он почти совсем ей не пишет, а если и пишет, то лишь чтобы отбиться от ее жалоб на его молчание. «Почему ты не пишешь? -- спрашивает он себя. -- Зачем ты мучишь Ф.? Ведь ее открытки ясно доказывают, что ты ее мучишь. Ты обещаешь написать и не пишешь. Шлешь телеграмму «Отправил письмо», а никакого письма не отправлял, ты и напишешь-то его только дня через два. Такое -- да и то, пожалуй, в исключительных случаях -- позволительно лишь барышням...» Они поменялись ролями, это очевидно, он обходится с ней теперь точно так же, как несколько лет назад она обходилась с ним, и его упоминание о барышнях, которым такое позволительно, отнюдь не свидетельствует о том, что он этого не осознает.
С августа по декабрь она не получает от него ни строчки, а после он если и пишет, то лишь затем, чтобы отвергнуть ее очередное предложение увидеться. «Прекрасно было бы встретиться, но не следует нам этого делать. Опять будет что-то временное, а мы от временного и так вдоволь настрадались». «Так что - взвесив все «за» и «против» - лучше тебе не приезжать». «Покуда я не свободен, я не хочу тебе показываться, не хочу тебя видеть». «Предостерегаю от этой встречи и тебя и себя, постарайся как следует припомнить наши прежние встречи, и тебе мигом расхочется... Так что никакой встречи».
Последняя цитата датируется уже апрелем 1916 года и звучит в общем контексте письма, откуда мы ее изъяли, даже еще жестче. Его отпор - если не считать скудную интерлюдию на Троицу - за полтора года только усилился, и не очень-то видно, что и как тут когда-либо можно будет изменить. Но как раз в этом же апреле на одной из открыток впервые всплывает словечко «Мариенбад» и с тех пор то и дело появляется снова. Он надумал уйти в отпуск и намеревается на три недели уехать в Мариенбад, чтобы там спокойно отдохнуть. Теперь и открытки oт него приходят чаще. В середине мая он и вправду оказывается в Мариенбаде, но в командировке, и пишет ей оттуда сразу и довольно длинное письмо, и открытку.
«...Мариенбад неизъяснимо прекрасен. Надо было мне давно последовать инстинкту, который мне подсказывает, что толстые люди -- самые умные. Ибо похудеть можно где угодно и без всяких минеральных источников, а вот бродить по таким волшебным лесам можно только здесь. Сейчас, правда, вся эта красота невероятно обострена тишиной, безлюдьем,
1. Ауссиг --- немецкое название чешского города Усти-над-Лабем (прим. перев.).
185
какой-то всеобъемлющей взаимной приязнью живого и неживого, к тому же почти ничего не теряет из-за хмурой, ветреной погоды. Думаю, будь я китайцем и отправляйся я сейчас домой (а ведь я по сути своей китаец и действительно отправляюсь домой), я бы обязательно сделал всё для того, чтобы поскорее приехать сюда снова. А уж как бы тебе тут понравилось!»
Я процитировал эту открытку почти целиком, ибо в ней -- на крохотном пространстве -- соединились столь многие из его, Кафки, характернейших черт и пристрастий: его любовь к лесам, склонность к тишине и безлюдью, в который раз упомянутая худоба и его почти суеверное почтение к толстякам. Тишина и безлюдье, хмурая, ветреная погода, всеобъемлющая взаимная приязнь живого и неживого вызывают в памяти даосизм и китайские ландшафты, к тому же здесь, сколько я знаю, Кафка единственный раз говорит о себе: «Ведь я по сути своей китаец...» Заключительная фраза -- «А уж как бы тебе тут понравилось!» -- это первая за долгие годы попытка человеческого сближения с Фелицей, и попытка эта принесла им полторы недели счастья.
Переговоры -- а иначе их, пожалуй, и не назовешь -- о совместном отпуске протянулись еще больше месяца, внеся поистине поразительное оживление в их корреспонденцию. Фелица, чтобы ему угодить, даже предлагает жить в санатории. Возможно, тут сыграло свою роль смутное, неосознанное воспоминание о санатории в Риве, где три года назад близость «швейцарки» стала для Кафки спасительным благом. Но ему это предложение не по нраву, санаторий для него почти что «та же контора, только на службе тела», он предпочитает гостиницу. С 3 по 13 июля Кафка и Фелица проводят вместе десять дней в Мариенбаде.
Свой кабинет на работе он оставил в образцовом порядке, он был счастлив покинуть его на время, а если бы мог покинуть навсегда, он «с превеликой радостью, ползая на коленях, вымыл бы каждую ступеньку лестницы от чердака до самого подвала, дабы таким образом выказать благодарность прощанья». В Мариенбаде Фелица встретила его на вокзале. Первую ночь он провел в отвратительной комнате с окном во двор. Но на следующий день переселился в «исключительно красивый номер» в отель «Бальмораль». Там он живет через стенку от Фелицы, между их номерами дверь, и у каждого свой ключ. Поначалу его донимают головные боли и бессонница, первые дни, а особенно ночи были для него сущей пыткой, в его дневнике красноречиво описано, насколько ему худо. Но восьмого числа он с Фелицей отправляется на прогулку в Тепль, погода скверная, но после обеда разъяснивается «дивный, чудесный, легкий день», и происходит перелом. Наступают пять дней счастья с Фелицей, так и хочется сказать -- по одному-единственному дню на каждый год их знакомства. В дневник свой он записывает. «Еще никогда, кроме разве что в Цукмантеле, я не был по-настоящему, не только телом, близок с женщиной. Потом еще со швейцаркой в Риве. Первая была зрелой женщиной, а я -- несведущим юнцом, вторая -- сама была дитя, но я был в полном душевном разброде. С Ф. я был близок только в письмах, по-человечески -- лишь в последние два дня. Да и это еще не вполне ясно, сомнения остаются. Но прекрасен бархатный взгляд ее дарующих глаз, раскрывающиеся глубины женственности».
Накануне отъезда Фелицы он начал длинное письмо Максу Броду, которое дописал позже, когда она уже уехала.
«...Но теперь я увидел доверие и близость в глазах женщины и не смог от него замкнуться... Нет у меня права этот взгляд отринуть, тем более нет, что если то, что должно случиться, вдруг не случится, я сам, своею рукой и добровольно сделаю все, лишь бы только снова удостоиться такого взгляда. Я ведь совсем ее не знал, наряду с другими сомнениями меня в ту пору прямо-таки пугала внезапная физическая явность той, кто так долго была для меня всего лишь корреспонденткой; когда она появилась в огромной комнате и двинулась мне навстречу, ожидая от меня положенного на помолвке поцелуя, меня объял ужас;
186
вся эта жениховская экспедиция совместно с моими родителями от начала и до конца была для меня пыткой; ничего я так не боялся, как пребывания наедине с Фелицей до нашей свадьбы. Теперь все иначе и все хорошо. Соглашение наше вкратце сводится к следующему: как только кончится война, мы поженимся, снимем где-нибудь под Берлином две-три комнаты, оставив каждый за собой лишь свои хозяйственные заботы. Ф. по-прежнему будет работать, как и сейчас; а я, ну, обо мне пока что говорить рано... Как бы там ни было, сейчас в этом деле полный покой, определенность, а значит, и возможность жить дальше...»
«...После того утра в Тепле наступили такие дивные, легкие дни, каких я уже и не чаял когда-либо пережить. Случались, разумеется, и кое-какие помрачения, но в целом преобладали красота и легкость...»
В последний день ее вакаций Кафка свозил Фелицу во Франценсбад, чтобы вместе с нею навестить свою мать и одну из своих сестер. Когда он вечером возвратился в Мариенбад, оказалось, что его комнату, особенно тихую, уже сдали новым постояльцам, и ему пришлось перебираться в гораздо более шумную комнату Фелицы. Поэтому первые же его открытки после ее отъезда снова полны жалоб на шум, головную боль, плохой сон. Но еще пять дней спустя он привык к своей новой обители, и вот теперь, с опозданием, столь для него свойственным, его открытки к ней преисполняются такой нежности, такой счастливой благодарности, что -- хотя бы по причине крайней редкости у Кафки этих чувств -- берут читателя за душу. Счастливым совпадением надо считать и то, что когда она уехала, он остался в местах, где их столь многое связало. Он бродил по тем же тропинкам в мариенбадских лесах, ел те же, еще совместно с Фелицей согласованные блюда, необходимые ему, чтобы поправиться, ходил в те же рестораны, Ночами он сидел на ее балконе за ее письменным столом и работал при свете их любимой настольной лампы.
Все это описано его рукой, он каждый день отправляет ей по одной, в иные дни даже по две открытки. На первой мы еще прочтем обращение «Бедная моя любимая!», поскольку он еще плохо себя чувствует, а всякий раз, когда он называет Фелицу «бедной», он имеет в виду себя, это он бедный. «Я пишу твоим пером, твоими чернилами, сплю в твоей кровати, сижу на твоем балконе, что само по себе совсем не так уж скверно, если бы не шум из коридора, легко проникающий сквозь одинарную дверь, и не шум соседей справа и слева». Пока что шум заглушает для него все остальное, иначе он бы не позволил себе такой бестактной оговорки «что само по себе совсем не так уж скверно» -- в отношении их недавнего прошлого. Открытка кончается словами: «Сейчас отправляюсь в «Диану», чтобы, склонившись над тарелочкой с маслом, вспоминать о тебе».
В открытке, отосланной позже, он сообщает ей, что несмотря на головные боли и бессонницу, уже начал толстеть и посылает ей полный список своего «вчерашнего меню». Тут с точным указанием времени перечисляются вещи, вполне соответствующие его привычкам, как-то: молоко, мед, масло, чёрешня, но против двенадцати часов -- невозможно поверить своим глазам -- значится: «Королевский шницель, шпинат, картофель».
Значит, он и вправду сдал Фелице какую-то часть своих оборонительных рубежей: «список меню» в этой любовной истории чрезвычайно важен. Он старается потолстеть, он даже начал есть мясо. Поскольку в остальном его меню состоит из блюд, которые он ел и прежде, видимо, между ними заключен некоторый компромисс. Выходит, в эти совместные дни в Мариенбаде они нашли возможность сближения и в тихом уюте совместных трапез. Повседневная рутина курортной жизни успокаивает Кафку, избавляет его от прежних страхов перед Фелицей. А после ее отъезда он продолжает есть в тех же местах, храня верность их общему меню, о чем ей и сообщает, это -- в своем роде зашифрованное объяснение в любви.
Но он воздает ей и менее интимные хвалы, причем весьма торжественным образом: «Смотри-ка, самого главного курортного гостя, то есть того, к кому здесь приковано всеобщее внимание, мы с тобой в Мариенбаде, оказывается, так и не заметили: это раввин из Бельц, сейчас, наверно,
187
главный носитель хасидизма. Он здесь уже три недели. Вчера я впервые был удостоен чести в числе примерно десяти человек свиты сопровождать его во время его вечернего моциона... А как поживаешь ты, мой главный мариенбадский гость? Пока что от тебя ни строчки, живу вестями, что сообщают мне наши прежние пути-дорожки, сегодня, к примеру, это были две аллеи, Строптивая и Тайная».
Однажды, когда от нее два дня нет весточки, он ей пишет: «Пребывание вместе меня ужасно разбаловало, два шага влево -- и пожалуйста, получай письмо». А еще три дня спустя, во второй из отосланных в этот день открыток, мы читаем: «Любимая! Я что, опять, как в прежние времена, придаю чрезмерное значение письмам? Но вот мое оправдание: я сижу на твоем балконе, за твоей половиной стола, и кажется, что две эти половины стола как чаши весов, и счастливое равновесие, что устанавливалось между нами по вечерам, сейчас нарушено: твоя чаша пуста, и я на своей -- опускаюсь, падаю куда-то. Падаю, оттого что ты так далеко. Потому и пишу... Сейчас тут почти такая тишина, о какой я мечтаю: лампа ночника горит на балконном столике, все остальные балконы -- наверно, из-за холода -- давно опустели, и только с Кайзеровской улицы доносится равномерный гул, который ничуть меня не тревожит».
В эти мгновения его не мучил страх. Он сидел за ее половиной стола, он как бы был ею, но чаша весов опускалась, ибо она была далеко, и он писал ей. Была почти такая тишина, о какой он мечтал, свет ночника освещал только его балкон, и то, чем он в эти секунды жил, никак нельзя назвать равнодушием. На всех остальных балконах было холодно и безлюдно. Равномерный гул с улицы не причинял тревожных волнений.
Признание, сделанное им, когда он еще не знал Фелицу по-настоящему -- мол, страх, а еще равнодушие -- это главные чувства, которые он питает к людям, утратило силу. Когда ему доводилось ощущать свободу света, проливающегося в ночи, он мог чувствовать и любовь. «Ведь не зря сказано; кто-то должен не спать. Кто-то обязан присутствовать».
Всякая жизнь при ближайшем рассмотрении смешна. Всякая -- при рассмотрении еще более пристальном -- серьезна и трагична. Возвратившись в Прагу, Кафка затеял предприятие, на которое легко посмотреть и со смешной, и с трагической стороны. Образ Фелицы, какой она виделась Кафке до Мариенбада, был непереносим, и он посвятил себя поистине Геркулесовой задаче этот образ изменить. Он уже давно, уже после Боденбаха, смотрел на нее непредвзято и ясно давал ей понять, что его в ней коробит. Но делал он это лишь от случая к случаю и без всякой надежды, ибо не видел, что и как нужно сделать для такого изменения. В Мариенбаде между ними однажды зашел разговор о Еврейском народном приюте, где принимали беженцев и беспризорных детей, и Фелица вдруг изъявила желание в свое свободное время там помогать. Он-то рассказал ей о приюте просто так, отнюдь не ожидая от нее никаких шагов, но очень обрадовался, что она «приняла идею приюта с такой открытостью и добротой». С этой минуты мысль о том, что Фелицу можно изменить, перестала казаться ему безнадежной, и с упорством, которое заменяло ему силу, он теперь в каждом своем письме в Берлин напоминает ей о планах относительно Народного приюта и призывает эти планы осуществить. На протяжении трех-четырех месяцев, вплоть до ноября, он пишет ей почти ежедневно, и единственным сколько-нибудь существенным если вообще не единственным предметом его писем становится этот приют.
Фелица не без робости наводила справки, она боялась, что, быть может, к сотрудничеству в приюте допускаются только студенты. Он, отвечая ей, вообще не понимает, откуда у нее такое убеждение. «Разумеется, студенты и студентки, эти, как правило, наиболее самоотверженные, наиболее решительные, беспокойные и требовательные, прилежные, независимые и дальновидные люди на свете, затеяли это дело и ведут его, но любой другой человек точно так же может в нем участвовать». (Пожалуй, затруднительно будет найти у него еще хотя бы одно подобное же скопление
188
прилагательных, да еще в превосходной степени.) Пойти туда и предложить свою помощь -- это, на его взгляд, в тысячу раз важнее, чем театр, Клабунд 1 и вообще все что угодно. К тому же это едва ли не самое эгоистичное дело из всех, какие могут быть. Это не она пойдет помогать -- наоборот; ей там помогут, эта работа сулит меда больше, чем все цветы в мариенбадских лесах, так что он прямо-таки с жадностью ждет вестей о ее первых шагах на этом поприще. Что же до сионизма, который она знает недостаточно, то тут ей опасаться нечего. Приют находится в поле действия других сил, которые ему гораздо больше по душе.
Еще в Мариенбаде он прочел биографию графини Цинцендорф, и его восхитил ее образ мыслей и«почти нечеловеческая самоотверженность» в руководстве гернгутерской церковью Святого братства. Он теперь часто поминает графиню, и во всех советах, которые он дает, она незримо присутствует как некий идеальный, а посему, впрочем, совершенно недосягаемый образец для Фелицы.«Когда графиня, выйдя замуж, впервые вошла в свои новые дрезденские апартаменты, которые бабушка Цинцендорф велела обставить для молодоженов даже по тем временам весьма шикарно, она, двадцатидвухлетняя девушка, разразилась рыданиями». Далее Кафка приводит набожную сентенцию графини о том, что она неповинна во всех этих роскошных безделушках, и ее мольбу к Господу, чтобы тот своею милостью оберег ее душу и отвратил ее очи от всех глупых соблазнов. Кафка к этому добавляет: «Выгравировать на табличке и прикрепить на дверях мебельного магазина».
Со временем это воздействие примером графини приобретает характер чуть ли не осады, и становится ясно, чего он, в сущности, добивается. Он хочет Фелицу, так сказать, «разбуржуазить», выбить из ее сознания всю ту мебель, в которой для него воплощается ужас и ненавистная солидность буржуазного брака. Она должна усвоить, сколь мало значат в жизни служба и семья как формы человеческого самоосуществления, пусть сопоставит их со смиренной и деятельной помощью приютским детям. Но настойчивость, с которой он ее к этому побуждает, выдает такую тягу к властности и духовному деспотизму, какой от него почти невозможно было ожидать. О каждом шаге, который приближает ее к Народному приюту, и о всех подробностях ее деятельности там, когда ее наконец принимают, он требует отчета. Есть письмо, где он задает ей по этому поводу чуть ли не двадцать вопросов, ненасытность его растет, и он не в состоянии унять свое нетерпение. Он ее подстегивает, критикует; он участвует в подготовке доклада, который она будет делать в приюте, он читает и конспектирует ради этого «Молодежное учение» Фридриха Вильгельма Фёрстера. Он обсуждает с ней литературу для детского чтения в приюте, даже посылает из Праги некоторые издания для детей и юношества, с дотошным занудством снова и снова возвращается к этой теме в своих письмах, требует, чтобы Фелица прислала ему свою фотографию с приютскими детьми, которую намерен «пристально рассматривать издали», рассыпается в похвалах Фелице, когда он ею доволен, похвалы эти звучат столь пылко, что она, конечно, принимает их за изъявления любви, но хвалит он ее только тогда, когда она выполняет его указания. Однако чем дальше, тем очевиднее, что ждет он от нее лишь подчинения и покорности. Намерение исправить образ, переменить ее характер, без чего он не может помыслить их будущую совместную жизнь, постепенно оборачивается неусыпным присмотром.
Вот так он участвует в ее благотворительности, на которую у него самого, как признается он в одном из писем, недостает самоотверженности; так что все, что она делает, она делает как бы и за него. Сам же он, напротив, все больше и больше нуждается в уединении, черпая его в долгих воскресных прогулках по предместьям и окраинам Праги, поначалу в обществе сестры Оттлы, которой он восхищается, точно своей невестой. Знакомый по санаторию, повстречав их вдвоем, принимает Оттлу за его невесту, и он не стесняется рассказать об этом Фелице. Теперь у него появилось
1. Настоящее имя Альфред Хеншке (1890-1928) -- немецкий писатель, творчество которого развивалось в русле экспрессионизма и импрессионизма.
189
новое любимое развлечение - в свободное время валяться на траве. «Недавно, когда я лежал... можно считать, что в уличной канаве (трава в этом году и в канавах высокая и густая), один весьма важный господин, с которым мне иногда приходится встречаться по службе, проезжал мимо в экипаже, запряженном двумя лошадьми, отправляясь на какое-то тоже весьма важное торжество. Я сладко потянулся, ощутив всю радость... люмпенства». В одной из прогулок с Оттлой он открывает неподалеку от Праги два дивных местечка, тихих, «точно рай после изгнания человеков». Потом он начинает гулять в одиночку. «Скажи-ка, ведомы ли тебе радости одиночества -- когда один гуляешь, в одиночестве ложишься загорать?.. Далеко ли ты уходила одна? Склонность к таким прогулкам обычно питают люди, перенесшие много горя, но и счастья тоже. Помню, В детстве я часто бывал один, но по большей части это было вынужденное одиночество, а не добровольное наслаждение свободой. Теперь же я впадаю в одиночество, как река в море». В другом месте сказано: «Ходил очень далеко, часов пять, один и все же недостаточно один, по совершенно безлюдным полям, для меня все же недостаточно безлюдным».
Так постепенно в нем начинает вызревать тяга к деревенской жизни, которой он посвятит себя год спустя, когда поселится в доме Оттлы в Цюрау. Фелицу же он тем временем старается все крепче привязать к общине Еврейского народного приюта в Берлине. В будние дни он продолжает влачить существование чиновника, внушающее ему все больше отвращения -- до такой степени, что он все еще подумывает бежать от него на фронт, солдату по крайней мере не нужно себя щадить. Хорошо, что Фелица своей деятельностью в Народном приюте хоть как-то оправдывает его существование.
Однако в письмах этого времени он довольно часто упоминает и свое писательство. Поскольку в эту пору он еще не чувствует в себе сил для новой работы, речь идет обычно о судьбе его прежних вещей, об их публикациях и откликах на таковые. Еще в сентябре он извещает ее, что ему пришло приглашение выступить с чтением в Мюнхене. Он любит такие чтения и склонен поехать, ему бы хотелось, чтобы она тоже там была; ее предложение встретиться в Берлине или в Праге он отклоняет. Берлин отпугивает его напоминаниями о помолвке и «судилище», событиях, которые, впрочем, он теперь уже не так часто затрагивает в своих письмах, ведь прошло уже больше двух лет. Но когда название берлинского ресторана все-таки вызывает их в его памяти, он без всякой робости дает понять, насколько жива в нем боль тех дней. Что до Праги, то тут его пугает мысль о семье. Фелица сядет за один стол с родителями, этого никак не избежать, ее присутствие только усугубит перевес семьи, то подавляющее превосходство, против которого он беспрерывно держит оборону всеми своими слабыми силами. Держа Фелицу подальше от Праги, он действует как политик, пытающийся воспрепятствовать объединению против себя двух потенциальных противников. Так что он упрямо отстаивает план их встречи в Мюнхене. Два месяца в их переписке идет обсуждение этого вопроса. Он знает, это чтение будет для него источником новых сил; да и Фелица, какая она сейчас -- трудолюбивая и послушная,-- тоже вдохнет в него силы. Два источника сил, слившись в Мюнхене, обогатят и усилят друг друга. Но в его причудливой манере принятия решений это ничего не меняет. Опять начинаются его -- уже хорошо нам знакомые -- колебания: поездка весьма вероятна, но может и сорваться, есть неприятные внешние обстоятельства, способные ей воспрепятствовать. После двухмесячных обсуждений, за пять дней до отъезда, он пишет: «Вероятность поездки теперь возрастает с каждым днем. В любом случае я тебе не позже среды или четверга телеграфирую радостное «Итак, мы едем» или печальное «Нет». В пятницу он выезжает.
Видимо, это одно из неискоренимых свойств натуры Кафки: ошибки ничему его не учат. Из слагаемых множества неудач у него никогда не получается сумма успеха. Трудности остаются всегда одни и те же, словно вся задача только в том и состоит, чтобы продемонстрировать их исконную непреодолимость. Из бесчисленных соображений и расчетов неизменно
190
изымается как раз то, что способно привести к благополучному итогу. Зато для возможной неудачи всегда оставляется некое свободное пространство, это своего рода высший принцип, на каждом новом перекрестке должен иметься свой запасный выход, гарантирующий возможность отступления; пожалуй, это можно назвать свободой слабого, который в поражениях хочет видеть благо. Победа воспринимается как нечто предосудительное, именно в этом проявляется своеобразие Кафки, его совершенно особое отношение к власти. Все расчеты строятся на бессилии и в итоге бессилием же кончаются.
Зачем-то, вопреки печальному опыту всех прежних краткосрочных встреч, он одной этой совместной субботой ставит на карту главное достижение этих четырех месяцев -- свой контроль над Фелицей благодаря приютским делам. Все в Мюнхене было непредсказуемо и гадательно: новое место; новые люди, неясный исход его выступления в пятницу после целого дня в поезде, развитие событий в субботу. Но он идет на этот риск, словно чувствует в нем некую тайную возможность свободы. Между ними произошла ссора в какой-то «омерзительной кондитерской»; из-за чего они поссорились -- неизвёстно. Похоже, что Фелица, долго старавшаяся во всем ему угождать, на сей раз взбунтовалась. Дав волю своему гневу, она вряд ли отличалась деликатностью, упрекнув его в себялюбии; это старый ее упрек. Он не смог стерпеть, его этот упрек сильно задел, ибо, как он сам позже напишет, был справедлив. Но главной, наибольшей его бедой было не себялюбие, а обостренное упрямством самолюбие, которое признавало только один вид упреков -- те, которые он себе делал сам. «Сознание вины развито во мне достаточно сильно, и ему не требуется пища извне, зато моя душевная организация недостаточно сильна, чтобы часто такой пищей давиться».
На этом завершился период второго расцвета в их отношениях: тесное взаимопонимание продержалось четыре месяца. Эти четыре месяца вполне можно сопоставить с первой стадией их знакомства с сентября по декабрь 1912 года, общими в обоих случаях были надежда и сила, которые Кафка брал от Фелицы. Но если то, первое время было порой творческого экстаза; то во втором периоде главной задачей Кафки было изменить характер Фелицы и приспособить ее к иной, близкой самому Кафке системе ценностей. В первый раз следствием разочарования явилось то, что он перестал писать. Теперь же эффект его отчуждения от Фелицы оказался обратным: отчуждение вернуло его к писательству.
Из Мюнхена он приехал с новой решимостью работать. Тамошнее чтение оказалось «грандиозным неуспехом», он читал «В исправительной колонии». «Приехал со своей историей, точно на старой колымаге, в этот город, с которым меня ничто, кроме предстоящей встречи и тягостных воспоминаний моей юности, не связывало, прочел там свою грязную историю при полнейшем равнодушии зала, ни одна нетопленая печь не источает такого холода, а потом проводил время с незнакомыми людьми, что бывает со мной редко». Отзывы в прессе были плохие, он с ними соглашался, считал, что проявил «фантастическую самонадеянность», согласившись выступать с публичным чтением, в то время как сам, говорит он не без доли преувеличения, уже два года ничего не пишет. (Между тем в Мюнхене он узнал, что его весьма высоко ценит Рильке, особенно ему понравился «Кочегар», эту вещь он предпочитал «Превращению» и «В исправительной колонии».) Но именно эта вот самонадеянность -- выступление на публике, само наличие отзывов, причем главным образом отрицательных, поражение и грандиозность неудачи среди незнакомых людей, -- все это Кафку окрылило. Если добавить сюда же разлад с Фелицей, сообщивший ему чувство внутренней дистанции от нее, без которого он не мог писать, то его новая решимость взяться за работу окажется вполне объяснимой.
Он сразу же принялся за поиски нового жилья, и на сей раз ему улыбнулась удача: Оттла предоставила ему для работы комнату в домике, который сняла на улице Алхимиков, где было вполне тихо и где он очень
191
скоро обжился. Он отклонил предложение Фелицы увидеться на Рождество, и впервые за четыре года их знакомства она, а не он стала жаловаться на головные боли, словно они ей от него передались. Приют, о котором прежде было столько разговоров, он теперь упоминает лишь мельком и чуть ли не с презрением. Приют должен теперь выполнять свое назначение: удерживать и не отпускать Фелицу, но это и все.
В домике Оттлы он переживает хорошие минуты. Ему тут уютно, лучше, чем было где-либо еще за эти последние два года. «Так странно в этой узкой улочке при свете звезд запирать свой дом». Прекрасно тут жить, прекрасно в полночь возвращаться сюда из города, поднимаясь в гору по старой замковой лестнице. Здесь созданы «Сельский врач», «Новый адвокат», «На галереях», «Шакалы и арабы», «Соседняя деревня», которые потом вошли в сборник «Сельский врач». Здесь, кроме того, были написаны «Мост», « Охотник Гракх» и«Верхом на ведре». Объединяет все эти рассказы атмосфера простора, превращения (но не в маленькое) и движения.
О последней фазе отношений Кафки и Фелицы из его писем к ней мы узнаем немного. Письмо, приблизительно датируемое рубежом 1916 и 1917 годов, весьма подробно и, как сам же Кафка себя упрекает, «торгашески» взвешивающее все «за» и «против» квартиры в особняке Шёнборн, с шестью пунктами «против» и пятью «за», письмо это еще как бы подразумевает, что после войны они будут жить вместе. Для начала Фелица приедет в эту квартиру, которая к тому времени будет для нее готова, месяца на два, на три, просто пожить и отдохнуть. Правда, от кухни и ванной ей придется отказаться. Вообще-то нельзя сказать, что ее будущее присутствие основательно принимается в расчет, из одиннадцати пунктов она фигурирует лишь в двух -- одном «за» и одном «против». Но все-таки она там фигурирует, и что, пожалуй, еще важней, ей предложено все как следует обдумать и дать ответ.
Из переписки 1917 года первое из оставшихся писем датировано сентябрем; не сохранилось ни писем, ни открыток с января по август, хотя известно, что он ей время от времени писал. В феврале Кафка поселился в особняке Шёнборн. Здесь создано еще несколько рассказов для сборника «Сельский врач»; а также кое-что из неопубликованного при жизни, в том числе и очень важные вещи, например, «Как строилась Великая Китайская стена». Словом, нельзя сказать, что он этим временем недоволен, о чем сообщает Курту Вольфу в письме от июля 1917 года.
О том, что происходит между ним и Фелицей тогда же, в июле, можно судить лишь по косвенным источникам, поэтому изложение событий будет носить уже несколько приблизительный характер. Этот июль -- месяц их второй официальной помолвки. До конца войны еще очень неблизко, но, видимо, в первоначальный план были внесены ускоряющие коррективы. Фелица приехала в Прагу, поселилась предположительно в особняке Шёнборн, хотя кое-какие данные с этой версией не вполне согласуются. Кафка наносил вместе с ней официальные предсвадебные визиты своим друзьям. Брод описывает такой визит, отмечая его натянутость и некоторую комичность. Опять они занялись покупкой мебели и поисками жилья, вероятно, Фелица все же осталась недовольна комнатами в особняке и настаивала на ванной и кухне. Она носила с собой в сумочке 900 крон, по тем временам сумма невероятно большая. В письме госпожё Вельш, где речь идет как раз о временной пропаже этой сумочки, Кафка весьма чопорно именует Фелицу своей «невестой». Значит, он опять принялся выделывать все обязательные фигуры предсвадебного ритуала. Уже было сказано, что извлекать уроки из прошлого не в его натуре. Но, возможно, он, сам того не осознавая, пошел путем прежних затруднений, чтобы под конец с неизбежностью прийти к тому же результату. Во второй половине июля они с Фелицей поехали к ее сестре в Венгрию, в Арад. Во время этой поездки между ними произошла очень крупная ссора. Не исключено, что некий конфликт с одним из членов ее семейства усугубил и ускорил разрыв. В Будапеште Кафка оставил
192
Фелицу и отправился в Прагу, по пути остановившись в Вене. Рудольф Фукс, с которым Кафка в Вене виделся, приводит в своих воспоминаниях несколько высказываний Кафки, из которых следует, что он либо уже окончательно порвал с Фелицей, либо твердо намерен это сделать. Из Праги он ей написал два письма, которые не сохранились и в которых он, судя по всему, зашел очень далеко.
Он на сей раз действительно решился на разрыв, но, поскольку не чувствовал в себе достаточно сил на это, с ним два дня спустя после второго из этих писем, в ночь с 9 на 10 августа, случился приступ -- пошла горлом кровь. Позже, когда он опишет это событие, он, судя по всему, несколько преувеличит его длительность. Но не приходится сомневаться, что у него среди ночи внезапно пошла горлом кровь и что это чрезвычайное событие возымело для него -- так и подмывает сказать: хотя бы в силу притягательности поэтического образа «кровавой раны» -- очень серьезные последствия. Хотя после приступа он почувствовал облегчение, он все же посетил врача, того самого, что внушал ему доверие уже одной своей «телесной массой», доктора Мюльштайна. Не вполне ясно, как тот на самом деле расценил состояние пациента, но рассказа Кафки об этом визите оказалось достаточно, чтобы изрядно напугать Макса Брода. Потребовалось еще три недели, прежде чем тому удалось все же уговорить Кафку обратиться к специалисту. Ибо относительно истинного характера и диагноза своей болезни у Кафки с самого начала не было никаких сомнений, и даже соблазны той свободы, которая была ему важнее всего на свете, не облегчили ему решение навсегда отдаться в руки официальной медицины, которой он так упорно не доверял. С визита к специалисту, который состоялся 4 сентября, начался новый этап его жизни. Приговор этого светила, чей авторитет Кафка заставил себя признать, разом избавил его от Фелицы, от страха перед супружеством и от ненавистной службы. Но тот же приговор навсегда привязал его к болезни, от которой ему суждено было умереть и которой тогда, на первых порах, у него, быть может, всерьез еще почти не было.
Ибо самое первое свидетельство о диагнозе специалиста, которое мы находим в дневниковой записи Макса Брода за тот же день, звучит не слишком тревожно. Речь идет о двустороннем катаре легочных верхушек и о6 опасности туберкулеза. Температура, как выяснилось, очень скоро установилась в норме. Но необычность медицинских процедур запечатлелась в его сознании и постепенно переросла в план бегства, которое было совершенно необходимо Кафке ради его душевного спасения. Было решено, что ему пока что на три месяца надо выехать за город. Место для этого было -- тут, пожалуй, и не скажешь иначе -- подготовлено давно: деревенский дом Оттлы в Цюрау. Фелица обо всем этом в течение месяца вообще ничего не знала. Лишь когда каждый шаг был продуман и уже ничего нельзя было переиначить, за три дня до переезда в Цюрау, 9 сентября, он наконец-то пишет ей первое, очень серьезное письмо. Быть может, он уже в этом письме готов был известить ее о своем твердом решении навсегда с нею порвать. Но она, долго молчавшая после тех двух августовских писем, вдруг снова ему написала, спокойно и примирительно, так, словно ничего серьезного между ними и не произошло, и эти ее добрые, милые письма он получил в самое неподходящее для себя время, 5 сентября, на следующий день после визига к специалисту. «Сегодня,-- сообщает он Броду,-- пришли 4 письма от Ф., добрые, спокойные, без всякой обиды, такой я вижу ее в самых счастливых своих снах. Теперь будет очень трудно ей написать».
Но он тем не менее ей напишет, как уже сказано, 9 сентября, и сообщит в драматически сжатом изложении обо всех событиях, связанных с его легкими. В письме много говорится о крови, и с нажимом о туберкулезе. Пенсию ему в его же интересах пока не назначают, формально он остается на службе и берет отпуск по меньшей мере на три месяца. Родителям обо всей этой истории пока что ни слова. Единственное, чего ей в этой связи в будущем следует опасаться, эго конца. Тут он снова называет ее «милой
193
бедной Фелицей», но на сей раз -- поскольку он говорит о своей болезни -- словечко «бедная», столь хорошо нам знакомое по их переписке, звучит так, словно он впервые относит его не к себе, а действительно к ней. «Неужто теперь все мои письма будут заканчиваться этим словом? Слово не нож, что колет только в одну сторону, оно возвращается и колет в другую».
В постскриптуме он добавляет, что после того кровотечения чувствует себя лучше, чем раньше. Это вполне соответствует истине, но не исключено, что этим успокоительным сообщением он хочет предупредить ее возможный скоропалительный приезд.
С 12 сентября начинается его жизнь в Цюрау. Первое же письмо Броду звучит так, словно написано с другой планеты. В первый день он к работе так и не приступил, до того ему тут понравилось, да и не хотелось преувеличивать свой трудовой порыв, хоть он вначале и собирался. Но и в следующем письме мы читаем: «Оттла и вправду несет меня точно на крыльях сквозь все тяготы мира, комната... у меня отличная, теплая, много воздуха, и при этом в доме почти полная тишина; все, что мне положено съедать, расставляется и раскладывается вокруг меня в несметных количествах... а главное -- свобода, полная свобода».
«...Во всяком случае я сейчас отношусь к туберкулезу, как ребенок к подолу материнской юбки, за который он держится... Иногда мне кажется, что мозг и легкие тайком от меня договорились друг с другом. Мозг сказал: «Так больше продолжаться не может», и через пять лет легкие согласились ему помочь».
А в следующем письме говорится: «С Оттлой мы живем маленькой дружной семьей, как в браке, но если обычный брак основан как бы на насильственном коротком замыкании, то у нас все течет само собой, легко и непринужденно. У нас очень уютное хозяйство, которое, я надеюсь, вам понравится». Но письмо это подернуто тенью тревоги: «Ф. написала пару строк, она ко мне выезжает. Не могу ее понять, она невероятное существо...»
Она приехала, о ее визите есть запись в дневнике Кафки, которую я частично процитирую: «21 сентября. Была Ф., провела, чтобы меня увидеть, тридцать часов в дороге, не надо было мне этого допускать. Сколько я могу судить, она сейчас, главным образом по моей вине, несчастлива до крайности. Я же сам себя не могу понять, пребываю в полной бесчувственности и такой же беспомощности, думаю только о досадных помехах некоторым из моих удобств и в качестве единственной уступки слегка ломаю комедию».
Предпоследнее письмо к Фелице, написанное полторы недели спустя после ее визита в Цюрау,-- это самое неприятное из всех писем Кафки, его невозможно цитировать без неловкости и стыда. Фелица за это время успела написать ему дважды, но он сперва даже не читает ее писем, они остаются невскрытыми. И это первое, что он считает нужным ей сообщить, равно как и то, что потом он все же соизволил с ними ознакомиться. Он пристыжен тем, что он в них прочел, но сам он уже очень давно смотрит на себя куда более сурово, чем она, и хочет сейчас объяснить ей, какое зрелище являет собой на самом деле.
Далее следует миф о двух воинах в его душе, лживый и недостойный его миф. Образ борьбы, поединка вообще не ухватывает сути внутренних движений, которые в нем происходят, этот образ их искажает и влечет за собой странную героизацию его кровотечения, -- оно и вправду предстает чуть ли не следствием кровавой схватки. Но даже если допустить, что этот образ правдив, -- он тут же соблазняет Кафку на вопиющую неправду: о том, что лучший из этих воинов -- так он пишет -- сражается на ее, Фелицы, стороне, в этом он как раз в последние дни сомневается менее всего. Между тем ведь ясней ясного, что борьба, или как там ее еще ни называй, давно окончена, и на ее, Фелицы, стороне давно уже ничего и никого нет, а в последние дни и подавно. Или, быть может, надо усматривать в этих лживых утверждениях попытку ее утешить, рыцарскую галантность к отвергнутой и униженной? Но все же несколько строк спустя
194
следует фраза, достойная того, чтобы процитировать ее как фразу Кафки: «Я лживый человек, я не могу держать равновесие иначе, слишком утлый челн мне достался». Отсюда он переходит к пространному абзацу, в котором излагает свое жизненное кредо. Абзац ему безусловно удался, он войдет в историю литературы, он так ему нравится, что Кафка слово в слово приводит его в письме к Броду, а потом еще раз, и опять слово в слово, переписывает в дневник. Там ему и место, но я думаю, читатель поймет, почему мы именно по этой причине здесь его опустим. Затем следует еще один пространный пассаж о судьбах обоих воинов и пролитой крови. Он подводит Кафку к мысли, которая всерьез его занимает: «Вообще-то в глубине души я не считаю эту болезнь туберкулезом, по крайней мере на первых порах это не туберкулез, а просто мое общее полное банкротство». Но образы борьбы и крови все еще не дают ему покоя, он развивает их дальше. Потом, без всякой связи с предыдущим, вдруг, словно вспышка: «Не спрашивай, почему я провожу черту. Не унижай меня так». Здесь он коротко и ясно говорит, что навсегда отделяет ее от себя и что объяснения этому нет, оставь он от всего письма только две эти фразы, оно бы имело силу библейского речения. Он тут же ослабляет действие своих слов очередным пустым жестом, но затем вдруг перед нами снова чистая правда: «Туберкулез, настоящий или мнимый,-- так у него сказано,-- это оружие, рядом с которым все прежние, почти бесчисленные и сильно подержанные боевые средства -- «физической неспособности» и«работы» с одной, возвышенной стороны вплоть до «скаредности» -- с другой, низменной, предстают убогими и жалкими в своей утилитарной примитивности».
В конце он выдает ей тайну, в которую в тот момент и сам не верит, но которая окажется правдой: ему не суждено выздороветь. Тем самым он ей объявляет, что он для нее умер, и окончательно уходит от нее в смерть, совершая своеобразный акт самоубийства в будущем.
Таким образом, большая часть этого письма продиктована стремлением раз и навсегда оградить себя от дальнейших домогательств с ее стороны. Поскольку он уже ровным счетом ничего к ней не испытывал, у него не нашлось для нее и искренних слов утешения. Из счастья в Цюрау, которое было счастьем свободы, невозможно было извлечь ни единого жеста печали или хотя бы просто сожаления.
Последнее письмо к Фелице помечено 16 октября и читается так, будто написано уже как бы и не ей. Хотя она и так далека, он отодвигает ее все дальше и дальше, в его стеклянных фразах ее уже нет, они словно адресованы кому-то третьему. Он начинает цитатой из письма Макса Брода к нему: письма Кафки, утверждает тот, свидетельствуют о глубоком внутреннем покое, он счастлив в своем несчастье. В подтверждение этих слов он теперь предлагает ей описание ее последнего визита. Описание, вероятно, достаточно точное и, что не подлежит сомнению, холодное как лед. «Ты была несчастлива, огорчена бессмысленностью поездки, непостижимой странностью моего отношения, словом -- всем. Я несчастлив не был». Он не столько чувствовал горе, сколько видел его и осознавал, причем, осознавая, сохранял полнейшее спокойствие, стараясь только крепче, как можно крепче сжимать губы. Большая часть письма состоит из ответа Максу Броду, который он пересказывает приблизительно, по памяти. Физически он чувствует себя отлично, об ее самочувствии он боится спрашивать. Он просил Макса, Феликса и Баума, подробнейшим образом эту просьбу обосновав, пока что его не навещать, на самом деле это предостережение ей, пусть не приезжает.
Последний абзац гласит: «Канта я не знаю, но цитата, должно быть, подразумевает только народы, гражданские войны, а к «душевным битвам» ее вряд ли можно отнести, тут только один мир возможен, тот, которого желаешь праху».
Так он отверг предложение мира, которое Фелица облекла в цитату из Канта. Сказав ей о мире, которого желаешь праху, он еще решительней, чем в конце предыдущего письма, укрылся от нее в смерти. В пространной переписке, которую он в это же время ведет со своими лучшими друзьями, ни о каком прахе речи нет.
195
Тот факт, что болезнь, поначалу бывшая лишь средством, в конце концов стала грозной явью, вряд ли можно счесть достаточным оправданием. Оправдание мы найдем в его новых набросках, в записях той «Третьей октавной тетради», которую он начал два дня спустя после своего последнего письма к Фелице. Дневник, который он до этого вел весьма исправно, обрывается на годы. Предпоследняя, как бы уже запоздалая запись 1917 года гласит: «Самого главного я еще не написал, я все еще теку двумя рукавами. Работа, что меня ждет, неимоверна».
От переводчика
Последний из патриархов великой австрийской литературы нашего столетия Элиас Канетти всю свою долгую жизнь - а ему 25 июля исполнится 88 лет - жгуче интересовался проблемами существования человека в обществе, где главной ценностью оказывается возможность повелевать другими людьми, или, проще говоря, власть. Загадочные и древние механизмы власти, оборачивающейся в условиях современной цивилизации безумием тоталитаризма,-- это предмет пристальнейшего художественного исследования в знаменитом романе Канетти «Ослепление», написанном еще в тридцатые годы, и средоточие его историко-культурных и историко-философских размышлений в многочисленных, отчасти автобиографических сочинениях, жанр которых определить затруднительно -- чаще всего их числят по разряду эссеистики. Своеобразным антиподом и противовесом власти в миросозерцании Канетти выступает искусство, оппозицию «художник - власть» надо признать для его творчества центральной. Впрочем, читатель может с этой мыслью и не согласиться, найдя в многосложном творчестве художника и иные проблемы, которые он посчитает стержневыми,- предмет для спора тут возможен, да и сам спор, слава Богу, не будет беспредметным, поскольку и роман «Ослепление», за который Канетти, хотя и с большим опозданием, лишь в 1981 году, удостоен Нобелевской премии, и лучшие образцы эссеистики писателя наконец-то изданы по-русски.
Полагаю, тем более нет нужды представлять нашим читателям героя этой книги, ибо причудливый и страшный мир кафкианских фантасмагорий давно осознан и обжит нами во всем своем пугающем сходстве с нашей повседневностью. Произведение Канетти тем и замечательно, что обнажает причины, по которым Кафка оказывается близок и понятен каждому, кто жил или живет в условиях тоталитарного господства. Канетти формулирует эти причины с пронзительной лапидарностью, когда называет Кафку «величайшим экспертом в вопросах власти».
Но, разумеется, книга Канетти ценна и интересна отнюдь не только как комментарий к жизни и творчеству Кафки. Это удивительный пример лирико-эссеистического проникновения одного незаурядного писателя в искусство, мироощущение, даже в потаенные глубины личности другого -- великого -- художника слова. Формальным поводом для такой встречи стала опубликованная в 1967 году переписка Кафки с его невестой Фелицей Бауэр. Мучительная история этого чувства, включившая в себя две расторгнутые помолвки и болезненные метания Кафки, не умевшего, да и не желавшего жить как все, раскрывается в переписке достаточно драматично. Однако для Канетти это лишь отправная точка, отталкиваясь от которой он выстраивает свою, отнюдь не во всем бесспорную, но бесспорно увлекательную интерпретацию творчества Кафки и толкование его судьбы. За каждой строкой этой книги стоят любовь, увлеченность -- и да, сострадание. Сострадание единомышленника и собрата, который знает, каково нести в себе все боли и невзгоды своего века, а вдобавок к ним -- еще и свои личные трагедии и тайны.
Книгу Канетти можно сравнить и с булгаковским жизнеописанием Мольера, и с романом Томаса Манна о Гёте, и со многими другими повествованиями художников о художниках. Но стоит ли сравнивать? Гораздо важнее то -- ни с чем не сравнимое -- обаяние, которое присуще каждому творению истинно большого мастера и которым эта книга безусловно отмечена.
Журнал "Иностранная Литература" №7, 1993



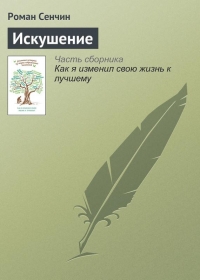
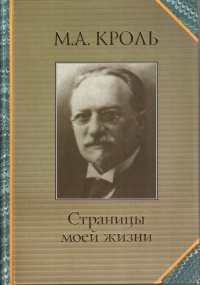

Комментарии к книге «Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице», Элиас Канетти
Всего 0 комментариев