Владимир (Зеев) Жаботинский СЛОВО О ПОЛКУ
Глава 1. Как зародилась мысль о легионе
В начале декабря 1914-го года, на пароходе, шедшем, кажется, из Чивитавеккьи, приехал я в Александрию. Английский чиновник, вертя в руках мой русский паспорт и пытаясь выудить среди тридцати с чем-то нагроможденных виз разрешение на высадку в Египте, в то же время беседовал с офицерами из наших пассажиров и вдруг сказал:
— А на днях сюда привезли на пароходе из Яффы чуть ли не тысячу сионистов — турки их выгнали из Палестины.
Шел уже пятый месяц войны, и уже три месяца и больше, в роли корреспондента "Русских Ведомостей", я скитался по разным углам невеселого тогдашнего света. Редакция мне поручила не столько писать о самой войне, сколько о настроениях в связи с войной. В Швеции надо было выяснить, разделяет ли тамошнее общество новую веру Свен Гедина — будто Россия задумала отобрать у Норвегии не то Нарвик, не то даже Берген, чтобы этим путем приобрести, раз не дают ей Константинополя, незамерзающую гавань на теплом Гольфстриме вместо теплого Босфора; если разделяет, то нет ли опасности, что шведы примкнут к Германии и объявят России войну. В Англии мне поручено было присмотреться, нет ли доли правды в остроте, которая бойко тогда ходила по ресторациям земли русской и прочих земель, — что британский лев "готов воевать до последней капли русской крови". Во Франции «выяснять» было нечего — французские настроения даже у остряков не вызывали никаких сомнений: там нужно было просто приглядеться — если пустят — к быту фронта; посмотреть Реймс и проверить, действительно ли немцы вконец расстреляли прекрасный собор; а также сообщить, бодро ли держится Париж или уныло. Но на месте оказалось, что «Париж» переведен уже в Бордо: правительственным учреждениям пришлось на время удалиться из угрожаемой столицы; я поехал в Бордо и там в одно мокрое утро я прочел на стене афишу о том, что Турция фактически примкнула к центральным державам и начала военные действия.
Признаюсь: до того утра я себя чувствовал, в Бордо и повсюду, просто наблюдателем, без особенных каких-либо побуждений пламенно желать одной стороне полной победы и полного разгрома другой. Ориентация моя в то время писалась так: мир вничью, и как можно скорее. Турецкий жест в одно короткое утро сделал из меня фанатика войны до конца — сделал эту войну «моею». Еще в 1909-м году, когда я в Константинополе обер-редактировал (это бывает только в молодости) сразу четыре сионистских газеты, а в Высокой Порте пановали младотурки, сложилось у меня незыблемое убеждение: где правит турок, там ни солнцу не светить, ни траве не расти, и вне распада Оттоманской империи нет надежды на восстановление Палестины. Теперь в Бордо, прочитав на стене подмокшую афишу, я сразу сделал единственный логический вывод; и по сей день не понимаю, почему многим из друзей моих понадобилось столько лет, чтобы прийти к такому простому заключению. Дело казалось мне ясно, как дважды два: что будет с евреями России, Польши, Галиции — все это очень важно, но в размахе исторической перспективы все это — вещь временная по сравнению с тем переворотом еврейского бытия, какой принесет нам расчленение Турции.
В том, что Турция, раз она только вмешалась в войну, будет разбита и разрезана в клочья, у меня сомнений не было: опять-таки не понимаю, как могли вообще у кого бы то ни было зародиться на эту тему сомнения. Тут дело шло не о гаданиях, а просто о холодной арифметике, числовой и житейской. Рад случаю сказать это здесь, так как меня в те годы обвиняли в игре на гадательную ставку. В Турции я прожил долгое время газетным корреспондентом. Я держусь очень высокого мнения о газетном ремесле: добросовестный корреспондент знает о стране, откуда пишет, гораздо больше любого посла; по моим наблюдениям — нередко и больше любого местного профессора. Но в данном случае несложная правда о Турции была известна не только профессорам, а даже и послам. Конечно, того, что Германия будет разбита до сдачи на милость, не мог в то время предвидеть и журналист. Но что по всем счетам этой войны платить будет главным образом Турция, — об этом у меня и сомнений не было и быть не могло. Камень и железо могут выдержать пожар — деревянная постройка должна сгореть, и не спасет ее никакое чудо.
В какой точно момент зародилась у меня мысль о еврейском боевом контингенте — там ли, в Бордо, перед афишей, или позже — я теперь не помню. Думаю, однако, что вообще никакого такого момента не было. Где тот человек, какой угодно веры, который может по совести ткнуть пальцем в определенную дату и сказать: тут я уверовал? Каждый рождается уже с микробом своей секты где-то в мозгу, хотя бы этот микроб и не обнаружился до старости, или никогда. Полагаю, что мне вообще всегда было ясно, так сказать, отроду ясно: если приключится когда-нибудь война между Англией и Турцией, хорошо было бы евреям составить свой корпус и принять участие в завоевании Палестины, — хотя до того дня в Бордо я об этом отчетливо никогда не думал. Дело в том, что эта мысль — очень нормальная мысль, которая пришла бы в голову, при таких обстоятельствах, любому нормальному человеку; а я притязаю на чин вполне нормального человека. У нас в еврейском быту чин этот иногда переводится на разговорный язык при помощи речения "гойишер коп"; если это верно — тем хуже для нас.
Через несколько дней я телеграфировал редакции в Москву: "Предлагаю посетить мусульманские страны Северной Африки — выяснить эффект провозглашенной султаном священной войны на местное население". Редакция ответила: «Поезжайте».
Начал я с Марокко; но поехал нарочно через Мадрид. Там жил тогда Макс Нордау*; не тем будь помянута Франция, но в самом начале войны кому-то в Париже пришла в голову светлая мысль выселить его как «венгерца». Дикие происходили в то время вещи на свете… Я спросил Нордау:
— Если бы можно было убедить англичан образовать еврейский контингент для участия в операциях на восточном фронте — палестинском — как бы вы к этому отнеслись?
Он отнесся скептически. Мысль правильная, но где найти солдат? Английские, французские, русские евреи служат в местных войсках; в нейтральной части Европы евреев мало; Америка далеко; и притом есть у евреев какое-то нелепо-сентиментальное отношение к Турции, к "кузену нашему Измаилу". Правда, с каких пор стали турки, племя туранское, родней семиту Измаилу, это ни одному ученому неведомо, но таково настроение, и Нордау самому пришлось с ним столкнуться после знаменитой его отповеди младотуркам на Гамбургском конгрессе.
— Помню ту вашу речь, — сказал я. — Вы тогда заявили: "Ехать в Туречину, чтобы там ассимилироваться? Это мы можем найти ближе и дешевле". Я тогда приехал в Гамбург из Константинополя и бешено аплодировал.
— А у меня, — ответил он, — конца потом не было неприятностям с некоторыми чувствительными идиотами из нашего окружения: как можно, мол, так резко выражаться о «кузене»?
— Доктор, — сказал я, — но ведь не держать же нам курс на идиотов. Не только турок нам не кузен — и с подлинным Измаилом нет у нас ничего общего. Мы, слава Богу, европейцы: две тысячи лет помогаем мы строить европейскую цивилизацию. Вот еще одно место из другой вашей речи — я запомнил: "Мы идем в Палестину, чтобы раздвинуть моральные границы Европы до самого Евфрата". Худший враг наш в этом деле — турок. Теперь пришел его час. Неужели сидеть нам, сложа руки?
Глубокое слово сказал мне в ответ старый жизнеиспытатель — лишь много позднее довелось и пришлось мне понять, какое глубокое слово. Он покачал мудрой головою и ответил:
— Это, молодой человек, логика; а логика есть искусство греческое, и евреи терпеть его не могут. Еврей судит не по разуму — он судит по катастрофам. Он не купит зонтика «только» потому, что в небе появились облака: он раньше должен промокнуть и схватить воспаление легких — тогда другое дело.
Много прошло времени, пока я постиг всю правду этого замечания; и тогда, между прочим, обнаружилось, что есть на земле еще одно племя с точно таким же отношением к логике, тучам и зонтику — англичане. Только разница та, что у них и легкие крепче, и больше денег на лекарство.
После этой беседы я побывал в Марокко, Алжире, Тунисе, стараясь «обследовать», произвел ли турецкий призыв какое-либо впечатление, есть ли действительная опасность магометанского восстания. Конечно, обращаться за справками к самим мусульманам было бы совершенно бесполезно. Тамошний туземец — великий дипломат (в том «классическом» смысле, о котором еще придется мне говорить по поводу свидания с Делькассэ[1], а особенно — когда он боится. Я сделал проще — расспросил местных сефардских купцов: они такие же старожилы, но они умнее и откровеннее; и еврей, если только дело не касается его собственных еврейских интересов, вполне способен проявить и проницательность и дальнозоркость. Настроения арабов он знает доподлинно: даже если они ему рассказывают басни, он способен учесть притворство и понять, чего они не договаривают. Почти все эти сефарды — купцы, адвокаты, журналисты от Танжера до Туниса — дали мне один и тот же ответ, и история доказала, что они были правы:
— Призыв к священной войне? Абсурд. О впечатлении смешно и спрашивать. Только у вас, наивных европейцев, еще верят в то, будто на Востоке во имя солидарности ислама можно поднять народные массы и двинуть их на серьезный риск. Турки сами в это не верят: вот уже сто лет, как Европа бьет турок и отнимает у них лучшие земли одну за другой, и за все это время ни одна мусульманская нация пальцем не шевельнула в помощь султану, хоть он именуется халифом правоверных. Немцы, которые так же наивны, как и вся остальная Европа, убедили турок попробовать еще раз. Безнадежно. Ни одна душа тут за турок не заступится.
После этого, завернув "по дороге" в Рим, я поехал в Египет.
* * *
В Александрии я нашел очень оживленную сионистскую среду. Пароход, о котором говорил тот офицер, действительно привез больше тысячи беженцев из Яффы. Они рассказывали так: внезапно, ни с того ни с сего, тамошние власти велели арабской полиции хватать и тащить «нежелательных» евреев, чуть ли не по выбору околоточного надзирателя. Полицейские ("брат наш Измаил") выполнили задание с большим одушевлением, раздавая направо и налево удары, отбирая у изгоняемых утварь и деньги; а на море, на полдороге от пристани к пароходу, арабские лодочники часто впридачу опускали весла и требовали по фунту за каждого «пассажира», грозя в противном случае просто вывалить их в воду… Я пытался дознаться, за что выселили именно этих евреев, а не других: в их числе были купцы, торговцы, ремесленники, женщины, младенцы, врачи и просто бездельники. Так и не понял, что тут была за система.
Английские власти дали нам бараки и открыли денежный кредит; при канцелярии губернатора был даже устроен особый отдел попечения о беженцах с милым и дружелюбным человеком во главе — звали его мистер Хорнблоуэр. Помню еще одно имя: миссис Бродбент, которая заведовала по поручению Хорнблоуэра крупнейшим из беженских лагерей, в старом загородном дворце Габбари и которую дети называли "белая дама". Я тоже проработал несколько недель в Габбари. Было там до 1200 душ, в том числе около трехсот сефардов. Мы устроили две кухни: одну ашкеназийскую, одну сефардскую. Сначала, по неопытности, кухню сделали общую, но сефарды вскоре учинили чуть ли не подлинный бунт, жалуясь, главным образом, на то, что им дают «суп», а это у них, как выяснилось, считается чуть ли не покушением на отравление порядочного человека. Мы извинились и дали им особую кухню. Помню, что на первый же завтрак они, в знак примирения, пригласили и меня и угостили меня тарелкой какого-то варева, чрезвычайно вкусного, но, по-моему, совершенно похожего — на суп… Кроме того, была у нас школа, конечно, с преподаванием на еврейском языке; была библиотечка, аптека, вообще целое самоуправление, даже с отрядом стражи, которую мы назвали «нотерим». В лагере стоял гам на двенадцати языках — и это не считая еврейского; хорошо, что почти вся молодежь и половина мужчин знали по-еврейски, иначе, право, не представляю себе, как можно было бы управляться с этим микрокосмосом нашего рассеяния. Тут была бухарская палата, марокканская, грузинская, несколько эспаньольских; и палата учеников Яффской гимназии, которые отказывались принимать хинин, если аптекарь не умел им предложить это лекарство на языке Исайи. Также помню, что недели через две после высадки те же гимназисты организовали футбольную команду и устроили победоносный матч с александрийскими скаутами.
По утрам приезжали к нам в Габбари большие военные повозки с плечистым австралийским солдатом на козлах и парой громадных австралийских битюков в упряжи — все это для того, чтобы покатать младшую детвору. Австралийцы научились созывать детей по-еврейски: "yeladim henna!" — и в одну минуту повозка наполнялась стрекочущей массой ребятишек.
Иногда приходил к нам один из австралийских офицеров, лейтенант Лазарь Марголин, подолгу стоял, присматривался, переговаривался с беженцами на ломаном идиш и, вероятно, и не мечтал о том, что через несколько лет быть ему полковником еврейского батальона и что некоторые из этих самых беженцев будут тогда его солдатами.
Сефардская община Александрии честно и широко раскрыла нам и свое сердце, и свои кошельки. Главный раввин города Рафаэль Делла Пергола, культурный, даже высокообразованный флорентиец (к сожалению, ныне уже покойный), его помощник "Хахам Аврам" Абихзэр, банкир Эдгар Суарес (тоже покойник), видный негоциант Жозеф де Пиччотто и многие другие — имен уже не помню, хотя следовало
бы помянуть, — работали в бюро, собирали деньги, одежду, постельное белье, книги и представительствовали за беженцев перед властями. Были, конечно, работники и из русских евреев: З.Д.Левонтин, создатель и тогда еще директор нашей банковой сети в Палестине, добился каких-то кредитов и стал выдавать небольшие суммы тем из беженцев, у кого были вклады в Яффском банке; В.Л.Глускин, в то время директор винных погребов Ришон-ле-Циона, ежедневно объезжал все бараки и следил за порядком; М.А.Марголис, уполномоченный Нобеля на Ближнем Востоке, состоял казначеем попечительского комитета. Были и нееврейские волонтеры: особенно я помню красавицу-француженку, жену еврейского барона Феликса де Менашэ; всякий раз, когда она привозила в Габбари запас свежего хлеба, я дивился тому, как умно она одета: и просто, и в то же время обдуманно — словно бы имелся у парижских портных специальный покрой именно для такого случая…
Там, в Габбари, и зародился еврейский легион. Два человека сыграли при этом решающую роль: русский консул Петров и Иосиф Владимирович Трумпельдор.
Глава 2. Первый опыт — ZION MULE CORPS
Консул Петров был горячий русский патриот. Как он, помимо того, относился в душе к нашему избранному народу, за это я ручаться не берусь — и вообще сам еще не настолько освободился от пережитков дедовской ксенофобии, чтобы иметь право выслеживать зерна того же недуга в чужой душе. Но патриот он был несомненный, и притом еще сухой и накрахмаленный бюрократ исконного, классического, деревянного образца. Среди нашей молодежи в беженских лагерях оказалось несколько сот русско-подданных. В то время в Египте еще действовали добрые старые “капитуляции”, по которым консул имел экстерриториальные права над “своими” подданными. А поэтому консул Петров внезапно предъявил британским властям требование — отправить молодых людей на военную службу в Россию.
Положение получилось неудобное. Отношение наше и нашей молодежи к этому ходу консула Петрова понятно без объяснений. Но британское начальство, согласно капитуляциям, не имело права ему отказать: напротив, обязано было предоставить к его услугам для этой цели все свои полицейские силы.
К английскому губернатору (официально он именовался “советником” при губернаторе-туземце, но правил городом он) отправлена была депутация: и тут я, старый поклонник эспаньольского еврейства — это, по-моему, лучшие евреи на свете — подметил еще одно их достоинство, которого прежде не знал: как сефард разговаривает с начальством в городе, находящемся на военном положении.
Главным оратором депутации был Эдгар Суарес, банкир обычного банкирского типа, лет пятидесяти пяти, по взглядам — заклятый ассимилятор: с этим губернатором он, должно быть, каждый вечер играл в клубе в покер — но ведь и после этого губернатор оставался губернатором. Суарес спросил его:
— А вы помните, ваше превосходительство, что творилось в Александрии два года тому назад, когда этот самый консул Петров хотел арестовать русского еврея Р. на том основании, что тот был “политическим преступником” в России?
— Помню, — отозвался губернатор несколько уныло, потому что действительно не забыл еще той громадной демонстрации десяти тысяч эспаньолов на главных улицах Александрии, с этим самым Суаресом во главе толпы.
— А помните, — опять спросил Суарес, — как вам пришлось вызвать пожарную команду, с большой кишкою — а мы все-таки не выдали того “преступника”?
— Еще как помню, — ответил губернатор, теперь уже с улыбкой, потому что в конце концов был он все-таки "a sport" и умел ценить удачную проделку. — Что же мне было делать, когда какой-то босяк перерезал пожарную кишку?
— Позвольте представиться, — ответил Суарес, — я и был тот босяк. Губернатор рассмеялся.
— Будьте спокойны, — сказал он, — ваших молодых людей мы не выдадим. Конечно, дело очень щекотливое — капитуляции, военное время… но о выдаче не может быть и речи.
После этого визита к губернатору я пошел знакомиться с И.В.Трумпельдором. О том, что он находился среди беженцев, я знал уже раньше, но никогда его не видел. Он жил на частной квартире. На консула Петрова можно было сердиться за что угодно, но одно надо признать: человек он был корректный. Как только до его сведения дошло, что в числе беженцев имеется бывший русский офицер, потерявший руку в Порт-Артуре, он сейчас же послал к нему передать привет и сообщить, что причитавшуюся Трумпельдору пенсию тот может получать ежемесячно в здешнем консульстве. Трумпельдор поэтому ни в чем не нуждался и еще другим помогал.
Я слыхал о нем, конечно, еще в России. Хотя следовало бы ожидать, что каждому читателю известна его биография, все-таки, пожалуй, разумнее будет напомнить ее главные черты.
Родился он на Кавказе в 1880 году. Отец его был военный фельдшер, еще из николаевских солдат. “Ося” не видал гетто ни в отцовском доме, ни, конечно, в окружавшей его детство кавказской обстановке.
В университет он не попал из-за процентной нормы, а потому сдал экзамен на звание зубного врача. Тут подошла русско-японская война, и Трумпельдор очутился в Порт-Артуре. Во время знаменитой осады он был ранен и потерял левую руку выше локтя, но, выйдя из госпиталя, снова добился отправки на передовые позиции. У него было четыре Георгия.
После плена и заключения мира он попал в Петербург, получил недосягаемый в то время для еврея чин прапорщика запаса и был принят на юридический факультет. По окончании университета уехал в Палестину и стал простым рабочим где-то в Галилее. Работал с одной рукой прекрасно. Пришла война, и его выселили.
Сослуживец и друг его, покойный Д. Белоцерковский, рассказал мне такой случай из того времени, когда у Трумпельдора еще были обе руки: он уже был “отделенным” (выше этого чина, даже до младшего унтера, нельзя было тогда еврею дослужиться), и взвод его засел в окопах на сопке перед крепостью. Японцы круто наступали; почти все соседние сопки уже были очищены, во взводе Трумпельдора все старшие чины перебиты — кроме прапорщика запаса, который уже давно ушел по начальству за приказом, что делать, и не вернулся. Солдаты начали ворчать, стали ползти к выходу из траншеи. Трумпельдор стал у выхода с винтовкой и объявил: “кто тронется с места — застрелю”. Так и остались они в окопе, пока не опустела и последняя из соседних русских сопок. Тогда он солдат послал в крепость, — но сам остался и полез на разведки: осмотрел профиль той местности и пришел к убеждению, что японцев еще можно прогнать. В это время увидел он на равнине, в стороне от огня, офицера в капитанских погонах морского дивизиона, с подзорной трубкой в руках. Трумпельдор спустился к нему и объяснил: если вызвать свежую роту и поставить ее там-то, можно еще отобрать позицию назад.
— Верно, — сказал капитан. — Сбегай, голубчик, вон за тот бугор — там засела моя команда; скажи старшему офицеру, чтобы шли сюда.
Трумпельдор добежал до пригорка, на который сыпались японские снаряды, вскарабкался на вершину — и увидел, что морская команда, не выдержав огня, “отступила”: “только пятки мелькали” — он вернулся к капитану и доложил. Тот глубоко огорчился: сорвал фуражку, ударил себя кулаком по седой голове и застонал:
— Осрамили! Удрали — как жиды!
Трумпельдор подтвердил мне потом этот анекдот, очень весело улыбаясь.
Я застал его дома. Вид у него был северянина, можно было принять и за шотландца или шведа. Рост выше среднего; тонкий, жесткие русые волосы коротко подстрижены, выбрит чисто, губы бледные, со спокойной улыбкой. По-русски говорил он хорошо, хотя в Палестине научился немного “петь”.
Еврейский язык у него капал медленно, был небогат словами, но точен: на идиш он говорил ужасно. Он был хорошо образован, большой начетчик в русской литературе — читал даже вещи, которых никто не читал, Потебню и т. п. — и помнил каждую прочитанную строчку. По сей день не знаю, был ли он из тех, кого у нас в еврейском быту титулуют “умными”. Скорее нет. У нас в это понятие входят всякие пряные приправы — подозрительность, скептицизм, хитроумие, умение перекрутить простую вещь навыворот, углубиться до левого уха правой руки позади затылка. Всего этого я в Трумпельдоре не нашел. Зато был у него ясный и прямой рассудок; был мягкий и тихий юмор, помогавший ему тотчас отличать важную вещь от пустяка. Но и о важных вещах он умел говорить просто — без той ходульности, которая иногда чувствуется в его письмах. Говорил он трезво, спокойно, без сентиментов и пафоса, и без крепких слов. В последнем отношении даже русская казарма не повлияла. От него я ни разу не слышал бранного слова, кроме разве одного: “шельма этакий”. По-еврейски любимое выражение его было “эйн давар” — ничего, не беда, сойдет. Рассказывают, что с этим словом на губах он и умер, пятью годами позже.
С одной рукой своей он управляется лучше, чем большинство из нас с двумя. Без помощи мылся, брился, одевался; резал свой хлеб и чистил сапоги; в Палестине, потом в Галлиполи с одной рукой правил конем и стрелял из ружья. В его комнате был совершенно девичий порядок, платье было вычищено: все его обхождение было спокойно и учтиво; и он издавна был вегетарианец, социалист и ненавистник войны — только не из тех миролюбцев, которые прячут руки в карман и ждут, чтобы другие за них воевали.
В тот день нам долго разговаривать не пришлось: с ним вообще не приходилось долго разговаривать. Не принадлежа к цеху “умников”, он именно поэтому умел сразу понять дело до конца и через четверть часа ответить да или нет. Тут он ответил: да.
Вечером мы — комитет попечения о беженцах — собрались на квартире у М. А. Марголиса; кроме хозяина, были тут иерусалимский врач д-р Вайц, В.Л.Глускин, Г.Н.Городецкий, американский турист Г.Каплан, 3.Д.Левонтин, Трумпельдор, агроном Я. Г. Этингер и я. Перечисляю имена так тщательно, потому, что — выскажись то совещание против нашего плана — не о чем, вероятно, было бы теперь писать эту книгу. Но оно высказалось за: пятеро против двух, один воздержался. Протокол с датой 17 Адара 5675 года хранится у В.Л.Глускина в Тель-Авиве.
Через неделю мы созвали беженскую молодежь на собрание в бараке “Мафруза”. Пришло около двухсот человек. За президентским столом сидел раввин Делла Пергола и другие члены беженского комитета, в том числе седой В.Л.Глускин.
Мы представили собранию отчет о положении. Требований консула Петрова англичане, конечно, не выполнят; но и вечно оставаться в бараках на чужом иждивении тоже не годится. С другой стороны — рано или поздно — британская армия двинется из Египта на Палестину. Из Яффы ежедневно приходят новые грустные вести: турки запретили еврейские вывески на улицах, выслали доктора Руппина, представителя сионистской организации, — несмотря на то, что он немец, — арестовали руководящих деятелей еврейского населения и заявляют, что после войны уж и совсем никакой еврейской иммиграции не допустят. Итак?..
Документ, который мы в ту весеннюю ночь подписали в этом голом и темном сарае “Мафруза”, хранится теперь у В.Л.Глускина и будет некогда передан в национальную библиотеку нашу в Иерусалиме. Это — кусок бумаги обычного ученического формата; на нем резолюция о том, что учреждается еврейский полк, который предложит англичанам свои услуги для операций в Палестине, и около ста подписей. Первым подписался В.Л.Глускин.
— Я стар, — сказал он, вырывая у меня перо, — в солдаты не гожусь, но ответственность за это решение беру на себя.
На следующее утро, приехав в Габбари, я застал посреди двора целый парад. Три группы молодых людей обучались маршировать; инструктора были из их же среды, из бывших русских солдат. В углу девочки вышивали знамя; особый комитет из гимназистов уже шумел на весь лагерь, обсуждая, как перевести какой-то военный термин на язык Библии. Потом приехал Трумпельдор, все три взвода выстроились в колонну и прошли мимо него, — или по крайней мере хотели пройти, — церемониальным маршем. Он сочувственно улыбался.
Я сказал ему потихоньку:
— Маршируют они ужасно. Как овцы. Он ответил:
— Эйн давар.
Через несколько дней мы отправили новую делегацию — в Каир. Прежде всего делегация пошла к министру внутренних дел (официальный чин: “советник при…”). Назывался он тогда мистер Рональд Грэхэм; теперь он сэр Рональд и состоит британским послом в Риме. Он оказался точно такой, каким и в книгах изображают шотландцев: сдержанный, неразговорчивый, хорошо прислушивается, но и вопросы задает скупо. Зато вскоре выяснилось, что дело он делает быстро и точно.
Он спросил: “на сколько рекрут вы рассчитываете?”, отметил что-то в записной книжке и сказал коротко:
— От меня это не зависит, но постараюсь.
После этого делегация поехала к генералу Максвелю, который тогда командовал британскими войсками в Египте. Представил нас ему Каттауи-паша, милый старенький сефард, один из виднейших нотаблей всего Египта. В делегации были Трумпельдор, З.Д. Левонтин, В.Л. Глускин, М.А. Марголис и я. Бедного Трумпельдора мы заставили нацепить все четыре Георгия: два медных и два золотых. Генерал пристально посмотрел на него и коротко спросил:
— Порт-Артур?
Но ответ его на наше предложение разочаровал нас глубоко:
— О наступлении на Палестину я ничего не слышал и сомневаюсь, быть ли вообще такому наступлению. Кроме того, по закону, я не имею права принимать в британскую армию иностранцев. Могу предложить вам только одно: составить из ваших молодых людей отряд для транспорта на мулах и послать его на какой-нибудь другой турецкий фронт. Больше ничего не могу сделать.
В ту ночь, в номере у Глускина, мы все просидели до утра, обсуждая, что делать.
Нам, штатским, казалось, что предложение генерала Максвеля надо вежливо отклонить. Французское слово “Corps de muletiers”, которое он употребил, прозвучало в наших ушах очень уж нелестно, почти презрительно: пристойная ли это комбинация — первый еврейский отряд за всю историю диаспоры, возрождение, Сион… и погонщики мулов? Во-вторых — “другой турецкий фронт”. Что нам за дело до “других” фронтов? Неясно было даже, о каком именно фронте он говорил: первое морское покушение на Галлиполи тогда уже кончилось провалом, а о том, что подготовляется второе наступление, на этот раз уже с высадкой солдат на самом полуострове, — об этом еще только шептались. Но одно было ясно: в Палестину их не поведут. Значит, надо отказаться. Другого мнения был Трумпельдор.
— Рассуждая по-солдатски, — сказал он, — я думаю, что вы преувеличиваете разницу. Окопы или транспорт — большого различия тут нет. И те, и те — солдаты, и без тех и без других нельзя обойтись; да и опасность часто одна и та же. А я думаю, что вы просто стыдитесь слова “мул”. Это уж совсем по-ребячески.
— “Мул”, — отозвался кто-то из нас, — ведь это почти осел. Звучит как ругательство, особенно по-еврейски.
— Позвольте, — ответил Трумпельдор, — по-еврейски ведь и “лошадь” тоже ругательство — bist а ferd! — но службу в коннице вы бы считали для них честью. По-французски chameau — самое обидное слово: однако есть и у французов, и у англичан верблюжьи корпуса, и служить в них считается шиком. Все это пустяки.
— Но ведь это и не палестинский фронт?
— И это не так существенно, рассуждая по-солдатски. Чтобы освободить Палестину, надо разбить турок. А где их бить, с юга или с севера, это уж технический вопрос. Каждый фронт ведет к Сиону.
Так мы ничего и не решили. Идя домой с Трумпельдором, я ему сказал:
— Может быть, вы и правы, но я в такой отряд не пойду.
— А я, пожалуй, пойду, — ответил он.
Утром, вернувшись в Александрию, я застал телеграмму из Генуи. Подпись была: “Рутенберг”. Он спрашивал, могу ли я с ним повидаться и где. Его имя и биографию я, конечно, знал: ни разу с ним еще не виделся, — но в Риме, еще до моего отъезда в Египет, мне сказал однажды А.В.Амфитеатров:
— Угадайте, кто теперь сильно заинтересовался сионизмом? Петр Моисеевич Рутенберг. Он говорит, что вмешательство Турции в войну открывает перед евреями блестящие возможности, — и, по-моему, он теперь носится с важными планами. У него тут, кстати, большие связи в правительственных кругах и во Франции тоже.
Прочитав телеграмму, я сейчас же разыскал Трумпельдора и заявил ему:
— Иосиф Владимирович, я уезжаю. Если генерал Максвель переменит свое решение и согласится учредить настоящий боевой полк, я приеду; если нет, поищу других генералов.
В средних числах апреля, в Бриндизи, я встретился с Рутенбергом — и там же застал телеграмму от Трумпельдора:
“Предложение Максвеля принято”.
Я пишу не историю, а личные воспоминания. Сам я в Галлиполи не был и потому не могу ничего рассказать об отряде Трумпельдора. Но одно должен признать: прав был Трумпельдор, а не я. Эти шестьсот “muletiers” потихоньку открыли новую эру в развитии сионистских возможностей. До тех пор трудно было говорить о сионизме даже с дружелюбно настроенными политическими деятелями: в то жестокое время кому из них было до сельскохозяйственной колонизации или до возрождения еврейской культуры? Все это лежало вне поля зрения. Маленькому отряду в Галлиполи удалось пробить в этой стене первую щель, проникнуть хоть одним пальцем в это заколдованное поле зрения воюющего мира. О еврейском отряде упомянули все европейские газеты; почти все военные корреспонденты, писавшие о Галлиполи, посвятили ему страницу или главу в своих письмах, потом и в книгах. Вообще в течение всей первой половины военного времени отряд этот оказался единственной манифестацией, напомнившей миру, в особенности английскому военному миру, что сионизм “актуален”, что из него еще можно сделать фактор, способный сыграть свою роль даже в грохоте пушек. Для меня же лично, для моей дальнейшей работы по осуществлению замысла о легионе, “Zion Mule Corps” сыграл роль ключа, открыл мне двери английского военного министерства, дверь кабинета Делькассэ в Париже, двери министерства иностранных дел в Петербурге.
Но и чисто военная история Галлиполийского отряда тоже представляет собой красивую страницу в нашей книге военной летописи. Очень жалею, что палестинские друзья Трумпельдора чересчур поторопились с выпуском его писем из Галлиполи. В них Трумпельдор обращался к близкому человеку и интимно рассказывал о печалях и заботах лагерной обыденщины, рассказывал с обычной своей любовью к деталям. Лагерная обыденщина всегда полна мелких дрязг. Возьмите любую из романтических кампаний самого Гарибальди: внутренняя жизнь лагеря и там состояла наполовину из кухонной неурядицы, из ссор между поручиком А. и поручиком Б., из мириада мелких разочарований. Не в этом смысл коллективного действия. Смысл и ценность его в том, что с первого и до последнего дня злополучной черчиллевской авантюры эта группа беженской молодежи несла на себе тяжелую и опасную службу под турецким огнем. Трумпельдор и в этом был прав: для транспорта и для траншей — опасность оказалась одна и та же. Вся занятая англичанами площадь равнялась всего нескольким квадратным верстам: с вершины Ачи-Баба турецкие пушки засыпали картечью все это пространство, от передних окопов до лагеря еврейского транспорта. Под этим огнем им приходилось каждую ночь вести своих мулов, нагруженных амуницией, хлебом и консервами, к передовым траншеям и обратно. Они потеряли убитыми и ранеными пропорционально не меньше, чем остальные полки Галлиполийского корпуса, получили несколько медалей, отслужили свою службу смело, с пользой и честью. Особенно о смелости их писал мне генерал сэр Иан Гамильтон, главнокомандующий галлиполийской экспедицией: “…они работали со своими мулами спокойно под сильным огнем, проявляя при этом еще высшую форму храбрости, чем та, которая нужна солдатам в передовых окопах — потому что тем ведь помогает возбуждение боевой обстановки…”.
Командовал ими подполковник Джон Генри Патерсон, одна из замечательнейших христианских фигур, какие когда-либо попадались на пути нашем за все столетия рассеяния. Я познакомился с ним много позже и буду еще говорить о нем в дальнейших главах. Трумпельдор, за которым англичане признали чин капитана, был сначала вторым по команде, но к концу кампании Патерсон заболел или был ранен — не помню — и был отослан на излечение в Англию, и тогда командование перешло к Трумпельдору. После ухода англичан из Галлиполи он еще несколько месяцев продержался во главе своего отряда, в Александрии: там они бомбардировали начальство петициями, чтобы их не демобилизовывали, чтобы дали им возможность остаться вместе и подготовиться к моменту начала операций на палестинском фронте; но петиции не помогли, Zion Mule Corps был учрежден в апреле 1915 года, а 26 мая 1916 его распустили. Лишь около 120 из его участников снова попали в солдаты, добрались до Лондона — и из этой группы и вокруг нее там возник тот еврейский легион, который впоследствии, со штыками и пулеметами, принял участие в завоевании Палестины и которому принадлежит ряд могил под знаком щита Давидова на горе Елеонской. Прав был Трумпельдор: хоть победили мы в Иорданской долине, но путь через Галлиполи был правильный путь.
Глава 3. Провал за провалом
Историю летних месяцев 1915 года хочется рассказать как можно короче: это невеселая повесть о разочарованиях и провалах. Я не очень люблю вспоминать об этом периоде, хотя, с другой стороны, и он меня многому хорошему научил. Прежде всего научил он меня той важной истине, что в общественной жизни, особенно в борьбе за идею, начатое дело часто растет именно провалами. Как-то так выходит, что каждое поражение потом оказывается шагом к победе. Каждое поражение приносит новый десяток сторонников, иногда именно из круга вчерашних врагов. Как-то внезапно врагов этих осеняет откровение, что хоть они боролись против тебя, но в душе надеялись, что ты победишь, — и твое поражение оставляет в их сердце пустоту, с искоркой сожаления…
Эти месяцы были для меня школой терпения: теперь бы я мог написать целую теорию терпения в нескольких томах. Суть ее была бы в том, что после каждого провала надо себя проэкзаменовать и спросить: а ты, может быть, неправ? Если неправ, сходи с трибуны и замолчи. Если же прав, то не верь глазам: провал не провал; «нет» не ответ, пережди час и начинай сначала.
Что я был прав — это мне те месяцы тоже показали наглядно. И на каждом своем шагу, и даже на всем, что пытались делать мои сионистские противники, я видел новые доказательства той истины, что вне мысли о легионе нет никакой возможности втиснуть сионизм в ряд тех проблем, какими способен мир интересоваться в такое исключительное время.
Часто мне тогда вспоминался анекдот, который я слышал от Н.О.Соколова[2] еще задолго до войны. В 1901 году, после Лондонского (IV-го) конгресса, он поселился на отдых в швейцарском курорте. Там познакомился он с каким-то шотландским лордом и, между прочим, рассказал ему, что был на сионистском конгрессе.
— Oh, yes, — сказал лорд, — сионизм, очень интересно. Если не ошибаюсь, младший брат мой тоже принадлежит к этому движению, или, во всяком случае, к чему-то очень близкому…
Соколов изумился: лорд был завзятый католик, брат его, очевидно, тоже. В чем дело? Он стал расспрашивать и выяснил, что брат лорда — вегетарианец. Для посторонних, в 1901 году, это было "то же самое" движение, или "нечто весьма близкое".
Так оно осталось, для большинства государственных людей Европы, и в 1914–1915 году. В Италии, во Франции, часто в самой Англии повторялось то же впечатление: сионизм сам по себе для них в данный момент не существует; чтобы они его увидели сквозь свои военные очки, надо придать ему «актуальное» острие, иными словами — штык.
* * *
Рутенберга я застал в Бриндизи в маленьком отеле недалеко от гавани. Виделись мы в первый раз. Высокий, широкоплечий, плотно скроенный человек. В каждом движении и в каждом слове — отпечаток большой и угрюмой воли; я подозреваю, что он это знает и не любит забывать, и тщательно следит, чтобы и другие об этом ни на минуту не забыли. Кто знает — может быть, так и надо. В сущности, общественный деятель всегда находится на сцене, и вряд ли ему полагается выступать без грима; я говорю, конечно, не о ложном гриме, а о том, какой действительно соответствует подлинной природе данного работника политической сцены. Но никакой грим не может скрыть того факта, что у человека добродушные глаза и совсем детская улыбка. Я понимаю, почему его служащие и рабочие в Палестине повинуются Рутенбергу, как самодержцу, и любят его как родного.
Десятиминутной беседы оказалось достаточно, чтобы сговориться о главном. Хоть мы и никогда не переписывались, тут обнаружилось, что думали мы одну и ту же думу. И больше того: хотя в печати тогда еще не было ни одного слова ни о легионе вообще, ни об александрийских добровольцах, он почему-то знал наверное, что я работаю для этой цели; и я, хоть А. В. Амфитеатров в Риме не умел мне объяснить, в чем заключались планы Рутенберга, тоже сразу понял из его короткой телеграммы, зачем ему нужно свидание со мною. Странно, откуда берется этот беспроволочный телеграф между людьми, которые, встретясь на улице, не узнали бы друг Друга…
В Бриндизи мы с П.М. Рутенбергом пришли к трем выводам:
Первый вывод: создать контингент — дело вполне возможное; человеческий материал найдется — в Англии, во Франции, в нейтральных странах околачиваются сотни и тысячи еврейской молодежи, по большей части российского происхождения, в штатском платье; и хоть Америка далеко, а все-таки есть и Америка.
Второй вывод: лучший партнер для нас, конечно, Англия, в этом отношении александрийские волонтеры наши поступили правильно; но «лучший» не значит «единственный». Италия вся ходуном ходит, порываясь воевать, и скоро сорвется; а Италия и тогда, в то время, когда о Муссолини еще никто не думал, уже успела развить в себе здоровый и широкий аппетит ко всем побережьям Средиземного моря. Еще важнее Франция: для нее Палестина и Сирия — мечта пяти столетий, если не больше. Поэтому надо пробовать всюду: в Лондоне, в Париже, в Риме.
Третий вывод: в Риме будем работать вдвоем; потом мне ехать в Париж и в Лондон, а Рутенбергу — в Америку.
* * *
Попытка наша в Италии кончилась провалом. Несмотря на все народное возбуждение, в конце концов, ни министры, ни депутаты, с которыми познакомил меня Рутенберг или которых я сам частью разыскал по старой дружбе римского моего студенчества, — сами еще не знали, будет ли Италия воевать. И синьор Моска, товарищ министра колоний, и покойный Л. Биссолати, лидер социалистов, но большой сторонник войны, ответили нам одно и то же.
— Если Италия вмешается, тогда ваша мысль — отличная мысль; тогда приезжайте опять, мы обсудим это дело практически. Но теперь… Париж: снова провал.
Там я нашел горячего друга сионистского дела в лице Гюстава Эрвэ. Старшее поколение читателей еще помнит его биографию. До войны это был заклятый пацифист, много в жизни пострадавший за антипатриотическое свое поведение, и газета его в Париже, на страх буржуям, называлась "La Guerre Sociale". Но с момента, как немцы переступили через бельгийскую границу, он переименовал свою газету в «Victoire» и стал одним из столпов воюющего отечества. Лично я его считаю, пожалуй, самым даровитым из публицистов радикальной Франции. Правительство, понятно, ухаживало за ним с особой предупредительностью, согласно древней мудрости, выраженной еще в притче о блудном сыне. Он был один из тех немногих, которые сразу поняли ценность сионизма, и самого по себе, и, в частности, для державы, у которой есть притязания на Палестину.
Эрвэ представил меня министру иностранных дел; в то время это был Делькассэ. Делькассэ уже умер, и ничего непочтительного я сказать о нем не хочу, но впечатление свое все-таки передам откровенно. Беседа наша в первый раз открыла мне секрет, который позднейшие наблюдения подтвердили: у счастливых народов с готовыми государствами совсем не нужно быть гением, чтобы оказаться в первом ряду больших политиков. У нас в сионизме это гораздо труднее…
Покойный Делькассэ, кроме того, принадлежал к старой, «классической» школе дипломатии, к той плеяде тайноведов, государственная мудрость которых выразилась некогда в знаменитом слове Талейрана: "Язык есть лучшее средство для сокрытия мысли". Возможно, что это и было очень мудро сто лет тому назад: в наше время это — хитроумие весьма младенческое, уже прочно, если не ошибаюсь, вышедшее из моды в серьезном дипломатическом обиходе. Но милая Франция все еще ходит в театр на Расина и верит в классицизм.
Не имею ни малейшего намерения переоценивать свою чрезвычайно скромную роль: но говорю с полным убеждением, что в то утро Делькассэ много проиграл за счет Франции. Не еврейский легион, а гораздо больше. Я пошел к нему не только по собственной инициативе: мой визит был отчасти результатом совещаний с X. Е. Вейцманом. За несколько дней до того он был в Париже. Тогда он уже начал свои переговоры с государственными деятелями Англии; был уже уверен в их сочувствии —
хотя жаловался, что они все еще пока не считают Палестину «актуальной». Но главным препятствием на пути его было то, что англичане опасались задеть или шокировать Францию какими-либо самостоятельными шагами касательно будущности Святой Земли. В то время еще жива была старинная международная традиция, по которой за Францией признавалось некоторое туманное притязание на Сирию и Палестину. Для сионистской дипломатии важно было знать, есть ли у французского правительства какое-нибудь определенное отношение к нашим требованиям, и особенно — есть ли надежда на сочувственное отношение. Если да — тогда надо будет вести работу на два фронта; если нет — можно будет сосредоточить все усилия в Англии: создать благоприятное отношение к сионизму, а может быть — что еще важнее — попытаться разбудить в Англии аппетит, активный интерес к лозунгу "British Palestine" и, следовательно, к операциям на палестинском фронте.
Вейцману, по многим причинам, неудобно было самому поставить этот вопрос перед французскими властями. Он вернулся в Лондон и там ждал результатов моего свидания с Делькассэ. Свой вопрос министру я формулировал так: — Если бы по окончании войны Палестина попала в сферу французского влияния, — можем ли мы, сионисты, надеяться, что французское правительство примет во внимание наши национальные стремления?
Он сразу ответил, даже с некоторым раздражением, как отвечают на вопрос, который вам доставил уже много неприятностей:
— Я не верю в то, чтобы Палестина могла достаться какой-либо одной из великих держав: на это не согласятся другие.
— Понимаю, — ответил я. — Но в таком случае предвидится некая форма совместного управления. Тогда Франция будет, во всяком случае, одним из влиятельных участников такого «кондоминиума». Поэтому позвольте снова поставить вопрос: будет ли тогда французское влияние — влиянием благоприятным для сионизма?
Тут и выступил наружу «классический» дипломат, в словаре которого термины «да» и «нет» вычеркнуты. Совсем как тот анекдотический еврей, он ответил на вопрос вопросом:
— Разве Франция недостаточно доказала свое сочувствие израэлитам? Наша великая революция первая провозгласила равноправие…
— За это, г. министр, мы благодарны искренно, присно и во веки веков, — сказал я, — но я приехал из России и Украины, где шесть миллионов евреев поглощены теперь одной мыслью: что будет с Палестиной?
(Надеюсь, небо мне простит эти шесть миллионов, поглощенные одной мыслью…)
Он с минуту помолчал, а потом спросил, меняя тему по той же «классической» прописи:
— Каково теперь положение евреев в России?
— Хуже чем когда-либо, — ответил я коротко и точно, ибо сам к классической школе не принадлежу; а главное — ответ на то, что меня интересовало, я уже получил.
Гюстав Эрвэ, добрая душа, все-таки еще попытался помочь. Он рассказал министру, что в Египте образовался еврейский отряд…
— Слышал, — прервал Делькассэ, — но для Галлиполи.
— Да, но они теперь хотят образовать новый корпус, для Палестины, и они были бы счастливы, если бы этот корпус мог быть включен в состав французской армии…
— То есть, — вставил я, — при условии, если французское правительство сочувствует сионизму.
Делькассэ поднялся, заканчивая беседу скептической нотой:
— Вообще неизвестно, будет ли кампания в Палестине, и когда, и кто ее поведет…
В тот же день я послал в Лондон ответ со следующими двумя выводами:
а) Франция уже знает, что аннексировать Палестину ей не дадут;
б) правительство сионизмом не интересуется.
В 1925 году, ровно через десять лет после этой беседы, я рассказал о ней французскому сенатору, большому другу сионизма и одному из тех (очень там многочисленных) политических деятелей, которые по сей день горько сожалеют о том, что Палестина досталась не Франции. Он досадливо покачал головой:
— Худшая беда для политика, это — не иметь воображения. Дипломат времен короля Пипина Короткого! Не понять, что и мечта, раз ее мечтают миллионы, уже сама по себе есть великая держава, ничуть не слабее Франции, и Англии, и Германии…
Тем не менее, из Парижа я вывез и несколько более отрадных впечатлений. Там, в беседе с глазу на глаз, чуть ли не перед зарею, X. Б. Вейцман формально обещал мне свое содействие; и наступило время, когда он свое слово честно сдержал. Также и старый барон Эдмонд Ротшильд, отец палестинской колонизации, пришел в большое воодушевление, услышав о создании отряда в Александрии. Он сказал мне: "Обязательно постарайтесь расширить это начинание; сделайте из него крупную силу, а тем временем очередь дойдет и до Палестины". И хоть у меня в мозгу зашевелился при этом безмолвный вопрос: "Почему я? Почему не ты? Тебе ведь легче!" — все же я был ему благодарен за слово ободрения. Сын его Джеймс, тогда еще сержант французской армии, лечившийся от раны тут же в отцовском госпитале, подробно расспросил меня о плане легиона, наполовину сочувственно, наполовину насмешливо — это в его натуре; я отвечал ему аккуратно и добросовестно, упорно не замечая иронии, — ибо не столько интересуюсь натурой своих ближних, чтобы реагировать на их психологию, когда нужна мне отнюдь не их психология, а их деловая помощь. И позже, в Англии, он действительно часто помогал мне своими колоссальными связями; а потом и сам вступил в один из еврейских батальонов, и даже руководил набором наших добровольцев в Палестине.
Но самое ценное, что я увез из Парижа, был малый квадратик твердой бумаги. Шарль Сеньобос, известный историк, на книгах которого воспиталось наше поколение в России, редактировал тогда, вместе с П. Пенлевэ, журнал "Annales des Nationalites", в котором отстаивались интересы разных угнетенных народностей. Я пошел к Сеньобосу спросить, не согласится ли он издать выпуск, целиком посвященный сионизму. Он согласился — только потом, занятый другими делами, я так и не собрался составить эту книгу. Но Сеньобос дал мне свою визитную карточку и написал на ней коротенькое письмо к лондонскому приятелю; это был редактор иностранного отдела «Таймса» по имени Генри Уикхэм Стид. Много нашел я потом людей, которые помогли мне в моей работе, но из всех талисманов эта записка оказалась сильнейшим — вероятно потому, что открыла мне доступ не просто к влиятельному человеку, а к журналисту. Я писал уже о том, что держусь очень высокого мнения о своем ремесле и о значении людей, принадлежащих к этому цеху. Может быть, и стыдно признаться, но я всегда считал, что журналисты есть, будут и должны быть правящей кастой всего мира… Но еще много прошло времени, прежде чем удалось мне использовать ту карточку; а пока — Париж был провалом.
* * *
Лондон: опять провал. В военном министерстве мне сказали, что лорд Китченер — тогда не только военный министр, но и военный кумир всей Англии — настроен резко против "экзотических полков" ("fancy regiments"), а также против операций на экзотических фронтах. Попытался было я найти доступ к Герберту Сэмюэлу, который был тогда министром почты в кабинете Асквита и с которым сионистские деятели уже вели переговоры. X. Е. Вейцман хотел даже нас свести, но ему это запретили Н. О. Соколов и покойный Е. В. Членов — а они, оба члены Малого А. С. сионистской организации, были, так сказать, его начальством. Но Сэмюэл сам прочел в "Jewish Chronicle" подробное письмо из Египта об устройстве там еврейского отряда и при встрече спросил у сионистских лидеров, кто я такой. Д-р Гастер, главный раввин испанско-португальской общины в Лондоне, родственник Сэмюэла и человек пламенного темперамента, ответил: "Просто болтун", а Соколов и Членов промолчали.
Несколько встреч у меня было с младшим англизированным поколением тамошнего сионизма: это были Норман Бентвич, Гарри Сакер, Леон Саймон и разные другие. Их идолом был Ахад Гаам. К моему плану они отнеслись отрицательно, причем некоторые выразили это вежливо.
* * *
Копенгаген: не только провал, но еще и разрыв — с сионистской организацией.
Летом 1915 г. состоялось там заседание Большого А. С. Съехались, несмотря на строгости военного времени, делегаты из Германии, России, Англии, Голландии. Я был тогда в Стокгольме; не состоя членом А. С., я не имел права участвовать в съезде. Но Е. В. Членов вызвал меня настойчивой телеграммой; и в частном заседании, где-то в гостинице, он, вызвав на помощь бравого д-ра Гантке, три часа подряд доказывал мне, что уже одно образование транспортного отряда в Александрии было великим прегрешением, а дальше продолжать легионистскую агитацию — значит убить сионистское дело.
В записной книжке у меня отмечено несколько любопытных штрихов той беседы. Некоторые из них звучат теперь совсем трогательно. Д-р Гантке доказал мне, как дважды два четыре, что победа Германии на всех фронтах обеспечена математически и абсолютно. Он же разъяснил, при помощи наук исторических, статистических и экономических, что Турция никогда не откажется от Палестины: напротив, в ближайшем будущем следует ожидать восстаний в Египте, Алжире и Марокко.
— Господа, — ответил я, — спор наш бесполезен. Вы прибыли из Германии и из больной России, а я видел Англию, французский фронт, Египет, Алжир и Марокко. Все ваши рассуждения — самообман, с первого слова до последнего. Германия не победит, а Турция будет разбита вдребезги. Но к чему спорить? Я вам предлагаю сделку. Объявите, что сионистская организация соблюдает строгий нейтралитет и ничего общего не имеет ни с какими легионистскими планами; а я официально выступлю из сионисткой организации и буду вести свою работу в качестве частного лица; вам не буду мешать, и вы мне не мешайте.
Но они постановили — мешать. Съезд А. С. в Копенгагене вынес резолюцию, предлагавшую сионистам всех стран активно бороться против пропаганды легионизма. Я внезапно оказался на военном положении, почти один против всей сионистской организации.
Почти, но не совсем один. Никогда не забуду, что в том же Копенгагене, в эти самые дни моего разрыва с партией, я нашел того союзника, чья помощь (и были моменты, когда помощь эта носила характер самопожертвования) одна дала мне возможность выдержать ад последовавших лет: М. И. Гроссман, впоследствии директор Еврейского Телеграфного Агентства в Лондоне и коллега мой по президиуму союза ревизионистов, жил тогда в Копенгагене в качестве корреспондента одной из петербургских газет. Мне еще много придется рассказывать о нашей совместной борьбе.
* * *
В заключение — совсем печальная глава: Россия летом 1915 г.
Это было последнее мое свидание со страной, где я родился и вырос. Я провел там три месяца, был в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе. Уже всюду пахло концом. Армия была вытеснена из Галиции; немцы заняли Варшаву, несколько позже — Ригу. Но не в этом сказывался «конец», а в том безучастии, с которым все это принималось. Люди ресторанного образа жизни рассказывали: утром читаешь: "пал Белосток", — а вечером видишь очень веселых офицеров с очень мило одетыми барышнями в «Медведе», "Вилле Родэ", в «Аквариуме», притом всюду сквозь густой палисад запыленных бутылок. Роскошь сверкала такая, какой мы в России до тех пор не видели; и потоком лилась беззаботная, жизнерадостная болтовня Бог знает о чем — главным образом об удачах высокопоставленных каких-то селадонов у дам (и мужчин) великосветского круга; вообще сплошная грязевая ванна из больших имен придворной, денежной, писательской знати. Во дворце распоряжался Распутин, назначая, кому быть губернатором в Томске, кому командовать Южной армией, кому лечить царевича. Во внутренних покоях дворца пряталась от людей одинокая, уже и в то время трагическая семья, о странно мещанском быте и духе которой, вслух и без стеснения, судачила праздная публика рестораций. Из этих пересудов у слушателя получалась тяжелая картина. Маленький, задумчивый, симпатичный и глубоко недобрый эпигон десяти разноплеменных, но в равной степени выродившихся домов; немка-жена с душою, сотканной из прусского чванства и русской, Бог весть откуда взявшейся хлыстовщины; четыре бесцветные дочери, из которых, говорят, могли бы выйти хорошие девушки, если бы не та атмосфера некультурного медвежьего угла, в какой их держали; и хилый мальчик, у которого от малейшего укола уже не створаживалась водянистая кровь. Одинокая семья, от которой давно отвернулась великокняжеская родня ее, но внутри связанная слепой влюбленностью друг в друга и слепая ко всему внешнему миру, глухая перед грохотом надвигавшегося распада, при том еще гордая и довольная своей слепотой и глухотой. В Государственной Думе — с одной стороны черная сотня всех оттенков, которая после каждого нового удара на фронте выпячивала грудь и бодро поражала бусурман на карте указательным перстом; с другой — левые всех сортов, может быть, единственные в Петербурге, у кого действительно сердце болело в те дни, но и они утешали себя жалким утешением слабых, ежедневно повторяя: "Ведь мы вам это предсказывали".
А у евреев, как всегда в такое время, — мешанина из горя и надежды и истерической суетливости. На фронте бушевал ядовитый палач и наушник, русский патриот из поляков Янушкевич, вешая чуть не десятками еврейских «шпионов», выгоняя целые общины из городов и местечек; на каждой станции толпились голодные, ободранные, босоногие беженцы; мелькали образцы прекрасной солидарности: старики раввины, что отказались сесть в повозку и тащились пешком за сотни верст с толпою выселенцев; девушки, ждавшие ночи напролет на вокзале с тюками пищи и одежды, потому, что кто-то где-то сказал, будто должен прийти поезд с беженцами, неизвестно откуда, неведомо когда; миллионы крепких старых русских рублей на дело помощи, отданных с тем размахом широкой руки, которым гордилось когда-то русское еврейство. И рядом — миллионные доходы от военного барышничества, миллионное мотовство на жен своих и чужих; и поденное ожидание чего-то, что должно вот-вот произойти — не то землетрясение, не то светопреставление, только очень хорошее; и беспримерно яркая вспышка сионистских, почти мессианских мечтаний; и выкресты, и смешанные браки, и древнееврейская речь в каждом вагоне железной дороги, и повсюду нерешительный шепот, что пора бы взяться за подготовку самообороны…
Я все это видел со стороны. Русские коллеги в редакции московской газеты приняли меня как своего; но в сионистском Петербурге я наткнулся большей частью на замкнутые лица, а с главными вожаками и вообще не встретился. Я был отлучен, после двенадцати лет национальной работы вдруг оказался анафемой и отверженцем. В Одессе, родном моем городе, где еще недавно меня (право, не по заслугам) добрые люди на руках носили, теперь меня по субботам и главным праздникам обзывали предателем и погубителем в проповедях с амвона сионистской синагоги Явне. Кажется, один только смелый человек нашелся во всем взрослом поколении сионистов: И.А.Тривусь, с которым мы еще в 1903 году вместе организовали одесскую самооборону, первую в России, не побоялся и так-таки средь бела дня пришел повидаться. Он покачал головою и сказал мне:
— Никогда не следует спасать отечество без приглашения.
Не в обиду будь сказано, этот бойкот меня мало трогал; задело меня только одно обстоятельство, совсем уже непристойное. Старая мать моя, вытирая глаза, призналась мне, что к ней подошел на улице один из виднейших воротил русского сионизма, человек хороший, но с прочной репутацией великого моветона, и сказал в упор:
— Повесить надо вашего сына.
Глава 4. Против всех
— Контингент для Палестины? — говорили мне все серьезные люди. — Да кто думает о Палестине?
Во-вторых — сионисты. Организация наша в Англии была тогда еще гораздо меньше и бледнее, чем даже теперь; но война усилила ее серенький состав двумя первоклассными дирижерами из-за границы — Членовым и Соколовым. Оба были против легиона, и это определило общее отношение к моему плану еще до начала спора. К тому же и единственное идейное влияние, какое хоть немного чувствовалось в очень поверхностной атмосфере этого сионистского захолустья, было тоже для моего дела неблагоприятно: в Лондоне жил тогда Ахад-Гаам, и вокруг него образовался кружок поклонников. Некоторые из них и по сей день воюют против идей еврейского государства и даже еврейского большинства в Палестине.
Исключений было очень мало, именно поэтому мне хочется их перечислить. Джозеф Коуэн и д-р Идер поддержали меня с самого начала до самого конца. Собственно говоря, авторское право на мысль о еврейском контингенте принадлежит им: они еще с первого месяца войны пробовали начать агитацию за учреждение специального еврейского батальона, правда, не для Палестины. Конечно, из этой агитации ничего не вышло; и, конечно, авторитет их был слишком слаб в качестве противовеса таким именам, как Соколов, Членов и Ахад-Гаам.
Одного союзника нашел я в самом центре еврейской массы, в Уайтчэпеле: звали его А. Бейлин, писатель он был хороший, но общественного влияния никакого не имел.
Отдельно стоял X. Е. Вейцман. Еще в Париже он заявил себя сторонником легиона; в Лондоне мы сблизились еще больше. Месяца три мы даже вместе жили в маленькой квартире, в одном из переулков “богемского” Чельси, в двух шагах от Темзы. Он в то время еще только переселился из Манчестера, оставив университетскую кафедру для работы в правительственных лабораториях; он трудился над усовершенствованием своего химического открытия, которое потом сыграло крупную роль в удешевлении производства взрывчатых веществ, особенно кордита. Эта же работа, собственно, и свела его с тогдашним министром военного снабжения — Ллойд Джорджем. После восьми, иногда десяти, иногда двенадцати часов в лаборатории он еще как-то находил время каждый вечер шагом дальше двинуть свою политическую работу, вербуя новые связи, привлекая новых и влиятельных помощников. Мы в те месяцы подружились; надеюсь, и теперь не стали врагами — хотя политическая борьба нас далеко разрознила и вряд ли уж когда-либо снова сведет.
Он был сторонником моих планов: но честно признался мне, что не может и не хочет осложнять и затруднять свою собственную политическую задачу открытой поддержкой проекта, который формально осужден сионистским А. С. и чрезвычайно непопулярен у еврейской массы Лондона.
Однажды он сказал мне характерную для него фразу:
— Я не могу, как вы, работать в атмосфере, где все на меня злятся и все меня терпеть не могут. Это ежедневное трение испортило бы мне жизнь, отняло бы у меня всю охоту трудиться. Вы уж лучше предоставьте мне действовать на свой лад: придет время. когда я найду пути, как вам помочь по-своему.
Время такое пришло, он свое слово сдержал, и я это помню. Но тогда, осенью 1915 года и еще долго после того, его сочувствие ни в чем ни могло выразиться и не могло изменить общего тона обстановки, в которой я жил: раздраженная враждебность со всех сторон.
Третьим и худшим из неблагоприятных условий была сама еврейская молодежь. Ист-Энд жил, как всегда, в полное свое удовольствие. Его широкие тротуары, рестораны, чайные, кинематографы, театры каждый вечер наполнялись толпою здоровых, сытых, нарядных молодых людей. Особый остров внутри Англии, отделенный от нее другим еще более глубоким Ламаншем. Здесь я на первых порах не встретил даже вражды: встретил просто равнодушие. Если можно выразить коллективную душу в одной формуле, для них я бы взял знаменитые слова Столыпина: “так было, так будет”. Палестина? Жили без нее, “значит” — и дальше можно жить. Она давно уже не наша, “значит” — и дальше будет не наша. Еврейского полка нет, “значит” — и не будет. И, хоть и сидим мы спокойно по “чайным”, пока английская молодежь умирает в окопах, никто нас не трогает; “значит” — и впредь оставят нас в покое. Птичка Божия не знала ни заботы — ни Англии. Их не только нельзя было переубедить, — нельзя было даже смутить их беспечность, заставить их испугаться за собственный завтрашний день: раз сегодня тихо, “значит” — и завтра будет все по-старому. Этот вид импрессионизма, живущего исключительно опытом последней недели, — вообще застарелая болезнь гетто; но ни до того, ни после не довелось мне наблюдать ее в таких дозах.
В этом отношении Уайтчэпел был, вероятно, не хуже и не лучше эмигрантских кварталов любого иного города; но в уайтчэпельской атмосфере чувствовалось еще что-то — что-то неприятное, в чем другие эмигрантские гнезда неповинны. Американское гетто, сколько бы у него ни было недостатков, может все же по праву гордиться своим широким сердцем и щедрой рукой; у него есть традиция (или хоть иллюзия) некоторого идеалистического (или хотя бы только сентиментального) отношения к внешнему миру, к обоим полюсам внешнего мира — сердце их болит за еврейский народ, и они гордятся Америкой. Гетто Парижа в еврейском отношении пассивно, но в нем хоть есть подлинная и благодарная привязанность к Франции. Ист-Энд не любит и не ненавидит: у Ист-Энда вообще нет никакого отношения ни к каким внешним коллективам — ни к народам, ни к странам, ни к классам. Может быть, теперь это изменилось, но тогда это было так. Они сами говорили: какую угодно идею привезите в Уайтчэпел — скиснет, как молоко в духоте.
Исключения были, даже блестящие: но изволь искать иголку в Синайской пустыне.
Помню хорошее слово, полное меткого и горького юмора, что сказал мне один умный тамошний анархист о душе Уайтчэпеяя. Это было осенью 1916 года, когда Гросман и Трумпельдор уже прибыли в Лондон, и мы вместе пытались на публичных собраниях убедить еврейскую молодежь, что единственный достойный выход из создавшегося положения — легион; и молодежь отвечала нам шумом, бранью и скандалами.
— Мистер Ж., — сказал мне тот анархист после одного особенно бурного митинга, — долго вы еще собираетесь метать горох об стенку? Ничего вы в наших людях не понимаете. Вы им толкуете, что вот это они должны сделать “как евреи”, а вот это “как англичане”, а вот это “как люди”… Болтовня. Мы не евреи. Мы не англичане. Мы не люди. А кто мы? Портные.
Привожу это горькое слово только потому, что в конце концов Ист-Энд за себя постоял. Солдат он нам дал первосортных, смелых и выносливых; даже самая кличка “портной” — “шнейдер” постепенно потом приобрела во всех наших батальонах оттенок почетного прозвища, стала синонимом настоящего человека, который исполняет, что положено, не хныча и не хвастаясь, точно, сурово и спокойно. Где-то в последней глубине уайтчэпельской души все-таки нашлось un je ne sais quoi, скрытый родничок ответственности, забытое зерно самоуважения, и все это выступило наружу, когда подошла трудная минута испытаний и опасностей. В последнем счете тот анархист оказался неправ — как, вероятно, всегда и всюду неправы критики масс: в последнем счете. Но тогда, вначале, диагноз его подходил, как перчатка: у этой массы, не знаю по чьей вине (может быть, виноват был жесткий холодок их английского окружения), онемел тот именно нерв, который связывает единицу с суммой, с расой, краем, человечеством — и единственная связь с коллективом, еще кое как им, быть может, понятная, сводилась к их ремеслу: я купец, ты учитель, мы портные… Изумительнее всего при этом была их слепота ко всему, что творилось за воображаемой стеной, будто бы отделявшей их от остальной Англии. “Никто нас не трогает”… Но первые шаги мои в Лондоне ясно показали мне все симптомы недалекой бури — именно бури над Ист-Эндом. В каждой комнате военного министерства, в каждой лондонской редакции, от каждой кузины и тетки моей английской квартирной хозяйки в Челси — я слышал одну и ту же раздраженную жалобу: наши гибнут по сотне в час — а те молодчики ваши разгуливают с барышнями и играют на биллиарде. В печати уже начинали осторожно вентилировать вопрос о принудительном наборе — пока еще не для Уайтчэпеля, а только для собственных, английских домоседов. Только со сна можно было не разобрать, что скоро, очень скоро дойдет очередь и до безмятежных иностранцев. Но дремать приятно, и того, кто непрошеный пытается будить, люди терпеть не могут.
Таков был главный резервуар человеческого материала, на котором зиждились мои планы; и я был почти одинок; и сионисты меня отлучили от церкви; а Китченер говорит, что в Палестину идти не стоит и что никаких экзотических батальонов он не хочет…
Я не слеп. Все это я видел ясно, взвесил, проверил и подсчитал. Не скажу, чтобы итог мне дался без сомнений и колебаний. Напротив, много было сомнений и много минут уныния. Но итог все-таки получился твердый, и вот он, по пунктам.
Лорд Китченер ошибается: Англии придется воевать на Палестинском фронте.
Лорд Китченер еще в одном ошибся: еврейский легион — не экзотика, а неизбежность и необходимость для самой Англии. Правительство будет вынуждено его создать, потому что общественное мнение Англии заставит его мобилизовать Ист-Энд, — а еврейский контингент для Палестины есть единственная форма, в которой можно провести эту мобилизацию без мирового скандала.
Сионисты ошибаются. Легион и для них необходим — и еще придет время, когда они будут стоять на улицах Уайтчэпеля и рукоплескать его церемониальному маршу.
Уайтчэпель тоже ошибается: его “тронут”, и скоро. Единственный выход для его молодежи называется легион. Служить они пойдут — и еще спасибо скажут, что им хоть дана будет возможность биться за еврейское дело.
“Все ошибаются, ты один прав?” Не сомневаюсь, что у читателя сама собою напрашивается эта насмешливая фраза. На это принято отвечать извинительными оговорками на тему о том, что я, мол, вполне уважаю общественное мнение, считаюсь с ним, рад был идти на уступки… Все это не нужно, и все это неправда. Этак ни во что на свете верить нельзя, если только раз допустить сомнение, что, быть может, прав не ты, а твои противники. Так дело не делается. Правда на свете одна, и она вся у тебя; если ты в этом не уверен — сиди дома; а если уверен — не оглядывайся, и выйдет по-твоему.
Глава 5. Как делается политика
Долго и скучно было бы рассказывать все, что случилось за два года с моего второго приезда в Лондон до того дня в июле 1917 года, когда в официальной газете, наконец, появился приказ об учреждении "еврейского полка". Я запишу лишь несколько эпизодов: одни — в качестве этапов, определяющих характер всего пути, а другие — ради тех фигур, с которыми они познакомят читателя, так как иные из этих фигур сыграли потом заметную роль в нашем мирке. Есть у меня тут и другой умысел: в этой серии эпизодов содержится ответ на «ядовитый» вопрос, который так часто теперь слышится в сионистских собраниях. "Разве мыслимо, — вопрошают скептики, — заставить начальство сделать то, чего оно не хочет? И чем? Угрозами? Будете стучать кулаком по столу? Накричите на них?" Конечно, нет; все это гораздо проще. Если начальство не хочет, — не надо ни стучать, ни кричать, надо оставаться спокойным и вежливым, искать новых союзников и от времени до времени возобновлять свое домогательство: пока не окажется, что вы не только «заставили» начальство, но оно и само тому радо.
* * *
В зимний вечер, в самый разгар лондонской слякоти с полудождем и полуснегом на улице, кто-то стучится в мою дверь. Входит молодой человек, очень бедно одетый, и протягивает мне измятый, грязный клочок бумаги. Я узнаю почерк приятеля, который застрял в Яффе. Он пишет: "податель — Гарри Фирст. Можешь ему верить". Гарри Фирст говорит:
— Я прямо из Палестины. Тамошние рабочие мне поручили сказать вам, что они за ваш план и чтобы вы не дали себя запугать никакими страхами за судьбу палестинских колоний. Это — первое. А второе: я к вашим услугам. Я говорю на идиш и по-английски; член рабочей партии и знаю Уайтчепл. Чем могу служить?
— Поселитесь в Ист-Энде и займитесь тамошней молодежью, — говорю я. Он встает и уходит.
И с тех пор два года подряд Гарри Фирст вел нашу агитацию в Ист-Энде, в мастерских, в чайных, в комитете своей партии, на собраниях. Одного за другим находил он отдельных сторонников, знакомил меня с ними, а потом шел дальше работать. Он стал одной из популярных фигур Уайтчепла: его и любили и терпеть не могли. За что терпеть не могли — понятно; а любили за то, что и противникам импонировало его спокойное, учтивое упрямство и его благородная бедность. Потом он поступил в легион тихо и по-хорошему отслужить свои два года в Палестине, не добивался никаких послаблений и повышений; а после демобилизации исчез, не напоминая о себе, не требуя ничьей благодарности, и я не знаю, где он и что с ним. Может быть, кто-нибудь покажет ему эти строки: шалом, Гарри Фирст, один из тех "безыменных солдат", которые делают историю, — а честь оставляют именитым.
* * *
Есть в Лондоне короткая, широкая улица Уайтхолл: в ней сосредоточено управление королевством и половиной земного шара. В нее впадает и переулок, именуемый Даунинг-стрит: здесь дворец и канцелярия премьера, министерство иностранных дел, министерство колоний. Здесь, кроме того, с первых месяцев войны учрежден был особый департамент пропаганды; но я об этом не знал.
Однажды адмиралтейство пригласило иностранных корреспондентов съездить в Розайт (военная гавань в Шотландии) — посмотреть британский флот. Сопровождал нас, между прочим, английский журналист Мастерман. Мы разговорились; об александрийском отряде он что-то слышал, и я рассказал ему о своих замыслах. Он заметил:
— Меня теперь все на свете занимает с точки зрения пропаганды. Ваш проект — великолепный материал для пропаганды. Хотите повидаться с лордом Ньютоном? — Кто это?
— Министр пропаганды. Вы мне дайте материал, я составлю докладную записку для лорда Ньютона, и он вас вызовет.
Не скоро дела делаются в Англии; но через несколько месяцев я, побрившись старательнее обыкновенного, взобрался на верхушку омнибуса и поехал в Уайтхолл на свидание с лордом Ньютоном.
— Мысль, пожалуй, и хорошая, — сказал он, выслушав меня, — и, конечно, я слышал о еврейском батальоне в Галлиполи; но — при чем тут мой департамент?
— Один вопрос: дорожите ли вы отношением еврейства нейтральных стран?
— Да, — сказал он с некоторым колебанием, — только должен, к сожалению, признаться, что мы этим отношением недовольны. Мне еженедельно представляют выдержки из еврейской печати в Америке… ничего не понимаю. Разве наша это вина, что русский режим — как бы это сказать — носит на себе отпечаток некоторой отсталости?
— Лорд Ньютон, дело совсем не в том, чья вина. Суть дела в факте. Вот основной факт: победа союзников, вероятно, укрепит этот самый русский режим лет еще на двадцать. Устранить этот факт Англия не может, с этим я согласен. Англия может только создать ему противовес. — Как?
— Есть на свете одна только вещь, которую евреи любят еще больше, чем они ненавидят русский режим: эта вещь — Палестина. Только ради большой любви может масса закрыть глаза на большую ненависть: другого пути нет.
— Что же вы предлагаете? Издать манифест от имени английского правительства с выражением благоволения к сионизму?
— Это было бы желательно в высшей степени; но я думаю, что американские евреи сказали бы на это: очень приятно, только ведь манифест — бумага, а где факты? Видите ли, вся эта война началась с того, что пущено было в ход ядовитое слово — "клочок бумаги". Слово это получило огромную и нездоровую популярность, и никто больше манифестам не верит. Тем более, что русский режим состоит не из манифестов, а из фактов. Поэтому и противовес должен состоять не из одной бумаги.
— Какие тут возможны факты? Нельзя же отдать Палестину, когда она еще не завоевана… И вообще — вы, конечно, понимаете, я весь этот вопрос обсуждаю пока только в теории…
— Единственным логическим фактом было бы учреждение еврейского контингента, предназначенного для участия в завоевании Палестины.
— Позвольте, ведь никто еще не знает, пойдем ли мы на Палестину; в военном министерстве считают, что не пойдем.
— Военный контингент ведь не то, что древо пророка Ионы, — ответил я. (С англичанами можно говорить цитатами из Ветхого Завета: они его знают.)
— За одну ночь его не вырастишь. Если полк понадобится только через год — значит, надо начинать сегодня. А тем временем переменится и мнение военного министерства. Мы ведь знаем, что далеко не все авторитеты согласны с лордом Китченером…
— "Не разглашайте на стогнах Гата", — ответил он тоже ветхозаветной цитатой. — Во всяком случае, я все это еще обдумаю, переговорю с коллегами…
* * *
…Мистер Джозеф Кинг, депутат либеральной партии, сделал запрос в палате общин: известно ли министру такому-то, что "русский журналист" такой-то ведет в Уайтчепле пропаганду с целью создания еврейского военного контингента, и имеет ли оный журналист на то от правительства какие-либо полномочия?
Я ему написал: "Сэр, прежде, чем нападать на человека, надо бы вам его выслушать".
Мы встретились в либеральном клубе, который тогда, в середине 1916 года, еще не был реквизирован правительством. Войдя в вестибюль, я увидел, что м-р Кинг разговаривал с невысоким господином вида худощавого, но не великобританского: желтоватое, почти изможденное лицо, несколько желчное. Барышня с историкофилологическим образованием сказала бы: "напоминает Торквемаду"; барышня с образованием литературным сказала бы: "нечто мефистофельское". М-р Кинг, увидя меня, кивнул головой и показал на кресло; его собеседник нервно дернул бороденкой и посмотрел в сторону. Потом они простились, тот ушел, а м-р Кинг повел меня в угол к дивану.
— Ист-эндские друзья мои, — сказал он, — горько жаловались мне на вас. Говорят они вот что: и без того идет уже, в печати и просто на улице, травля иностранцев в штатской одежде, — а тут еще вы подливаете масло в огонь.
— М-р Кинг, скажите правду: а если я исчезну — «травля» прекратится?
— К сожалению, вряд ли. Я и сам не могу не видеть, что массам трудно это переварить: как же так, здоровая молодежь, выросла с нами, и тем не менее…
— Хорошо. Теперь допустим, м-р Кинг, что мой план никуда не годится и что я к вам лично обращаюсь с просьбой: будьте добры, дайте совет. Где выход? Не служить до конца? Глядеть, сложа руки, как нарастает в Англии расовая ненависть в самой отравленной форме — ненависть людей, которых посылают на смерть, против людей, которым дозволено жить?
— Должен признаться, — сказал он, — что я отчасти это все уже излагал моим ист-эндским приятелям. Я им говорил, что лучше всего было бы, если бы значительное количество иностранных евреев сразу пошло волонтерами в армию, наравне с нашей молодежью…
— Позвольте не согласиться. Ваше требование, м-р Кинг, совершенно несправедливо. — Почему несправедливо?
— Потому что нет решительно никаких оснований требовать от них службы "наравне с вашей молодежью". Ваша молодежь — англичане; если Англия победит — их народ спасен. Наши — другое дело: если Англия победит, то шесть миллионов их братьев останутся в том же самом аду, что и теперь. Не может быть речи об одинаковой жертве там, где нет одинаковой надежды. — Мгм. Ну — а вы что предлагаете? — Компромисс. По сраведливости Англия может требовать от иностранного еврея только двух вещей. Во-первых, принять участие в защите самой территории Англии, т. е. этого острова, где он пользуется гостеприимством: по-вашему — "home defence". Во-вторых, биться за освобождение Палестины, потому что это «дом» его племени: по-нашему — «heim». "Home and Heim": в этом заключается моя военная программа для ваших ист-эндских друзей.
Он подумал и вдруг сказал:
— Вы мечтатель.
Зал, где мы с ним сидели, был весь увешан портретами покойников, бывших когда-то членами этого самого либерального клуба. Я указал на них:
— Все мечтатели.
— Я подумаю, — сказал он мне в заключение, — и переговорю с товарищами-депутатами. Вот не знаю только, стоит ли говорить об этом с моими уайтчеплскими друзьями?
— Это зависит, — ответил я, — от того, кто они такие.
— Одного, самого, пожалуй, важного, вы уже видели: это — тот худощавый джентльмен, с которым я давеча беседовал в приемной. Сам он не еврей, и ему военная служба не грозит — он уже давно в «опасном» возрасте, а это теперь самый безопасный возраст. Но он очень интересуется этим вопросом. Он русский эмигрант, по имени мистер Чичерин. Хотите с ним познакомиться? — Нет, — сказал я.
— Замечательно, — отозвался м-р Кинг, — я задал ему тот же самый вопрос о вас, и он дал мне тот же самый ответ. Очень странно, до чего россияне иногда друг друга терпеть не могут. Мне минутами казалось, что, если бы мистер Чичерин имел на то власть, он бы с удовольствием посадил вас за решетку, а теперь мне кажется, что чувство это взаимное.
— Вполне, — подтвердил я от всего сердца. Правда, я тогда мало знал о будущем советском комиссаре по иностранным делам — он, кажется, не принадлежал к кругу эмигрантских знаменитостей; во всяком случае, среди моих знакомых, если и упоминали о нем, то с прибавкой: "знаете, — племянник того Чичерина Бориса". Но то немногое, что я о нем знал, мне не нравилось: мистер Чичерин был одним из подстрекателей уайтчеплской агитации против всякой формы участия в войне. А насчет решетки — потом оказалось, что м-р Кинг и вправду напророчил; только не мне.
…Письмо с лондонским штемпелем на марке: "Прибыл из Галлиполи — эвакуирован как раненый. Нахожусь в доме для выздоравливающих, улица Довер-стрит, номер такой-то. — Подписано: Дж. Г. Патерсон".
Полковника Патерсона я еще тогда (летом 1916-го года) лично не видел: он явился к нашим добровольцам в Александрии уже после того, как я уехал из Египта в Бриндизи на свидание с Гутенбергом. Но слышал я о Патерсоне много. Протестант, но ирландец по происхождению. По профессии был он прежде инженером. В 1896 году его послали строить мост на реке Тсаво или Саво, где-то в Африке, недалеко от «нашей» Уганды. С этой постройки и пошла его слава: именно «слава» — есть особый круг людей, в котором Патерсон считается крупной знаменитостью. Это англо-американский круг охотников за "крупной дичью". Патерсон признанный и бесспорный авторитет среди охотников за львами. На реке Саво были у него только чернокожие рабочие, несколько сот, из племени суахили; он был там единственный белый и единственный человек, умеющий обращаться с ружьем. Случилось так, что в округе появилась шайка львов, из самого неприятного сорта — таких называют у охотников «людоедами», потому что они, раз отведав человеческого мяса, потом уже пренебрегают всяким другим лакомством. Ночь за ночью эти львы устраивали набеги на рабочий лагерь, спокойно выбирали жертву и уносили ее в гущу экваториального леса. Патерсону пришлось вмешаться: с великим трепетом, как он рассказывает в своей книге "Людоеды на р. Саво", но с серьезным успехом. До сих пор в его домике, в мирном Букингамшире, хранятся те трофеи: восемь темно-рыжих львиных шкур и длинная рукопись — поэма на языке суахили, преподнесенная ему благодарными рабочими. На моем экземпляре его книги «Людоеды» изображено: "26-е издание". Есть англичане, которые, когда уезжают в далекое путешествие, берут с собой в дорогу только два томика: Библию и "Людоедов на р. Саво". Через эту книгу Патерсон подружился с другим знаменитым охотником за львами — Теодором Рузвельтом, и несколько раз был его гостем в Америке.
Вскоре после этого случая на р. Саво разразилась англо-бурская война. Патерсон поступил подпоручиком в британскую кавалерию, проделал всю затяжную войну и вышел в отставку с чином подполковника. После этого он жил в Индии, объездил полсвета, пережил несколько бурных эпизодов, о которых по сей день ходят по лондонским клубам легенды, создавая Патерсону друзей и врагов, — жил жизнью, которая в передаче звучала бы, как роман, и притом не из нашего прозаического столетия. «Букканер» — называет его бывший его приятель генерал Алленби: так звали двести лет тому назад и больше тех удальцов, что сломили власть Испании на островах Карибского моря и помогли — может быть, против собственной воли — превращению Атлантического океана в английское озеро. А в конце этой красочной карьеры стал он предводителем Zion Mule Corps в Галлиполи, потом командиром одного из еврейских батальонов в Палестине, и не услышал за то пока спасибо ни от евреев, ни от христиан. Но он говорит, что не жалеет.
Я разыскал его в той санатории для выздоравливающих. Высокий, тонкий, стройный человек с умными и веселыми глазами: воплощение того, что англичане полуворчливо, полувосхищенно называют "ирландским charm-ом", но без единой капли другого отличительного признака ирландской психологии: уныния, рефлексии, болезненной охоты углубляться в самого себя — всего, что мешает ирландцам жить по-настоящему, не в меньшей мере мешает, чем русским. У Патерсона этой самоотравы нет. Зато есть у него изумительное знание Ветхого Завета. Гидеон и Самсон для него — живые образы, приятели, чуть ли не члены его же кавалерийского клуба на Пиккадилли. К счастью для нас, они до сих пор заслоняют в его глазах подлинное нынешнее еврейское обличье… — Что слышно в Галлиполи? — Провал. — А наши еврейские солдаты?
— Великолепны. Первый сорт.
— Трумпельдор?
— Храбрейший человек, какого я в жизни видел. Он теперь командир нашего отряда.
(По письмам из Галлиполи я знаю, что далеко не гладко и не легко наладились у него отношения с нашими солдатами и со святым упрямцем Трумпельдором; но ирландский темперамент не замечает мелочей. "Великолепные солдаты!")
— А что слышно здесь? — спрашивает он.
— Лорд Китченер не хочет — ни кампании в Палестине, ни еврейского корпуса. — Жизнь сильнее лорда Китченера. — А вы мне поможете? — Едем.
И он везет меня в Вестминстер. В огромном вестибюле между флигелями обеих палат он пишет что-то на зеленой карточке и отдает служителю. Через пять минут со стороны палаты общин появляется человек невысокого роста, в хаки, с красной фуражкой генерального штаба на голове. Говорит он спокойно, коротко, несколько сухо; впечатление очень толкового человека: говорит только о том, что знает, и всегда знает, чего хочет, — а хочет он, может быть, и таких вещей, для которых наступит время только через много, много лет. Пока англичане, у которых великая слабость к долговязым типам, и сегодня еще говорят о нем: "до премьера ему не хватает только нескольких дюймов". Правда, он ростом еще ниже Ллойд Джорджа; но я не поручусь, что эта помеха окажется действительной до конца. В конце концов, через несколько дюймов не так трудно перешагнуть. Тогда он был простым «эм-пи», то есть членом палаты общин; теперь он министр колоний британской империи.
— Капитан Эмери, — представляет Патерсон. — Он уже знает о наших проектах; но расскажите ему подробности.
Я рассказываю подробности…Через полгода Эмери становится одной из главных фигур в знаменитом «секретариате» Ллойд Джорджа ("детский сад", острят о нем политики старшего поколения, сокрушаясь о молодости членов этой всемогущей динамо-машины). Мистер Кинг, автор парламентского запроса о причинах и пружинах моей агитации, давно — еще с того завтрака в национально-либеральном клубе — переложил гнев на милость и свел меня с целым рядом депутатов: либералов, унионистов, трудовиков, ирландцев. А в министерстве пропаганды, после беседы с лордом Ньютоном, все растет толстая папка с докладами, письмами, газетными вырезками, озаглавленная: "Еврейский легион", с пометкой: «Важно».
* * *
Новая фигура появилась на арене спора о Уайтчепле и воинской повинности: Герберт Сэмюэл.
Газетная травля против иностранных евреев усиливалась с каждым днем; богачи из ассимиляторского круга, во главе с майором Лайонелом Ротшильдом, обнародовали воззвание к населению Ист-Энда. Там сказано было все, что в таких случаях полагается: Англия вам оказала гостеприимство, исполните свой долг и пр. Первым подписался под воззванием лорд Суэтлинг: мне объяснили, что это страшно важная фигура — смущенно признаюсь, что я до того дня и не подозревал о его существовании. Воззвание не дало армии ни одного рекрута. в этот момент и нашел нужным выступить на арену Герберт Сэмюэл, в то время уже министр внутренних дел: он издал официальное сообщение, где было сказано, что, если русскоподданные евреи в такой-то срок не запишутся добровольно в британские войска, их вышлют обратно в Россию.
Странный это недочет у г. Сэмюэла, при всем его уме: он органический доктринер, он видит вещи не глазами, а через какое-то свое собственное представление о них; видит не того реального человека, которого Бог создал, но сам конструирует человека абстрактно, притом не иначе, как по образу и подобию своему, т. е. Герберта Сэмюэла. Нарисовав пред собою такой образ, он и предъявляет ему свои требования и преподносит ему свои доводы — с успехом, который легко представить себе заранее. Позже, когда он стал верховным комиссаром Палестины, эта черта его причинила немало вреда и нам, и арабам, и доброму имени Англии. То же самое произошло и тогда в Лондоне, летом 1916 года. Он себе «представлял», что Уайтчепл, прочитав его угрозу, кинется поголовно записываться в солдаты; в то же время он «представлял» себе, что на нееврейские круги Англии такой жест министра-еврея окажет прекрасное действие и ослабит травлю. Результат оказался как раз обратным, притом с обеих сторон. В английском обществе его угроза произвела впечатление тяжелое и неприятное; в палате лордов один из наиболее уважаемых либеральных ее членов, если не ошибаюсь, лорд Пармор, возмущенно заявил: "будь я евреем, я бы раньше дал отрубить себе правую руку, чем выдал бы хоть одного из моих братьев по крови в руки вешателей и погромщиков".
А Уайтчепл просто взял да не испугался. Опять-таки армия не получила ни одного рекрута. В интересах справедливости должен отметить: Лайонел Ротшильд признался мне впоследствии, что гениальная мысль об угрозе была подсказана министру им. Но ведь дело не в том, кто первый выдумал нелепую затею, а в том, кто взялся проводить ее в жизнь.
К тому времени с помощью Гарри Фирста уже образовался вокруг меня небольшой кружок уайтчеплеких сторонников. Мы посоветовались и пришли к выводу, что конфузный инцидент с Сэмюэлом можно и нужно использовать в интересах нашей агитации.
В Лондоне было тогда человек шесть корреспондентов передовой русской печати. Встречались мы между собою редко, но поддерживали добрые отношения. Я по телефону немного прозондировал почву, с двумя из них повидался лично — и в результате через несколько дней у меня в Челси созвано было совещание русских корреспондентов; были тут и евреи, и христиане. Решили от общего имени отправить военному министру лорду Дарби телеграмму с указанием на то, что угроза Герберта Сэмюэла, втянув, так сказать, Россию во внутренний британский вопрос, создала для нас чрезвычайно щекотливое положение, а потому мы просим у министра свидания.
Лорд Дарби поступил как человек осторожный и практический: кто заварил кашу, пусть и расхлебывает. Он передал нашу телеграмму министру внутренних дел, и ответ мы получили от г. Сэмюэла: приглашение на беседу с ним.
Прием состоялся в одной из боковых зал палаты общин. Сэмюэл придал этому свиданию совсем торжественный характер: явился со свитой из четырех секретарей, сам сел во главе стола, секретари за ним, мы, журналисты, по обе стороны стола; каждый говорящий, включая и самого Сэмюэла, говорил стоя. В то время русская печать еще была силой — по крайней мере, за границей…
От нашего имени доложено было министру вот что: его угроза по адресу уайтчеплских евреев, которых передовое общественное мнение России склонно рассматривать как эмигрантов политических, грозит подорвать весь смысл нашей работы. Газеты, здесь представленные (насколько помню, это были "Русские Ведомости", "Русское Слово", «Речь», "Современное Слово", "Биржевые Ведомости" и "Киевская Мысль") обслуживают, приблизительно, три четверти всей читающей публики в России. Передовое общество у нас дорожит нынешним сближением между Англией и Россией не только в интересах войны, но, главным образом, потому, что надеется на доброе влияние английского либерализма на политические условия России; и мы, лондонские корреспонденты, всегда стараемся подчеркивать именно эту надежду. Но последний жест министра внутренних дел произведет в России как раз обратное впечатление — там скажут, что политическое влияние идет, по-видимому, из Петербурга в Лондон, а не наоборот. А это очень вредно для единодушия в России, и мы считаем своим долгом обратить внимание правительства на эту опасность.
— Джентльмены, — ответил Сэмюэл, — я понимаю вашу точку зрения. Но и вы должны понять наше положение. Коренное население глубоко возмущено равнодушным отношением иммигрантов к нашей национальной беде. Это может привести к взрыву антисемитских настроений. Выход из этого положения надо найти во что бы то ни стало — так, как оно есть, оно оставаться не может. Что же делать?
И он обратился ко мне (я до тех пор молчал). О моей агитации он знал еще с того дня, когда д-р Гастер объяснил ему, что я просто болтун; но мы еще ни разу до того не встречались. Он спросил: — Ваше мнение, например?
— Сэр, — ответил я, — здесь я нахожусь в качестве члена группы русских журналистов и не имею права высказывать свои личные мнения. Но в одном мы уверены все: угрозы не создают волонтеров. Для вербовки добровольцев надо опираться на лучшие и высшие чувства массы, а не на страх. Когда вы вербуете англичан, вы взываете к их английскому патриотизму. Попробуйте сделать то же самое с Уайтчеплом. Только при этом надо будет помнить, что английского патриотизма они еще в себе не выработали, русского никогда не имели — скорее напротив. Значит, надо попытаться установить, в чем заключается их собственный и естественный патриотизм. Это все.
— А если бы мы нашли такой путь, кто бы взял на себя вербовку?
Я ничего не мог ответить. Предложить свои услуги тут же, в собрании, я не имел права — далеко не все из моих коллег были сторонниками моих планов. Сэмюэл тоже не предложил мне взять дело на себя. Так и разошлись мы, строго говоря, ни с чем. Тем не менее, эта беседа имела два серьезных последствия. Во-первых, угроза ссылкой в Россию сошла со сцены, и больше о ней не упоминали. Во-вторых, беседа убедила и самого Сэмюэла, и через него весь кабинет в той простой истине, на которой я и строил с самого начала свою веру в успех: что нет разрешения для "ист-эндского вопроса" вне попытки апеллировать к собственному патриотизму бездомного еврея.
* * *
Еще одно неожиданное наблюдение сделал я за эти месяцы — настолько важное, что и теперь оно мне часто полезно: я поразился, насколько ничтожно политическое влияние еврея-ассимилятора, хотя бы знатного и богатого, в делах еврейской Weltpolitik. Совершенно инстинктивно, его собственное правительство считается в этих вопросах только с евреем националистического толка, хотя бы сам по себе он был еще никому неизвестным приезжим. X. Е. Вейцман доказал это блестяще; и мой собственный опыт подтвердил мне ту же истину.
Когда я поселился в Лондоне, со всех сторон мне говорили: "без содействия здешних нотаблей правительство и говорить с вами не станет. Прежде всего заручитесь согласием нотаблей". Я послушно попытался. Они не только не дали своего согласия — напротив, они открыто предупредили меня, что будут мешать. Тогда мне пришлось самому пойти стучаться в двери правительственных учреждений — и оказалась, что успех или неуспех меньше всего зависел от настроения «нотаблей». За все время моих переговоров не помню ни одного случая, когда бы некто власть имущий спросил меня: а как смотрит на это сэр Айзек такой-то? Я это объясняю, конечно, не тем, чтобы нотабли все были плохи, а мы, приезжие националисты, хороши. Объяснение гораздо проще. Ассимилятору нечего «предъявить»: он раз навсегда отождествил себя с местным населением; его лояльность раз навсегда обеспечена — и совершенно понятно, что в серьезные минуты правительство смотрит на него, как на очень почтенное, но совершенно бесплатное приложение к британской или французской нации. В ином положении находится националист: еврейские симпатии, которые он предлагает завербовать, не есть бесплатное приложение. Правительство может ими дорожить или нет, это его дело; но получить эти симпатии можно только на определенных условиях. Поэтому ассимилятору ласково улыбаются, а с националистом ведут переговоры.
Двери же канцелярий Уайтхолла открыл мне, как я уже писал, тот самый всеми остряками в Израиле осмеянный "ослиный батальон" из Александрии. Министерство иностранных дел в Петербурге написало о нем графу Бенкендорфу, русскому послу в Лондоне; из русского посольства посылались о нем рапорты в Форейн-Оффис; старший советник посольства, К.Д. Набоков, впоследствии заместитель посла (ныне покойный), устраивал мне свидания с британскими министрами, с американским послом мистером Пейджем, с французским послом Р. Камбоном — и все это только потому, что Трумпельдор и 600 погонщиков мулов провели восемь месяцев под огнем в Галлиполи.
А в министерстве иностранных дел, во главе департамента Востока, т. е. именно того отдела, в котором сосредоточивались все вопросы о Палестине, стоял уже в то время тот заслуженный друг сионистского дела, которому и X. Е. Вейцман, и основатели легиона так многим обязаны: сэр Рональд Грэхем, ныне британский посол в Риме. Но и для Грэхема первой школой сионизма был тот момент, когда он еще назывался просто м-р Грэхем, был «советником» при министерстве внутренних дел в Египте и когда к нему явилась скромная делегация хлопотать об устройстве особого отряда из палестинских беженцев в Александрии.
Глава 6. Между казармой и кабинетом министра
К осени 1916 года было уже ясно, что Ист-Энду придется пойти служить, если только еврейское общество хочет избежать скандала, который навеки похоронит доброе имя еврейства в Англии. Для англичан уже введена была конскрипция.[3] Десятки молодых людей из Уайтчепла, мне совсем незнакомых, приходили ко мне в Челси и спрашивали:
— Что делать? Есть ли хоть какая-нибудь надежда, что правительство согласится образовать полк для Палестины?
Но правительство все еще не соглашалось. Китченера уже не было (он погиб 5-го июня 1916 года), но дух его все еще господствовал в военном министерстве, и в генеральном штабе все еще преобладали противники наступления на востоке.
Опять я устроил совещание с немногими друзьями нашего дела. Мы решили, что теперь настало время для новой, совсем уже гласной, попытки поставить и правительство, и общественное мнение лицом к лицу с совершившимся массовым фактом. План наш сводился к тому, чтобы собрать тысячу или больше подписей под заявлением следующего содержания:
"Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю: если будет учрежден еврейский полк, предназначенный исключительно для двух целей, а именно:
1) охрана самой Англии,
2) операции на палестинском фронте,
— я обязуюсь добровольно вступить в такой полк".
Лозунгом нашей кампании решено было сделав два слова: "Home and Heim". Если наберется достаточно подписей, мы подадим правительству соответствующую петицию. Вся работа должна быть проведена на частные средства (их предоставил нам Джозеф Коуэн). Я телеграфировал в Копенгаген М.И.Гроссману: «приезжайте». Он ответил: «еду». Но еще за день до его приезда мы выпустили первый номер ежедневной газеты на идиш, не только под его редакцией, но даже с передовицей за его подписью (я сам ее сочинил, но Бейлин, прекрасный стилист на этом языке, тщательно выправил мой слог, чтобы не посрамить пуриста Гроссмана). Газета называлась "Наша Трибуна". Главными сотрудниками были Бейлин, Пинский и Кайзер — первые двое уже обладали некоторой известностью как писатели на обоих еврейских языках, а третий, хотя почти новичок, оказался очень остроумным фельетонистом. Техническую сторону кампании взяли к себя Гарри Фирст и молодой инженер из России И. Я. Аршавский: он как-то пришел в одно из наши; собраний просто послушать и тут же обратился в нашу веру, и с того дня отдал в наше распоряжении не только свои недюжинные организаторские способности, но и свои широкие плечи и плотные мускулы. И то и другое понадобилось… С ними работало еще до десяти человек молодежи.
Гроссман приехал, а через несколько дней неожиданно прибыл и Трумпельдор. Все его старания добиться на месте, в Александрии, второго издания Zion Mule Corps ни к чему не привели: отряд был демобилизован.
Через два дня после того, как на улицах Ист-Энда, Сого, Стэмфорд-Хилла и других отрезков лондонского гетто появилось наше воззвание, Герберт Сэмюэл вызвал меня к себе в министерство внутренних дел.
— Мы все вам очень признательны за эту инициативу, — сказал он. — Может ли министерство в чем-нибудь вам помочь?
— Только в одном, — ответил я, — дайте нам официальное заявление, что если мы соберем тысячу подписей, правительство санкционирует учреждение полка для "Home and Heim." Если вы это сделаете, я ручаюсь за успех. Если не сделаете — не скрою своих опасений: недоброжелатели скажут, что вся наша затея — подвох, что мы просто хотим выловить для правительства имена еврейских волонтеров, а тут их и схватят, разошлют по английским батальонам и отправят на бойню во Фландрию. Это, конечно, сильно помешает нашей работе.
— Такого заявления дать я вам не могу, — возразил Сэмюэл. — Это не от меня зависит; на это нужно решение всего кабинета. И вы знаете, что еврейское общество — особенно сионисты — настроены резко против этого проекта.
— Столь же резко настроены мои друзья и я против мысли о том, чтобы молодежь Ист-Энда пошла на службу в чужие полки воевать за чужое дело.
Он развел руками, помолчал и спросил: — Не могу ли я быть вам полезным в какой-нибудь другой форме?
Я поблагодарил и отказался. Искренно признаюсь, что я потом горько жалел об этом гордом, но непрактичном ответе. Слишком сильна оказалась во мне старая закваска российского радикализма, привычка смотреть на «начальство», как на нечто нечистое, от чего порядочному человеку не подобает принимать какую бы то ни было помощь. Я забыл, что в Англии такое отношение к власти неуместно и нелепо. Одну форму помощи я должен был от него принять и даже потребовать: обеспечение порядка на наших публичных митингах.
Ровно месяц продолжалась наша кампания: полный провал. Мы собрали всего около трехсот подписей, — и жизнь Ист-Энда в эти недели превратилась в непрерывный скандал. Правда, на первом митинге нашем было тихо: у противников еще было подозрение, что где-то за кулисами мы припрятали полицию, как это делалось при вербовке в английской среде. Но ко второму собранию они уже открыли всю глубину и всю наивность нашего благородства — и принесли с собою не только свистки, но и запасы картошки, — в качестве метательных снарядов. Как всегда, скандалисты были в сущности небольшою группой — говорят, всего человек тридцать; но они хорошо сорганизовались. Мы их встречали повсюду, от Майл-Энда на востоке до Ноттинг-Хилла на западе. Тридцать крикунов — огромная сила, когда противная сторона полицию вызвать не хочет, а сама заняться избиением (количественно мы бы могли уже и тогда провести эту операцию с полным успехом) не решается, чтобы не подорвать морального престижа своей пропаганды. Мы созывали все новые и новые собрания, издавали свою газету ("сам" г. Чичерин признал в какой-то корреспонденции, которая была напечатана в Париже, что в литературном отношении газета редактировалась хорошо), но результат, в сущности, обнаружился уже с первой недели: провал.
Из всех воспоминаний моей жизни этот месяц, вероятно, самое тяжелое — хочется даже сказать: отвратительное. Но справедливость требует признать, что во всем этом меньше всего, может быть, виновата была сама подлинная уайтчеплская масса. Она в подавляющем большинстве искренно хотела нас выслушать. Все, кто посерьезнее, и старые и молодые, уже тогда понимали, что создалось положение, из которого нужно найти выход положительный, что отыграться вничью тут уже немыслимо. Но как могли они верить в то, что путь, предлагавшийся нами, есть путь возможный? Со многих сторон, особенно же со стороны официально-сионистской (жалею, что приходится это сказать, но должен), им нашептывали на ухо, что мы только дурачим и себя и публику, что правительство никогда ни за что не согласится на особый полк и что вся затея, — как я и предупреждал Сэмюэла, — кончится подвохом. Со стороны правительства план наш явно не имел никакой поддержки. Ясно, что на такой почве подозрительности и сомнений уже не трудно было шайке хулиганов создать настроение паники, запугивать каждого, кто пытался серьезно вдуматься в наши проекты, что он предатель, что он помогает заманить своих братьев "не в Палестину, а в Верден".
Надо и то признать, однако, что у этого маленького хора оказался первоклассный дирижер: рука, незримо для нас размахивавшая палочкой, принадлежала тому самому приятелю м-ра Кинга, м-ру Чичерину.
Продержавшись четыре недели, мы решили прекратить кампанию и закрыть газету. Гроссман уехал обратно в Копенгаген. А я дал себе святой зарок: в следующий раз (ибо мы еще увидимся) кампания наша будет проведена в образцовом порядке, во сколько бы это ни обошлось разбитых голов, — и м-р Чичерин будет тогда сидеть спокойно и не вмешиваться в наши дела.
* * *
И ровно через месяц после этого, кажется, величайшего изо всех моих провалов, вдруг сам собою выстроился тот краеугольный камень, на котором суждено было впоследствии укрепиться еврейскому легиону.
Трумпельдор, поселившийся неподалеку от меня в Челси, пришел ко мне однажды утром и показал записку: "мы вчера приехали, находимся в казармах по такой-то улице. Нас 120 человек. Приходите. Нисель Розенберг". — Кто такой Нисель Розенберг? — А вы его не помните из Габбари? Он был там один из лучших работников, а у меня в отряде — один из лучших сержантов.
Эти сто двадцать бывших солдат александрийского отряда опять записались в армию. Из Александрии их доставили в Лондон. Ехали они с приключениями, где-то близ Крита напоролись на мину и спаслись вплавь, но доехали. Когда мы к ним пришли, оказалось, что у них одна главная забота: определят ли их всех в один и тот же батальон или разбросают по разным лагерям. Непосредственное начальство в той казарме, сразу невзлюбившее экзотическую компанию, напугало их предсказанием, что несомненно разбросают.
— Надо взять за бока Патерсона, чтобы он взял за бока Эмери, — сказал Трумпельдор.
Патерсон к тому времени командовал базой ирландского полка в Портобелло-Барракс, в Дублине; капитан Эмери имел уже свой кабинет в секретариате у Ллойд Джорджа. Обоих "взяли за бока", и через два дня получилось сообщение, что все александрийцы, за исключением тех, которые при медицинской проверке окажутся негодными для строевой службы, будут скопом отправлены в 20-й Лондонский батальон, лагерная база которого находится под Винчестером; и больше того — там из них будет образована особая рота.
Эмери сказал, как всегда глядя в пол и скупо цедя слова и как всегда к делу:
— Это, пожалуй, и есть то ядро, которого нам недоставало. Теперь надо только уметь использовать этот факт. Настроение в пользу вашего плана имеется и в правительстве, и в обществе. Смотрите, чтобы ядро оказалось прочным. Все, пожалуй, зависит от этого. Он был прав: настроение к тому времени уже явно клонило в сторону нашего проекта. Уже несколько месяцев шла канцелярская переписка о еврейском легионе между военным министерством, министерством иностранных дел, секретариатом Ллойд Джорджа, русским посольством; и почти всю переписку эту ведали убежденные друзья нашего дела: капитан Эмери, сэр Рональд Грэхем, К. Д. Набоков. М-р Кинг, из Савла ставший Павлом, свел меня с редакцией одного из важнейших либеральных органов Англии — "The Nation." Там помещено было пространное мое письмо с обоснованием, почему как раз радикальные круги британского общества должны, в интересах либеральной традиции, поддержать идею легиона. X. Е. Вейцман познакомил меня с Ч. П. Скоттом, редактором газеты "Manchester Guardian". Эта газета, как известно, занимает в Англии то же положение, какое принадлежало в русской печати "Русским Ведомостям"; а сам м-р Скотт, старик с обликом патриарха и глазами юноши, считался тогда — если не ошибаюсь, считается и по сей день — самой выдающейся фигурой в журнальном мире страны. Ллойд Джордж признавал его своим учителем, и потому передовицы манчестерской газеты имели в то время особенный вес. Одна из этих передовиц была посвящена плану легиона.
Но еще важнее была для нас поддержка «Таймса». Лорд Нортклиф был в то время в апогее своей власти: слово «Таймса» считалось окончательным приговором. Но главным редактором всемогущей газеты был тот самый Генри Уикхем Стид, к которому Сеньобос в Париже дал мне когда-то рекомендательную карточку. Я предъявил эту карточку и познакомился с г. Стидом еще весною того года. Стида кто-то назвал умнейшим из англичан. Поскольку я встречался с англичанами, думаю, что это похоже на правду. Это человек исключительно широкой культуры; половину своей жизни он провел в разных странах Европы.
Однажды я пришел к нему и сказал:
— Теперь настал момент для выстрела из большой пушки: нужна статья в «Таймcе».
— Напишите письмо в редакцию, — ответил он, — а я дам передовицу.
Когда появился этот номер газеты, в ресторане подошел ко мне один из самых свирепых наших ругателей, кисло улыбнулся и сказал:
— Ваше дело в шляпе: «Таймc» высказался…
Эмери был прав: все теперь зависело от маленькой «экзотической» роты в 20-м Лондонском батальоне. Это корень; если он уцелеет — вырастет дерево; если сгниет — пропало.
Я поехал в Винчестер. Местность Хэзлей-Даун, где находился лагерь, была в четырех милях от города. Лагерем командовал подполковник Эштон Паунол (теперь он консервативный член палаты общины), учтивый, мягкий, несколько застенчивый джентльмен в пенсне. Я спросил его:
— Примете меня рядовым — с тем, чтобы я попал в вашу пятую роту? ("Е" Company — так они назывались официально.)
— Милости просим, — сказал он и пригласил меня к завтраку в офицерской столовой. Потом я об этом жалел: очень неприятно было стоять навытяжку перед молодыми людьми, с которыми я месяц тому назад обменивался анекдотами за кружкой пива.
* * *
Трумпельдор в то время хлопотал о зачислении в армию — конечно, в офицерском чине, хотя бы подпоручиком; отказ еще не получился, и оба мы были вновь полны надежд.
После поездки в Винчестер мы зашли к Эмери рассказать про "пятую роту". Он выслушал, помолчал, посмотрел в пол и сказал: — Мне кажется, что теперь полезно было бы подать премьеру обстоятельную докладную записку о вашем плане с указанием, что в Винчестере имеется ядро. Если хотите, можете подать через меня.
Мы отсидели три вечера за составлением записки; Эмери просмотрел ее, указал нужные поправки, и накануне моего превращения в солдата, пока еще я был свободным гражданином из-за границы (кажется 21-го января 1917 года), мы с Трумпельдором подписали этот документ, которому суждено было вскоре очутиться на столе тайных заседаний военного кабинета.
Еще одну рукопись успел я сдать по назначению накануне того, как лишился права высказывать печатно свои мысли на военные темы: это была книга "Турция и война", которую я написал для издательства Фишер Унвин. В ней развивались три основные мысли: первая — Турция должна быть разделена, в этом весь смысл войны и главное средство против будущих войн; вторая — Палестина должна войти в сферу британского влияния; третья — главный фронт войны есть фронт восточный.
Прямо от издателя я поехал в рекрутское бюро, принес присягу и получил "королевский шиллинг" — точнее, два шиллинга и шесть пенсов — в счет моего солдатского жалования.
* * *
Я упомянул имя Г. У. Стида — его заслуги перед сионизмом дают ему право на более подробное знакомство читателя. Не только в истории легиона, но и в истории Декларации Бальфура он сыграл исключительно важную роль. За месяц перед 2-м ноября 1917 г., когда ассимиляторы — кажется, все с тем же неугомонным лордом Суэтлингом опять во главе — делали ряд последних усилий, чтобы предостеречь правительство от сионистского шага, Стид ответил им уничтожающей передовой статьей, и это их и прикончило. «Таймс» высказался…
Еще молодым человеком, лет 30 назад, Стид был корреспондентом того же «Таймса» в Вене. Там он и познакомился с Герцлем, и скоро они стали друзьями. Он понял и Герцля, и сионизм, как редко понимают христиане: внутреннюю, утонченно-эстетическую и этическую сторону движения, отвратительность самоотречения: все это ему было так же ясно, как и реальная тоска о государственной самобытности. И, конечно, как бывает с каждым неевреем, который «слишком» вглядывается в еврейскую душу, многие из соплеменников наших считали и считают его «антисемитом». Признаюсь, я никогда не понимал этой привычки нашей — усматривать Гамана нечестивого в каждом арийце, который позволит себе рассказать еврейский анекдот, причем его анекдот еще похож на ласку в сравнении с тем, что мы сами о себе рассказываем. Стид говорил о евреях так точно, как говорил бы о них сионист; называл ассимиляцию подделкой; верил в силу еврейского народа (в его книге "Монархия Габсбургов" глава о народностях старой Австрии начинается фразой: "важнейшая из них — еврейская национальность"); о Герцле он умел говорить с трогательной и почтительной серьезностью. Свою дружбу он доказал реальными и важными услугами в самый ответственный момент нашей новой истории. Говорят, в последнее время он напечатал в своем журнале (теперь он давно ушел из «Таймса» и редактирует ежемесячную "Review of Reviews") несколько весьма критических статей о евреях. Возможно; я не читал; но охотно ему разрешаю. Стид заслужил, право говорить с нами, как ему угодно.
* * *
О казарменных моих переживаниях подробно рассказывать не стоит: служил рядовым, как все рядовые, только без той молодости и ловкости, что полагаются рядовому. В первые дни, пока у меня еще ломило предплечья от антитифозной прививки, подметал полы в нашем бараке и мыл столы в столовой у сержантов. Сержант Блитштейн из нашей роты сказал мне: "Отлично вымыли. Сержанты даже хотят просить полковника, чтобы вас вообще назначили на эту должность при нашей столовой". Этот Блитштейн, русский еврей, Бог весть как попавший на полицейскую службу в Александрии, охранял когда-то порядок у нас при беженском бараке в Габбари; большой остряк и вообще славный малый, из породы добродушных и циничных толстяков. Однако на ту должность меня не назначили, а наоборот — скоро перевели в команду для подготовки унтеров, конечно, не за мои таланты, а исключительно по любезности полковника.
Зато интересны были мои товарищи по "пятой роте". В начале этих записок я рассказывал о Габбари и о пестроте тамошнего состава. Здесь было меньше народу, но не меньше разнообразия. Большинство, конечно, уроженцы России, в том числе три или четыре субботника чисто русской крови, — по-еврейски «геры», как полагается, белокурые и синеглазые, притом с очень чистым произношением по-древнееврейски — по-русски зато уже говорили с акцентом. Один из них, Матвеев, добрался до Палестины всего за несколько дней до войны: пришел пешком из Астрахани в Иерусалим прямо через Месопотамию; в субботние вечера он очень серьезно напивался, совсем по-волжскому, и тогда ложился в углу на свою койку и в голос читал псалмы Давидовы в оригинале из старого молитвенника. Еще там было семь грузинских евреев, все с очень длинными именами, кончавшимися на «швили». Забавно было слышать, как английские сержанты ломали себе над ними языки по утрам во время переклички: "Паникомошиашвили!" — "Есть!". Это были семеро молодцов как на подбор, высокие, стройные, с правильными чертами лица, и первые силачи на весь батальон. Я их очень полюбил за спокойную повадку, за скромность, за уважение к самим себе, к соседу, к человеку постарше. Один из них непременно хотел отнять у меня веник, когда меня назначали мести. Другой, Сепиашвили, впоследствии первый в нашем легионе получил медаль за храбрость. Кроме того, были среди нас египетские уроженцы, с которыми можно было мне сговориться только по-итальянски или по-французски. Два дагестанских еврея и один крымчак поверяли друг другу свои тайны по-татарски. А был там один, по имени Девикалогло, настоящий православный грек, неведомо как попавший к нам, и с ним я уже, никак не мог сговориться: если бы сложить нас обоих вместе, то знали мы вдвоем десять языков — только все разные.
Не все они остались с нами до конца. О доброй половине я вообще не знаю, что привело их в казарму. Может быть, консул заставил, или голод, или страсть к приключениям, или вообще шальная атмосфера военного времени, когда шагаешь и не отдаешь себе отчета, куда. К Палестине у этой части, во всяком случае, никакого касательства не было. От них мы скоро избавились: раздали их в рабочие батальоны, в обоз, некоторых просто отпустили на свободу, других вернули в Александрию. К началу весны осталось всего человек 60, зато настоящих. Это не значит, чтобы с ними не было у нас забот. Забот было много, особенно много стало с того момента, когда из России пришли вести о первой революции, а у нас тут все еще не было еврейского легиона. Помню утро, когда 20 человек вдруг отказались выйти на учение и предъявили ультиматум — а на военном языке это значит бунт. Два дня бился я с ними, изощряя все свои дипломатические способности; если бы не бесконечный такт полковника Паунола, дело бы кончилось катастрофой, военным судом и, может быть, распадом всего моего «ядра». Полковник понял положение и пошел на уступки, вероятно, совершенно беспримерные в истории английской армии. С его разрешения забастовщики наши выбрали делегата, и я повез его в Лондон к К.Д.Набокову: граф Бенкендорф тогда уже умер, и Набоков был исправляющим должность посла. Понял положение и он: принял моего делегата с обворожительной любезностью, уверил его, что, насколько известно посольству, образование легиона предстоит в ближайшем времени, а что касается до свободной России, то она требует от этих граждан своих одного — довести до конца героическую борьбу за идеал, которую они так блестяще начали в Галлиполи.
А все-таки, несмотря на это приключение и на много других загвоздок, эти были «настоящие». 60 человек никак не могли считаться ротой, и нас разжаловали в простой чин взвода. Но этот "шестнадцатый взвод" действительно сыграл роль ядра. Не только в том смысле, что вокруг него и создался весь легион, но и в том смысле, что в самом легионе они потом играли роль ветеранов, позвоночного столба и железной скрепы.
* * *
Из казармы я продолжал переписку с Эмери и Грэхемом. Докладная записка наша с Трумпельдором была подана премьеру, ее уже обсуждали в заседании военного кабинета; и кабинет предложил военному министру "обсудить детали плана с авторами докладной записки".
Это было незадолго до нашей Пасхи. Я находился в отпуску в Лондоне, жил там на старой своей квартире в Челси, и туда мне раз доставили от руки написанное письмо генерала Вудворда, бывшего тогда директором организационного отдела при военном министерстве. Генерал просил меня пожаловать в министерство сегодня же в 2 часа на свидание с министром лордом Дарби. По первому слову письма — сэр — и по всему его содержанию я понял одно: ни генералу, ни министру неведомо, что «сэр» этот состоит теперь рядовым одного из пехотных батальонов британской армии. Мы устроили с Трумпельдором военный совет. Как тут быть? Увидев на мне солдатскую фуражку, не испугаются ли министр и генерал такой беспримерной неслыханности, как политическое совещание между главой военного министерства и рядовым пехотинцем? Я готов был просить Трумпельдора заменить меня, но он не доверял своему английскому красноречию. В конце концов мы решили ехать вдвоем. Ровно в два часа, у дверей кабинета директора организации в военном министерстве, я передал ординарцу генерала Вудворда наши визитные карточки. Нас сейчас же пригласили войти. Я собрался с духом, выпятил грудь, маршем вступил в кабинет, как полагается, с фуражкой на голове, вытянулся, отдал честь и представил Трумпельдора и себя.
Должен сделать генералу комплимент: хотя лицо его выразило совершенно гомерическую степень изумления, на словах этого он не показал. Он сказал: "Oh, yes… я доложу министру", — и вышел, не глядя на нас. Зато у министра он просидел больше пяти минут. Трумпельдор подмигнул и пробормотал: — У них тоже военный совет. Наконец вышел из того кабинета секретарь и пригласил нас в кабинет. Тут уже я, слава Богу, мог снять фуражку: лорд Дарби — штатский, стоять навытяжку необязательно.
Министр оказался высоким, широким барином, в теле, классического, хотя в жизни теперь очень редкого, джонбулевского типа, с полнокровным лицом; говорил он с акцентом, который в Англии называют помещичьим, т. е. произносил окончание «ng» просто как «n» — speakin', writin'. У простонародия это считается недостатком, но для лорда это, говорят, шик. Впрочем, очень милый, веселый и приветливый господин.
Мы уселись; генерал сидел в углу и молчал.
— Премьер-министр поручил мне, — сказал лорд Дарби, — расспросить вас о подробностях вашего плана еврейской боевой единицы.
Я рассказал: слава Богу, знал эту премудрость уже наизусть и со сна мог бы ее изложить без запинки.
— I see, — ответил министр. — Теперь другой вопрос. Считаете ли вы, что создание такого контингента послужит серьезным толчком к большому притоку волонтеров?
Ответил ему Трумпельдор с настоящей солдатской точностью:
— Если это просто будет полк из евреев — пожалуй. Если это будет полк для Палестины — тогда очень. А если вместе с этим появится правительственная декларация в пользу сионизма — тогда чрезвычайно.
Лорд Дарби мило улыбнулся и сказал:
— Я — только военный министр.
Трумпельдор мило улыбнулся и сказал:
— Я только отвечаю на ваш вопрос.
— I see. Теперь третий вопрос: я слышал, что в 20-м Лондонском батальоне есть группа солдат-сионистов, из бывших чинов Zion Mule Corps.
— Так точно, 16-й взвод, — сказал я, — там я и служу; а капитан Трумпельдор командовал ими в Галлиполи.
Министр и генерал переглянулись и тут только присмотрелись к солдатскому обличию Трумпельдора и к его неподвижной левой руке; потом Дарби слегка наклонил голову в знак молчаливого признания, а генерал еще больше выпрямился на своем стуле в углу.
— Что же, по-вашему, полезнее, — продолжал министр, — сделать из этого взвода группу инструкторов для будущего еврейского полка или послать их в распоряжение сэра Арчибальда Маррэя в качестве проводников для предстоящих операций на юге Палестины?
(В то время английские войска уже перешли Синайскую пустыню; генерал Маррэй (Murrey), тогдашний главнокомандующий египетской армией, стоял недалеко от Газы.) Трумпельдор сказал:
— Насколько я знаю своих бывших солдат, в проводники они вряд ли годятся. Генерал Маррэй легко найдет гораздо лучших знатоков страны. А для роли инструкторов они вполне подходят.
— Но ведь в Галлиполи они служили в транспорте, — вмешался генерал, — а полк предполагается пехотный.
— Полковник Паунол, — сказал я, — очень доволен их успехами в строю, в службе и в штыковом бою; а кроме того, все вместе они говорят на четырнадцати языках, и это понадобится.
— В жизни не предполагал, — рассмеялся министр, — что есть на свете целых четырнадцать языков.
Рассмеялся и Трумпельдор. Мне при генерале смеяться не полагалось, и я доложил очень серьезно:
— Так точно, милорд, есть — а чтобы сговориться с евреями, и этого недостаточно.
— Ладно, — сказал министр. — Очень вам благодарен, господа. Относительно имени нового полка, полковой кокарды и всего прочего сговорится с вами генерал Геддес, директор отдела вербовки. Он вас вызовет. Мы откланялись и ушли.
На следующее утро, когда я, вернувшись в лагерь, рассказал об этом свидании полковнику Паунолу, он отметил тут неслыханное нарушение всех традиций британского военного министерства. Он высказал готовность дать руку на отсечение, что с тех пор, как существует английская армия, еще никогда не бывало такого происшествия с рядовым.
Но не хотят бессмертные боги, чтобы возгордился человек, даже после побитого рекорда. Мне об этом в то же утро очень нелюбезно напомнила действительность. Помню, солдаты ушли на учение, а я остался в бараке, потому что за мной числился еще день отпуска. Как раз накануне, в мое отсутствие, получились первые экземпляры той самой книги моей "Турция и война", где, как дважды два четыре, было доказано, как и почему надо Турцию разделить и кому что достанется; страшно мне понравился красный коленкоровый переплет, и я даже погладил его, словно мать головку первого ребенка, и размечтался чрезвычайно оптимистически о судьбе этого детища, о влиянии, которое книга обязательно окажет на военных специалистов, посрамив окончательно «западную» школу Китченера и утвердив победу «восточной» школы Ллойд Джорджа… Вдруг в барак влетел, в предшествии запыхавшегося сержанта, юный рыжий подпоручик: дежурный офицер на утренней ревизии. Я встал. Он орлиным оком окинул окна, почему-то закрытые, нахмурился и сказал:
— Эй вы там, рядовой в очках, — открыть!
— Которое, сэр? — спросил я.
Все, болван этакий (you bloody fool), — изрек он и проследовал дальше.
Глава 7. Победа
Кап. Эмери был неутомим: раза два в неделю, не реже, приходил за мною вестовой на плац-парад учебной команды с распоряжением ехать в город. В батальоне это мне создало репутацию не то комической фигуры, не то просто недоразумения. Английские сержанты постепенно перестали принимать меня всерьез в качестве солдата. Когда я, грозно рыча по приказу, налетал на соломенный мешок, изображавший немца, и попадал ему штыком вместо сердца в желудок, сержант говорил: “Для Уайтхола — недурно”.
В конце концов, произвели меня в чин, который я и перевести не умею: по-английски unpaid Lance-Sergeant, т. е. вроде сержанта, но не совсем, и с жалованьем не сержантским, а всего лишь капральским. Добрый знакомый мой, заведывающий винной лавкой общества Кармель в Лондоне, прислал мне десять бутылок палестинского вина, и я “поставил” их сержантам в первый мой вечер в их столовой — той самой столовой, где когда-то мыл столы с таким успехом. К сожалению, преемник мой по этой гигиенической должности далеко не стоял на той же высоте.
Из более важных свиданий и встреч того времени отмечу здесь только одно.
Ген. Смутc, премьер Южной Африки, приехал тогда в Лондон участвовать в заседаниях военного кабинета. Он играл в то время большую роль: конечно, не столько ради реального веса той военной помощи, какую могла оказать Англии небольшая колония, сколько из-за самой его личности. Как и ген. Бота, за двадцать лет до того Смутc был одним из опаснейших противников Англии на полях бурской войны. Поэтому теперешний его британский патриотизм имел нравственную ценность манифестации во славу государственного строя Британской Империи. К тому же и сам он — человек высокообразованный, воспитанник университетов Голландии. Гейдельберга, Кэмбриджа, интересный писатель и мыслитель. Он — сионист того же типа, что Бальфур или Роберт Сесиль: искренно считает, что декларация Бальфура есть, быть может, лучшее изо всех достижений мировой войны. — Его приезд дал окончательный перевес в военном кабинете сторонникам сионизма над противниками (во главе противников стоял, конечно, еврей, покойный Эдвин Монтэгью). Смутсу было тогда на вид не больше сорока лет, хотя он был, конечно, старше. Производил он впечатление хорошо воспитанного, в обращении простого интеллигента — не английского, а континентального типа; по-английски говорил с акцентом, особенно с гортанным голландским “р”.
Он расспросил меня обо всех подробностях плана. Несколько фраз его сохранились у меня в письмах, которые я посылал домой в Петербург. Одна о легионе:
— Это — одна из самых красивых мыслей, с какими довелось мне сталкиваться в жизни: чтобы евреи сами бились за землю Израиля.
Две другие о России, о которой к концу беседы он много расспрашивал. В то время уже было известно, что и армия, и государственный порядок быстро идут к распаду.
— Россия, может быть, и падет, и немцы думают, будто это им поможет: но Самсон больше врагов погубил в час своей смерти, чем за целую жизнь.
— Керенский — святой человек. Но он адвокат: он думает, будто мир есть судебная палата, где побеждает тот, у кого лучшие аргументы. Вот он и аргументирует; а его противники копят динамит.
По распоряжению военного министра вызвал меня к себе директор отдела вербовки ген. Геддес (впоследствии британский посол в Вашингтоне). Мы вместе выработали, что полк будет называться коротко и ясно: The Jewish Regiment. Форма будет обычная, только вместо фуражки — колониальная шляпа, вроде как у бой-скаутов. Кокарда — семисвечник (“менора”) с еврейской надписью “Кадима” — это значит и “вперед”, и “на восток”.
— А кого вы бы хотели командиром? — спросил генерал. — Есть у вас в виду кандидат еврей?
Трудный вопрос. В кармане у меня лежало письмо Патерсона из Дублина. “… По моему глубокому убеждению, вам нужен полковник еврей. Я был бы счастлив опять вести в огонь еврейских солдат: но и справедливость, и интересы нашего дела требуют, чтобы честь эта досталась еврею”.
Правильно — только где такого найти? В ассимиляторском окружении майора Лайонеля Ротшильда можно было найти человека с подходящим чином — но уж очень я разборчив в применении титула “еврей”. Изо всей этой компании один только офицер отнесся к нашему делу сразу “по-еврейски” — звали его майор Шенфильд, и он, насколько мог, был нам полезен в первое время моей работы. Джэмс Ротшильд тогда уже перешел из французской армии в канадскую, но он еще был поручик. Л.М. Марголин, тот австралийский поручик, о котором я упоминал в рассказе о Габбари и о котором часто с тех пор думал, был уже, правда, майором, но он стоял где-то во Фландрии со своими австралийцами и не согласился бы уйти с фронта. О полковнике Ф.Сэмюэле я тогда еще не слыхал. Но, при всем уважении к упомянутым именам, я и теперь думаю, как думал тогда, что историческую честь эту честно заслужил другой: тот, кто не постыдился стать во главе еврейских “погонщиков” и сумел сделать из них боевую единицу, при упоминании которой военный министр наклоняет голову; тот, кто и в госпитале думал о нас и продолжал нам помогать, составляя книгу, которая потом много нашумела — “С сионистами в Галлиполи”; тот, который поверил в нас с первого момента, когда еще все над нами смеялись.
Я сказал:
— Есть один только кандидат: хоть он не еврей, но полковником нашим должен быть он, и надеюсь, он будет еще нашим генералом: Патерсон…
Глава 8. Зигзаги государственной мудрости
Ассимиляторы формально объявили войну. Они отправили к военному министру целое посольство, с лордом Суэтлингом, Лайонелем Ротшильдом и присными. Цель у них была совершенно ясная, и дело шло не только о легионе. Они уже знали, что правительство собирается обнародовать какую-то декларацию в смысле поддержки сионизма: всеми силами они старались этому помешать и логически рассудили, что еврейский корпус на Палестинском фронте, с их точки зрения, еще гораздо опаснее, чем простая декларация на бумаге. Они потребовали от военного министра, чтобы вообще еврейский полк был раскассирован; иностранных евреев, конечно, следует забрить, но распределить по общим батальонам и послать туда, куда посылают большинство солдат, а никак не в Палестину.
— Вот что я могу для вас сделать, — сказал лорд Дарби. — Распределить их по другим батальонам не могу, это дело решенное, но решение о том, чтоб их полк назывался “еврейским” — мы пересмотрим. Он будет носить одно из обычных полковых имен. Будет во всех отношениях рассматриваться как обыкновенный британский полк, и пошлют его туда, куда решат послать.
Через полчаса нам эту новость сообщили в бюро. Еще через час мы ответили контрмобилизацией.
Патерсон, рискуя военным судом, отправил резкое письмо генерал-адъютанту (в Англии это — высший военный шеф военного министерства, главное лицо после министра). Патерсон заявил в этом письме, что в ответе Дарби еврейским плутократам видит измену, нарушение слова и обман еврейских рекрут (у него тогда уже было несколько сот солдат в новом нашем лагере близ Портсмута); что все это — стыд и позор для доброго имени Англии, и поэтому он просит освободить его от командования.
X.Е. Вейцман и майор Эмери отправились к лорду Мильнеру, в то время члену военного кабинета, и высказали ему горькую жалобу на уступчивость военного министра. Мильнер, сам глубоко возмущенный, в тот же день устроил себе свидание с Дарби — и получил согласие этого добрейшего государственного деятеля на то, чтобы через неделю представилась ему “контрдепутация”, которая предъявит обратные требования и которой он, лорд Дарби, тоже предложит компромисс.
А я вспомнил свое старое кредо: правящая каста мира сего — журналисты. Я поехал в редакцию “Таймса”к м-ру Стиду. Что я ему сказал, не помню; но его ответ у меня записан в подлинной форме, коротко и ясно:
— Завтра “Таймс” скажет военному министерству, чтобы оно не валяло дурака (not to play the fool).
— Но Патерсон не хочет оставаться, — сказал я, — я без него не могу работать.
— “Таймс” посоветует ему остаться.
На следующее утро в “Таймсе” появилась его передовица. Мне говорили, что такой головомойки военное министерство не получало за все время войны. “Таймс” высмеивал бюрократию, готовую считаться с дюжиной тузов, за которыми, кроме их собственной гостиной, никого нет, и ради них пренебрегать идеализмом многомиллионной массы, симпатии которой кое-что значат в мировом учете. Если нужна уступка, перемените имя: вместо “еврейского” назовите полк “маккавейским”; но еврейский характер полка и его специальное назначение должны быть сохранены. “И мы надеемся, что полк. Патерсон, негодование которого мы вполне понимаем, изменит свое решение и возьмет назад свою отставку”.
После этого выступления газеты-громовержца все остальное уже было сравнительно легко. Лорд Дарби принял вторую делегацию и сказал им, что за полком сохранен будет еврейский характер и что нет никаких причин опасаться отправки его не на тот фронт, какой предполагался с самого начала; и вообще все будет в порядке. Но в одном отношении правы, по его мнению, джентльмены из первой депутации: звание “еврейский полк” есть почетный титул, и вряд ли уместно сразу давать его контингенту, который еще не успел показать себя на поле битвы. Титул этот нужно прежде заслужить; он, министр, обещает, что немедленно после того, как еврейские солдаты с честью проявят себя на фронте, полк получит и еврейское имя и еврейскую кокарду. Покамест же решено дать им другое имя, тоже почетное — тридцать восьмой батальон королевских стрелков (Royal Fusiliers).
Это обещание он сдержал. После занятия Заиорданья мы официально получили название "Judaean Regiment" и менору с надписью “кадима”. Но и до того, еще тут же, в Лондоне, нам разрешили прибить над воротами нашего центрального депо на Чинис-стрит (дом, куда отправляли рекрут до посылки в Портсмут) вывеску с древнееврейской надписью: “Гедуд ламед-хет ле-Каллаэ га-Мелех”. В печати и даже в официальной переписке нас по-прежнему называли "Jewish Regiment". На фронте офицеры и солдаты наши носили на левом рукаве значок щита Давидова: в одном батальоне красный, в другом — синий, в третьем — фиолетовый. Был у нас и “падрэ” — так в английской армии величают полковое духовенство — раввин Фальк, горячий молодой мизрахист и смелый человек под огнем. А злосчастному полк. Патерсону пришлось изучить все тонкости ритуального убоя: он вел переговоры с военным министерством и с портсмутскими мясниками о кашерном мясе, о передних и задних четвертях и жилах и сухожильях… дальше перечислять не решаюсь, так как я этих правил не знаю; но он знает.
Для меня лично ассимиляторское посольство имело серьезные последствия. Кто-то из членов делегации оказал мне, по-видимому, честь особо протестовать против моей преднаборной пропаганды.
Дело в том, что сотрудники мои изготовили брошюру на идиш — об идее и задачах легиона. Так как закон о конскрипции давал каждому рекруту выбор — служить здесь или ехать на службу в новую свободную Россию, — то в брошюре было несколько страниц о том, что служба на русском фронте тоже не забава.
Брошюра была отпечатана за счет департамента. Департамент выдал мне список тридцати пяти тысяч адресов иностранцев призывного возраста в Англии и Шотландии. (Кстати, еще одна иллюстрация безалаберности: в этом списке людей, не пошедших на службу, я нашел свое имя и адрес…). Кроме того, департамент дал мне 35.000 конвертов со штемпелем “ОНМ5” (“на службе Его Величества”) и десять хромых солдат для писания адресов.
На утро после приема ассимиляторской делегации у лорда Дарби я получил по телефону распоряжение явиться сейчас же в кабинет генерал-адъютанта. По совпадению, это оказался тот же кабинет, где принимал нас с Трумпельдором ген. Вудворт. Опять я вошел церемониально, выпятив грудь и с шапкой на голове. Там уже был Патерсон — тоже в шапке; за столом сидел сам генерал-адъютант, сэр Невилль Мэкриди, тоже в шапке. Все это имело очень официальный вид и пахло неприятностями.
— Знаком ли вам этот текст? — спросил генерал и протянул ко мне толстую английскую рукопись. Я просмотрел начало.
— Первые строки, сэр, — сказал я, — похожи на брошюру на идиш, которую мы разослали иностранцам, подлежащим воинской повинности; перевод скверный, сэр.
— А я слышал, что русское посольство глубоко возмущено, — заявил он, — брошюра полна резких выпадов против русской армии.
— Значит, сэр, перевод не только скверный, а хуже. В оригинале таких выпалов нет. А посла Набокова я видел и вчера и третьего дня, говорил с ним как раз о моей пропаганде, и он даже не заикнулся об этой брошюре. Не угодно ли вам, сэр, вызвать его сейчас же — телефон Виктория, номер такой-то.
Он начал сердиться.
— Кто вам, сержант, разрешил рассылать эту брошюру в официальных конвертах?
Мне следовало бы разинуть рот от изумления: помню, что от этого я воздержался, но боюсь, что глаза вытаращил. Что ответить на такой вопрос? Департамент, ему самому подчиненный, выдает мне список адресов, который считается государственной тайной, печатает за свой счет мою брошюру, дает мне 35.000 официальных конвертов, дает мне взвод переписчиков — и после всего этого он, хозяин военного министерства, спрашивает у меня, и.д. сержанта на капральском жаловании, кто это разрешил. Это уже не “руссише виртшафт”, а совсем чепуха какая то. Неужели может у них любой унтер, да еще приезжий, рассесться в любой комнате из дворцов Уайтхола и распоряжаться, приказывать, запрещать — может быть, даже отдать приказ, чтобы кончили войну? Счастье для них, что я “милитарист”…
Но сэр Невилль Мэкриди оказался все-таки умницей, не лишенным чувства юмора: так как я не имел права расхохотаться ему в лицо, то расхохотался он сам и обратился к Патерсону:
— Отправьте сержанта Ж. в лагерь в Портсмуте, а то он и совсем тут у нас все переделает по-своему. Надеюсь, что солдат из него выйдет менее неудобный, чем получился пропагандист.
Я отдал честь и вышел, а в коридоре остался ждать Патерсона. Через десять минут вышел и он.
— Сэр, — спросил я формально, — когда прикажете ехать в Портсмут?
— Ничего подобного, — ответил этот ирландец, который видал в жизни львов людоедов и потому простых генералов не боится, — у себя в батальоне я хозяин, и мне вас там не нужно. Оставайтесь в Лондоне и продолжайте в том же духе. Едем в депо, я вам подпишу приказ о командировке в Лондон. Из депо я поехал к Набокову.
— Константин Дмитриевич, правда ли, что посольство возмущено этой брошюрой?
— В жизни не видал и не слыхал, — ответил он, перелистывая брошюру, конечно, слева направо и удивляясь, где же начало.
— Может быть, знает Е.А. Саблин, секретарь посольства?
Он вызвал секретаря: тот же ответ. К.Д. Набоков тут же подписал формальное заявление, что брошюра никому в посольстве не известна, секретарь приложил к ней посольскую печать: особой ленточкой они пришили это свидетельство к моей брошюре и даже ленточку припечатали сургучом. Я отвез этот пакет к майору Эмери, а он переслал его генерал-адъютанту, с препроводительным письмом, которого я не читал — но догадываюсь.
“Мэкриди” не английское имя: подозреваю, что сэр Невилль — тоже ирландец; во всяком случае, он к этому инциденту отнесся, как добрый малый, т. е. “забыл”. О том, что я остался в Лондоне, устраивая интервью с журналистами и произнося речи, он знал и писал об этом Патерсону, но, очевидно, ничего против этого не имел. Он остался добрым другом легиона: а резкое письмо Патерсона об отставке он сунул в карман и ответил полковнику: “не волнуйтесь, все будет all right”…
* * * * * *
Та же компания и дальше старалась нам мешать. Генерал-адъютант разрешил евреям из других полков переводиться в наш батальон. Многие из них очень этого хотели, да и нам желательно было “подкрахмалить” своих новичков примесью опытных солдат. Вдруг оказалось, что полковые раввины на французском фронте откуда-то получили совет или приказ объяснять в своих проповедях, что стыдно английскому еврею служить в нашем батальоне. Меня уверяли, что инициатором был сам “реверенд” Майксль Адлер, главный раввин при армии и прямой начальник всех батальонных “падрэ”. Не знаю, так ли это. Бог с ним. Но мы ждали, что к нам переведутся тысячи, а перевелось всего несколько сот.
Приятно все-таки вспомнить, что нашлись у нас и друзья. Образовался комитет попечения о наших солдатах под председательством лорда Ротшильда; в нем главную роль играли жены руководящих лондонских сионистов. Организовали его г-жа В.И. Вейцман и м-с Патерсон; остальных перечислить не могу, но всем спасибо. Это была совсем не шуточная работа: приходилось проводить в депо не только дни, но и ночи, когда привозили новую партию рекрут и надо было их кормить и поить. Начальником депо был сначала майор Нольс, друг Патерсона, а после него еврей — майор Шенфильд, тот самый единственный еврейский офицер в Лондоне, который с самого начала отнесся к нам по-человечески.
Но лучше всего было то, что мне удалось разыскать Л.М. Марголина. Его привезли раненого в один из лондонских госпиталей, и я к нему туда поехал. Я давно и много слышал о нем и от брата его в Петербурге М.М. Марголина, главного секретаря редакции обеих ефроновских энциклопедий, общей и еврейской, а еще больше — из легенд, которые мне еще за девять лет до того рассказывали о нем в Палестине. Семья переселилась туда еще в первые годы колонизации, когда Элиезер Марголин был ребенком. Поселились они в колонии Реховот. Мальчик выдвинулся и как колонист, и как удалец — “сидит на коне, как бедуин, и стреляет, как англичанин”, — говорили о нем окрестные арабы. После кризиса 90-х годов он уехал в Австралию, долго там скитался, кажется, и пахал, и копал, пока не осел где-то в городе и занялся деловыми делами. В то же время он записался в австралийскую территориальную милицию. Когда началась война, он уже был у них поручиком. Несколько месяцев он провел в Египте, потом попал во Фландрию и там в траншеях дослужился до майорского чина и должности помощника батальонного командира. Крупный, широкоплечий человек, молчаливый, солдат с головы до ног, у себя в батальоне и царь, и отец, и брат для своих boys; притом изумительный хозяин и организатор.
— Идем к нам, Лазарь Маркович.
— Боюсь. Евреев боюсь: с ними нужно разговаривать…
Но он к нам пришел. Генерал-адъютант помог уладить формальные трудности с переводом из австралийской армии в английскую (это, кстати, связано было со значительным понижением жалованья), и Марголин с чином подполковника стал начальником нашего второго батальона, на официальном языке — 39-го.
О том, как жили наши солдаты в лагере близ Портсмута, сам я ничего рассказать не могу. Я только раз там был и чувствовал себя как чужой. Полк. Патерсон познакомил меня со своими офицерами, но ему пришлось это сделать у себя в комнате, так как в офицерскую столовую он не имел права меня пригласить. В сержантской столовой я нашел старых друзей: Ричард Кармель был в чине батальонного сержант-мажора, и многие из моих приятелей по “16-му взводу” уже носили сержантские нашивки. Но все остальные меня стеснялись, и я их.
Поздно ночью, помню, я стоял один посреди большого двора, освещенного месяцем и снегом, и осматривался кругом со странным чувством. Низенькие бараки со всех сторон, в каждом по сотне молодых людей — ведь это и есть тот самый еврейский легион, мечта, так дорого доставшаяся: и в конце концов я тут чужой, ничего не строю и не направляю. Совсем вроде сказки: дворец Аладину построили незримые духи. Кто такой Аладин? Никто, ничего: случай подарил ему старую заржавленную лампу, он хотел ее почистить, стал тереть тряпкой, вдруг явились духи и построили ему дворец; но теперь дворец готов: он стоит и будет стоять, и никому больше не нужен Аладин с его лампой. Я задумался и даже расфилософствовался. Может быть, все мы Аладины: каждый замысел есть волшебная лампа, одаренная силой вызывать зиждительных духов; надо только иметь терпение тереть и скрести ржавчину, пока — пока ты не станешь лишним. Может быть, в том и заключается настоящая победа, что победитель становится лишним.
С той ночи я стал лишним, и очень рад, что дальше можно будет писать этот рассказ, не так часто употребляя слово “я”. Не моя вина, что повесть о родовых муках легиона пестрела до сих пор этим неприятным местоимением через каждые пять строк или чаще; но, славу Богу, конец. На публичных митингах, особенно в Америке, меня иногда представляли публике, как того самого господина, который “шел во главе легиона”. Прошу отметить, что сего никогда не было и быть не могло. “Легион” состоял из 10 тысяч человек, из них 5 тысяч были фактически в Палестине; они составили три батальона, и во главе каждого из батальонов стоял полковник с большим военным опытом. В одном из этих батальонов, среди двадцати с чем-то лейтенантов, был поручиком и я и командовал взводом в 50 или 60 человек; да и то по особой милости. За два дня до отъезда батальона в Палестину меня произвели в офицеры с каким-то очень сложным обходом английской конституции. Я уже писал, что по конституции воспрещено давать фактические права офицеру-иностранцу. “Есть только два исключения, — дразнил меня Патерсон, — кайзер Вильгельм и вы; и его уже выкинули”. Не знаю, правда ли это; но точь в точь как кайзер Вильгельм ничего не значил в британской армии, так я ничего не значил в легионе. Ничего против этого не имею; так и должно было быть; когда был с пылком, я старался играть роль поручика прилично, все равно как прежде старался хорошо мыть столы в сержантской столовой под Винчестером: и я люблю оба воспоминания.
2 февраля 1918 года первый еврейский батальон с привинченными штыками промаршировал по главным улицам Лондона, включая Уайтчэпель. Солдат наших специально привезли из Портсмута и приняли с большими почестями. Ночевали они в Тоуэре, среди монументов шести столетий английской истории; самое право идти через Сити со штыками на дулах было привилегией — Сити сотни лет воевало за то, чтобы королевские солдаты не смели в нем показываться с привинченными штыками. На крыльце Мэншон Хауза, среди пышной свиты, стоял в своих средневековых одеждах лорд-мэр и принимал салют еврейского батальона. Комично: рядом с ним я вдруг увидел майора Р., одного из злейших противников наших, члена той ассимиляторской делегации, — он стоял весьма гордо и победоносно, явно греясь на солнышке нашего успеха, раз не удалось ему помешать.
Из Сити батальон направился в Уайтчэпель. Там ждал нас тот самый генерал-адъютант сэр Невилль Мэкриди со своим штабом, и десятки тысяч народу на улицах, в окнах, на крышах. Бело-голубые флаги висели над каждой лавчонкой; женщины плакали на улицах от радости; старые бородачи кивали сивыми бородами и бормотали молитву “благословен давший нам дожить до сего дня”; Патерсон ехал верхом, улыбаясь и раскланиваясь, с розою в руке, которую бросила ему барышня с балкона, а он подхватил на лету; а солдаты, те самые портные, плечо к плечу, штыки в параллельном наклоне, как на чертеже, каждый шаг — словно один громовой удар, гордые, пьяные от гимнов и массового крика и от сознания мессианской роли, которой не было примера с тех пор, как Бар-Кохба в Бетаре бросился на острие своего меча, не зная, найдутся ли ему преемники…
Молодцы были эти портные из Уайтчэпеля и Сого, Манчестера и Лидса. Хорошие, настоящие “портные”. Подобрали на улице обрывки разорванной народной чести и сшили из них знамя, цельное, прекрасное и вечное.
На следующее утро мы выехали из Саутгемптона во Францию — Египет — Палестину.
Глава 9. Лагерь и штаб-квартира
Десять дней подряд в вагонах, ползком через Францию и Италию; но это были не трудные дни. У солдат наших должно было получиться впечатление, что и Франция, и Италия нарочно устроены и распланированы для удобства британской армии. На каждой узловой станции, от Шербурга до Таранто, имелся английский «Ар-Ти-О» (начальник военных поездов), и он, очевидно, и был настоящим хозяином железной дороги; во всяком случае, так нам это казалось. На каждые вторые сутки мы попадали в этапный лагерь с английским управлением, врачами, сестрами, прислугой; каждый этап был похож на городок из бараков и палаток, со столовыми, аптекой, больницей, концертной эстрадой и даже «калабушем» — так наши солдаты, под влиянием александрийцев, привыкших к египетской терминологии, называли кутузку. У нас в батальоне образовался прекрасный оркестр с труппой из настоящих кафешантанных актеров — никто не подозревал до тех пор, сколь многим сцена мюзик-холла обязана Уайтчеплу. Этапные власти очень хвалили наши концерты; я могу только отметить, что в их репертуаре не было ни одной еврейской песни кроме Гатиквы, которую полковник заставлял исполнять стоя к концу каждого концерта.
Солдаты были очень весело настроены. Особенно помню один вечер, когда мы медленно ехали вдоль французской Ривьеры мимо Ниццы и Монако, уже в полном блеске тамошней весны. Ист-Энд, видимо, и не подозревал, что бывает на свете такая красота. Изо всех окон длинного поезда неслись радостные крики.
Из 30-ти офицеров две трети были евреи, переведшиеся из других полков. Большинство из них мало слыхали до тех пор о сионизме; в офицерской столовой после ужина завязывались иногда споры, напоминавшие добрую старую «дискуссию» в Минске или Кишиневе. Нация ли евреи? Что такое национальность? Можно ли быть сионистом и английским патриотом? Пробовали и меня втянуть в прения, но я уже давно забыл, как «доказываются» такие теоремы. Честь эту я охотно предоставил более молодым «рекрутам» сионизма.
Горас Сэмюэл, статьи и рассказы которого печатались в толстых журналах (теперь он видный адвокат в Иерусалиме), прижав к стене долгоносого кап. Гарриса, главу полковых ассимиляторов, доказывал ему со своим ленивым оксфордским акцентом, что национальность есть "внутреннее настроение"; если тот не поддавался, Сэмюэл призывал на помощь адъютанта Ледли, типичного замороженного инглишмена, ставил их рядом и призывал мир во свидетели, что нельзя эти два экземпляра принять за сынов одной народности.
"Падре" Фальк, пламенный мизрахист, смело отстреливался от целого батальона лейтенантов, наседавших на него со всякими безбожными новшествами, например, что сионистское исповедание ничуть не связано с предпочтением кошерного мяса. Он стоял, как скала, на своем:
— Совсем и не в мясе тут дело, а в принципе: еврей вообще должен бороться против всех своих аппетитов, ограничивать и дисциплинировать себя на каждом шагу.
Кап. Дэвис, батальонный врач, заменивший у нас перед самым отъездом Редклифа Саламана, который был прикомандирован к батальону Марголина и остался пока в Лондоне, со смехом пожаловался:
— Понимаете, вдруг получаю приказ: изволь вспомнить, что ты еврей и ступай в крестоносцы, если можно так выразиться. Я теперь, значит, вроде как бы "сионист по набору".
И он тут же в поезде написал весьма вдохновенный "марш еврейского легиона", в стихах с рифмами, с энтузиазмом и национализмом и всем прочим, что полагается. Вышло недурно; новое подтверждение теории, что на второй день исчезает разница между конскриптом и добровольцем.
Лучший сионист изо всех был сам полковник. Его аргументы назывались: Эгуд, Гедеон, Девора и Варак, царь Давид, Армагеддон, луна в долине Айялонской… Падре пытался даже доказать, что Патерсон не просто сионист, но мизрахист. Правда то, что Патерсону удалось приладить наши отдыхи в этапных лагерях к субботам. По утрам батальон созывали тогда на парадное богослужение, в присутствии всех офицеров и солдат; посреди парада на высокой палке развевался бело-голубой флаг, падре читал Тору из настоящего свитка (подарок портсмутской общины), а после его проповеди тот самый хор, что выступал с таким успехом в полковых концертах, исполнял Гатикву и английский гимн. Проповедовал он горячо, наивно и содержательно. Это был молодой человек очень начитанный в своей отрасли; ссылался на борьбу саддукеев с фарисеями, уважал ессеев, бранил эллинистов, хвалил зелотов, полемизировал с Вельгаузеном… очень приличный молодой человек был наш падре; теперь он раввинствует, кажется, в Австралии, в Сиднее, и я сердечно поздравляю его общину.
В Таранто, где нам пришлось целую неделю ждать конвоя японских миноносцев для переезда в Александрию, Патерсон пошел с падре в город к столяру и заказал маленький походный ковчег для свитка из какого-то очень дорогого дерева. С большим церемониалом на ближайшем субботнем параде уложил в него наш свиток, и полковник сказал солдатам совершенно серьезно:
— Теперь вам нечего бояться немецких подводных лодок, раз у нас на пароходе будет такой талисман. Транспорт нам дали великолепный, и в Александрию мы доехали без приключений и без непогоды.
* * *
Александрийская община встретила нас как родных. Снова увидел я старых друзей из времен Габбари: главного раввина Делла Пергола, барона и баронессу Менаше, Суареса, Пичотто. "Zion Mule Corps" был наш сын, а этот полк — наш внук", — говорили они. Они устроили в нашу честь торжественное богослужение в главной синагоге, с губернатором, генералами, консулами и мусульманскими нотаблями.
То же повторилось в Каире. Ген. Алленби уже тогда был со своей штаб-квартирой в Палестине, недалеко от колонии Беер-Яков; но верховный комиссар Египта, сэр Реджинальд Уиндхем, пропустил батальон пред собою церемониальным маршем, стоя у ворот дворца навытяжку с рукой под козырек, когда оркестр играл Гатикву… Еще далеки были те настроения, что развились у английских властей через год или полтора, когда ген. Мони, военный администратор Палестины, в 1919 году, в Иерусалиме, в присутствии всех еврейских и английских и арабских нотаблей, отказался встать при звуках еврейского гимна.
Нам дали лагерь в местности Хельмия, недалеко от Каира; там мы и закончили обучение солдат. Было страшно жарко, работать можно было только до 9-ти утра и с 5-ти часов вечера. И почти еженедельно устраивался где-нибудь «бал» — то в городе в нашу честь, то у нас в лагере в честь каирской общины.
* * *
Кроме обычных обязанностей взводного мне досталась еще одна работа: все солдатские письма подлежали до отправки просмотру офицером. Я был единственный офицер, способный прочесть письмо еврейскими буквами. Заодно мне уж подсовывали вообще все письма, написанные не по-английски. Тут я в первый раз открыл тот факт, что у нас в батальоне оказалось несколько литвинов — не «литваков», а настоящих литвинов-католиков. Они работали в угольных копях где-то неподалеку от Глазго: когда пришлось идти служить, они попросились к нам. Я, конечно, ни слова не знал по-литовски, за исключением того, что Германия по-ихнему «Вокетия», а поляк называется «ленкас». Но если бы я отказался «цензуровать» их письма, то вообще лишил бы их возможности переписываться, ибо остальные офицеры в Египте, вероятно, даже и этих двух слов по-литовски не знали. Словом, я решил поставить на карту судьбу войны и победу союзников и стал подписывать "О. К." на литовских письмах. Одно я в них понял: изо всех наших солдат литвины были почти единственные, которые пытались описывать нашу дорогу, упоминали географические названия, говорили о специальных задачах полка, вообще единственные, которые интересовались вопросами «посторонними», вне круга личных дел: сужу об этом потому, что в их письмах были такие слова, как Ницца, Италия, «Эгиптас», даже «Иерозалимас», даже «сионизмас».
В еврейских письмах этого почти не было. "Дорога приятная". "Теснота в вагонах". "Слава Богу, море спокойное". А дальше следует самое главное: как дети? Прорезались ли уже зубки у Ханелэ? Прошла ли корь у Джо? Не тоскуй, дорогая. Провела ли ты уже газ на кухне? — Бесконечная нежность к своему дому — не к стране, не к городу, не к улице, а
только к одной квартире… Мне вспоминалось талмудическое речение: "Дом его есть его жена". Кто знает: может быть, это и лучше патриотизма; может быть, это есть основа патриотизма. Может быть, если этим людям дать настоящий «дом», такой, где квартира, и улица, и город, и страна сплетены в одно целое, взаимно обусловленное как ступени одной и той же лестницы, где сломай одну — посыплются другие, то и получится психология зелотов Бар-Кохбы?
Часто мне почти совестно было так глубоко заглядывать в человеческие души. Зато я установил для себя правило — вынимать каждое письмо из конверта и вкладывать обратно, не глядя на адрес. Это было тем корректнее, что в этих письмах часто была крепкая брань по адресу самого цензора…
* * *
Мы ждали гостей. Почти накануне нашего отъезда из Англии пришла телеграмма из Нью-Йорка, подписанная: Брайнин, Бен-Цеви, Бен-Гурион. В ней кратко сообщалось об открытии в Америке широкой вербовки солдат для нашего полка. Греческое правительство тоже сообщило, что разрешит набор добровольцев в Салониках. Из Буэнос-Айреса пришла телеграмма: "Британское согласие получено. Владимир Герман". В Египте тоже открылось рекрутское бюро.
Но самая отрадная весть получилась из Палестины. Как только поезд наш подошел к Каирскому вокзалу, ко мне подбежал молодой человек в хаки, правда, без кокарды.
— Зовут меня так-то, — представился он. — Специально прислан из Тель-Авива приветствовать легион от имени палестинских волонтеров. — И он мне впервые рассказал о большом движении в оккупированной части Палестины: в Иерусалиме, Тель-Авиве с Яффой, в колониях Иудеи; передал слухи что и в северной части Палестины, тогда еще занятой турками, молодежь сильно возбуждена; несколько человек даже пробрались через турецкие линии и пришли в пограничную Петах-Тикву с вопросом, где легион?
Однажды утром Патерсон мне сказал: — Уложите свой дорожный мешок — я получил пропуск для себя и для вас в Палестину.
Всю ночь в поезде оба мы не спали. Не потому, чтобы взволнован был я — взволнован был полковник. Нашему брату, перекати-полю, без почвы и традиций трудно представить себе, что значило для его протестантской души «переживать» такие имена, как Синайская пустыня, Газа, Иудея. Еще в детстве он по воскресеньям тихо сидел у огня, когда отец читал благоговейно притихшей семье очередную главу из английской Библии. Суэцкий канал? Для меня это тоже грандиозная вещь — в смысле инженерного достижения. Но для Патерсона это было личное воспоминание, кусок его собственного детства, отголосок первой из первых волшебных сказок, которым он научился еще задолго до того, как услышал об ирландских горных духах и ведьмах и прекрасной королеве Дейрдрэ, погубившей столько богатырей; для него это было расступившееся Чермное море, Моисей-пророк с длинной бородой и рогатыми лучами на лбу, фараоновы колесницы в волнах, столпы огня и дыма.
Луна, заря, солнце, — а кругом все то же, пустыня с редкими кочками зелени. Потом несколько больше зелени: это Газа. Серая, запыленная, запущенная арабская трущоба в моих глазах; но для моего полковника это — город могучего Самсона и веселых филистимлян.
Потом опять пустыня; и вдруг — новый мир, зеленая роща эвкалиптов, бесконечные ряды виноградников, чистые белые домики вдали с красными крышами — другой мир, мираж Европы. Я слышу, полковник спрашивает у солдата-кондуктора: "Это как называется?"
— Дойран, — отвечает солдат.
Так я в первый раз столкнулся с тем отношением к еврейской работе, которое в штабе Алленби стало законом. «Дойран»? Ведь это наша колония Реховот; «Дойран» называется крохотная арабская деревушка, которую среди песков даже отличить трудно. Но так постановил Алленби: Петах-Тиква называется Мулебис, Беер-Яков — Бир-Салем. Единственное исключение — Ришон так и остался «Ришон»: тамошнее вино у англичан было очень популярно, и вышло бы не дипломатично и обидно для трезвенника-пророка окрестить мусульманским именем бутылку коньяку.
В Беер-Якове мы сошли. Недалеко от колонии, вокруг двух довольно крупных домиков, принадлежавших немецкому поселенцу, раскинулся городок из палаток и бараков — «Джи-Эйч-Кью», штаб-квартира ген. Алленби. Тут мы с полковником расстались: он пошел на свидание к верховному главнокомандующему, я уехал на грузовике в Тель-Авив. Вечером того же дня мы снова встретились в одной из столовых при ставке главнокомандующего и рассказали друг другу свои впечатления. Мои были отрадные; его — совсем напротив. Дело в том, что я был в доме у бедной невесты, которая ждала к себе возлюбленного и еще верила, что и он в нее влюблен; но Патерсон побывал в чертогах у богатых родителей жениха…
В Яффе и Тель-Авиве я застал и большую подавленность, и великое воодушевление… Теперь говорят в обратном порядке: Тель-Авив и Яффа; но тогда в еврейском пригороде было всего тысячи три жителей; это был даже не пригород, а просто гимназия с несколькими десятками чистеньких домиков вокруг, европейский поселок для интеллигенции. Недалеко от города повстречался мне мальчик лет десяти; я его посадил в свой грузовик, а он зато обещал показать мне дорогу к старым друзьям моим И.А.Берлину и (ныне покойному) Б.Б.Яффе. По пути мальчик рассказал мне все новости: едет на английских судах еврейская армия, сорок тысяч человек, во главе ее стоит генерал Джеймс Ротшильд сын барона Эдмонда из Парижа. Не хотелось его огорчать: я промолчал. Друзьям в Тель-Авиве пришлось, конечно, рассказать, сколько нас, и, хотя их ожидания были много скромнее, чем у того мальчика, я не мог не заметить разочарования.
Но молодежи тамошней было не до нашего полка и его размеров: они полны были собою, своим собственным «Гитнадвут» (волонтерское движение). Во главе дела стоял М. Смелянский, человек уже лет за сорок, недурной беллетрист и один из видных садовладельцев колонии Реховот. За ним послали, и он скоро прибыл с группой реховотских рабочих: все волонтеры. В Яффе и Тель-Авиве почти все добровольцы были тоже из рабочих; меньшинство составляли воспитанники гимназии, но и они примыкали духовно к рабочему крылу. Теперь это все видные люди в рабочей организации Палестины. Был там Б.Кацнельсон, ныне редактор газеты «Давар»; был Явнеэли, вывезший когда-то из южной Аравии первую большую группу евреев-йеменитов; был Дов Гоз, теперь глава рабочего строительного общества Солел-Бонз… чуть ли не вся нынешняя аристократия партии Ахдут-ха-Авода (тогда еще называвшейся Поалей-Цион) стояла во главе военного добровольчества. Зато противниками «Гитнадвут» были главари второй рабочей партии, Гапоэль-Гацаир; но и у них нашелся еретик, по имени Свердлов, совратил в «милитаризм» довольно большую группу и вместе с нею записался в «полк».
"Записаны" они были пока только в своих собственных списках: начальство их не желало. Еще в январе они подали в штаб петицию за сотнями подписей, но ответа не получили. Они, однако, были убеждены, что теперь, когда прибыл уже и наш батальон, они своего добьются.
— Сколько вас?
— Тысячи полторы. Треть — девушки: они думают об особом отряде при красном кресте, а некоторые, впрочем, рвутся и в амазонки…
На большом дворе девичьей школы в Яффе созвали «парад». Инструктором их был Гоз, еще недавно офицер турецкой армии. С первого взгляда было ясно, что материал это первоклассный, все тонкие, ловкие, напряженные, хоть и со впалыми щеками от долгой турецкой голодовки.
в этом и заключались мои добрые вести, привезенные полковнику. Его рассказ зато звучал гораздо печальнее.
Ген. Алленби отнесся к нам очень холодно — и к лондонскому батальону, и к местным добровольцам. Он от Китченера унаследовал отвращение к «экзотическим» контингентам. Что именно сказал он Патерсону, я до сих пор точно не знаю: полковник, видно, не хотел меня огорчать подробной передачей, и в книге его тоже нет подробностей этой беседы. На одно только Патерсон очень напирал: не столько враждебен Алленби, сколько начальник его штаба, некий генерал Луис Больс. Это был тот самый Больс, который, спустя два года, уже будучи верховным администратором Палестины, допустил первый трехдневный погром в Иерусалиме и отдал под суд самооборону.
Долго, уныло и молча, шагали мы оба по пыльной дороге между пыльными кактусами. Теперь, оглядываясь назад, я вижу пророческий характер этого эпизода, нечто вроде введения ко всему периоду военного управления Палестиной, а может быть и гражданского. С одной стороны — воодушевление, надежды, готовность на все жертвы, нетерпение бороться и творить; с другой — холодные, скептические глаза со взором чужим и подозрительным, со враждебным «отталкиванием» по отношению ко всему необычному, небанальному, невчерашнему, ко всему, что пахнет «экзотикой», например сионизм.
Но душа Патерсона, как решето не держит воды, не держит уныния. Он вдруг рассмеялся и сказал:
— Пустяки. Мы с вами и похуже видали, а справились. Я уверен, что главнокомандующий переду. мает.
Патерсон оказался прав, даже слишком прав. Не раз, а десять раз еще «передумал» генерал Алленби и касательно легиона, и касательно всей сионистской проблемы. Через несколько недель он разрешил набор палестинских добровольцев; потом опять затянул дело на долгие месяцы; потом пришел в восторг и обещал образовать "еврейскую бригаду" с Патерсоном в качестве генерала во главе; потом не сдержал и этого слова, хотя сам его написал черным на белом.
Удивительная это вещь, но совсем не редкая: именно люди с репутацией "железной воли" часто на самом деле тряпичнее былинки под ветром. Алленби, конечно, большой солдат. Но за что его приписали к большим государственным деятелям, это для меня по сей день загадка. Никто так не напортил Англии в Египте, как он потом за годы своего обер-комиссарства; о Палестине под его управлением и говорить не хочется. Я думаю, что в качестве исполнителя он, действительно, крупная сила; но это именно «исполнитель» чужих советов, а не направляющая рука, Хороший автомобиль, на котором кто угодно — если вкрадчив и удачлив — может ехать куда угодно. Я таких людей много знаю, в разных углах быта, и всегда их боюсь. Это опасная комбинация — человек, к которому прилипла репутация упорства и непреклонности ("вол вассанский", прозвали его льстецы из библейских начетчиков при штабе), между тем как сам он в сущности почти никогда не знает, в чем ему упорствовать и непреклонничать, и вынужден запрашивать об этом у советчиков. Опасно здесь то, что такой человек уже невольно дорожит своей «железной» легендой, а потому принимает только те советы, которые дают ему случай лишний раз проявить "железные качества". Тут раздолье именно таким советчикам, что умеют нашептывать против всего «сентиментального», «мягкотелого», против «идеологии», как выразился бы Наполеон. Сам по себе Алленби, вероятно, не враг ни евреям, ни сионизму — вообще вряд ли есть у него свой взгляд на такие проблемы; и теперь, когда он не у дел и советчики перестали вокруг него увиваться, он, говорят, очень сочувственно к нам относится; но в те годы эта черта его помогла отравить и штаб, и армию, и всю правительственную машину таким озлобленным юдофобством, какого я и в старой России не помню.
Глава 10. Праздник еврейской палестины
Как только мы вернулись в Хельмию, полк. Патерсон учредил специальную “команду вербовщиков”. В нее вошли унтер-офицеры и солдаты, знавшие по-еврейски; во главе он поставил лейтенанта Липси и приказал ему: “через месяц вы должны говорить поихнему, как сам пророк Исайя”. Липси происходил из религиозной семьи в Глазго и молитвы знал наизусть. Наш падре утверждал, что этого совершенно достаточно, что он берется доказать кому угодно всю важность службы в легионе при помощи тех исключительно слов, какие имеются в молитве “восемнадцати благословений”. Тем не менее Липси пришлось заучить еще, по крайней мере, ту терминологию строевой команды, которую выработал наш “ 16-й взвод” во время прогулок в окрестностях Винчестера. Правда, согласия штаба на набор в Палестине еще не было, но Патерсон считал, что будет. По его мнению, “если Господь Саваоф, Бог Воинств, даже фельдмаршала Китченера не послушался, то уж он и простого генерала не послушается”.
Незадолго перед Пасхой прибыл второй наш батальон, официально “39-й”, с полк. Марголиным во главе; половина его состава были американцы. Еще через неделю прибыла “сионистская комиссия” с Х.Е. Вейцманом во главе; кап. Ормсби-Гор состоял при ней в качестве officier de liaison между комиссией и ставкой. К составу комиссии принадлежал также Джэмс Ротшильд, уже в чине майора, и в то же время он числился офицером в батальоне Марголина. Все это заставило советников ген. Алленби, наконец, догадаться, что лондонское правительство действительно заупрямилось и настаивает не только на сионизме, но притом еще на легионе.
Тем не менее “Гитнадвут” еще надолго осталось движением опальным и потому “опасным”. Нашлись добрые друзья из окружения ставки, которые дружески советовали сионистской комиссии держаться подальше от этого шума. У нас, как известно, советы такого рода всегда охотно принимаются. Чем больше в совете робости, тем больше мы в нем видим государственной мудрости — хотя бы мы при этом рисковали повредить важному и полезному делу.
Был такой день, когда я действительно боялся, не повредит ли государственная осторожность моих милых друзей из палестинской комиссии всему делу “Гитнадвут”. Смелянский созвал у себя в Реховоте массовый съезд всех волонтеров. Собралось до тысячи человек, из Яффы, из колоний, даже из Иерусалима — по большей части пешком, потому что на проезд по железной дороге нужно было разрешение, а извозчик дорого стоил. Говорю “извозчик”, так как автомобилей в Святой Земле, кроме военных, еще не было: первый “штатский” автомобиль привезла с собою сионистская комиссия, и старожилы качали головой, не одобряя такой роскоши. А пешком из Иерусалима значило: два дня пути по апрельской жаре.
Комитет волонтеров пригласил на съезд всю сионистскую комиссию: никто не явился. Я, признаюсь, растерялся. Патерсон, конечно, не побоялся бы приехать, несмотря на то, что Реховот — в двух шагах от штаб-квартиры сердитого генерала Больса: но Патерсон был в Египте. В полной растерянности я бросился во встречный автомобиль и уехал в ставку, прямо к ген. Клейтону — тому самому, который впоследствии был статс-секретарем во время комиссарства Герберта Сэмюэля. Я попросил его послать в Реховот какого-нибудь офицера чином повыше или хоть написать ободрительное письмо. Он развел руками беспомощно:
— Не могу. Скажите им устно, что они молодцы, и что я надеюсь…
С этим слабым утешением мне и пришлось поехать в Реховот.
Но там оказалось, что съезду никаких внешних ободрений и не нужно: в них самих достаточно было электричества. С громовыми овациями самим себе они снова подтвердили свою волю биться за Палестину. Было даже внесено предложение — тут же выстроиться в колонну и отправиться в Беэр-Яков на личные переговоры с Алленби. Едва мне удалось их отговорить: это с моей стороны было весьма мудро и осторожно, и по сегодняшний день я об этом жалею: уверен теперь, что поход на ставку увенчался бы успехом и ускорил бы начало набора на несколько месяцев.
Тем не менее съезд и без того “передался” в штаб-квартиру. Перед самым зданием, где происходило сборище, стояла палатка офицера осведомительной службы; это был капитан, имени которого я так и не узнал. После собрания он меня вызвал к себе в палатку.
— Что это такое?
— Еврейские волонтеры. Ген. Клейтон передал мне для них приветствие.
— Странные люди, — сказал он, — рвутся в армию… здорово живешь, когда их никто не тащит. И еще на четвертый год войны, когда всем нам она давно надоела. Сколько их? Целый час они тут маршировали мимо моей палатки. Тысячи две или больше?
— Ммм… — ответил я “осторожно”, — не успел сосчитать; но много.
— Приличные молодые люди, — сказал он, — и маршируют в ногу. Придется послать доклад.
Так и “дошли” они до ставки, хотя только на бумаге.
******
В конце концов набор был объявлен, и даже противники признавали, что такого подъема Палестина не знала ни до того, ни после. Но мне его почти не удалось видеть. В начале июня мой батальон уже был на фронте, в горах Ефремовых, на пол дороге между Иерусалимом и древним Шхемом, который арабы называют Наблус. Меня оттуда вызвали на два-три дня в Иерусалим, произносить какие-то речи, явно никому не нужные; и там я увидел малый уголок этого, действительно, незабываемого зрелища. Там ко мне приходили старые и молодые матери, сефардки и ашкеназийки, жаловаться, что медицинская комиссия “осрамила”, т. е. забраковала их сыновей. Лейтмотив этих жалоб звучал так: “стыдно глаза на улице показать”. Больной еврей, по виду родной дед Мафусаила, пришел протестовать, что ему не дали одурачить доктора: он сказал, что ему 40 лет — “но врач оказался антисемитом”. С аналогичными жалобами приходили мальчики явно 15-летние. Скептики шептали мне на ухо, что многих гонит нужда; может быть, — но они все помнили битву под Газой и знали, на что идут. А мне говорили, что иерусалимская картина еще была ничто в сравнении с тем “коллективным помешательством”, которое охватило в те дни Яффу и колонии, особенно рабочую молодежь.
Майор Ротшильд, заведывавший вербовкой, предложил мне на обратном пути сделать крюк и заехать в Яффу. Там я снова увидел своих друзей из Реховота, но теперь они глядели победителями. Тут были: Смелянский с молодежью из колоний, Гоз и Каценельсон с чуть ли не полным составом партии Поалэ-Цион, Свердлов с еретиками из второй рабочей партии, Явнеэли со своими йеменитами, был тут молодой Бейлис, сын героя знаменитого процесса; был юный Узиэль, сын раввина сефардской общины, с эффектной группой сефардской молодежи. Вперемежку с ними бродили по Яффе члены нашей команды вербовщиков, еще более старые друзья, проделавшие с нами самые горькие дни одиночества и разочарований: инженер Аршавский с нашивками капрала, Гарри Фирст в одежде рядового; и, наконец, самые “старые” из всех, товарищи мои по Габбари и Трумпельдора по Галлиполи — сержант Нисель Розенберг, волжские “геры”, грузинские “швили”… Все они собрались во дворе женской школы. Вокруг была вся Яффа с Тель-Авивом, стар и млад, все разодетые в свои убогие праздничные наряды, девушки с цветами в волосах, многие с флажками; офицеры английские, офицеры итальянские из отряда, стоявшего в Тель-Авиве, и зрители-арабы, очевидно, в таком же хорошем настроении, как и мы.
Перед этими столпами Гитнадвут я произнес нравоучительную проповедь, которая, может быть, оказалась не столь ненужной, как иерусалимские речи:
— Друзья, учить вас храбрости не за чем. Но не это главное. В жизни солдата страшнее всего не опасность, а две другие стороны армейской жизни: скука и грубость. С опасностью встречаешься раз в месяц; но в промежутке между двумя атаками нужно несколько недель просидеть в траншеях или в тылу, проделывая нудные, надоевшие поденные работы, в которых нет ни соли, ни перцу — и при этом сержант, хотя бы из вашей собственной среды, будет еще обзывать вас bloody fools или эквивалентом этого титула по-еврейски. Научитесь и это выносить. Лучший солдат не тот, кто лучше стреляет, — лучший тот, кто больше в силах вынести… Более того: когда английский унтер ругается, не считайте его хамом. Англичане сегодня наши партнеры в войне — в деле, которое они называют “игра”. Для нас это не игра, у нас философия жизни другая, — но и в их философии есть своя красота. В игре человек всегда и честнее, и терпеливее, чем в жизни. Купец может обсчитать покупателя и глазом не моргнет, — но за картами он счел бы позором передернуть: ибо, если не в жизни, то хоть в игре хочется человеку прожить час без страха и упрека. Помните, в детстве вы играли “на щелчок по носу”: кто проиграл, принимал покорно свой щелчок, — но попробовал бы тот же мальчик щелкнуть вас по носу в действительной жизни! Так смотрит на жизнь англичанин: все в ней игра, а война в особенности. Капрал ругается? Да ведь это просто щелчок по носу, это в правилах игры, сердиться не полагается. Грязно в траншее? Это просто плохая карта попалась в игре, потерпи до следующей раздачи. Пуля, граната, рана и смерть — все это части игры. Вообще я в их философию мало верю, но для войны она хороша. Играйте по правилам, не считая ни щелчков, ни битых карт…
Перед отъездом я встретил в Тель-Авиве Х.Е.Вейцмана. Он был наполовину в восторге, а наполовину зол.
— Вы начисто подмели всю страну, — говорил он Джэмсу Ротшильду, — откуда брать нам теперь рабочих, учителей, служащих?
Потом, однако, перед отъездом волонтеров в лагерь на учение, он им на торжественном параде передал еврейское знамя и произнес, глубоко взволнованный, слова красивые и трогательные: поблагодарил их от всего народа за грандиозную манифестацию, которая поможет укрепить наши права на Палестину, и пожелал им успеха и победы.
Я этого уже не видел и не слышал, только прочел в письме в наших траншеях на горе Ефремовой.
******
Одна часть волонтерского движения осталась исключенной из общей радости: девушки. Говорить с англичанами об “амазонках” было бы, конечно, совсем напрасно, да и сами они всерьез об этом не думали; но на образование “красного щита Давидова” они надеялись крепко.
Добились мы и этого, но уже много позже, и в очень малых размерах. Маленькая группа сестер была в конце концов принята на военно-медицинскую службу; должен признать, что отбор девушек, имевших нужную подготовку, происходил в моем присутствии, и только эти немногие и оказались подготовленными. Тем не менее, группа получила официальное звание “Red Magen-David” и особый значок; и служили они в том госпитале, куда главным образом и попадали наши солдаты после перемирия. Госпиталь находился на железнодорожной станции Била, у самой египетской границы, а в получасе езды оттуда была Рафа, где почти всегда стоял какой-либо из трех еврейских батальонов.
Сестры они были хорошие; но не этим одним я считаю себя вправе похвастаться. В нашем народе еще застряло, к сожалению, несколько восточных предрассудков, и потому я немного боюсь, что иной из читателей найдет неуместным эпизод, который я сейчас расскажу. Я, однако, его расскажу, так как твердо считаю “Восток” — в духовном или бытовом смысле — самым обидным из бранных слов, и думаю, что еврей — древнейший из европейцев. А одно из отличий европейской культуры — умение гордиться привлекательностью своих женщин. Помню, что во время первых съездов Лиги наций в Женеве вся печать говорила об умном трюке англичан: их делегация привезла с собою в Женеву, как на подбор, всех очень миловидных машинисток. В самой Англии красивых девушек совсем не так много: тут был именно подбор, и совершенно правильно, ибо это и есть кусок национальной гордости.
Эпизод произошел в упомянутой Рафе. Неподалеку от нашего лагеря во время перемирия устроены были скачки: там рядом с нами стояла кавалерия “Анзаков” (инициалы австралийских и новозеландских войск). Наш батальон был приглашен, и Патер-сон привез с собою двух из наших сестер, которые были в тот день свободны от дежурства. “Анзаки”, со своей стороны, пригласили своих дам, все из того же госпиталя: большинство из них были очень элегантны в своем форменном платье, много было недурных собою, и почти все, кажется, “из хорошего общества”. Но в перерыве между началом и концом скачек, именно вокруг наших двух сестер собралась самая большая толпа: тут был и начальник “Анзаков” ген. Чейтор, и его штаб с полковниками, майорами и капитанами, человек двадцать, если не больше. Наших офицеров они совсем оттеснили (за исключением Патерсона, который считает, что ирландца от молодых дам нельзя оттеснить), и почти все время перерыва шла там перестрелка остроумия, смеха и комплиментов. Я был очень рад — издали, потому что и меня оттеснили.
******
Но уж это все было во дни перемирия, а пока речь идет о последних месяцах войны. Весело тогда было в Палестине, весело, несмотря ни на что.
Еврейское население только что пережило несколько страшных лет. До войны в Иерусалиме считалось 60 тысяч евреев: теперь осталось около двадцати двух тысяч; уехать удалось лишь немногим, остальные вымерли от голода и болезней. До сих пор (говорю о весне 1918 г.) нищета в Иерусалиме чувствовалась на каждом шагу. Дети подбегали на улице и просили: “Не давайте мне денег, купите мне хлеба”… В прежние времена только у Стены Плача можно было встретить еврейских нищих, и то стариков; даже “халуканцы”, жившие заграничной милостыней, держали своих мальчиков с утра до ночи в школе, девочек дома. Но теперь дети были на улице — и, говорят, не только за подаянием…
Но и другая, еще горшая трагедия пронеслась, едва за год до того, над палестинскими евреями. Они ее называли “риггуль”—по-еврейски это значит шпионаж. Сильный, даровитый и большой человек — большой и в талантах, и в пороках — вывязал, под самым носом у Джемаля-паши и его турецкого и немецкого штаба, тайную сеть для помощи английской разведке. Он устроил правильную связь между своим центром в Палестине и ставкой Алленби в Каире; несколько раз агенты его перебирались туда и обратно в подводных лодках англичан. Англичане считают, что эта организация им значительно помогла; но евреи по сей день говорят о ней с ужасом и отвращением. Кто прав и неправ, не наше дело. Среди лиц, замешанных в это дело, бесспорно, были фигуры значительного размаха, готовые рисковать чем угодно вплоть до последней жертвы; еще найдется когда-нибудь поэт и зарисует эти образы, их грехи и героизм, их легкомыслие и отвагу. Но еврейское население дорого за все это заплатило.
От Рущука до старой Смирны, От Трапезунда до Тульчи, Скликая псов на праздник жирный, Толпой ходили палачи…
Сарру Аронсон два дня пытали турки в колонии Зихрон-Яков, били бамбуками по пяткам, клали горячие яйца под мышки; на третий день она улучила миг и застрелилась, не назвав ни одного имени. Трех ее товарищей повесили на площади в Дамаске. Другим выламывали пальцы, выворачивали руки. Страшное было время.
И вдруг, 2 ноября 1917 года, прогремел под Газой первый пушечный выстрел нового наступления, и в несколько недель освободился весь юг и вся Иудея, от Иерихона до Петах-Тиквы и Яффы. И тогда евреям рассказали, что в тот самый день 2 ноября раздался и в Лондоне другой выстрел, направленный против древней твердыни Изгнания, — декларация Бальфура; и что “еврейская армия”, о которой у них давно шептались, уже в пути, идет освобождать Самарию, Галилею, Заиорданье — времена мессианские настали!
Жителю многолюдных городов трудно будет понять, как воспринял это крохотный народ еврейской Палестины. Всего их было тысяч пятьдесят. Когда вдруг повеет великий дух над малой общиной, получаются иногда последствия, не далекие от чуда: в этом, может быть, разгадка тайны Афин и того непостижимого столетия, которое породило и Перикла, и Сократа, и Софокла — в городишке с тридцатью тысячами свободных граждан. Я, конечно, не приравниваю ни талантов, ни значения; но по сумме чистого идеализма Палестина в те дни могла поспорить с каким угодно примером. В конце концов, там сосредоточился отбор из двух эпох сионистского движения, до Герцля и после Герцля; там по улицам часто проходили скромные, мешковато одетые люди, именами которых, когда они умрут, потомство назовет эти самые улицы. Они пережили насмешку, равнодушие, сто неудач, пытку и голод — и теперь у них на глазах совершались первые шаги осуществления древнейшего из пророчеств. Может быть, я преувеличиваю; но мне кажется, что история мало знает других страниц, где бы так тесно переплелись, и в такой неслыханной мере, такая древняя древность, такое величие воспоминаний, такая глубина падения и горя, такой полет надежды. Может быть, то же было в Греции, сто лет назад, во время освобождения; а может быть, и там было не так. Притом сильно чувствовалось, в конце концов, захолустье, где каждый каждого знает, и всякая мелочь кажется событием; но это, право, не вредило торжественности общего настроения. Мне это, по крайней мере, было мило. Вся “знать” Иерусалима и Тель-Авива и колоний волновалась о том, удастся ли уютно расселить членов “сионистской комиссии”. На автомобиль этой комиссии приходили смотреть из Экрона, Гедеры и Артуфа, за десятки верст.
Потом прибыла из Нью-Йорка первая партия “Гадассы” с д-ром И.М. Рубиновым во главе, около тридцати врачей и сестер и пуды всяких лекарств и целый парк автомобилей, и подо всем ясный намек на те миллионы и миллиарды, которые вот-вот поплывут из этой Америки на строение Еврейского Государства…
Точно так же преувеличивали они и “опасности”. Девушки ходят гулять с австралийскими солдатами: не грозит ли это порчей нравов? Несколько предприимчивых бедняков открыли лавчонки и продают англичанам “кекс”: что ж это такое, неужели Палестина становится страной рестораторов? Не хотим второй Швейцарии! В обиходе появилось слово “ол-райт”: берегите национальный язык — идет ассимиляция!
Право, все это не портило впечатления красивой, наивной радости. Я недолго с ними прожил, больше все налетами, по пути из Египта в штаб или с фронта в Каир; но никогда в жизни еще не доводилось мне так надышаться воздухом чистого детского счастья.
… Это все было весною. А в октябре, когда мы вернулись из Заиорданья, после победы союзников на всех фронтах, уже все было по-иному.
Глава 11. Первый фронт
Собственно воинская история наших батальонов распадается на три части: лето на сихемском фронте, наступление в Иорданской долине, перемирие.
Первый период прошел относительно спокойно. После тяжелых боев последней зимы, когда турки были вытеснены из южной Палестины, обе стороны порешили отдохнуть. Турки в особенности отказались от всякой инициативы: стычки, какие были, происходили всегда по почину англичан, и то редко.
Большинство из молодых моих читателей, вероятно, сами были на фронте; но, может быть, обстановка горной войны им не так знакома. Фронт наш лежал, как уже сказано, на полдороге по прямой линии между Иерусалимом и Наблусом, он же по-нашему Сихем (Шхем). Когда едешь автомобилем из Иерусалима в Сихем, проезжаешь сначала мимо деревни Эль-Бирэ: это — древняя Беерот-Беньямин (Самуила II, гл. 4-ая, 2 и дальше). После того, глубоко в долине, лежит село Айн-Синия: во второй книге Второзакония (гл. 13-ая, 29) она называется Иешана. За Иешаной надо было свернуть с шоссе налево и выехать в узкую долину, которую арабы называют Уади-эд-Джиб. Здесь, между двумя безлюдными арабскими деревнями, и находились наши линии. Деревни назывались: слева — Абуэйн, а справа — Джильджилия; вторая, кажется, и есть тот "Галгал разноплеменный", о котором упоминается где-то в книге Судей. Представьте себе длинный горный хребет высотою приблизительно в 2500 футов, тянущийся с запада на восток. С севера лежит глубокая, тоже продольная долина, а по ту сторону долины — вторая параллельная цепь гор, еще выше первой. Наш лагерь был на первом хребте, турецкий — на втором; от верхушки до верхушки версты три. Оба лагеря, конечно, не на вершинах, а футов на сто ниже, на том склоне, которого противник не видит. Днем на вершину запрещено выходить; часовые сидели в замаскированных каменных землянках, называвшихся «О-Пип» (Observation Posts). По ночам мы занимали траншеи на открытом склоне горы; траншеи были неглубокие, собственно не траншеи, а брустверы, которые у нас называли индостанским словом «сангар». Кроме того, каждую ночь высылался в долину патруль на случай неприятельской атаки.
Это было спокойное время, как будто нарочно для того, чтобы постепенно ввести свежих солдат в боевую атмосферу. По утрам турки приветствовали нас получасовой бомбардировкой; но почему-то стреляли всегда в сторону, в одинокую скалу, совершенно лысую, где не только человека, но и коршуна никто не видал; и у них на три бомбы одна не взрывалась. Помню только три или четыре раза, когда они палили в наши позиции, в том числе один раз ночью; но вреда это нам не причинило. Холмы в той местности падают не откосо, а террасами, вроде лестницы; каждая терраса — шириною в два-три метра, и склон над ней подымается отвесно, высотою с двухэтажный дом. Наши палатки стояли вплотную у самого отвеса, так что снаряды, летя по траектории, пролетали почти всегда мимо. Должно быть, и наш огонь им мало вредил.
Вообще операции на палестинском фронте относятся к категории "малой войны". Из новомодной военной чертовщины мы мало что испытали. Изредка любовались поединком в воздухе, когда два аэроплана вертелись друг против друга вокруг незримого центра, словно две каретки или лошадки на карусели,
треща пулеметами и усыпая небо клочьями белой ваты. Газовых атак у нас не было. Опасных предприятий было только два: идти ночью с патрулем или отсидеть неделю в деревне Абуэйн.
Патруль состоял из лейтенанта с двенадцатью солдатами. Тяжелые армейские сапоги надо было завернуть в толстые тряпки, чтобы не стучали, тряпками надо было закутать голые колени — летом мы носили трусики, а колючая флора той местности изумительно богата. За два часа до выхода лейтенанту вручали запечатанный конверт с подробным описанием маршрута. Иногда он сводился к прогулке по долине, но иногда вел и вверх по противной горе, подчас всего на двести футов ниже того места, где у нас на карте красным обозначены были часовые посты противника. Это была служба нелегкая. Прежде всего приходилось карабкаться в темноте вниз, тысячу футов и больше по утесам и сквозь колючие заросли, с ружьем в руке, и притом без шума. Добрый час уходил на это. После того надо было пробраться в долине версты на две вправо и столько же влево, прячась под деревьями и перешептываясь с сержантом, что это за пятно — турок или кактус. Потом наступало самое трудное: карабкаться на турецкую гору, отыскивая путь при помощи компаса или при посредстве «признаков», сообщенных осведомительным бюро в следующей форме: "направо от расколотого фигового дерева" или "в десяти шагах налево от второй лужи". Но вот мы, наконец, добрались до "камня в пятнадцать футов высотой, который с севера похож на голову гиппопотама" (кто его видел, гиппопотама, да еще так близко, чтобы узнать его профиль в темную ночь?). Тут вы отдыхаете и раздаете солдатам по кусочку шоколада. Потом назад, еще два часа ползком или карабкаясь, причем уже все устали. Это, пожалуй, самая неприятная часть патрульного дела. Вы в ста метрах от турецких траншей, — а ничего не поделаешь, из-под усталых ног сыплются камни. Вдруг раздается выстрел, и что-то шлепается о скалы недалеко от вашего последнего солдата (идти приказано гуськом; устав требует, чтобы офицер шел посередине, но шик требует, чтобы он шел впереди). Вы «кричите» шепотом: ложись! Патруль ложится. Едва в трехстах шагах подальше, вверх по склону горы, вспыхивает искорка, подымается вверх и там становится красной ракетой и заливает светом всю вашу часть долины, заросли, сухое русло зимнего ручья, скалы, провалы — очень эффектно, если бы было до того; но отличить людей от кактусов при этом освещении трудно: сверху раздается еще несколько выстрелов, но стреляют они мимо. Тут за нас начинают заступаться: из Абуэйна, из Джильджилии, изо всех «сангаров» на нашем склоне подымается ружейный, иногда пулеметный концерт (они знают, где мы, и в нашу часть долины не стреляют). Иногда в этот домашний спор вмешивается и начальство, английская артиллерия. С жутким гулом альпийского поезда в темную ночь, когда путнику из долины виден только светящийся хвост его, едет величественно наперерез по небу над вашими головами огневая комета и разрывается на турецкой горе, потом другая — и хоть вы догадываетесь, что это все по расписанию, но солдатам говорите, что это все для нас. Грохот продолжается полчаса; потом становится тихо, вы ползете дальше и добираетесь до лагеря, где ждут вас с огромным кипящим чайником сладкого чаю.
Второе опасное место был Абуэйн. Село это принадлежало к нашим линиям только потому, что не принадлежало к турецким. Но на самом деле находилось оно в ничьей полосе — "No Man's Land". Если спуститься с нашей вершины в сторону турок, вы наткнетесь, футах в трехстах ниже, на выступ той же горы вроде огромной террасы или, вернее, громадного стола, и на этом столе арабы выстроили деревню, около полусотни хат. Абуэйн значит по-арабски "два отца"; может быть, два патриарха, — насколько знаю, деревня эта не упомянута ни в Библии, ни в Талмуде. Но это была, очевидно, не бедная деревня, судя даже по развалинам, которые от нее остались. Каждую неделю ее занимал другой взвод и оставался там семь дней. Днем сообщение между этим взводом и остальным батальоном было возможно только по телефону, по которому из десяти слов едва доходило до вас одно. Через эту тонкую нить цивилизации мы заказывали из Абуэйна в батальон все, что нужно было: спички, табак, хинин, бинты, амуницию, почтовую бумагу; и по ночам приходила с горы партия солдат с шестью белыми осликами и привозили ваш заказ (т. е. в той форме, в какой понял его батальонный телефонист) и цинковый ящик с дезинфицированной водой.
У меня дома осталось несколько писем моих из Абуэйна; привожу отрывки:
"…Вероятно, у каждого бывают в детстве те же две мечты. Первая — стать хоть на неделю царем или, по крайней мере, губернатором. Вторая — не смею сказать пожить в гареме, но хоть посмотреть изнутри на подлинный гарем. У меня сбылись обе мечты. На целую неделю я назначен самодержцем этой деревни, могу повелеть и запретить, что мне угодно, могу даже разрушить все село (только на восьмой день за это потащат на военный суд); а живу я в самом настоящем гареме, где окна забиты ажурными деревянными ставнями. Несколько портит мою радость то обстоятельство, что в гареме нет ни одной из его законных обитательниц, а во всей моей сатрапии ни одного штатского подданного ~ все население состоит из солдат моего взвода; тем не менее приятно отметить, что и мечты иногда сбываются".
"…По-настоящему живем мы тут только ночью. Едва стемнеет, мы расставляем стражу в трех пунктах, с которых видны разные части долины; при этом четверть часа приходится читать нотацию горячему капралу Саломону, начальнику поста № 2, что если он опять услышит шум внизу, то не надо сразу палить из пулемета, а надо раньше выяснить, не есть ли это наш собственный патруль на пути домой. После этого начинается, как выражаются интеллигенты из наших солдат, "строительство Палестины". Полковник распорядился починить проволочные заграждения, поврежденные турецкими снарядами, а также подвести на аршин выше каменный забор, за которым днем прячутся наши солдаты, когда идут из казармы, т. е. из других комнат моего гарема, в обсервационный пункт. Я созываю тех из солдат, что свободны от стражи и от малярии, и вместе мы всю ночь напролет "строим Палестину" в арабской деревне".
"…Ура! Мы победили малярию. Когда я в прошлый раз писал, что в моем царстве нет населения, я имел в виду только население двуногое. Зато осталось шестиногое: в миллиардах! В жизни я не воображал, что на свете есть столько комаров. Еще до захода солнца мы обвязываем тряпками голые колени, а в лицо, руки и шею втираем какую-то мазь; но комарам именно эта мазь, по-видимому, и нравится, и они работают с таким энтузиазмом, что руки устают чесаться. Результат: на второе же утро два случая малярии. Я устроил военный совет со своим сержантом (он живет тоже в моем гареме), и мы решили и эту часть населения эвакуировать. Мы по телефону «заказали» в батальоне две жестянки керосину, а капрала Стукалина (это — один из лучших наших "героев") и капрала Израэля (он только что вернулся, отсидев две недели за избиение военного полицейского в пивной) отправили обыскать деревню и найти комариные гнезда, т. е. стоячую воду. При всем уважении к нашим «портным», которых я все больше начинаю ценить, такое ответственное дело я все же не решился поручить никому другому, как только бывшим галлиполийцам. К вечеру они вернулись, запыленные и замурзанные до самых глаз (обыск они делали ползком), и доставили
три адреса: одна лужа, один колодезь и одна разрушенная баня. Ночью пришли милые белые ослики и принесли жестянки: слава Богу, телефон на этот раз не подвел. С великим церемониалом мы щедро полили все три неприятельские позиции керосином, а колодезь еще в придачу завалили камнями, причем неприятель ответил такой контратакой, что я еще весь искусан, а ведь уже прошло три дня. Зато сегодня к вечеру у нас комаров осталось не больше одного взвода, да и те летают поодиночке, уныло, почти без песен и не проявляют аппетита не только к нашей крови, но даже к той мази".
"…А портных наших я ценю с каждым днем все больше. Вот один эпизод. Колонисты Ришона прислали нам гостинцев: виноград, фиги, штрудель с миндалем — я подозреваю, что было и вино, но ирландский элемент на верхах батальона, должно быть, решил, что это было бы нездорово для жителей "ничьей полосы"… Около второго часа пополудни, когда взвод выспался, сержант роздал им эту роскошь. Живем мы все в одном доме: я с сержантом в верхнем этаже, солдаты — внизу в трех больших комнатах, выходящих на двор. Туркам видна только наша крыша, так что солдаты день проводят во дворе. Играют обычно в карты: хочу надеяться, что не на деньги, — это запрещено. На этот раз они тоже расселись по углам двора, с виноградом, штруделем и засаленными колодами, как вдруг турки начали пушечную симфонию. Хоть это редко случается днем, но мы привыкли; да и стреляют они всегда куда-то вбок. Я продолжал читать, солдаты играли и беседовали — но через пять минут вошел ко мне сержант и сказал:
— Сэр, это звучит как-то иначе — боюсь, они нащупывают нас.
В самом деле, следующий снаряд разорвался почти в самой деревне. Я высунулся в окно и закричал солдатам: "По комнатам — живо!" Они послушались, хотя совсем не «живо» — очень уж душно в этих арабских пещерах.
Мы ждем. Через каждые пять минут — снаряд, то справа от деревни, то слева. "Наводчики у них неважные", — говорит сержант; он все еще стоит у окна. Вдруг он улыбается и делает мне знак. Я подхожу, выглядываю во двор: четверо из наших лондонцев опять сидят под открытым небом, едят штрудель и тасуют карты; они только выбрали угол, где из моего окна их не сразу заметишь, и говорили шепотом. Один поднял голову и сказал на идиш: «офицер». И как раз в эту секунду разрывается граната, теперь уже явно у нас в деревне, не дальше ста шагов от нас. Трое из них подымают головы, но не трогаются с места; но четвертый даже не оглядывается, бьет с размаху какую-то карту и говорит тем специальным тоном, которым «приговаривают» увлеченные игроки: "Hob ich ihm in dr'erd".
Это могло относиться и к «офицеру», но я предпочитаю думать, что относилось к снаряду. Я их, конечно, опять разогнал".
Глава 12. В двух шагах от Содома и Гоморры
В середине августа 1918 года, после двухнедельного отдыха в горах Самарии, нас отправили на иорданский фронт. Там мы провели около пяти недель, а потом началось наступление — еще две недели похода и огня. Огонь был двух родов: боевой, не Бог весть какой свирепый, и солнечный, совершенно невыносимый в этой местности, самой раскаленной дыре на всем Средиземном побережье.
Нижняя часть Иорданской долины, близ Иерихона и Мертвого моря, считается, если не ошибаюсь, наиболее глубоким местом на мировой суше: около 400 метров ниже уровня океана. Вообще климат Палестины — «подтропический», вроде южной Италии; в горах, особенно в Иерусалиме и Сафеде (Цфате), зимою даже холодно; иерусалимский снег 1920-го года лежал такими сугробами, каких я и в Петербурге не видел. Но климат низовья иорданской долины — даже не тропический, а экваториальный. В те самые снежные дни Иерусалима в Иерихоне цвели розы — а от Иерусалима до Иерихона всего час на автомобиле.
Летом это седьмой круг ада; описывать его незачем, достаточно сослаться на Данта. "Вся площадь была сплошной песок, сухой и густой; и на него медленно падали пушистые хлопья огня, словно снег в Альпах в безветренный день; и от них загорался песок, точно трут от кремневой искры". Гениальный предтеча репортерского цеха пытался в этой обстановке интервьюировать одного из тамошних обитателей, но не добился от упрямца никакого ответа кроме ругательств по адресу Юпитера. Я того нечестивца понимаю. С конца июля до конца сентября даже бедуины уходят из этой части Иорданского провала: как раз те месяцы, которые нам пришлось провести на соленой речке Меллахе, верстах в пятнадцати от Мертвого моря, если угодно, в двух шагах от Содома и Гоморры.
Хороша вся эта область, но худшее место в ней — наша Меллаха. Это узкая ложбина, около пятнадцати верст в длину, приблизительно с севера на юг. Почти нигде ни кустика; почва белесая, горько-соленая на вкус; может быть, тут когда-нибудь откроются великие богатства для химика. Посредине течет соленый ручей: два шага в ширину — мало, но вполне достаточно для того, чтобы отравить всю ложбину самой ядовитой малярией.
Кто охоч до красоты трагической, красоты разрушения и вечной смерти, тому есть тут чем налюбоваться досыта. Те же серовато-белые холмы со всех сторон; состава почвы я не знаю, но при виде их невольно приходят в голову аптекарские слова: хлор, щелок, селитра; или еще вспоминается жена библейского Лота и нерукотворный памятник ее где-то по ту сторону Мертвого моря. Если взобраться на эти холмы и обернуться на юго-запад, развертывается сцена первозданных катастроф земной коры: яростно-исковерканные, словно палачом выкрученные утесы, — и желтая оголтелая степь без травы, где гонятся друг за дружкой поминутные смерчи из песка и пыли, вышиною с пол-Эйфелевой башни.
Тут и стояли наши палатки по склонам справа и слева от соленого ручья. Времяпрепровождение наше тоже описано в той же самой песне у Данта: "Я увидел большие стада обнаженных теней; одни навзничь лежали на земле, другие сидели скорчившись, третьи беспрерывно слонялись". А каждый вечер с севера ложбины к югу брели вереницы верблюдов, десять, пятнадцать, иногда двадцать; верблюды ступали мягкой, высокомерной походкой, покачивая каждый по две койки с обеих сторон: это везли на врачебный пункт наших товарищей, заболевших малярией. Батальон наш пришел в Меллаху в составе 800 человек, к началу наступления осталось около 500, но после победы вернулись на отдых полтораста, и из 30 офицеров половина: убитых и раненых было мало (вообще последняя победа на этом фронте обошлась в смысле человеческих жизней дешево) — косила только малярия; человек сорок из ее жертв так и не поднялись, и теперь они спят на военном кладбище в Иерусалиме, на горе Елеонской, под знаком шестиконечной звезды.
Турецкие пушки досаждали нам не реже двух раз в неделю, но вреда не причиняли. В средине сентября к нам присоединились две роты «американцев» под командой полк. Марголина: они стояли к западу от нас, на речке Ауджа, и там их ежедневно — но тоже безуспешно — тревожила большая австрийская пушка с хребтов Галаада за Иорданом, которую англичане ласково называли Джерико-Джэн — Анюта иерихонская. Зато тяжела была здесь ночная работа патрулей.
Иорданская долина в этом месте представляет углубление двухэтажное. Представьте себе улицу, по сторонам ее — высокие стены, а посередине — продольную канаву такой же глубины. «Улица» — это и есть самая долина, в Библии именуемая Киккар, шириною верст в двадцать от подошвы Иудейских гор до гор Галаадских. «Улица», конечно, сама загромождена холмами и провалами, подобно нашей Меллахе. Но, чтобы добраться к Иордану, надо еще спуститься в «канаву» глубиной в сто или больше метров — там вторая долина, густо заросшая чем хотите, от пальмы до чертополоха, и в этом тайнике и течет сама речка. Турки еще занимали не только оба берега реки, но и все подходы к «канаве».
Каждую ночь мы высылали по два патруля в усиленном составе. Кроме обычной разведки тут у них была и особая задача, о которой речь будет идти дальше. Ради этой задачи приходилось забредать очень далеко, часто по вязким солончакам, иногда сквозь колючие заросли. В течение первой же недели мы потеряли несколько человек убитыми и зато получили две солдатские медали — одна из них досталась бывшему галлиполийцу Сепиашвили. Но вообще не проходило почти ни одной ночи без треска турецких пулеметов, нащупывавших нашу разведку, а наши «форты» (по ночам мы сидели в двенадцати игрушечных крепостях вдоль восточного хребта над Меллахой) отвечали тоже из пулеметов, и продолжалось это час, два и больше. Лазутчики возвращались замученные, ложились спать, а потом скоро всходило солнце и начиналась жара…
* * *
Наша линия в Иорданской долине составляла «шарнир» всего британского фронта. Если провести на карте горизонтальную линию, начав ее у самого моря чуть повыше Петах-Тиквы, и почти до самого Иордана, а тут резко, под прямым углом, повести линию вниз, — это и будет британский фронт сентября 1918-го года; и «угол» занимали мы. Это, по-военному, считается пост и опасный, и ответственный. Для противника он соблазнителен — тут при атаке нет угрозы бокового, «анфиладного» огня с обеих сторон; а если неприятель прорвется, окажется в тылу сразу у двух наших позиций.
Еще серьезнее было то, что мы тут сидели почти совсем без артиллерийского прикрытия. План общего наступления был выработан так, чтобы главный удар подготовить близ Яффы. Это фронт длиной около 15 миль, и туда в сентябре стянули 35 тысяч пехоты и 400 пушек. На весь остальной фронт, 45 миль в длину, осталось всего 22000 пехоты и 140 орудий; из них на нашу позицию приходилось не то десять, не то восемь. Притом — цитирую по Британской Энциклопедии — "были приняты искусные меры,
чтобы симулировать концентрацию войск в Иорданской долине, между тем как на самом деле там оставлено было только легкое прикрытие в виде конной дивизии Анзаков и двух-трех батальонов пехоты". Алленби это сам подтверждает в своем отчете 31-го октября 1918 года: "Дабы не дать неприятелю заметить убыль наших сил в Иорданской долине, я приказал ген. — майору Чейтору (начальник Анзаков, командовавший всеми войсками на Иордане) предпринять ряд демонстраций с целью внушить неприятелю уверенность, будто подготовляется наступление к востоку от Иордана". Этим и объяснялась усиленная работа ночных патрулей.
Исход доказал, что план этот был хорош; но, пока что и кавалерия Анзаков, и мы оставлены были на Божью волю; а у турок, говорили, было в этом месте до семидесяти пушек, и они, действительно, ждали грозы именно тут. Если бы они вздумали предупредить Алленби и ударить в нашу сторону, вышло бы весело. Старшие офицеры у нас часто и озабоченно об этом шептались. Даже полковник, хоть и улыбаясь, сердито ворчал:
— Худшее время года, самый опасный пункт на всем фронте, и пулеметы вместо пушек! Лестное доверие к еврейским батальонам…
Однажды меня послали в Иерихон; по дороге лежал лагерь наших «американцев». Марголин что-то подписывал пред своей палаткой; я остановил лошадь, рассказал ему все «новости» Меллахи, передал и разговоры о скудости артиллерии и спросил, что он об этом думает. Он ответил:
— "Думаю"? Штаб пускай «думает», а мы будем дело делать.
Впоследствии довелось мне беседовать об этом с comandante Леви-Бьянкини; он был крупный офицер итальянского фронта, откомандированный своим правительством в состав "сионистской комиссии"; чрезвычайно интересный человек, на редкость умный и образованный; кончил он трагически — его убили бедуины, но о нем я расскажу в другой книжке если удастся ее написать, — в книге о кровавой Пасхе 1920-го года и о крепости в Акко. Он сказал:
— При всем уважении и к ген. Алленби, и к еврейским батальонам, признаюсь, на его месте я бы не доверил угловой позиции солдатам с трехмесячным опытом на фронте. Неужели он о вас такого высокого мнения?
Может быть, в то время ген. Алленби и в самом деле был о нас хорошего мнения. Прошлую службу нашу на сихемском фронте очень хвалили; наши патрули забирались далеко и приносили ценные сведения о расположении турецкого фронта; за одну из этих экспедиций лейтенант Абрахамс, начальник нашей разведки, получил даже благодарность из штаба; даже процент заболеваний малярией (конечно, до прихода на Меллаху) был у нас меньше обычного — подтверждение той теории, что евреи, несмотря ни на что, все еще здоровое племя с упрямой кровью; а может и отголосок другого нашего качества — у нас не было пьяных!
Много зато было у нас — пленных. Говорят, никакой другой батальон не «притягивал» такого количества турецких перебежчиков. В чем дело, не знаю. Было у нас предание, будто во время одной из патрульных перестрелок капрал Израэль из Александрии вдруг закричал во все горло по-турецки: "Приходите к нам сдаваться — накормим!" и будто отсюда пошел у голодных турок говор о том, что в нашем батальоне пленным дают "по жестянке буллибиф на каждого" и даже говорят с ними по-ихнему. Возможно; одно и несомненно — турки давно не доедали. В одну ночь в конце августа к нам пришло 13 дезертиров, в том числе пять унтеров.
Пожалуй, ген. Алленби действительно был о нас тогда высокого мнения. После сихемского фронта он написал полковнику письмо, что решил устроить еврейскую бригаду и назначить его, Патерсона, бригадным генералом. А потом передумал.
Глава 13. За Иорданом
На яффском фронте наступление началось в ночь с 18-го на 19-е сентября, в половине пятого перед рассветом. Предварительная бомбардировка продолжалась всего четверть часа; турки сразу дрогнули, и к семи часам утра английская кавалерия уже неслась, не встречая препятствий, на север.
Ночью с 20-го на 21-е наши патрули донесли, что контакт с неприятелем слабеет, и часть турецких траншей уже опустела.
Генерал Чейтор протелефонировал Патерсону задание — захватить Умм-эш-Шерт, единственную в том месте переправу через Иордан. Это оказалось не так просто. Первая группа, высланная в этом направлении, вернулась с потерями: кап. Джулиан, ирландец и старый друг Патерсона, был ранен, и солдаты его насилу унесли из огня; лейтенант Кросс, еврей, был ранен и взят в плен; и одного рядового убили.
После этого ночью была отправлена вторая группа; случилось так, что это был мой взвод и экспедицией командовал я. В качестве натуры глубоко штатской, я, конечно, очень ценю эту страницу своей биографии; но рассказать о ней нечего, подвигов никаких не потребовалось. Вышли мы в полночь, и продолжалась операция часа три или четыре. В одном пункте спуска, помнится, я дал сигнал своему ротному Барнсу, засевшему сверху в утесах, открыть огонь из пулеметов по какой-то заросли, возбудившей мое подозрение, — но я не уверен, что и это было необходимо. Один пулемет был у нас с собою, и на рассвете мы его водрузили на берегу Иордана, и переправа была занята, и в отчете Алленби это дело записано: "22-го сентября 38-й батальон Royal Fusiliers захватил брод Умм-эш-Шерт на Иордане".
Иордан в этом месте несется с той именно быстротой, которая придает ему такую ценность в глазах гидроэлектрической техники: с точки зрения техники военной это ничуть не достоинство — переплыть его нельзя даже верхом. Оттого ген. Чейтор так и добивался захвата переправы.
Через три часа после того как мы ее заняли, прибыли конные Анзаки и перешли вброд на ту сторону реки. Так началось завоевание Заиорданья: ключ к его порогу добыл еврейский легион — а потом Заиорданье было объявлено закрытым для еврейской колонизации.
Тем временем полубатальон Марголина опередил нас на пути к селению Горанийя, близ Иерихона, где англичане уже навели понтонный мост для пехоты. Оттуда наши «американцы» прошли в Галаад и заняли Эс-Сальт, а мой батальон, чуть ли не ежечасно тая от малярии, потянулся за ними с опозданием на полдня пути.
Мучительный это был поход. Я не на свое впечатление ссылаюсь — у меня военный опыт почти любительский. Но полковник Патерсон проделал в свое время англо-бурскую войну в похожей обстановке, когда вся компания состояла еще из таких переходов, а не из окопной скуки; видал виды. На второй день он проехал мимо меня, остановил коня, нагнулся и сказал шепотом:
— В жизни так еще не приходилось мне мучить солдат.
Труден был уже и самый путь по равнине, от моста к подножию Моавитских гор. Турки, отступая, подожгли сухие заросли; тяжелый черный дым в безветренной жаре лежал на земле пластами: чтобы не кормить друг друга пылью, мы шли взводами на большом расстоянии один от другого и часто из-за дыма теряли связь и сбивались не туда. Фляжки опустели на втором привале — что не выпили, то высохло, сквозь войлок и никель. Но потом начался подъем, и было это как раз в полдень или около; крутой подъем, от 14 до 25 градусов, и солдаты шли с пудовым своим вьюком на спине: запасные сапоги, одеяло, фуфайки, носки, бритва, посуда, мазь для пуговиц, чтоб блестели… Роскошь британской экипировки — отличная вещь на ночлеге, но не в пути. Офицеры помогали, чем могли, каждый из нас тащил по две и по три винтовки, даже «падре» — наш батальонный раввин, вопреки уставу тоже нагрузил себя орудиями смертоубийства; но все это была капля в море. Чуть ли не поминутно «выпадал» кто-нибудь из рядовых: бросался в тень под скалою — да и тени собственно не было — и оставался там, зажмурив глаза, разинув рот и хрипло дыша во всеуслышание. Я сначала приписывал это невыносливости наших солдат, но скоро успокоился: на шестом километре «выпал» английский фельдфебель и два английских сержанта, плечистые малые, которых нам прислали недавно из штаба на пополнение убыли от малярии.
Теперь мы шли уже красивыми местами. Тут когда-то бродила по горам с подругами дочь судьи Иеффая, оплакивая свое девичество перед смертью. Внизу под извилистой дорогой бежала звонкая речка, по-арабски Вади-Нимрин, а в Библии — Воды Тигровые. Но вместо тигров берега ее были усеяны конскими трупами. Зачем турки, убегая, перебили столько своих лошадей, до сих пор не знаю.
Оставили они на дороге не только лошадей. Мы полюбовались на Джерико-Джэн: страшная «Анюта» лежала наискось поперек потока; волны хлестали ей в дуло, и она их весело выплевывала назад. На дороге кучами валялись снаряды, а еще больше было ружейных патронов, в аккуратных «бандольерах» из серого холста. Были раньше, верно, и винтовки, но уже исчезли. У иного поворота передний взвод еще видел целый холмик амуниции, а задний уже ничего не находил; зато по утесам над дорогой карабкались, уходя в горы, маленькие ослики бедуинов.
Одного из бедуинов я поймал за делом. Кража патронов была строго запрещена; в сущности, я имел право поступить с ним совсем жестоко — но недаром трунили надо мною товарищи в офицерской столовой: "Какой вы солдат? Просто переодетый фельетонист". Я… я велел отнять у него добычу и дать ему по шее и отобрал у него осла, и мы посадили на осла усталого нашего «падре». Потом на ближайшем привале осла формально усыновили, дав ему батальонное имя. Дело в том, что у нас числилось шестьдесят четыре солдата по фамилии Коган, и имена их начинались со всех букв английского алфавита, от «а» до «зет». Не было только на букву «икс». Осла назвали Коган Икс…
* * *
…На полдороге к Эс-Сальту нас остановили, повернули и велели идти назад в долину. У англичан это тоже бывает, и часто: ступай вверх, потом вниз, а для чего — неизвестно. Они, в таких случаях, усмехаясь, цитируют знаменитую строку из Теннисена, из стихотворения о том, как под Севастополем погибло у них ни за что ни про что шестьсот отборных из конной гвардии; строка очень простая — someone has blundered — "кто-то напутал". "Самая английская строка во всей нашей поэзии", — говорит Патерсон (впрочем, он ирландец).
В местности Тель-Нимрин, на низовьях той же горной речки, нам велели ждать немецких пленных. Мы разбили лагерь и переночевали, а на рассвете привели нам партию оборванцев: девятьсот турок и двести немцев вперемешку с австрийцами и мадьярами. В жизни их не забуду. Обносились, отощали, обросли до того, что по одежде и по лицу уже трудно было отличить пруссака от османлы. Отличали они себя сами: немцы держались отдельно и блюли порядок. Прежде всего надо было пленных напоить: немцы сами выстроились очередью, подходили один за другим, получали порцию и говорили «данке». Но с турками едва не вышла трагедия.
Речную воду запрещено было пить из-за обилия лошадиной падали. Из штаба ежедневно рассылали по всей долине цинковые ящики с очищенной водою. Три ящика мы отдали туркам; сержант с помощниками выдавал им по кружке на человека, а двенадцать солдат с винтовками охраняли порядок.
Моя палатка была ближе других к пригорку, на котором это происходило. Я дремал и вдруг проснулся от какого-то гула и визга; в то же время вбежал ко мне денщик, рослый малый из-под Кутаиса, по имени Цвениашвили, закричал: «Драка», схватил свою винтовку и помчался на пригорок. Я выглянул и увидел серую свалку, пыль и над пылью взмахивающие и опускающиеся приклады. Бьют пленных?! Очень уж это было непохоже на наших солдат. За последние недели до наступления именно к нам каждую ночь приползали турки сдаваться: даже на их стороне прошла слава, что в еврейском батальоне с пленными обращаются ласково.
Я тоже побежал на пригорок; закричал солдатам: "Стоп!", но сам себя не расслышал из-за воя тысячи голосов; и то, что солдаты работали прикладами, оказалось мелочью — главное сражение шло у самих турок. Передние, у ящиков с водою, били, царапали, душили друг друга, некоторые, сплетясь, катались по земле; остальные напирали, проталкивались локтями, пинками, головами; все кричали по-своему и их было около тысячи. Сержант сказал:
— Так они с самого начала, сэр. За двадцать минут и полсотни напоить не удалось. Ничего не могу поделать. Подошел полковник, присмотрелся и велел солдатам дать залп в воздух: озверелая толпа притихла.
— Гоните их гуртом на реку, — сказал полковник, — иначе они перегрызут друг друга насмерть.
Их подлинно «погнали» к речке — другого слова не подберешь, да и другого средства не было; там они рассыпались вдоль берега, полегли ничком и «лакали» — опять нет другого слова.
Я пошел к немцам. Они сидели молча, все глядели в другую сторону с выражением "не наше дело, мы не такие". Я спросил по-немецки, нет ли среди них раненых; один встал и доложил:
— Какие были, остались — в пустыне. Но почти все турки.
Не разберешь, интеллигентные лица у людей или нет, сквозь маску пыли и пота и небритых щек; но на некоторых еще уцелели пенсне — признак, по крайней мере, аттестата зрелости. Тот, что докладывал, спросил: — А что нового? Кончена война? Я рассказал; постарался сделать это деликатно, так как новости были все для них неприятные. Все, кто сидел поближе, повернулись ко мне. Тот опять спросил:
— Значит, Германия все еще воюет?
— Воюет, — сказал я.
Мой собеседник повернулся к другому и проговорил:
— Er ist ein Tolpel![4]
(Я не обиделся: было слишком ясно, что местоимение «он» относится не ко мне.) Второй подтвердил:
— Er ist es immer gewesen vom Anfang an.[5]
Никто не возразил, даже не шевельнулся. "Ого, — подумал я, — двести готовых республиканцев? Скоро… только вряд ли прочно". Но остальное, что я от них узнал, было еще тяжелее слушать — три дня в горах и в пустыне, без капли воды и без сухаря. Бедуины, вчера лебезившие, сегодня рвущие у отсталого часы из кармана, колечко с пальца, иногда сапоги с ног. И малярия; люди, ложащиеся на землю, с одной мольбой: уходите, дайте спокойно умереть.
Я пошел к палаткам; под маслиной стоял полковник Патерсон и мой ротный командир, юноша лет двадцати двух.
— Барнс, — спрашивал полковник, — сколько осталось человек в вашей роте? — Здоровых, сэр? Восемнадцать. — Так вы нынче ночью отведете эту партию в Иерихон.
Стемнело, и мы их повели: тысячу сто человек, турок и немцев, за шестнадцать верст, по безлюдным солончакам и обгорелым зарослям, под охраной восемнадцати солдат, почти все портных из Уайтчепла, с двумя офицерами и «падре»: он тоже решил непременно пойти. Я шел сзади в черной, сырой и жаркой темноте и думал о том, что, собственно говоря, они голыми руками могли бы нас передушить; но они послушно плетутся как полагается, по четверо в ряд, немцы даже стараются идти в ногу, а наши солдаты, привинтив штыки к заряженным винтовкам, шагают справа и слева, «цепью», в которой звено звена не только не видит, но и оклик не сразу услышит.
"Падре", верхом на Коган Иксе, то уезжает вперед, то возвращается: надзирает, чтобы пленных не обижали или чтобы они сами не обижали друг друга.
Так мы тащимся без конца, старушечьим шагом, снова наперерез той же Богом отверженной долины. Все молчат, кроме тех, у кого ломит голову от малярии. Но таких десятки. Немцы (их выстроили сзади) сдержанно стонут, но турки хнычут в голос, как маленькие дети, или как те шакалы, что невидимо бегут за нами в стороне, оплакивая горемычную землю.
"Падре" спешился и идет со мною за колонной. Вдруг мы слышим, далеко впереди, крик, свист, потом выстрел. Я оставляю в арьергарде «падре» и сам бегу на беспорядок. У края дороги две фигуры (а колонна плетется дальше): на земле стонущий турок, а над ним солдат, уроженец Александрии, из галлиполийских «ветеранов» Трумпельдора, сердито кричит на лежащего по-турецки. — Кто стрелял?
Галлиполиец объясняет: турок не хочет идти дальше, горячка замучила, хочет умереть в степи. Он уж пугал его бедуинами и волками, но не помогло; тогда он выпалил в небо и сказал: "Вот так я тебя застрелю, если не пойдешь", — и тоже не помогло.
— Отберите двух турок покрепче, — говорю я, — пусть они его тащат.
В темноте я угадываю, что он на меня смотрит с презрением, как на несмышленыша; и он докладывает кратко и деловито: — Они его в темноте выкинут. Колонна плетется, и теперь уже идут мимо немцы. Я отбираю четырех, спрашиваю их имена, притворяюсь, будто записал их в книжечку; солдат отдает им свое одеяло, и я им приказываю тащить турка до Иерихона. А дотащили до Иерихона или нет — не знаю.
Возвращаюсь назад, и опять мы бредем и молчим. Около версты, потом опять выстрел, уже много дальше впереди. Я пожимаю плечами. «Падре» заносит ногу, хочет сесть на осла; я грубо дергаю его за ногу и говорю:
— Не суйтесь. Это впереди, там Барнс, пусть он и разбирается.
"Падре" шепчет дрожащим голосом: — А если… если пристрелят?
Немец, идущий перед нами, видно, понимает по-английски: он громко говорит своему соседу: — Одно средство: пристрелить. Не оставлять же их тут, на голодную смерть, а шакалы еще уши отгрызут.
"Падре" затихает и всматривается вправо и влево. Много там разберешь в темноте, где камень, где куст, где что другое.
Тащимся, тащимся, и все думаем одно и то же. Неделю тому назад эти люди были здесь ужасом и красою земли. И ведь только случайно мы их ведем, а не наоборот. Много я передумал в ту ночь. Видел я Реймский собор под обстрелом и дуэль аэропланов в воздухе, и gueules cassees и немецкие налеты на Лондон — солдаты с фронта божились, что это хуже Ипра: в Ипре хоть не было в этом грохоте женского и детского плача. Все это страшно, но калечить людей и губить города умеет и природа. Одного не умеет природа: унизить, опозорить целый народ. Это горше всего; и это монополия человека. Живал я и в Берлине, и в Вене, и в Константинополе, видел эти самые обломки образа и подобия Господня, как они работали, как они смеялись, как гуляли со своими барышнями по Пратеру и курили наргиле в переулках Галаты. Часто теперь, когда обзовут меня публично милитаристом, я вспоминаю ту ночь, и дорогу, и долину Иордана, в тени той самой горы Нево, где когда-то умер пророк Моисей от Божьего поцелуя; вспоминаю и не отвечаю, не стоит.
Грозная это вещь — жизнь нации; тяжело тащиться пустыней; не можешь — ложись, помирай. Человечество — тоже полк, только без доброго «падре», и никто тебя не понесет до Иерихона. Бреди, пока бредется, жестокий к себе и к соседу; или ложись и пропадай, вместе со своей надеждой.
Глава 14. Почему было спокойно в Палестине
Важнейшим периодом нашей службы, конечно, был третий — во время перемирия. Так оно и должно было быть, по самому смыслу этого плана о легионе. Когда мы его задумывали в 1915 году, нам, конечно, рисовались не полтора и не три батальона, а корпус в тысяч двадцать или тридцать; но и тогда нам было ясно, что для завоевания Палестины одного этого корпуса не хватит, а понадобится на это сто или двести тысяч солдат. Значит, в лучшем случае еврейский легион мог бы быть только четвертой или пятой частью той боевой армии, которая завоюет Палестину. Но для оккупации Палестины после завоевания таких огромных сил не нужно; если бы у нас было двадцать или даже около пятнадцати тысяч, мы могли бы оказаться главной частью гарнизона именно в тот период затяжных и сложных переговоров, когда определяется судьба каждой из завоеванных областей.
На деле все это сложилось гораздо скромнее; тем не менее, в первый год оккупации (1919) еврейский контингент составлял очень видную часть британских сил, охранявших порядок в Палестине. Сам легион вырос. В наступлении 1918 года приняли участие только полтора батальона, приблизительно 1300 человек — остальные еще обучались в Египте; но к началу 1919 нас было три батальона, 5000 солдат. Напротив, общее количество войск, конечно, уменьшилось: часть ушла занять Сирию и Анатолию, часть понадобилась в Египте, а вскоре началась демобилизация. Точных цифр я не помню, но вряд ли ошибусь в таком рассчете: если взять среднюю цифру за 1919 год, то мы составляли от 15 до 20 % всего гарнизона; если же считать только «белые» войска, т. е. без индусских полков, мы были, вероятно, третью. Этот «цветной» подсчет я привожу не в утешение себе или читателю, а потому, что он важен объективно. Нас, евреев, интересовала не окраска индусских войск, а тот факт, что среди них было много мусульман; в случае арабских выступлений против сионизма эти «цветные» войска были бы неудобны. Но и англичане, что бы они там ни рассказывали в книжках для иностранцев, сами не считают индусские войска безусловно надежными; оттого в индусских полках все настоящие офицеры, вплоть до подпоручика — англичане; индусам они дают офицерские погоны и титулы «джемадар» и «субадар», но никакой власти. Говорят, теперь это изменилось — не знаю, не следил; говорю о 1919 годе.
В течение этого года был момент, точнее два месяца, когда пропорция еще больше изменилась в нашу пользу. В марте разыгрались серьезные беспорядки в Египте. Из Палестины спешно была вызвана туда значительная часть «белых» войск. Кроме «цветных», остались, кажется, только один английский батальон в Иерусалиме и наши пять тысяч.
Это были опасные два месяца. Арабский мирок Палестины прожил их в большом возбуждении. Ежедневно по всей стране прокатывались самые фантастические, но зажигательные слухи о событиях в Египте: англичан разбили, каирская цитадель в руках у националистов, Алленби убит, даже Араби-паша, герой Телль-эль-Кебира, воскрес из мертвых и т. д. Ежедневно по базарам и кофейням ходили какие-то новые люди; десятки агитаторов проникли в Палестину с юга, неизвестно за чей счет, и почти открыто (в деревнях и совсем открыто) призывали народ избавиться и от англичан, и от евреев. Окружные губернаторы и другие чиновники, с которыми часто приходилось тогда встречаться (я был одно время членом "сионистской комиссии") не скрывали своей тревоги; в офицерских столовых говорили, что индусские солдаты получают из Индии письма с жалобами на унижение халифата, на порабощение Константинополя, и смотрят неласково.
Стерегли Палестину в те месяцы мы. Кроме одного Иерусалима (дальше расскажу о том, как нас в Иерусалим не пускали), все главные центры и все артерии страны охранялись еврейскими солдатами. В Яффе стояли наши «американцы», в Хайфе — палестинцы; все посты вдоль железных дорог, от Романи в пустыне до Рафы на границе Египта с Палестиной, от Рафы через Газу до Яффы, от Яффы через Луд до Хайфы и дальше до Тивериадского озера, были заняты нашими.
И опасные два месяца прошли спокойно. Вообще спокойно прошел весь 1919 год. Когда в стране тихо, военному повествователю не о чем рассказывать.
* * *
Есть у сионистов популярный спор: правда ли, что наличие еврейских солдат «раздражает» арабов? Я тут пишу не публицистику, потому коснусь только того, что сам видел. На вопросы такого рода надо отвечать честно; но и ставить их надо честно. Покуда арабы не хотят еврейской колонизации, их, конечно, «раздражает» все, в чем проявляется наше влияние: иммиграция, еврейский обер-комиссар, торжественное открытие университета и т. п.; в том числе, бесспорно, и еврейские солдаты. Если так ставить вопрос, то надо отказаться вообще от сионизма. Честной постановкой проблемы я считаю такую: примесь «раздражающего» зелья имеется в любом лекарстве — но что перевешивает, польза или вред? На это жизнь ответила так: в 1919 году в Палестине было 5000 еврейских солдат, арабы их видели на каждом шагу — и год прошел спокойно, даже несмотря на египетский пример. А к весне 1920 года почти весь легион был демобилизован, от 5000 солдат осталось всего четыреста — и тогда в Тель-Хай убили Трумпельдора с восемью товарищами, а в Иерусалиме разыгралась кровавая Пасха.
* * *
Несколько замечаний хочу сделать на тему, близкую к этому спору, но обратную: не об отношении арабов к нашим солдатам, а об отношении наших солдат к арабам. Ясно, что гарнизону в такой стране важно обладать не только силой, но и тактом. Причем сила — если дойдет до такой печальной необходимости — проявляется в действиях коллективных, что сравнительно легче; но такт есть качество личное, которое каждый отдельный солдат должен выказать в своем обхождении с отдельными людьми. Это, конечно, не всякому дано. Тут нужно одно из двух: или большая тонкость дипломатического чутья, или умение держаться в стороне и вообще подальше от местных людей.
Грубых нарушений такта со стороны наших солдат не было. Можно это доказать официально. Летом 1919 года арабский комитет отдал тайный приказ — «сыпать» жалобами на еврейских солдат. Жалобы, действительно, стали одно время «сыпаться», и военно-полицейские власти производили расследования, во всяком случае — без особого пристрастия к нам. Почти все жалобы оказались дутыми, и вскоре прекратились. Если же сравнивать наше отношение к «туземцу» с поведением остальных «белых» войск, то полагалась бы нам или монтионовская, или нобелевская премия. Австралийцы сожгли целую деревню Сурафенд — позволив, однако, уйти оттуда женщинам, старикам и детям — за то, что накануне там пристрелили одного из их товарищей. У нас не только ничего подобного не могло произойти, но и вообще серьезных столкновений не было. Но перебранки и драки бывали; и любопытно — кто из наших солдата них участвовал.
Прежде всего надо выделить две категории, с которыми ничего подобного не случалось никогда. Первая — это интеллигенция палестинского батальона: учителя, рабочие, колонисты, абитуриенты гимназии и т. д. — добрых три четверти всего палестинского набора. Их отношение к арабам было вежливое и приветливое без запанибратства и трений вызвать не могло. Вторая — наши «лондонцы», те самые «портные» из 38-го батальона. Они просто держались в стороне и ничего общего с арабами не имели. Свои воинские обязанности они выполняли точно и аккуратно писали письма домой; ничем остальным не интересовались: ни Палестиной, ни сионизмом, уж меньше всего «туземцами». Когда пьяный араб кричал им на улице бранное слово, они просто не замечали ни его, ни его крика.
Не так гладко было зато с «американцами». Это были почти все сионисты, даже пылкие сионисты с интересом ко всему, что касается сионизма. Присматривались они и к арабам скорее даже с симпатией, чем напротив, но — присматривались, и потому каждое арабское ругательство у них истолковывалось как покушение на национальную честь, а шальной, неизвестно откуда брякнувший и ничего не задевший выстрел — и того хуже.
Но больше всего недоразумений бывало у второй части палестинских добровольцев — у той, которая сама выросла в «восточной» обстановке. Против арабов эти молодые люди ничего не имели, напротив — чувствовали себя с ними, как дома, совсем по-приятельски и арабским языком владели в совершенстве. Отсюда и все горе. Начиналось с того, что солдат в отпуску встретил знакомого, поздоровались, обнялись, пошли в кофейню, выпили, сыграли партию; при этом сначала подтрунивали друг над дружкой — что бывает и у самых близких друзей — потом поругались, а в конце подрались.
Я об этом упоминаю на тот случай, если читателю доведется услышать сахарные разговоры, что для примирения евреев с арабами желательно было бы устроить «сближение», встречи, изучать арабский язык и т. д. Опять-таки, я тут не занимаюсь публицистикой, а просто рассказываю, что видел: видел совсем обратное. Чем больше точек соприкосновения, тем, иногда, больше неприятностей. Аналогичные наблюдения делались, в течение последних ста лет, также и в Германии, Польше, России и т. д. Словом, рекомендую осторожность.
…Но о том периоде нашей службы, который я считаю самым важным, рассказать все-таки нечего — именно потому, что служили хорошо и порядок в стране охраняли образцово.
Глава 15. Наши офицеры
Надо описать наших солдат и офицеров; но половины их я вообще не видел. Как уже сказано, из десяти тысяч рекрутов наших только 5000 попали в Палестину; остальные, проведя несколько месяцев в Плимуте под командой полк. Миллера (еврей; но и его я не видел), были там же демобилизованы.
В Палестине было у нас три батальона. Сначала они назывались официально: 38-й, 39-й, 40-й Royal Fusiliers. Вскоре после занятия Умм-эш-Шерта мы получили согласно давнему обещанию лорда Дарби новый титул: Judaean Regiment. Должен прибавить, что казенные эти имена, и старое и новое, остались только на бумаге: англичане нас с самого начала называли Jewish Regiment, евреи диаспоры — «легион», а евреи в Палестине — просто «гдуд», т. е. «полк».
В 38-м батальоне преобладали солдаты из Англии, меньшинство составляли американцы. В 39-м — наоборот. 40-й состоял почти целиком из палестинцев. Потом, когда демобилизация съела остальные два батальона, палестинцам досталось звание "1-го Judaeans".
38-м командовал Патерсон, 39-м Марголин. У палестинцев был сначала полковником Ф. Сэмюэл, потом М. Скот (христианин), а после роспуска первых двух батальонов — тот же Марголин.
О Патерсоне я уже говорил подробно; хочу прибавить только одно. Со странной неблагодарностью отнеслись к нему оба народа, англичане и евреи. Он,
вероятно, единственный в Англии пример офицера, который и начал, и кончил эту войну в том же чине подполковника, не получив ни повышения, ни ордена, хотя и его галлиполийский отряд, и его батальон в Палестине оба удостоились отзывов в приказах по армии ("mentioned in dispatches"). Алленби, письменно обещавший слить наши батальоны в бригаду и назначить его бригадным генералом, потом передумал. В ставке его ненавидели за то, что он упрямо заступался за своих солдат и посылал протесты против антисемитского духа, царившего в этой части армии: это, вероятно, и есть причина, почему Алленби не представил его к награде, а заодно уж и остальных наших полковников не представил. Отблагодарить его мог бы сэр Герберт Сэмюэл, когда был верховным комиссаром Палестины и раздавал губернаторские должности, — но не пожелал.
О еврейской благодарности и говорить нечего; вернее, многое можно было бы сказать, но неприятно. Часто я думаю о том, что родовое имя наше — Израиль Непомнящий.
Но Патерсон остался, как был, другом еврейского народа и другом сионизма. Одно время он работал в Америке для Керен-Гайесода; где побывал, там все его помнят и любят. Видаемся мы редко; но, когда встречаемся, в Лондоне или в Париже, и я ему, как брату (такой он и есть), поверяю свои разочарования и заботы, он улыбается все той же ирландской улыбкой, как улыбался тогда после нашей стычки с генерал-адъютантом или как улыбался в Иорданской долине после особенно тяжелого дня: улыбкой, сводящей на нет и генералов, и малярию, и вражьи пушки; улыбкой человека, верующего только во всемогущество сильных упрямцев. Он подымает стакан и пьет свой любимый тост: — Here is to trouble!
He знаю, как перевести trouble. Беспорядок? Неприятности? «История»? Ближе всего подошло бы еврейское «цорес». Патерсон пьет за все то, что нарушает мутно-серую гладь обыденщины. Он верит, что trouble есть эссенция жизни, главная пружина прогресса.
И о Марголине я уже говорил. По темпераменту ему бы, собственно, быть англичанином вместо Патерсона. Порция его красноречия — десять слов в сутки; его мысли — мысли человека, прожившего жизнь вдали от больших городов, в Палестине времен первых пионеров, в зарослях австралийского «буша» — at the back of beyond ("по ту сторону той стороны"), как выражаются у них в Австралии: медленные, высокие, односложные и глубокие мысли, проникнутые метким чутьем действительности. «Батько», называли его американские солдаты, хотя часто сердились за его «педантизм». Он и в самом деле, как "добрый отец семейства" по римскому праву любил доходить до последней мелочи солдатского быта. Лагерь его считался образцовым — туда посылали адъютантов из английских и индусских батальонов учиться порядку и дисциплине. В дисциплину он верил свято и, хотя молча, но явно не одобрял бунтарства Патерсона, воевавшего против антисемитов штаб-квартиры. Но это было не из робости перед штаб-квартирой. В апреле 1920-го года, когда иерусалимскую самооборону везли под конвоем "на каторгу", он прибыл в Луд со всеми своими солдатами пожать «каторжникам» руку; а еще через год, в мае 1921 года, когда Сэмюэл еще носился с мыслью о смешанной милиции и назначил Марголина начальником еврейской половины, он в самый разгар яффского погрома, не спрашивая позволения, привел своих солдат с винтовками в Тель-Авив. За это прегрешение пришлось ему выйти в отставку; и теперь снова живет он в Австралии и тоскует по Палестине, где когда-то пахал землю в Реховоте, воевал в Иорданской долине, правил Эс-Сальтом в земле Галаадской…
Полк. Фредрик Сэмюэл принадлежит к давнооседлой англо-еврейской семье давно ассимилированного круга; но в этом кругу нашлось одно личное влияние, не его одного, а многих сблизившее с национальной душой еврейства. Это была Нина Дэвис, жена кап. Рэдклифа Саламана, военного врача, о котором я вскользь упоминал. К сожалению, теперь уже и Нина Дэвис, как много других имен моего рассказа, имя покойницы. Как Саламан и Сэмюэл (они между собой в родстве), Нина Дэвис тоже была родом из семьи, давным-давно осевшей в Англии; но отец ее, сам человек замечательный, дал ей глубокое гебраистское воспитание. Ее перу принадлежит ряд книг на английском языке для еврейских детей и много изящных переводов из Галеви, обоих Ибн-Эзра, Габироля. Но важнее этого дарования было в ней то, что англичане называют "личным магнетизмом". Она была, вероятно, из того разряда натур, откуда вышли царицы французских салонов конца прошлого столетия; хоть у нее не было «салона» (Саламаны жили в имении далеко от Лондона), это была та же форма влияния. Чисто туземный круг английского сионизма очень невелик, но лучшая часть его — те, кого привлекла к национальному движению Нина Дэвис. Один из них — полк. Сэмюэл. Он служил на французском фронте, командовал хорошим батальоном, ожидал с уверенностью близкого производства в бригадные генералы. Кап. Саламан написал ему, что нам нужны еврейские офицеры для легиона: он распрощался со своим полком — не малая и не легкая жертва для командира на четвертом году кампании — и перевелся к нам, отлично зная, что это связано с отказом от генеральского чина, так как первым кандидатом в бригадные был, понятно, Патерсон.
В Палестине он командовал батальоном тамошних волонтеров. Близок я с ним не был, не все в его действиях тогда одобрял, но и тогда признавал его такт и его умную гибкость. Все, чем жили его солдаты, было ему глубоко чуждо. Сам он по психологии — англичанин, привыкший к порядкам прочно сложившегося быта, где (в гражданской ли жизни или в армии) чин есть чин, сословие есть сословие и каждому разряду отведено свое место. Тут он вдруг очутился в среде таких «рядовых», как Бен-Цеви, Бен-Гурион, Б.Кацнельсон — рядовых, которые сами в известном смысле командовали массами значительно более многочисленными, чем один батальон. В своем лагере он наткнулся на "общественное мнение", с которым не считаться значило бы разложить всю нравственную спайку этой своеобразной гарибальдийской тысячи. Одно время я опасался, что ему не удастся найти ту гамму отношений, которая могла бы примирить общественность и солдатчину. Он ее, однако, нашел. Критики его, усмехаясь, ворчали, что он — первый и пока единственный — ввел в английской армии русский институт «совета». Это, конечно, преувеличено; да и вообще спорно, русский ли это институт. По-моему, английский: в армии Кромвеля были солдатские комитеты, с которыми совещались начальники по всем делам военного быта.
После Сэмюэла одно время командовал палестинцами полк. М. Ф. Скот. У него была система другая: зная, что он среди своих солдат чужой, он и не пытался влиять на их внутреннюю жизнь, а просто отмежевал для себя скромную задачу: оберегать их от недоброго трения с окружающей, в то время уже явно враждебной армейской атмосферой. За один эпизод этой охраны весь еврейский народ ему обязан, по-моему, благодарностью. В конце лета 1919 года, когда палестинский батальон стоял в Рафе, он внезапно получил приказ: отправить 80 человек в Египет, в распоряжение тамошнего командования. Это было явно "против уговора": палестинские добровольцы пошли в солдаты воевать за Палестину и охранять Палестину, а не усмирять египетских националистов. Батальон устроил сходку и заявил, что не допустит отправки в Египет. По букве устава, полковнику следовало вызвать военную полицию, арестовать и тех 80 солдат, и их «укрывателей», а в случае отпора (что произошло бы неизбежно) — открыть пальбу. Если бы он это сделал, в Палестине разыгралась бы очень серьезная трагедия. Скот поступил иначе, с изумительным тактом и еще более изумительной смелостью, сам рискуя военным судом. Он написал в ставку, что солдаты его считают приказ об отправке в Египет не только незаконным, но видят в нем и попытку поссорить евреев с арабами; что 80 солдат, намеченные к отправке, ни в чем не виноваты, так как остальные (а их больше тысячи) грозят удержать их силой; остается, значит, арестовать весь батальон, а это значило бы отдать под суд всю лучшую молодежь еврейской Палестины. Он даже не побоялся прибавить к этому рапорту совет: "снеситесь с Лондоном, прежде чем принимать крутые меры, и доложите Лондону и мое мнение, а также и следующий отчет; во всем остальном — дисциплина в батальоне образцовая, чистота, порядок, служба безупречны". И каждый день, чуть не две недели подряд, он продолжал докладывать: полный порядок во всем — а отпустить товарищей в Египет не хотят. Штаб вынужден был все эти доклады препроводить в военное министерство; оттуда, конечно, получился приказ — оставить еврейские батальоны в покое и вообще всю нелепую историю замазать.
Теперь полк. Скот живет в маленьком предместье Лондона и оттуда ездит на службу, в банк или в контору где-то в Сити. Раза два состоялись у нас в Лондоне обеды бывших легионеров: он на них приезжает, скромно сидит, куда посадят, речей не произносит, только соседям говорит вполголоса:
— Это была мне большая милость Господня, что довелось мне служить с солдатами народа Израильского в земле Израиля.
В его домике, в Соут-Кройдоне, каждый вечер он, жена его и двое детей молятся Богу по своим христианским обрядам; между прочим, молятся каждый вечер и о том, чтобы Господь восстановил Израиль в стране его и чтобы это было началом искупления для всего человечества.
Как-то на сионистском конгрессе я повторил одну его фразу; стоит и здесь ее записать: "Англии выпала на долю великая честь: мы вырвали из Библии страницу, на которой начертано самое древнее из пророчеств, и на Божьем векселе выставили жиро[6] английского народа. От такой подписи нация не может отречься".
* * *
Прежде чем перейти к главному — к солдатам, еще несколько слов об остальных офицерах. Только в батальоне Патерсона две трети офицеров были евреи; в остальных преобладали офицеры-христиане. В том сильно англизированном кругу, к которому по рождению и воспитанию принадлежали офицеры-евреи военного времени, агитация ассимиляторов, очевидно, оказала свое полное действие. Покуда еще оставался в Лондоне Р. Саламан, его личное влияние давало нам известный приток еврейской молодежи в эполетах; после его отъезда на фронт с батальоном Марголина, приходили к нам только те, кого самих «тянуло», а таких было немного.
Но были и такие. Гарольд Рубин бросил для нас один из самых блестящих гвардейских полков — Coldstream Guards. Эдвин Сэмюэл (сын сэра Герберта), по прозвищу «Неби», перевелся в палестинский батальон из канцелярии при штабе Алленби. «Неби» остался в Палестине и после войны, по-видимому, уже навсегда. Остались и другие: Горас Сэмюэл, ныне крупный адвокат в Иерусалиме; Джэкобс, один из секретарей сионистской экзекутивы; Израэль Джаффе, родом из Белфаста, до недавнего времени помощник начальника городской полиции в Тель-Авиве; и еще два или три. Из тех, что вернулись в Англию, некоторые остались — или сделались — активными сионистами (если не переоценивать значения слова "активность"). Но большинство просто пришли и ушли; служили в легионе честно и с достоинством, но не поддались ни блеску национальной идеи, ни горькой красоте палестинской природы.
Приглядываясь к ним, я окончательно укрепился в одном застарелом своем предрассудке. Мне давно казалось, что сионисты — это особая «раса»: особый прирожденный склад души, а может быть, и особый какой-то состав крови. Нельзя «обратить» человека в сионизм; и все толки о том, будто контакт с Палестиной может «сделать» кого-либо сионистом, тоже выдумка. Если это и случается, то только с теми, у кого и раньше была в душе капля сионистского яду, только прежде незамеченная. Это — тот самый яд, чья примесь, у других народов, при других условиях, создает ушкуйников, пограничников, авантюристов: людей, которым отроду не по сердцу взбираться по готовым ступенькам, а хочется и лестницу выстроить самим. Этой черты ни привить, ни подделать нельзя. Будет время, когда весь еврейский мир «признает» сионизм и даже будет его «поддерживать»; но и тогда сионисты будут в еврейском народе малым меньшинством.
Среди христиан-офицеров было несколько теплых друзей сионизма; из них у палестинских волонтеров был особенно популярен майор Хопкин, валлиец. Но большинство было точь-в-точь, как большинство евреев: служили честно, корректно и нейтрально. Много ли было среди них "тайных юдофобов" — право, не знаю: я уже признавался где-то в одной из предыдущих глав, что невысказанные чувства ближнего меня мало интересуют. Один из них, впрочем, ненавидел нас совершенно открыто, но и его я бы не назвал с уверенностью антисемитом. Звали его майор Смол-лей; он был вторым по команде в батальоне Марголина, и американцы наши много от него терпели; а однажды его упрямство и бестактность довели и до очень серьезных неприятностей — до военного суда над полусотней солдат, но об этом я расскажу после. Однако этого же Смоллея я видел и при других обстоятельствах, и там он держал себя с честью, даже по-рыцарски, хотя опять дело шло о евреях. Если бы тот же Смоллей был чиновником при военном министерстве в Лондоне, был бы он для нас, пожалуй, добрым помощником. Но ему пришлось жить среди нас ежедневно, а это безнаказанно дается только отборным людям, "лингвистам духа", если есть такое слово. Остановился я на майоре Смоллей потому, что загадка его — загадка общая для большей части английских чиновников в Палестине. Трудный мы народ; нелегко нам с соседями, нелегко и соседям с нами.
Глава 16. Наши солдаты
Солдатскую массу нашу надо разделить на три главные группы: “англичане”, палестинцы и американцы.
Об “англичанах” мало что осталось сказать. О том, что презрительная кличка “портные” стала у нас постепенно почетным титулом, я уже говорил. Уайт-чэпель дал нам, бесспорно, хороший материал, ничем не хуже других солдат британской армии. Иногда мне даже импонировала непреклонная суровость их настроения. Без увлечения, без энтузиазма к чему бы то ни было на земле, кроме своего личного “дома” с женой и детьми, равнодушные к сионизму и к Палестине, обиженные на всех и все за то, что их посмели потревожить и послали на край света отвоевывать страну, до которой им дела нет, — они точно и аккуратно справляли свою службу от аза до ижицы, от чистки пуговиц до настоящего героизма. В наших батальонах бывали тяжелые моменты, приступы массового нетерпения, которые иногда грозили привести все наше дело к гибели, — но никогда в этом не участвовали “портные”. Для них все—опасность, жара, грубость, беспредельная скука перемирия, спанье на камнях, ночная стража на горе, малярия, рана, пустая фляжка, где не осталось ни капли воды, — все это были для них составные элементы “подряда”, который, хочешь не хочешь, пришлось на себя взять, а потому, раз уж “подрядился”, надо выполнить, как полагается.
Коллективной жизни я у них не заметил: ни общих идейных интересов, ни собраний, ни даже кружковых сближений. Жили они группками, по произволу случая — кого капрал с кем поселит в одной палатке. Раз оказались соседями, значит, надо друг другу помогать, играть вместе в карты, вместе ворчать на полковые порядки и вместе вспоминать о доме, не тоскуя о вчерашних соседях. Тосковать разрешается только по “доме”.
Войну они ненавидели, как дикое безумие пьяного необрезанного мира, безумие, которому нет и не может быть никакого нравственного оправдания. Добровольцев, особенно палестинских, они искренно считали идиотами. А с другой стороны — такой факт. После брест-литовского мира кто-то в штабе Алленби додумался до простого способа, как избавиться от нашего легиона: ведь эти солдаты — “русские”. Патерсон внезапно получил приказ созвать батальон и объявить, что каждый, кто захочет, может перевестись в нестроевые роты. Откликнулись всего два человека. Почему только два? Не знаю. Как не знаю, почему они же оказались первыми боксерами на всю британскую армию в Палестине, побив, одного за другим, чемпионов всех других полков, так что на заключительном состязании в Каире, между “Англией” и “Австралией”, Англию представлял наш рядовой Бурак.
Палестина их не интересовала. Однажды, во время перемирия, было объявлено по полку, что можно записываться в групповые поездки по стране. Никто из них не записался, а на другой день полковник получил письмо без подписи: “Этого нам не нужно. Мы сюда не приехали смотреть на пейзажи — мы приехали служить, служили прилично и вас, сэр, ни разу не посрамили; а теперь очередь за вами, похлопочите, чтобы нас скорее отправили домой”.
Но, мечтая о “доме”, они делали свое дело и не топали ногами, и оттого, должно быть, их и демобилизовали много позже, чем американцев. Итог: первыми приехали, уехали последними; чужими пришли и чужими ушли; а между началом и концом была Иорданская долина. Странная психология, мне мало симпатичная; но не могу ей отказать в цельности.
* * * * * *
Я сказал: “уехали последними” — конечно, последними из тех, которые приехали. Самый последний остаток еврейского полка, продержавшийся на посту до лета 1921 года, состоял из палестинцев.
Об этих волонтерах X.Е. Вейцман сказал однажды ген. Алленби: “Лучших солдат и у Гарибальди не было”, — и правильно сказал. По крайней мере три четверти “Гитнадвута” представляли редкий человеческий отбор. Смелость их была того калибра, какому научил нас Тель-Хай, где стояло пятьдесят человек против тысячи: не просто бесстрашие, но и прямая тоска по жертве. Притом, в значительной части, молодежь высококультурная и в смысле духа и в смысле внешнего обряда — вежливая, с рыцарскими понятиями о чести, товариществе, долге. Многие из них знали страну, как свою ладонь: многие говорили по-арабски, как арабы; некоторые хорошо знали по-турецки; добрая половина умела обращаться с конем и с ружьем. Всякий другой главнокомандующий ухватился бы за таких людей двумя руками. Алленби — или его штаб — на полгода оттянул их прием на службу, а потом старался держать их подальше.
Обучали их в Египте, в местности Телль-эль-Кебир; даже того, чтобы их оттуда перевезли в Палестину, пришлось особо добиваться. Сделала это г-жа Грозовская (сын ее, Аммигуд, был одним из главарей добровольческого движения): собрала депутацию из дам, у которых были в полку сыновья, и добилась свидания с Алленби. Они ему сказали: “По стране носятся разные беспокойные слухи, а молодежи нашей с нами нет; нам “жутко”. Через две недели “40-й батальон” привезли в Сурафенд, недалеко от Луда.
Внутренняя жизнь их была очень богата: другого такого интеллигентного батальона, вероятно, во всей армии не было. У них была библиотека тысяч в пять томов — совершенно, кажется, беспримерная вещь для новорожденного и притом временного лагеря. Из своего лагеря они управляли рабочим движением в стране, дирижировали настроениями интеллигенции, посылали делегатов на съезды Ваад-Земанни (так назывался предшественник теперешнего “сейма” — Ваад-Леуми). Капрал из почтового отделения сказал мне однажды: “Случаются дни, когда десять рядовых из 40-го батальона получают больше писем, чем вся ставка целиком!” Когда у “сионистской комиссии” возникал какой-либо серьезный вопрос — план большой колонизации в районе Негева, с которым одно время много носились, или разработка проекта палестинской конституции для представления Лиге наций — на совещание вызывались делегаты “гедуда”. При этом они умудрялись нести военную службу аккуратно и точно, как я уже рассказал, даже в самых парадоксальных условиях.
Лично мне больше всего нравилась группа бывших яффских гимназистов, первого и второго выпуска. Эту гимназию много у нас бранили: и за якобы “критическое” отношение к Библии, и за совместное воспитание мальчиков и девочек, и просто педагогически. Во всем этом мне не разобраться; знаю только то, что на большинстве ее воспитанников того периода лежал общий нравственный отпечаток, и хороший, с высокою меркою требований к самим себе в смысле долга, товарищества, рыцарства, мужества, даже манер и с великой готовностью к жертве за страну и идею.
Их я и знал ближе; о других группах судил скорее издали. Было много сефардов: лучшая в них черта — здоровая непосредственность в отношении ко всему, до чего ашкеназийскому еврею приходится “додумываться”. Палестина, еврейская армия, еврейское государство — для них это все не проблемы, а вещи данные и бесспорные, как нос или рука. Они, по-моему, единственное племя среди евреев, сохранившее коренной, мужицкий здравый смысл — “конское чутье”, как выражаются англичане, тот инстинкт, который помогает лошади ночью в горах найти дорогу, если только всадник перестанет дергать за уздечку. — Было около сотни турецких военнопленных, уроженцы Балкан и Анатолии. С точки зрения Уайтчэпеля, они были еще непонятнее палестинских добровольцев. Жилось им сытно и уютно за колючей оградой в Сиди-Бишр близ Александрии; англичане долго не хотели брать на службу людей, которым, если попадутся в плен туркам, грозила виселица; но они посылали просьбу за просьбой и добились своего. — Были йемениты: может быть, от природы наиболее одаренная ветвь еврейского корня, с задатками большого коллективного таланта к музыке, мышлению и гешефту; физически — почти особая раса, происхождение которой остается загадкой глубочайшей старины и которая пронесла свою верность сквозь строй гонений, еще и в счастливой Аравии не закончившихся. Отцы их прибыли в Палестину босыми оборванцами, каждый с двумя ящиками богатства — в одном рухлядь, в другом священные книги. Сыновья — многие из них — не ели на службе мяса, так как о той кашерной пищи, которую завел Патерсон в Плимуте, на фронте не могло быть речи.
Как носители идеи легиона, палестинские волонтеры последними покинули утопавший корабль. Ядро их, человек 400, зубами и ногтями боролось против демобилизации, на которой настаивала штаб-квартира. Эта борьба им и в нравственном смысле далась не легко. Уже давно заговорили кругом о новой строительной работе, слово “квуца” стало лозунгом всей молодежи — а им, лучшим из этой молодежи, приходилось стеречь железнодорожную станцию в Хайфе или пустые военные склады на границе Синайской пустыни. С огромными усилиями удалось им раз или два продлить срок своей службы еще и еще на три месяца; потом они записались в еврейский отряд “смешанной милиции”, которую хотел устроить Герберт Сэмюэль. Яффский погром положил конец и “милиции”, и их военной службе.
* * * * * *
Сложную задачу представляли наши американцы. По количеству они были самой значительной группой нашего состава (наши 5.000 распределялись приблизительно так: из Соединенных Штатов — 34 %, из Палестины — 30, из Англии — 28, из Канады — 6, из турецких военнопленных — 1, из Аргентины); по интеллигентности, образованию, по личной отваге, проявленной в Иорданской долине, они тоже стояли на доброй высоте; в смысле физическом, по здоровью и мускулам, были, пожалуй, у нас первыми. Но психологически — очень трудно было их “уместить” в нашей обстановке. Виной тому были не еврейские их качества, а американские.
Очень несродны между собою духовный мир англичанина и духовный мир еврея; но эта разница — ничто в сравнении с той пропастью, которая отделяет англичанина от американца. Я живал среди русских, итальянцев, немцев, венцев, французов и турок: в жизни еще не видел двух народов, так диаметрально непохожих друг на друга, как эти две ветви англосаксонского ствола. Они сами это знают; один британский публицист, как раз тот, который больше всех работает для сближения обоих народов, заметил однажды: — Слава небу, что мы с ними не соседи, а не то бы мир впервые увидел, что такое настоящая национальная ненависть! — Но мы, посторонние, этого не подозреваем: слышим ту же речь, те же фамилии и воображаем, что это братья по духу. Братья по духу?! Даже у нас, в крошечном “театре миниатюр” 38-го батальона, легко было проследить, что это за “братство”. Наши “Transatlantiques” были, конечно, только наполовину американцы; но и налета американизма оказалось достаточно, чтобы сделать для них совершенно невыносимой обволакивавшую нас английскую атмосферу. Выходцам из России, сефардам, йеменитам гораздо легче далось приспособление к британским порядкам, чем этой молодежи, всего десять или пятнадцать лет подышавшей воздухом Америки.
В чем тут различие — об этом пришлось бы написать целую книгу, и напишу ее не я: не мое дело. Для моей цели достаточно указать на одну противоположность: в “темпе”. Американец думает быстро и отчетливо, говорит да или нет, и если “да” — действует так. чтобы вышло “да”. Англичанин на это способен только в критические моменты большой опасности. В обычное, более или менее нормальное время он гораздо больше сродни испанцу с его любимым словечком “маньяна”, или арабу с его “букра” — оба слова значат: “завтра!” Не толкайтесь, куда вы торопитесь? Отложим на неделю, на месяц, на год — поближе ко второму пришествию. — Притом американец — человек цели: если берется за дело, он прежде всего знает, какой ему нужен последний итог? и каждый сегодняшний шаг он приспособляет к этой конечной задаче. Англичанину само понятие “конечной цели” не по сердцу, и он открыто гордится своим пренебрежением к будущему. Снег и пламя легче примирить, чем эту психологию воспитанников Итона и Вестминстера с душою чикагского “толкача”. Не берусь судить, что лучше: тоже не мое дело. Но под венец такая пара не годится.
На подмостках нашего “театра миниатюр” эта противоположность отразилась быстро, ярко и резко. Американские легионеры, высадившись в Александрии, сразу поставили вопрос о “цели”: где тут фронт? Англичанин ответил: повремените, поучитесь. Они возразили: да ведь у вас самих три-четыре месяца обучения считаются достаточными! Англичанин отозвался: поживем — увидим… Так и случилось, что большинство из них в наступлении не участвовало, т. е. пропустило цель, ради которой они туда и прибыли.
Тогда возникла новая “цель”: раз у нас мир, значит — надо “строить Палестину”. Большинство из американцев были добрые сионисты. Дайте нам лопату! Но кабальеро в британской форме отвечает: “маньяна”.
Я, конечно, далек от того, чтобы обвинять одну только сторону. Было бы гораздо лучше, если бы американские и канадские мои товарищи стиснули зубы и, терпя скуку и разочарование, остались на посту. Далеко не все они так поступили. Видя, что пальба кончена, а строительная лопата еще далеко в тумане, многие из них решили: значит, не к чему чистить бесполезные винтовки — и начали громко, иногда очень громко, требовать демобилизации.
Летом 1919 г. состоялся в Петах-Тикве съезд представителей палестинских и американских легионеров, вместе с делегатами от рабочих. (Если не ошибаюсь, это был тот именно съезд, на котором основана была “Ахдут-га-Авода”, ныне главная рабочая партия Палестины). Я был на том съезде; ясно предупредил их, что именно теперь наступает важнейшая роль легиона: по всей стране ведется беспримерная погромная агитация, тем более опасная, что она косвенно опирается на известные настроения и в высших, и в низших слоях оккупационного аппарата. Справедливо или нет, наши противники уверены, что ни британские, ни индусские войска пальцем не шевельнут в защиту еврейского населения: их пароль: — “эд-доуле маана”, правительство с нами! Правда это или ложь, неважно: они в это верят; и единственная сила, которой они боятся, это — еврейские батальоны. Как же можно говорить о демобилизации?
Не помогло. Опять-таки, и тут нельзя винить одну сторону. Если бы легионеры поверили в опасность, они бы остались под ружьем, в этом я убежден. Но среди старших вожаков палестинского общества нашлись успокоители: они сказали солдатам, что я выдумываю или преувеличиваю, что сам я в стране новичок, а они, успокоители, знают арабов, и ни о каком погроме речи быть не может… Для американцев все это не могло не звучать убедительно: понятно, местным людям виднее.
Словом, много было у нас с американцами осложнений. Подробно рассказывать незачем; но в итоге — многие из тех, что прибыли последними, отбыли первыми. Через два месяца после съезда в Петах-Тикве из трех батальонов осталось два, а потом и всего один — палестинцев, которые держались до конца, подавая прошение за прошением, чтобы их не демобилизовали, оставили под ружьем. Но и они быстро таяли. Весной 1919 года у нас было 5.000 солдат; к весне 1920-го осталось едва четыреста — и тогда разыгралась кровавая Пасха в Иерусалиме…
Глава 17. Каста главного штаба
Иерусалимский погром был, в значительной мере, неизбежным последствием всей политики главного штаба. До погрома политика эта ярче всего проявлялась в отношении властей к еврейскому легиону; но это — деталь. Просто оказался под рукою проект, который легче было толкать и дразнить, чем гражданское население. Но пинки, сыпавшиеся на легион, предназначались не ему, а всей еврейской Палестине, и больше того — сионизму.
Как и почему штаб ген. Алленби дошел до жизни такой, это — особая тема. Я займусь ею подробно, если действительно соберусь написать продолжение этой книжки, рассказ о самообороне 1920-го года. Здесь, однако, совсем обойти ее не могу.
Я уже говорил, что ни Алленби, ни даже Больса (в его управление произошел погром) я бы не назвал антисемитами. Вообще думаю, что настоящим антисемитом в этой ставке был только один человек полковник Вивиан Гэбриэль; но его убрали, кажется по настоянию Брандейса, еще до Пасхи 1920 г. Остальные вдохновители ставки — совсем не враги наши: ни знаменитый Лоренс, ни Ричмонд, ни Фильби, ни даже Сторрс. Некоторые из них одно время даже сочувствовали сионизму — издали. Что же сделало их и им подобных вдохновителями юдофобской агитации, а одного из них — ген. Луи Больса — даже хуже того, уменьшенным Плеве?
Чтобы это понять, надо, мне кажется, опять вернуться к той черте английской психологии, о которой я вскользь говорил в последней главе. Средний англичанин из так называемой правящей касты органически не любит чересчур широких проектов, особенно таких, которые отзываются сентиментальностью и романтикой. Не вся Англия такова, даже не большинство Англии — я говорю о правящей касте. И тут есть исключения, холодные мечтатели вроде Бальфура, Эмери, Грэхема, Ормсби-Гора, Стида, горячие мечтатели вроде Веджвуда, Кенворти — я бы мог наполнить страницу списком, и он был бы очень неполон. Но «каста» в целом, те сто тысяч душ, которые так запутанно связаны между собою происхождением, хотя бы отдаленным, от бесчисленных лордов и сэров, от их родичей или от их свояков; которые воспитываются в средневековых "public schools" Итона, Гарроу, Винчестера, а после того не просто в Оксфорде или Кэмбридже, но непременно в одном из древнейших там колледжей вроде «Баллиоль» или "Корпус Кристи", основанных восемь или девять веков тому назад; которые даже на английском языке говорят по-своему (или воображают, что это все еще так) — эта каста, вернее, особая нация внутри нации, искренно гордится непроницаемостью своего духовного провинциализма. Если можно сравнить несравнимое, они похожи на гетто наших дедов: другие обычаи, но та же мания избранничества, то же неприятие остального мира, то же презрение ко всякому новому шороху. К счастью, давно уже прошло время, когда эта «правящая» каста одна правила государством: другие сословия порядком уже оттеснили ее, особенно на парламентской арене. Но она еще правит душами, определяет нравственную моду всей страны и все еще очень сильна в высшем чиновничестве. Всего сильнее она, конечно, в армии, особенно чем выше. Китченер, с его отвращением ко всему, что отдавало привкусом «фантазии» — «fancy», очень был для них типичен. Но, конечно, фантастический полк — это еще пустяк по сравнению с таким чудовищем фантазии, как возрождение еврейского государства.
После этого нетрудно себе представить раздражение этого военного кружка — касты над кастами — когда в самый разгар войны им вдруг заявили: извольте насаждать сионизм; мы посылаем вам еврейские батальоны; посылаем сионистскую комиссию. Ставка возмутилась. Как можно сделать такой шаг, не спросясь у нас? И как можно осложнять нашу военную задачу «политикой», да еще такою политикой, которая очень не по вкусу арабам? Разве не вы нам велели привлечь арабские сердца? Чего бы вам не дождаться конца войны? Все это вопросы, которым трудно отказать в известной резонности.
Но это все было только полбеды. Вторая половина, пожалуй, не менее важна. Я назвал несколько имен: Лоренс, Фильби, Ричмонд — можно было бы назвать еще несколько, ибо и у «касты» есть свои фантазеры. Но они облюбовали такую «мечту», которая легко и уютно укладывается в самые застарелые британские традиции. Не «fancy», не дикое новшество, а вполне законное порождение вчерашнего дня — «Пан-Арабия». Англия вот уже 40 лет хозяйничает в Египте, имеет интересы в Месопотамии, владеет несколькими точками на всех побережьях Аравийского полуострова; выработался огромный опыт, как управлять арабами. Остальное просто: теперь надо их освободить, потом объединить, потом дать им королей — этаких живописных шейхов в зеленых и белых чалмах, которые за столом сидят с ногами на кресле… Такая мечта — другое дело; пожалуйста.
До войны почти вся высшая бюрократия в Египте принадлежала, прямо или косвенно, к этой школе. Во время войны они переоделись в хаки, окружили штаб-квартиру и определили ее идеологию. Конечно, Великая Аравия; но притом обязательно «живописная», с верблюдами, караванами, белыми бурнусами, зелеными чалмами и женщинами под чадрой и за решеткой. Всю декорацию «Востока» надо свято сохранить; было бы ужасно, если бы эту красоту нарушило прозаическое дыхание цивилизации… Возможно что в этом культе старого хлама была подсознательная примесь эгоизма — мысль о том, что покуда король сидит за обеденным столом, скрестив ноги, ему нужны английские советчики не только за обеденным, но кстати уж, и за письменным столом. А может быть и нет: я вполне допускаю и бескорыстие этой любви к допотопному. Один из ее представителей, Стивен Грэхем, писал когда-то в том же духе о России, уж, конечно, не мечтая править ею через английских советников, а просто так из чистого восторга пред самодержавием и ссылкой в Сибирь. После первого переворота 1917-го года он откровенно заявил: "Сердце мое безутешно: я так надеялся, что Россия надолго еще останется музеем средневековья…"
Для этой школы Декларация Бальфура была ударом ножа в самое сердце — или в спину. Евреев они хорошо знали: богатых — по гостиной леди Н.Н., бедных — по Уайтчеплу; ни те, ни другие не «живописны». Если бы шла речь о поселении в Палестине хасидов с длинными пейсами, право, Лоренс и Ричмонд гораздо легче бы с этим примирились — они ведь не юдофобы. Но ясно было, что речь идет о евреях новомодных, у которых на ногах штаны, на голове — котелок или каскетка, а под каскеткой — новаторские замыслы. Пропала вся декорация: в Иерусалиме будет трамвай (Сторрс, впрочем, поклялся, что трамвай пройдет через его бездыханный труп) вместо верблюда под пальмой будет красная черепичная крыша и по мощеным тротуарам колоний будут гулять девицы с молодыми людьми, как в Англии — с нами крестная сила!
Я не шучу: это правда, и очень серьезная. Она причинила нам немало горя, и это еще не конец.
* * *
Были и другие факторы, менее (гораздо менее) идеологического свойства, но об этом, может быть, в другой раз и по другому поводу. Тогда уж придется рассказать и о том, как разгул антисемитизма, с весны 1919-го года охвативший верхи оккупационной армии, ударил, между прочим, и даже главным образом — по легионерам. Здесь, однако, в повести бывшего солдата о делах солдатских, именно об этой солдатской стороне скверного дела как-то не хочется говорить. Может быть, это неуместная сентиментальность, но я тридцать месяцев носил английскую форму и горжусь ею, и не хочется мне выносить на улицу мелкий сор из одного уголка большой и красивой избы. Я могу критиковать, могу даже высмеять Алленби-политика, но Алленби-солдат — это для меня другой человек, большой полководец, "лорд от Мегиддо в долине Ездрелонской", завоеватель Иерусалима и Газы, Галилеи и Заиорданья. Да простят ему боги и люди тех советчиков, которыми он себя окружил, и тот яд, которым они отравили одну часть хорошей и благородной семьи — британской армии. Как-никак, это была и моя семья; лучше промолчать о деталях.
Итог: в июле я подал Патерсону рапорт о том, что образ действий военного начальства вызывает глубокое раздражение среди наших солдат и что все это грозит кончиться неприятными осложнениями. В то же время я написал личное письмо Алленби, приблизительно того же содержания, и просил у него свидания.
Через две недели после этого произошли у наших американцев два «бунта»: один в Рафе, на границе Египта, где стояла тогда рота 38-го батальона, второй в Сурафенде, в батальоне Марголина (сам Марголин был тогда в отпуску, замещал его майор Смоллей, о котором я писал в предыдущей главе). В Рафе около 50 человек объявили «забастовку», требуя демобилизации; в Сурафенде около 40 обозных, обидевшись за товарища, который попал под арест за какую-то мелочь, в знак протеста явились на утренний «парад» без уздечек и когда капрал скомандовал «направо» (или «налево», не помню), не исполнили команды: по букве закона и это составляет «бунт» Это было вообще нервное время; в английских и австралийских батальонах ежемесячно происходили бесчинства гораздо более серьезные — вероятно, всегда так бывает во время демобилизации после долгой напряженной войны; а у наших солдат ведь еще были особые причины для нервности. Тем не менее, я их не оправдывал тогда и не оправдываю теперь; но защищать их на суде пришлось мне, и притом одному. Месяц тянулись оба процесса. Английская военносудебная процедура — образец процессуальной корректности: судьи обязаны соблюдать массу обрядовых самоограничений, которых и юрист не упомнит, а офицеров-юристов в Палестине, по-видимому, не нашлось, или они были заняты другими делами. «Ловить» неопытных полковников и майоров на технических нарушениях процедуры было очень легко. Я сделал все что мог: на третий день суда над солдатами из Рафы (это было в Кантаре, на берегу Суэцкого канала) добился роспуска всего судейского состава; на второй день второго процесса, в Сурафенде, добился того же. Но после этого были назначены новые судьи, а из Каира к ним в подмогу прислали военного юриста кал, Брэмстона, молодого человека из «касты», с оксфордским выговором, и действительно знавшего все секреты толстой красной книги военных законов. Во втором издании суд в Кантаре продолжался неделю, суд в Сурафенде — четыре дня. Около трети удалось выгородить, остальных засудили. Все это были, в сущности, хорошие честные юноши. Один из них, капрал Левинский из Канады, пожертвовал собою и спас шестерых товарищей: заявил, что он, как начальствующее лицо, сам велел им «забастовать»; их оправдали, а его посадили на семь лет. Остальных приговорили на сроки от трех до шести лет.
Осталось одно: отправить на имя короля прошение о помиловании, изложив в нем все, что было на душе, все то, о чем в этом рассказе не рассказано. Такие прошения подаются через главнокомандующего: я направил мое в ставку, а копии послал Эмери, Грэхему, Стиду, Смутсу… Через полгода солдат освободили, освободили бы, конечно, и без моего прошения, как всегда бывает в конце войны; но в одном месте моя жалоба королю произвела свое впечатление — в штабе. Там жестоко обиделись еще за «разгон» двух составов военного суда; а эта бумага, по-видимому, окончательно закрепила симпатии… В апреле 1920 года, когда человек десять из моих бывших подзащитных, только что выпущенные из военной тюрьмы, ехали из Египта в Палестину, они в Кантаре пришли, понуря головы, к проволочной ограде арестного лагеря, где еще недавно сидели они во время суда, а теперь сидела иерусалимская самооборона. Я помню их дрожащие голоса: "Сэр, легче бы нам было ослепнуть, чем видеть вас здесь…"
* * *
Не хотелось бы оставить впечатление, будто все окружение штаба состояло из недоброжелателей. Напротив: тот человек, например, который впоследствии нанес «касте» самый тяжелый удар и, пожалуй, больше всего помог ликвидации ее власти над Палестиной, сам был один из старших офицеров оккупационного управления — полковник Мейнерцхаген, политический секретарь при ген. Больсе. После иерусалимского погрома он сказал в лицо и Больсу, и Алленби, что вина падает на военную администрацию; в этом смысле телеграфировал он и министру, и его телеграмма, говорят, решила судьбу военного режима.
С другой стороны, несправедливо было бы думать, будто недоброжелатели все были только христиане да арабы. Без услужливого еврея такие вещи не делаются. Еще и ныне шмыгает по гостиным еврейского Лондона один из представителей этой разновидности нашего многоликого племени, который в те дни носил капитанскую форму и состоял при штабе. "Что он там делает?" — спросил я как-то у английского офицера из ставки; тот объяснил: — Рассказывает генералу Алленби анекдоты. Один из этих «анекдотов» мне потом довелось видеть черным на белом, и сюжетом был я сам.
Это было так: через неделю после того, как я отправил свое письмо Алленби с просьбой о свидании, этот капитан разыскал меня в Тель-Авиве, на квартире И.Е.Вейцмана (брата Х.Е.), и сказал:
— Ген. Алленби получил ваше письмо. Он ничего не имеет против того, чтобы с вами повидаться; но он поручил мне предварительно выяснить, в чем дело. Можете говорить со мною совершенно нараспашку, как свой со своим.
Я и тогда не был о нем большого мнения, особенно после аттестации того английского офицера; но мало ли кого мог Алленби выбрать своим поверенным? Я ему рассказал свои наблюдения над палестинской атмосферой.
Потом, много позже, мне показали его отчет об этой беседе, О моих «наблюдениях» в отчете не было ни слова, зато много обо мне лично, в сочных черных тонах. Одна подробность любопытна: я у него оказался «большевиком» — что называется, честь неожиданная.
* * *
Вскоре после процессов пришло распоряжение о моей демобилизации. Я поехал в Кантару, получил отставку "с сохранением чина" и вернулся в Тель-Авив штатским. На этом кончаются мои полковые воспоминания; о дальнейшей судьбе наших батальонов я уже рассказал; остается еще одна, последняя глава, нечто вроде надгробной речи отца над могилою сына — речи отца, который не верит могиле и твердо считает, что «сын» еще не навеки похоронен.
Глава 18. Заключение
Это, конечно, не “история” легиона. Для истории нет у меня материалов. Движение это проявилось в нескольких странах, в каждой по-своему: в Палестине, в Америке, в Канаде, в Аргентине, в Египте: в России Трумпельдору едва не удалось создать настоящую еврейскую армию. Да и сам полк наш жил очень сложной жизнью, из которой мне знаком только малый уголок. Я не был ни в Галлиполи с Трумпельдором, ни в Плимуте с Патерсоном, ни в Эс-Сальте с Марголиным. Из трех наших батальонов я знал хорошо только свой, а как раз остальные два, особенно палестинский, представляли гораздо больше интереса для наблюдателя.
Здесь я передал только личные воспоминания; несомненно, со всеми недостатками этого рода литературы — субъективные оценки, неточности и слишком много местоимений “я”. За все это прошу извинения, совершенно не пытаясь оправдываться.
В одном только буду настаивать на оправдании. Правду ли я написал? Да. Всю ли правду? Нет, и нарочно нет. Не всякий “факт” есть “правда” в основном значении слова. Каждое крупное явление имеет свое “лицо”: что подходит к общему характеру этого лица, то правда; что не подходит, то случайность, царапина, волдырь. Может быть, в ученых сочинениях важно записывать и это; там, может быть, уместно отметить, что во время штурма Бастилии поймали на площади вора, который тут же таскал кошельки. Это, говорят, факт, — но разве это “правда” о 14-м июля?
Сознаюсь: перечитывая эту рукопись, сам я раза два над собой посмеялся: очень уж гладко и сладко это все у тебя изложено. За исключением горемычной “ставки”, чуть ли не все милые, славные, храбрые, охотно помогают, сдерживают обещания… Неужели забыл ты все камни, подножки, обманы? — Я их не забыл: память — машина автономная, и притом мелочная. Если зажмурить глаза, вспоминаются то смешные, то нехорошие образы, и в штатском платье, и в военном. Но искать “правду” надо не с зажмуренными, а с открытыми глазами; тогда видишь главное, а главное и есть “все”.
Нет, я написал всю правду. И пятьсот “погонщиков”, и пять тысяч “королевских стрелков” — ими всеми вправе спокойно гордиться еврейский народ, всеми: из Уайтчэпеля, из Тель-Авива, из Нью-Йорка, из Монреаля, из Буэнос-Айреса, из Александрии. Они прибыли из четырех стран света, а один — Марголин — из пятой; и они честно и прочно отслужили свою службу за еврейское дело.
И так же гордо может гордиться еврейский народ теми друзьями, что пришли к нам из среды чужого народа. Есть в их ряду люди с большими именами, есть и малоизвестные: но все это красивые души, широкие сердца: каждое из этих имен, звонких или скромных, есть добрый знак для будущего, эхо старинного слова о том, что не сирота на земле Израиль: эхо герцлевой “правды” о том, что die Welt ist keine Rauberwelt — die Welt ist eine Richterwelt.
* * * * * *
О значении легионизма и легиона, о роли, какую оба сыграли в нашей народной истории за годы войны, я говорил уже на разных страницах этой книги; попытаюсь резюмировать. Понятно, я не предъявляю никаких притязаний на объективность моей оценки. Спор о “легионе” еще не закончился — по-моему, настоящий разгар его еще впереди; воздух еще полон и партийных, и личных раздражений. Противники нового легиона естественно склонны недооценивать первый легион, и наоборот. Вполне возможно, что я “наоборот”. Но и мой подход к этому вопросу не следует понимать слишком уж упрощенно в духе классической гречневой каши. Если человек судит только субъективно, он прежде всего скажет: победил! Я этого не говорю. Далеко мне было до победы, и не раз я думал об этом в долине Иордана. Не о пяти тысячах мечтал я в то дождливое утро, перед афишей в Бордо. Я своего не добился. Но те пять тысяч — они добились: еврейский легион, такой, каков он был, действительно сыграл историческую и определяющую роль в судьбе сионизма. И так же уверен спокойно и твердо, как уверен я в том, что завтра взойдет солнце и будет утро и день и вечер, так же уверен я в том, что оценка истории совпадет с моей оценкой.
Чисто военное значение легиона было не больше и не меньше того, какое могут иметь три батальона в большой войне. Британская армия могла бы освободить Палестину и без нас. Но она освободила Палестину с нами; и в ответственный момент она поручила нам ответственную роль на опасном, исключительно тяжелом посту. Это не много и не мало; это то, что есть. В одном из храмов Лондона хранится общее знамя старого корпуса “королевских стрелков”, чью кокарду мы носили во время наступления; на этом знамени вышит ряд славных имен — Крым, Индия, Судан, Южная Африка. Благодаря нам к этому ряду прибавилось имя Палестины. Это имя было нашито на знамени в торжественной и величавой церемонии, и славный полк, одна из гордостей британской армии, гордится нашей службой. Солдат Патерсон тоже, солдат Марголин тоже. Я тоже.
О том, что за роль сыграл наш легион в охране Палестины в трудные месяцы послевоенных содроганий, я уже писал; и эту правду пусть затвердит на память еврейская молодежь родины и рассеяния. Пока стояли в Палестине пять тысяч еврейских солдат — даже когда, в самую опасную минуту, они остались почти одни на весь край — в Палестине было тихо. Когда они ушли, в Палестине трижды пролилась еврейская кровь.
Нравственное значение легиона ясно для каждого, кто умеет честно мыслить. Злая вещь война; но признание своего права на Палестину мы получили ценою войны — значит, ценою человеческих жертв. Сегодня никто не может бросить нам в лицо упрек: где вы были? Отчего не пришли тогда с требованием — дайте нам, как евреям, положить и свою душу за Палестину? Сегодня есть у нас ответ: “пять тысяч: и было бы много больше, если бы ваши начальники не тормозили нашего дела два с половиной гола подряд”. Этому нравственному моменту нет цены: это и хотел выразить премьер Южной Африки Смуте, герой двух народов, один из последних рыцарей на земле, и сам глубокий миролюбец, когда сказал: дать евреям биться за землю Израиля — это одна из прекраснейших мыслей, какие слышал я за всю свою жизнь.
* * * * * *
Но главную свою роль сыграли эти пять тысяч и то движение, которое их породило, в области политической: роль историческую и решающую. Изо дня в день, два года и больше, я следил за работой тех немногих тружеников, имена которых навеки связаны с декларацией Бальфура: они сами знают, как высоко я ставлю их достижение и их заслугу. Больше того: я знаю, что вся сумма всех усилий во имя Палестины, произведенных ими и нами и другими за четыре года войны, есть только малая доля того массового и длительного подвига, который накопила упрямая работа трех поколений сионизма. Декларацией Бальфура мы обязаны и Герцлю, и Ротшильду, и Пинскеру: в еще большей, верно, мере, первым пионерам — “6илуйцам” и всем преемникам их, колонистам, рабочим, учителям, от Метуллы на севере до Рухамы на юге. Я уж не говорю о том, что еще важнее: о книге. святой для всего мира и научившей весь мир связывать еврейский народ с Иерусалимом. Девяносто девять шагов к цели были сделаны задолго до выстрела в Сараеве: только сотый, последний был ступлен за годы войны. Но этот последний шаг был большой шаг: и неправо забывать, что это был шаг коллективный, и, поминая несомненную заслугу отдельных единиц, затенять заслугу пяти тысяч. Я считаю обе заслуги равными. Свет не жюри, декларация Бальфура не приз; даже на бумаге не дают родины Ивану, Сидору или Петру. Обещать родину можно только в ответ на соборный голос массы — в ответ на движение. В чем, где, когда могла в те одичалые годы проявиться сионистская мечта, как “движение”, как манифестация массовых воль? Организация была разбита, парализована, загнана в тень или прямо в подполье; но и без того, по самой природе своей, культурной и колонизационной, сионизм лежал безнадежно вне тесного, резко отграниченного кругозора воюющих народов и их правителей. Только одна форма сионизма в состоянии была проникнуть в это узкое поле зрения, прорваться в очередь, заставить министров, послов и репортеров внести нашу мечту о земле в список забот текущего — кровью текущего — дня.
Еврейский народ ничем не отблагодарил своих солдат; они меня тоже не уполномочили хлопотать о его благодарности — обойдутся. Но в их душе живет то спокойное сознание, которое я высказал здесь; и придет время, когда дети ваши будут заучивать имена их полковников вместе с азбукой. А рядовым, каждому из пятисот и каждому из пяти тысяч, я хочу сказать на прощанье то, что сказал когда-то своим товарищам “портным”, уходя навсегда из последнего лагеря нашего под Ришоном:
— Ты вернешься к своим, далеко за море; и там когда-нибудь, просматривая газету, прочтешь добрые вести о свободной жизни еврейской в свободной еврейской стране — о станках и кафедрах, о пашнях и театрах, может быть, о депутатах и министрах. И задумаешься, и газета выскользнет из рук; и ты вспомнишь Иорданскую долину, и пустыню за Рафой, и Ефремовы горы над Абуэйном. Встрепенись тогда и встань, подойди к зеркалу и гордо взгляни себе в лицо, вытянись навытяжку и отдай честь: это — твоя работа.
Примечания
1
Делькассэ (1852-1923) — французский государственный деятель, дипломат. — Ред.
(обратно)2
Нахум Соколов (1859-1936) — один из основоположников периодической печати на иврите и лидеров сионистского движения, президент Всемирной сионистской организации. — Ред.
(обратно)3
Конскрипция — в ряде европейских государств — система комплектования армии на основе воинской повинности с допущением замены призываемого и денежного выкупа от призыва; с 60-х гг. 19 в, заменена всеобщей воинской повинностью. — Ред.
(обратно)4
Он болван! (нем.).
(обратно)5
Он был им всегда, с самого начала (нем.).
(обратно)6
жиро — вид безналичных расчетов. — Ред.
(обратно)


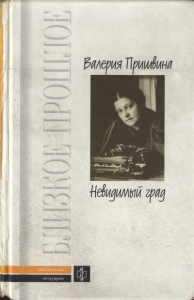

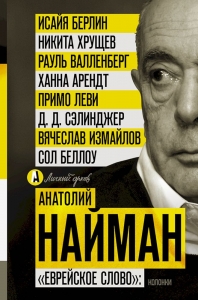





Комментарии к книге «Слово о полку», Владимир Евгеньевич Жаботинский
Всего 0 комментариев