Максимилиан Александрович Волошин Путник по вселенным
Мемуарная проза Максимилиана Волошина
Для каждого пишущего характерно стремление к самонаблюдению, к фиксации текущего и окружающего. Это стремление находит – в разной степени – выражение в самом творчестве (будь то проза, поэзия или драматургия), чаще в опосредованной форме. Помимо этого, почти каждый писатель оставляет после себя различные автобиографические материалы, многие ведут дневник, стремятся «остановить мгновение» в письмах современникам, в воспоминаниях. Среди тех, кто был подвержен этой тяге, и Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932).
Поэт и переводчик, художник и критик, он на первое место ставил оригинальное творчество, в котором действительность претворялась магически, под пером или кистью возникала «новая жизнь»: не «пересказ действительности», а «созданная действительность». Документальная фиксация прожитого – в дневниках или мемуарах – представлялась ему низшим по уровню воспроизведением бытия, сырьем. Поэтому и дневник он вел нерегулярно, от случая к случаю, и работу над воспоминаниями откладывал на то время, когда не сможет уже писать стихи. И все-таки мемуарная проза привлекала его к себе чаще, чем многих других его современников…
I
Вести дневник Максимилиан Александрович начал в 1890 году, будучи учеником третьего класса гимназии. Вскоре бросил, но возвращался к нему и в 1891, и в 1892 (11–18 октября), и в 1893 годах (21 февраля – 31 января 1894 г.). 12 октября 1892 года он отметил: «Мое теперешнее самое заветное желание – это быть писателем». На дневник он смотрел как на средство подготовиться к этому поприщу, научиться наилучшим образом выражать свои мысли.
Достиг ли начинающий поэт своей цели? Во всяком случае, один важный урок из этого юношеского опыта он извлек. Вернувшись к дневнику осенью 1893 года, после трехмесячного перерыва, Волошин признается себе, что в его прежних записях много фальши. «Я писал ведь его, собственно, не для себя, но чтобы его прочитали другие, и поэтому всё лгал». Разумеется, не «всё», но элемент самолюбования, ориентировка на будущее прочтение соучениками – были. И мешали полной искренности автора.
Следующий этап – дневник 1897 года (с 27 апреля по 24 мая, с двумя приписками осенью). Начав его перед выпускными экзаменами, в одну «из поворотных точек» жизни, Волошин в первых же строках по-новому определяет задачу своих записок: «Где-то я встречал такую мысль: молитва имеет тот смысл, что это отчет в прожитом дне, самопроверка. Я начинаю этот дневник с тем, чтобы он заступил мне место молитвы. Я чувствую, что последнее время <…> я чрезвычайно мало подвинулся в своем развитии и самосознании. Пусть этот дневник послужит искусственным фактором к развитию самосознания. Это одна причина. Другая же та, что мне интересно сохранить себе себя и свою жизнь».
Этой же задаче служил и «Журнал путешествия», который вели поочередно Волошин и его спутники-студенты, Л. В. Кандауров и В. П. Ишеев, во время путешествия по Италии в 1900 году (с 27 мая по 24 июля). Не исключено, что именно Волошин был инициатором этого предприятия. И записи его, пожалуй, наиболее художественны и содержательны. Разумеется, такой – совместный – дневник чисто событиен: для сколько-то интимных переживаний здесь места нет.
Совсем другое дело – волошинский дневник 1902 года (3 июля – 15 октября, с перерывами). Здесь не только подробные «этюдные» зарисовки состояния итальянской природы, но и воспоминание о первой близости с женщиной – неотвязное, жгучее, требовавшее выхода в слове. Дневник же, начатый Волошиным 29 мая 1904 года, становится подлинной исповедью. И недаром он назван «История моей души».
Особенно интенсивно этот дневник ведется до середины августа 1905 года, затем – в 1907-м (весной и осенью). Далее следуют отдельные записи (порой обширные) в 1908, 1909, 1911–1913, 1915, 1916 годах. Учтем, что все эти годы поэт ведет регулярную переписку с десятками корреспондентов – и письма пишет, отнюдь не скупясь на все то, что требует душевных затрат: эмоции, образы. Дневнику остается наиболее интимное, или вдруг вспомнившееся, или то, что было необходимо тут же запечатлеть документально (беседы с А. С. Голубкиной, В. И. Суриковым, К. Д. Бальмонтом, Диего Риверой). Далее – перерыв в тринадцать лет: записи в этой тетради возобновляются лишь в 1930–1931 годах.
Не один раз обращался Волошин и к такой концентрированной форме мемуарной литературы, как автобиография. Самая первая была им написана по просьбе М. Л. Гофмана, составителя «Книги о русских поэтах последнего десятилетия» (Спб.; М., 1909. – С. 365). Эта автобиография весьма краткая – что и понятно: поэт был, по сути, в начале творческого пути, еще не выпустил ни одной книжки. «Заказанной» была и автобиография (в форме ответов на вопросы) в сборнике Ф. Ф. Фидлера «Первые литературные шаги» (М., 1911. – С. 165–167)
Внутренняя необходимость подвести некоторые итоги возникает у Волошина лишь в конце 1924 года, в связи с его предстоящим литературным юбилеем: исполнялось 25 лет со дня первой публикации его критической статьи (и 30 лет – со дня опубликования стихотворения). Возраст – 47 лет – также побуждал оглянуться; на пройденный путь. И вот Волошин пишет одну автобиографию за другой: по семилетиям (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 13/1), «Я родился 16 мая 1877 года…» (ЦГАЛИ, ф. 102, оп. 1, ед. хр. 13), «Биографическую канву» в письме к Ю. А. Галабутcкому (от 30 апреля 1925 г.). Еще одна автобиография была написана по просьбе библиографа Е. И. Шамурина, одного из составителей антологии «Русская поэзия XX века», выпущенной в Москве в 1925 году. В этот же период возникают и автобиографические, итоговые стихотворения Волошина: «Дом поэта» (19–25 декабря 1926) и «Четверть века» (16 декабря 1927). 16 декабря 1929 года появляется (по-видимому, в ответ на какой-то запрос) «Жизнеописание». В 1930-м, к предполагавшейся выставке художественных произведений, Волошин пишет статью «О самом себе» (неоконченный вариант: «Мне было 24 года…», все – в ИРЛИ, ф. 562).
Некоторые из них включены в настоящий сборник – и читатели могут убедиться, что и в эти, уже очень непростые годы Волошин ни в чем не изменял себе. Не припомним, чтобы кто-то другой осмелился тогда признаваться в увлечении оккультизмом и теософией, декларировал свое отрицательное отношение «ко всякой политике и ко всякой государственности» или позволял себе парадоксы типа: «Корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы…» А ведь уже прозвучала громоподобная инвектива Б. Таля о «поэтической контрреволюции» в стихах Волошина (На посту. – 1923. – № 4), уже Л. Авербах отнес поэта – вместе с Б. Пильняком – к «чужим» (Там же. – 1924. – № 1), уже выступили с «сигналами» к идеологическим верхам Г Лелевич (Молодая гвардия. – 1923. – № 1), С. Родов (На посту. – 1923. – № 2–3), П. Сосновский (Правда. – 1923. – 1 июня), В. Скуратов (На посту – 1924. – № 1)… Можно бы и притаиться, не «вылезать»! Но Волошин оставался верен самому себе.
Будь один против всех: молчаливый, твердый и тихий. Воля утеса ломает развернутый натиск прибоя. Власть затаенной мечты покрывает смятение множеств!так он писал в стихотворении «Поэту» в 1925-м…
Конечно, на какие-то компромиссы приходилось идти. В «Жизнеописании» (1929) уже нет ни слова о религиозных «блужданиях» и больше внимания уделено культурной деятельности автора при Советской власти; в статье «О самом себе» (1930), также предназначавшейся для печати, уже нет никаких «выпадов» (разве что констатация плохого качества русской акварельной бумаги). В антологии И. Ежова и Е. Шамурина появляется даже что-то похожее иа расшаркиванье перед властью: «То, что мне пришлось в зрелые годы пережить русскую революцию, считаю для себя великим счастьем». Однако Волошин наверняка делал здесь акцент на словах «в зрелые годы»: счастье в том, что «пришлось пережить» именно в сознательном, творческом возрасте. (Кстати, поэт тут же бесстрашно отмечает свои неизменные антипатии: «армия и политика».)
Предельно честными были и воспоминания Волошина, к которым он, наконец, приступил в 1932 году. Путь к ним оказался столь длительным по ряду причин. Во-первых (как уже говорилось), работа над воспоминаниями представлялась Волошину менее творческой, чем поэзия и живопись. Получив в феврале 1929 года просьбу Е. К. Герцык написать «страничку воспоминаний» об ее умершей сестре, поэтессе Аделаиде Герцык, Волошин пишет, вместо мемуаров, стихотворение памяти покойной. Однако в конце того же 1929 года прозвучал неожиданный и суровый сигнал: инсульт, постигший Волошина 9 декабря. Теперь его «единственным прибежищем» остается живопись. И мысль о воспоминаниях постепенно становится все более неотступной.
Во-вторых, Волошин предъявлял к воспоминаниям достаточно высокие требования. Еще в 1904 году (9 августа) в его дневнике появилась запись: «Область воспоминаний – область тайная и интимная. <…> Написать перечувствованное, пережитое – невозможно. <….> Пережитое – описанное – всегда слабый пересказ, но не сама действительность». Перед глазами были высокие образцы: «Дневник» братьев Гонкур, «Разговоры с Гёте» И.-П. Эккермана, «Исповедь» Жан-Жака Руссо… Да и многое, многое другое: «Записки» Юлия Цезаря и «Жизнь Бенвенуто Челлини», «Житие протопопа Аввакума» и «Новая жизнь» Данте; мемуары Л. Сен-Симона, Д. Казановы, мадам Ролан; «Семейная хроника» С. Т. Аксакова и «Былое и думы» А. И. Герцена – все это он прекрасно знал. В его библиотеке были и воспоминания современников: «На жизненном пути» А. Ф. Кони, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Т. А. Кузьминской, дневники В. Я. Брюсова и А. А. Блока, «Годы странствий» Г. И. Чулкова и «На рубеже двух столетий» А. Белого.. Оказаться не ниже лучших образцов было не просто…
В какой-то степени расхолаживало и то, что писать приходилось явно «в стол»: эпоха была все более нетерпима ко всему «старорежимному» и идеологически «несозвучному» (и к символистам, в частности). Несколько раз Волошин начинает записывать рассказ об истории мистификации с Черубиной де Габриак – и каждый раз бросает. Трижды приступает он к записям о В. Я. Брюсове – с тем же самым результатом. «Вижу ясно, что сейчас в русской литературе мне места нет совершенно и следует воздержаться от всяких литературных выступлений на следующее время», – делился поэт 9 января 1924 года с В. В. Вересаевым.
И все же мысль о воспоминаниях не отпускала. «Я об них думаю много и чувствую всю неизбежность этой работы», – писал Волошин 10 января 1929 года Е. К. Герцык. 8 марта 1930 года он сообщал писателю Л. Е. Остроумову: «Пробую начать мемуары. Как будто здесь нет большого творческого ущерба». 14 декабря того же года он рассказывает художнице Ю. Л. Оболенской: «Этой осенью я проделал большую работу разобрал все мои архивы, т. е. расклассифицировал мою переписку за 30 лет. Это необходимый труд для моих предполагаемых мемуаров, за кот<орые> я думаю-таки приняться этой зимой».
Важным толчком стали беседы с библиографом Е. Я. Архипповым, приезжавшим в Коктебель летом 1931 года. «Было наслаждением показывать ему свои архивные и книжные сокровища и редкости, – записывал Максимилиан Александрович 26 июня. – И рассказывать ему коктебельскую жизнь и проходящих перед нами людей, гостей, друзей. Это подводило итоги всему богатому материалу, готовому для записок, и создавало чувство необходимости все это зафиксировать в кратких словах, в анекдотах и в живых речах». После отъезда Архиппова Волошин возобновляет дневник, ведя его на отдельных листках с 25 июня по 24 июля 1931 года. Его намерение: ежедневно записывая «текущие мысли, людей», перейти затем непосредственно к воспоминаниям.
Окончательно преодолеть психологический барьер помогает Волошину его жена, Мария Степановна. Она постоянно настаивает на неотложности мемуаров, предлагает вести запись сама (ему труден сам процесс писания) – и вот однажды он начинает диктовать ей. «Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе зарождение Коктебеля?.. Ну, слушай…» Вот так, спонтанно, начинается 2 марта 1932 года эта работа. Сначала записывает Мария Степановна, а с 12 марта Максимилиан Александрович сам берет в руки перо. 24 марта он сообщал москвичке М. А. Пазухиной: «Записки-воспоминания я теперь неуклонно веду изо дня в день. Сперва я диктовал их Марусе, теперь стал их писать сам…»
Давалось это Волошину не просто: его почерк неразборчив, порой он пропускает отдельные буквы и даже целые слова. Мария Степановна записывает горестное его признание: «Я не знаю, что со мной: я не чувствую себя больным, но я чувствую вокруг себя разрушение и смерть. <…> раньше, в прошлые годы, я жил мечтой, что я могу что-то делать, писать мемуары, – а сейчас у меня нет ни чувства, ни любви к форме И вот, когда я пробую что-нибудь, у меня ничего не выходит. Многое я забыл, а главное, не чувствую форму формы: как это сделать. <…> Раньше жизнь слишком быстро текла и извивалась у ног и некогда было остановиться. А теперь все идет с большим ущербом…» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 445).
Ухудшение самочувствия, волнения с передачей дома Союзу писателей, начавшийся съезд гостей – окончательно прерывают работу над воспоминаниями 6 мая. Во второй половине июля астма осложнилась воспалением легких – и 11 августа Волошина не стало… Ныне шесть тетрадок «записок-воспоминаний» поэта хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР (ф. 562, оп. 1, ед. хр. 445, 446). Условно эти воспоминания можно разделить на три части. В первой, содержащей в себе записи от 2 до 30 марта, Волошин рассказывает, в основном, о своих гимназических годах. Во второй, названной автором «О Н. А. Марксе» (записи от 2 до 14 апреля), повествует о судьбе генерал-лейтенанта, профессора археологии, а затем первого ректора Кубанского университета Никандра Александровича Маркса (1860–1921). Третья часть воспоминаний содержит в себе записи от 18 апреля до 5 мая 1932 года. В этих фрагментах мы находим уникальные свидетельства о И. Г. Эренбурге и Б. В. Савинкове, яркий образ «бытового» О. Э. Мандельштама, неизвестные широкому читателю сведения о строительстве Гётеанума. Мы слышим живой, «разговорный» голос Волошина, с его неповторимым, ненавязчивым юмором.
Конечно, еще многое и многое осталось за пределами этих воспоминаний. Ведь Волошин был близко знаком с В. И. Ивановым и Федором Сологубом, Андреем Белым и Е. С. Кругликовой, А. Н. Толстым и К. Д. Бальмонтом, встречался с А. В. Луначарским, В. Ф. Комиссаржевской, В. Э Мейерхольдом, Н. К. Рерихом, M. M. Пришвиным, А. С. Голубкиной, Н. А. Бердяевым, П. А. Флоренским, Анатолем Франсом, Полем Клоделем, Андре Антуаном, Пабло Пикассо и многими, многими другими. У него в Коктебеле гостили С. Н. Дурылин, Е. И. Замятин, Л. М. Леонов, А. Соболь, К. И. Чуковский, Г. А. Шенгели, К. С. Петров-Водкин, М. Ф. Гнесин, З. П. Лодий, А. А. Румнев, Г. С. Уланова, А. А. Юмашев – писатели, художники, артисты, композиторы, ученые, летчики… Некоторые из них написали о встречах с Волошиным, но далеко не все. Но ведь и он мог бы рассказать что-то о каждом!
В целом же «записки-воспоминания» М. А. Волошина – это памятник последнего подвига поэта: подвига преодоления себя. Это и памятник спутнице последних лет его жизни, его вдохновительнице – Марии Степановне Волошиной (1887–1976). Мария Степановна не только убедила мужа начать писать мемуары, но и «донесла» их до наших дней, вместе со всем архивом М. А. Волошина, пережившим немецкую оккупацию Крыма и другие лихолетья…
К перечисленным выше, основным мемуарным жанрам примыкают волошинские статьи, в которых зафиксированы события, с ним происходившие, и то, чему он был свидетелем, очерки о его выдающихся современниках. К первым относятся такие статьи, как «Листки из записной книжки», «Андорра», «Год назад», ко вторым – «Бой быков», «Национальный праздник 14 июля», «Цеппелины над Парижем». Впрочем, даже будучи наблюдателем, Волошин все же находился в гуще событий – порой, как в Феодосии весной 1918 года («Молитва о городе»), далеко не безопасных для него самого!
Статьи о современниках в основном взяты из серии «Лики творчества», печатавшейся в петербургской газете «Русь». Они даются, как правило, в выдержках: лишь в той части, которая содержит непосредственные впечатления автора от личности-героев его очерков. А Волошин, стремясь глубже понять каждого, пристально вглядывался в его внешность, отмечал манеры и повадки, фиксировал окружающую обстановку (бесценные штрихи для будущих исследователей!). Задумывая серию «Лики творчества» осенью 1906 года, Волошин видел своей задачей: «писать о людях, передавать разговоры», имея в виду прежде всего литераторов, собиравшихся на «Башне» Вячеслава Иванова. («Построить мост между поэтами и большой публикой», – формулировал он в письме к жене 24 сентября 1906 года.) Образцом он брал «Лица и маски» Реми де Гурмона и «Вымышленные жизни» Марселя Швоба. Однако такой летописец по соседству устраивал далеко не каждого из писателей, становившихся объектом этого наблюдения. 4 января 1908 года В. Я. Брюсов выступил с открытым письмом к Волошину (Русь. – № 3), в котором возражал против вторжения в его «частную жизнь».
В своем «Ответе Валерию Брюсову», опубликованном в том же номере «Руси», Волошин подробно объяснил свой подход к изображаемому: «Произведения <…> художника для меня нераздельны с его личностью. Если я, как поэт, читаю душу его по изгибам его ритмов, по интонации его стиха, по подбору его рифм, по архитектуре его книги, то мне, как живописцу, не меньше говорит о душе его и то, как сидит на нем платье, как застегивает он сюртук, каким жестом он скрещивает руки и подымает голову. Мне мало прочесть стихотворение, напечатанное в книге, – мне надо слышать, как звучит оно в голосе самого поэта…» Волошин настаивал: «Надо записывать литературные разговоры своих современников, потому что это документы громадной исторической важности. И документы эти редки. Как благодарны мы Эккерману, сохранившему нам разговоры Гёте, Эмилю Бержера, сделавшему то же для Теофиля Готье, Андре Жиду, запечатлевшему несколько рассказов Оскара Уайльда! И кто вознаградит нас за безвозвратную потерю разговоров Малларме?»
Стремясь документально зафиксировать живые черты человека, Волошин ставил задачей дать его многогранный и в то же время живописно-зримый образ. И за внешним прозреть внутреннее, обобщить его до «лика»…
II
Однако можно ли вообще доверять свидетельствам Волошина? – могут возразить некоторые. – Известна ведь его страсть к мистификациям: вспомним ту же Черубину, «аптекаря Сиволапова» (у Эренбурга)… Не попадет ли читатель впросак, доверившись этим мемуарам?..
Вопрос законный. Поэт действительно высоко ставил игру, как творческое преображение жизни, обожал парадоксы. Но все это относилось лишь к области мысли, будучи своего рода разведкой, поиском либо шуткой, в скором времени получавшей разъяснение. Что касается фактов литературной и художественной жизни, всего, что могло иметь исторический интерес, – тут он стремился к строгой документальности. Вспомним метод Волошина в работе над монографией о В. И. Сурикове: «Во время рассказов Василия Ивановича я тут же делал себе заметки, а вернувшись домой, в тот же вечер восстановлял весь разговор в наивозможной полноте, стараясь передать не только смысл, но и форму выражения, особенности речи, удержать подлинные слова». (Аполлон. – 1916. – № 6–7. – С. 40). Записи Волошина, скромно озаглавленные им «Материалами для биографии», стали первым – и долгое время единственным – источником знаний о Сурикове. И, если вначале существовали некоторые сомнения в их достоверности, то публикация писем художника и других материалов о его жизни навсегда утвердили авторитет волошинских записей. Сравнивая фактическую сторону других событий, о которых писал Волошин, мы также не найдем серьезных разногласий. Другое дело – невольная субъективность восприятия, неизбежная в силу различия способностей и качеств каждого воспринимающего. Яркую иллюстрацию этого Волошин привел в тексте брошюры «О Репине» (M., 19I3. – С. 37). Поэт сознавал и ненадежность человеческой памяти. «Память – неверная нить Ариадны», – определял он в стихотворении 1905 года из цикла «Когда время останавливается»; в стихотворении «Письмо» (1904) упомянул «туманы памяти». Мы уже приводили мысль Волошина о неадекватности «пережитого» и «описанного». «Продленный миг – есть ложь», – перефразировал он в стихотворении «Письмо» известную мысль Ф. И. Тютчева («Silentium!», 1830). Об относительности человеческой памяти Волошин сказал и в стихотворении 1915 года «Я глазами в глаза вникал…»:
Я стремился чертой и словом Закрепить преходящий миг. Но мгновенно плененный лик Угасает, чтоб вспыхнуть новым…Отметим, однако, еще раз стремление поэта «закрепить преходящий миг», сопровождавшее его всю жизнь: еще в 1903 он ставил перед собой задачу «все воспринять – и снова воплотить»…
Вообще-то память у самого Волошина была отличная. Еще юношей, осенью 1892 года, он «совершенно случайно» обнаружил, что знает «почти наизусть отрывки из Гоголя, Щедрина, Тургенева и Достоевского. Кому-то начал рассказывать – и все почти слово в слово. А ведь совсем не думал учить наизусть, а только так читал и запомнил». Человеку, считал Волошин, следует быть насыщенным памятью, «как земля» («Дом поэта», 1926), хранить «в памяти, в сердце, в ушах и в глазах» «миллионы сокровищ» («Четверть века», 1927). Другое качество его ума: объективность, то, что он «зеркально» все отражает. Ему самому это казалось недостойным поэта и послужило поводом для стихотворения 1905 года «Зеркало». Но для мемуариста это свойство, согласимся, неоценимо!
Жизненные впечатления, отложившиеся в памяти, должны быть, по мнению Волошина, преображены: забыться, осесть на дно души, – лишь тогда они станут ее полной принадлежностью.
Забыть не значит потерять: А окончательно принять — В себя, на дно, навек… —писал он в 1907 году. Бытовая «правда» – «захватанная, публичная, тусклая» («Аделаида Герцык», 1929) – была для него лишь правдоподобием. «Воспоминание исключительно субъективно и есть результат жизни и опыта», – отмечал поэт в одной из «творческих тетрадей» (1904). По его мнению, воспоминание – не механический, а творческий процесс, который «обостряет, утончает и обобщает видение» (Волошин М. К.Ф. Богаевский//3олотое руно. – 1907. – № 10. – С. 26).
Однако это были все же лишь размышления о свойствах памяти вообще. На практике же стремление Волошина к достоверности (вспомним использование им, при работе над мемуарами, материалов своего архива), надежная память и «зеркальность» восприятия перевешивали – и, в итоге, можно считать, что субъективность Волошина в воспоминаниях была минимальной. Этому способствовало и отсутствие в его психике перекосов, вызываемых непомерным честолюбием, самолюбованием, пренебрежением к окружающим. Человек он был достаточно скромный, самокритичный, с объективным складом ума. Все это, кстати, хорошо видно в его мемуарах.
Говоря о достоверности волошинской мемуарной прозы, признаем, что отдельные фактические неточности, особенно в датах, свойственные почти каждому, имеются и у него. Больше всего это относится к воспоминаниям 1932 года, создававшимся после тяжелой болезни, в угнетающей общей обстановке, когда поэту стал очевиден сталинский курс всеобщего «закручивания гаек». К тому же писались они без черновика, без последующей правки, откуда повторы, перескакивание с одного на другое, описки в словах и т. п. Но и тут следует удивляться не тому, что без ошибок не обошлось, а глубине памяти поэта, его заинтересованному отношению к минувшему, верность «тем годам». «Наше «я» ведь и есть наше прошлое», – писал он в 1908 году.
III
«Я сам расскажу о времени и о себе!»
В. МаяковскийВ чем ценность для нас мемуарной прозы Волошина?
Прежде всего вспомним: сколькими легендами было окружено имя поэта при жизни! Обыватели судачили о хитоне, в котором он «разгуливает» у себя в Коктебеле, о его многочисленных «женах». Критики характеризовали его как легкомысленного «коммивояжера» от поэзии и – одновременно – как рассудочно-холодного чеканщика строф. Журналисты рисовали образ претенциозного эстета с внешностью кучера, галломана, пишущего «по-русски так, будто по-французски».
Все это имело под собой основание — и все было лишь подобием правды.
Сам Максимилиан Александрович считал, что в целом не был понят современниками. «Меня много ругали и поносили, но никто не взвешивал», – писал он Евгению Ланну в 1920-х (Ланн Е. Писательская судьба Максимилиана Волошина. – М., 1927. – С. 17).
Впрочем, редко кому из поэтов так везло, чтоб признание (тем паче – понимание!) выпадало на их долю еще при жизни. «Горька судьба поэтов всех времен; Тяжеле всех судьба казнит Россию…» – писал В. Кюхельбекер. Были, впрочем, и сочувственные отзывы, и – особенно после смерти Волошина – достаточно высокие оценки. Настоящим памятником поэту стал великолепный – и по стилю, и по глубине проникновения – очерк М. И. Цветаевой «Живое о живом» Однако прижизненные легенды оказались более живучи, проникая отдельными ядовитыми строками в суждения даже таких умных людей, как А. А. Ахматова, И. Г. Эренбург, Н. Я. Мандельштам…
«Волошин-поэт оценен недостаточно, и Волошин-человек недостаточно узнан», – признавал в 50-х годах С. К. Маковский (Маковский С. Портреты современников. – Нью-Йорк, 1955. – С. 323). Для многих и многих Волошин и доселе остается загадкой. Как он духовно формировался и рос, из достаточно обычного гимназиста превратившись в редкого эрудита, тонкого знатока литературы и искусства, поэта-пророка?.. Почему вдруг русский юноша с примесью немецкой крови стал страстным приверженцем чужого России латинского духа?.. Откуда в этой, достаточно рациональной натуре неудержимая тяга к мистике, ко всему таинственному и непознанному?.. «Волошин – явление на закате российской имперской культуры, – заключал Маковский. – Фигура, ни с какой другой не сравнимая…» (Там же. – С. 330).
В чем же его особость?
Нам представляется важным отметить следующие качества Волошина-человека. Первое: всегдашняя его обращенность к людям, истовый интерес к каждому, с кем сталкивала судьба. «Полная отдача другому, вникание, проникновение», – так определила впечатление от первой беседы с ним М. И. Цветаева. «Ни с кем не говорилось так «по душе», – свидетельствовал С. К. Маковский. В 1911 году поэт объяснял свою позицию матери: «Я стремлюсь в к а ж д о м человеке, которого судьба ставит на моем пути, найти те стороны, за которые его можно полюбить. Эти стороны, почти всегда, – его воля к жизни и горение. Мне кажется, что только этим можно призвать к жизни хорошие черты человека, а не осуждением его недостатков, которые только утверждаются и растут от осуждения». Веря в изначальную святость человека, поэт не смущался, видя его несовершенства. «Нужно ВСЕ знать о человеке, так, чтобы он не мог ни солгать, ни разочаровать, – писал он в 1917 году Е. П. Орловой, – и, зная все, помнить, что в каждом скрыт ангел, на которого наросла дьявольская маска, и надо ему помочь ее преодолеть, вспомнить самого себя». Эту мысль, найденную у Леона Блуа, Волошин не раз повторил и в своем творчестве: в «Протопопе Аввакуме», в «Святом Серафиме»…
Отражение этого всегдашнего живого интереса к человеческой личности мы видим во всех его мемуарах.
Столь же острым был интерес Волошина и ко всем другим проявлениям жизни – врожденное детское любопытство, выражавшееся в его неизменном «Как интересно!» в ответ на все новое, даже огорчительное и неприятное. «Мне так радостно и ново Все обычное для вас…» – писал он в 1903 году. Природа, история, язык (любил ч и т а т ь словари!), искусство – что только не стало, за жизнь, предметом его изучения и отображения! Разве что музыка… «Этого человека чудесно хватило на всё, всё самое обратное, всё взаимно-исключающееся, как: отшельничество – общение, радость жизни – подвижничество», – формулировала М. И. Цветаева.
Теперь второе: редкая принципиальность, верность самому себе, мужество в отстаивании своих взглядов. Выступление вместе с символистами в 1903 году на защиту «нового искусства»; вызов эстетски-салонной атмосфере «Аполлона» в 1909-м; отстаивание своего взгляда на картину прославленнейшего И. Е. Репина в 1913-м – один против всех! – готовность понести любую кару за отказ от воинской службы в 1916-м; дерзкое выступление против Брестского мира в 1917-м, шокировавшее даже единомышленников; молчаливое противостояние в своем Коктебеле антиинтеллигентской волне, заливавшей страну в 20-х… Все это отнюдь не согласуется с образом «добрейшего Максимилиана Александровича», этакого мягкотелого старосветского помещика, который возникает в некоторых воспоминаниях. Недаром одним из любимейших его героев был протопоп Аввакум, непоколебимый в своей вере! А необходимость противостояния возникала оттого, что Волошин-мыслитель всю жизнь был еретиком, на многое смотрел сугубо по-своему, не боясь ошибок и просчетов: в движении мысли – всегда риск! «Я никогда не отказывался ни от своего пути, ни от своей полной духовной свободы», – писал поэт 7 февраля 1915 года А. М. Петровой. И на этом пути – в вечных его поисках, в нацеленности на парадокс – исток многих его находок.
И наконец, третье, то, что было основой и первопричиной всего остального: высокая духовность Волошина, его, в лучшем смысле слова, идеализм. Поэт верил в бессмертие духовного начала – как во всем мире, так и в себе самом:
И не иссякнет бытие Ни для меня, ни для другого. Я был, я есмь, я буду снова! Предвечно странствие мое! («Я верен темному завету…», 1910)Ощущение тайны бытия, стремление понять связь всего в мире, угадать высший смысл каждого явления – постепенно стали органическим свойством мышления поэта. Он верил в высшее предназначение всего («Всюду – и в тварях, и в вещах томится Божественное Слово») – и эта вера давала ему как прозорливость к людям и событиям, так и силу противостоять всем невзгодам и испытаниям.
Для разума нет исхода. Но дух, ему вопреки, И в безднах чует ростки Неведомого всхода…Это написано 15 января 1918 года («Из бездны»).
Немногие знают, что Волошин всегда противился причислению себя к интеллигенции: нет, он – интеллектюэль! Это значит: свободный в своем мышлении индивид, терпимый и полный любви ко всему живому, но отвергающий любые, навязываемые извне рамки; аристократ духа. Вспомним его автохарактеристики в стихах: «В вашем мире я – прохожий, Близкий всем, всему чужой» («Когда время останавливается», 1903); «Но мы – свободные кентавры, Мы – мудрый и бессмертный род…» («Письмо», 1904); «Я – голос внутренних ключей, Я – семя будущих зачатий…» («Пролог», 1915). В русской интеллигенции ему были чужды рационализм, слепая вера во всемогущество науки, приверженность «прогрессу». А интуиция? А душа? А суверенитет каждой личности, единственной и неповторимой?.. «Нет одной дороги для всех. Мы идем дорогами различными, каждый свою тропу ищет и находит». К сожалению, «сознание общества в настоящую эпоху развития человечества стоит еще ниже сознания индивидуального» (и всегда так было!) Но он – не из числа «приспосабливающихся»:
Благоразумным: «Возвратитесь в стадо!» Мятежнику: «Пересоздай себя!» («Мятеж», 1923)Целью же человеческого бытия Волошин ставил достижение всеми людьми любви друг к другу и ко всему сущему. В конце концов «из мира необходимости и разума» люди должны «выплавить вселенную свободы и любви» («Подмастерье», 1917); будущим человечества должен стать мир, «где каждая частица вещества с другою слита жертвенной любовью» («Потомкам», 1921).
Как же достичь этого? Путь лежит через сердце и волю к а ж д о г о человека:
Везде закон, причинность, Но нет любви: Ее источник – Ты! («Бунтовщик», 1923)Греховный человек должен преобразить себя, отказавшись от эгоистических устремлений и, одновременно, от осуждения чужого несовершенства. Сознавая себя звеном «в мировой цепи», человек, «встречаясь со злом», должен «не осуждать его, а постараться, по мере сил своих, превратить его в добро». «Доверием – верой в человеке можно пробудить, вызвать к бытию те семена, что дремлют страшно глубоко и могут погибнуть. Осуждение же наоборот – может погубить самые здоровые побеги в душе», – говорил Волошин в декабре 1913 года.
Если Лев Толстой учил не противиться злому, то Волошин считал, что чужое зло следует не отвергать, а постараться – доверием, любовью – претворить в добро. «Не противясь злому, я как бы хирургически отделяю зло от себя… – писал поэт в статье «Судьба Льва Толстого». – А спасти и освятить зло мы можем, только принявши его в себя и внутри себя, собою его освятив» (Русская мысль. – 1910. – № 12).
Не бежать греха, но, грех приняв На себя, собой его очистить. («Святой Серафим», 1919–1929)Разумеется, это под силу далеко не каждому: надо ведь сначала иметь в себе этот запас любви и веры в человека! Сам Волошин достигал на этом пути редких высот: в жесточайшие годы гражданской войны он не раз спасал людей – как из одного, так и из другого стана. В отличие от многих и многих мнимых «учителей жизни», у него мировоззрение и жизненная практика были неразделимы; все познанное и выстраданное служило руководством к действию.
Волошин ш е л к этой высоте, неустанно работая над собой, преодолевая обычные для всех усталость, раздражение, тоску. «Желаниями нужно управлять», – писал он М. В. Сабашниковой в 1905 году. Поэт ежедневно уделял некоторое время медитации, настраивая свой дух на высший лад, добиваясь «тишины и мира в мыслях». Об уровне его требовательности к себе говорит то, что он считал каждого ответственным даже за помыслы: нечистые мысли загрязняют атмосферу! «Чувства и мысли – такие же реальности, как предметы физического мира».
И Волошин стал настоящим «рыцарем духа». К нему самому можно отнести строки о подвижниках, разбросанные в его стихах: «Да не смутится сей игрой С т р о и т е л ь в н у т р е н н е г о г р а д а …» («Петроград», 1917), «А избранный вдали от битв Кует постами меч молитв…» («Русь глухонемая», 1918), «Совесть народа – поэт» («Доблесть поэта», 1925), «Законы природы – неизменны. Но в борьбе за правду невозможного Безумец – Пресуществляет самого себя…» («Мятеж», 1923) – все это и о нем самом… А на закате жизни Волошин с законной гордостью прямо поставил себе в заслугу:
В шквалах убийств, в исступленьи усобиц Я охранял всеединство любви, Я заклинал твои судьбы, Россия, С углем на сердце, с кляпом во рту… («Четверть века», 1927)Проповедь поэта мало кем была услышана, ибо до нее надо было еще дорасти, надо было стать готовым вместить это в себя. Он мыслил слишком глобально, призывал к слишком глубинным преобразованиям и отрешеньям. «Ты не сын земли, но путник по вселенным», – внушал он современникам, ставя перед ними, по-видимому, чересчур высокие задачи. Только сейчас, по прошествии полувека, мы осознаем, например, как прав был Волошин, предостерегая от обольщения благами цивилизации (в ущерб культуре!), заведшей человечество «путями Каина» на грань экологической и ядерной катастроф!
Свидетельства самого Волошина в его мемуарной прозе дают нам возможность приблизиться к пониманию этой выдающейся, многосторонней личности. Хотя, конечно, для полного ее осмысления следует привлечь и эпистолярное его наследие (исключительно богатое), и воспоминания о нем, и, главное, собственное его поэтическое творчество. Сопоставляя же все это, мы убеждаемся: нигде никакой фальши, разноголосицы, все совпадает! Как определила, еще в 1932 году, М. И. Цветаева: «Поэт он – настоящий поэт и человек – настоящий человек!»
Владимир Купченко, Захар Давыдов
Автобиографическая проза
Написать перечувствованное, пережитое – невозможно. Можно создать только то, что живет в нас в виде намека. Тогда это будет действительность. Потенциальная возможность действительности станет активной действительностью в искусстве: действительностью ослепительной, ошеломляющей, которую всякий переживает и сколько угодно раз, – алгебраической действительностью. Пережитое – описанное – всегда слабый пересказ, но не сама действительность. В литературе всегда нужно различать пересказ действительности и созданную действительность.
М. Волошин. «История моей души»В Обер-Аммергау{1} (Из странствий)
«Вспомните прекрасную панораму Штарнбергского озера в Баварии и на берегу его посиневший, ощупанный рыбачьими крючьями в воде труп короля-поэта{2}, короля-отшельника, короля-трубадура… Он жил среди безумных золотых мечтаний, в душе носил отраву Гамлета и погиб никем не понятый, никем не любимый, никому не нужный, неизвестно как и неизвестно почему».
Эти слова невольно вспоминаются в то время, когда переполненный публикой поезд, тяжело вздыхая, идет по романтическим, заросшим лесом берегам Штарнбергского озера из Мюнхена, этого города пива и картинных галерей, германской старины и греческих колоннад, по направлению к маленькой деревушке Обер-Аммергау, раскинувшейся посреди зеленой долины в лесистом предгорье Альп. Раз в десять лет эта деревушка становится местом стечения десятков тысяч путешественников из всех стран Европы. В XVI веке во время чумы жители этой деревни дали обет давать раз в десять лет представление Страстей Господних и до наших дней остаются верны этому обету. Это единственные средневековые мистерии, уцелевшие в Европе. Они благополучно пережили запрещение мистерий в Германии в 40-х годах, благодаря покровительству «Романтика на престоле»{3} – художественного прототипа полубезумного Людовика Баварского, который тоже впоследствии покровительствовал им и воздвиг на холме около Обер-Аммергау огромное распятие прекрасной работы. В эту эпоху, т. е. в то время, когда эти мистерии в Обер-Аммергау начинали постепенно входить в моду, они подверглись коренной переработке. Текст их был расширен, систематизирован и приведен в литературную форму, т.е. другими словами совершенно испорчен при благочестивом содействии местного пастора, который, получив классическое образование и считая себя как истинный баварец гражданином «Новых Афин»{4}, совершенно не кстати ввел в наивную средневековую народную драму ложно классические формы и греческие хоры, музыка к которым была написана местным школьным учителем. К несчастью, оба эти реформатора слишком походили на своих двойников в «Потонувшем Колоколе»{5}, чтобы создать что-нибудь истинно художественное. Но зато с этого времени начинается экономическое процветание Обер-Аммергау – туристы стекаются сюда тысячами; местные обыватели облагают их крупными налогами; временно сколоченная из досок сцена под открытым небом заменяется грандиозным сооружением из дерева и железа, воздвигнутым по последним правилам инженерного искусства.
Мюнхенский поезд, везущий паломников (потому что каждый, самый обыкновенный турист считает своим долгом принять в данном случае титул паломника), останавливается около станции Оберау, откуда идет на Обер-Аммергау «электрическая дорога». Но, несмотря на это громкое название и даже на то, что рядом с полотном дороги идут столбы с электрическими проводами, впереди поезда помещается паровоз, удивительно похожий на обыкновенный и даже выпускающий дым для полноты иллюзии. Единственное отличие этой guasi – электрической железной дороги заключается в том, что 20 километров, разделяющих от Обер-Аммергау, поезд идет в течение трех часов.
Поздно вечером поезд остановился около скверного деревянного сарайчика, изображающего станцию в Обер-Аммергау. Надо было отыскать себе ночлег. Меня направили в «квартирное бюро», заседающее в помещении пожарной команды. Там я нашел благообразного господина средних лет с длинными волосами, падавшими на плечи. Он оказался лицом, в течение двух десятилетий изображавшим Христа в мистерии, а в нынешнем году ставшего предводителем хора (Chorführer) и представителем квартирного бюро. Дело в том, что, согласно обету, все роли в мистериях исполняются исключительно постоянными обывателями Обер-Аммергау; причем каждый исполнитель подготавливается к своей роли в течение нескольких лет. Выбор актеров происходит на торжественном собрании старейшин местечка и представляет особенные трудности потому, что актер должен соответствовать своей роли не только талантом, подходящей наружностью и возрастом, но и своими нравственными качествами. Не следует только думать, что затруднение заключается в отсутствии нравственных качеств, необходимых для исполнения ролей Христа, апостолов, Богоматери и других положительных типов драмы: все немцы, а жители Обер-Аммергау в особенности, настолько благоухают всевозможными добродетелями, что становятся положительно невыносимыми для свежего человека при продолжительном общении с ними. Напротив, трудности при выборе актеров начинаются тогда, когда приходится выбирать исполнителей для отрицательных ролей и в особенности для роли Иуды. Иуда – это постоянный камень преткновения благочестивых обитателей Обер-Аммергау. Говорят, что несколько раз уже ввиду непреоборимых трудностей высказывалось желание пригласить Иуду по вольному найму со стороны, но в последнюю минуту все-таки всегда находился такой обыватель, который самоотверженно брал на себя роль Иуды, что, разумеется, было со стороны истинно геройским подвигом, так как за каждым актером здесь на всю жизнь остается ореол его роли.
Поселянин, изображавший Христа, всегда является самым почетным лицом в деревушке, девушка, играющая роль Марии, избирается всегда с особенной тщательностью и имеет девяносто девять шансов в самом непродолжительном времени выйти замуж за какого-нибудь пожилого, всеми уважаемого местного Иосифа и в качестве почтенной матроны стать верховной блюстительницей чистоты местных нравов, а к Иуде, насколько добродетелен он бы ни был, все-таки на всю жизнь остается несколько подозрительное отношение.
Председатель квартирного бюро сообщил мне, что помещения достать нельзя – все занято, а билета на мистерии тоже нельзя получить, не представивши свидетельства в том, что занята комната в доме одного из местных жителей. Эта мудрая мера имеет тот смысл, что не дает ни одному путешественнику возможности уехать из Обер-Аммергау, не заплатив своей доли, которая иначе могла бы перейти в карманы обывателей других соседних селений.
Напрасно я пытался импонировать своим корреспондентским билетом, напрасно мальчишка с красной рожицей и длинными волосами, по всем вероятиям один из херувимов, облачившийся в штатский костюм и состоявший в свободное время на посылках при квартирном бюро, несколько раз устремлялся в темноту и быстро шлепал ногами по большим лужам – удовлетворительных результатов все-таки не получилось никаких, и пришлось идти наудачу отыскивать себе ночлег без помощи небесных сил, что в действительности скоро и удалось при помощи любезного кельнера-француза, приехавшего на сезон в местный ресторан, который умудрился поместить меня на каком-то сеновале, где уже спало несколько заночевавших здесь рабочих. У него же я узнал, что утром рано можно получить в кассе оставшиеся или возвращенные билеты без предъявления квартирного свидетельства. Представление мистерий (Passionsspiel) повторяется в течение всего лета каждый праздник и каждое воскресенье. В случае же, если соберется такое количество зрителей, которого не может поместить театральная зала, рассчитанная на пять тысяч человек, то представление повторяется и на следующий день и так вплоть до того времени, пока все не будут удовлетворены.
В 6 часов утра на следующий день я уже стоял между узкими деревянными барьерами, ведущими к кассе, устроенной под открытым небом, среди пестрой толпы баварских горных крестьян, ожидавших билетов. Они были одеты в свои красивые национальные костюмы: тирольские шляпы с перьями, короткие панталоны, серые вязаные чулки и грубые горные башмаки, густо и крепко подбитые гвоздями. Тут же толпились и женщины, в подобных же шляпах и башмаках, коротких юбках, приспособленных для ходьбы по горам, и с волосами, обильно смазанными деревянным маслом. Но тип лица горных баварцев далеко не красив: это все грубые одутловатые лица с ярко-красным румянцем, вызванным холодным горным воздухом. Из соседних улиц прибывали все новые толпы и напирали на стоящих впереди. Было тесно и жарко. Пахло свежими материями праздничных платьев и деревянным маслом. Такое томительное ожидание продолжалось до 8 часов, когда появилось объявление о том, что оставшихся билетов нет, но что вследствие стечения паломников представление будет повторено завтра.
На следующее утро в восемь часов утра после двух пушечных выстрелов, возвещавших публику о начале представления, я сидел в здании театра. Зрительная зала представляла огромный продолговатый четвероугольник и была построена в типе большого паровозного сарая с круглой полуцилиндрической крышей. Скамьи для зрителей поднимались легкой покатостью в глубь залы, а на задней стене во всю ее ширину была нарисована общая панорама Обер-Аммергау с его старым деревянным временно сколоченным театром, противуположная же стена, обращенная к сцене, отсутствовала совершенно, а сама сцена помещалась под открытым небом и представляла совершенно самостоятельное сооружение, состоявшее из двух частей: широкого помоста для хора и собственно сцены в глубине, посередине – сцены не особенно больших размеров, закрытой занавесью, на которой был изображен Моисей Микель-Анджело. Правое и левое крыло занимали наискось два дома римского стиля, изображавшие дом Каиафы{6} и дворец Пилата. Сквозь арки, соединявшие боковые крылья с центральной сценой, виднелась перспектива улиц Иерусалима, несколько искусственных пальм, и все это заключалось горами, покрытыми густым сосновым лесом, что хотя и не соответствовало исторической правде, но тем не менее было наиболее художественной деталью всей обстановки, так как горы были настоящие.
После третьего выстрела с двух противоположных небольших лестниц дома Каиафы и дворца Пилата стали спускаться две части хора, соединившиеся против сцены и занявшие в длину все пространство между крыльями. Хор состоял из мужчин и женщин, одетых в длинные белые хламиды и плащи желтого, синего, красного или лилового цвета, спущенные с одного плеча. У некоторых плащи были обшиты по краям золотым позументом, и на всех были надеты золотые короны. В общем, костюм имел какое-то отдаленное сходство с костюмами византийских царей и цариц, но сходство это было слишком отдаленное, и определить в точности, что должен был изображать этот костюм, было невозможно. Посредине хора с жезлом в руке стоял предводитель хора.
«Chorführer» продекламировал пролог. Раздались звуки оркестра, помещавшегося где-то под сценой, и хор запел однообразным торжественно-шаблонным мотивом всех торжественных оперных маршей о первородном грехе, изгнании прародителей и об искуплении. Во время пения хора раскрылась занавесь на центральной крытой сцене. Но она не поднялась, как поднимаются обыкновенно все занавеси, не раздвинулась на две стороны, как в Бейрейте или в художественно-общедоступном театре в Москве, но разверзлась пополам посредине так, что ноги и знаменитое колено Моисея неожиданно провалились вниз, а голова его взвилась наверх. Тут раскрылась другая занавесь, расписанная почему-то в византийском стиле в манере Васнецова, которая по-бейрейтски раздвинулась на две стороны. Хор тоже раздвинулся и раскрыл в глубине живую картину, изображавшую изгнание прародителей из рая. Кулисы изображали громадные камни и корявые деревья. На скале стоял ангел в длинной рубашке с золотым мечом, а ближе к авансцене в позах быстроидущих людей Адам и Ева, одетые в звериные шкуры и без всякого признака трико. Это было с их стороны большим подвигом, так как по сцене гулял холодный ветер и обдавал их крупными каплями начинающегося дождя, от которого жались византийские цари и царицы, стоявшие под открытым небом. Несмотря на то, что занавесь оставалась открытой минут пять, так как хор в это время пространно излагал смысл и содержание изображаемого события, ни Адам, ни Ева ни разу не шевельнулись, продолжая стоять в более картонно-деревянных позах, чем самые картонные кулисы, дрожавшие от ветра. Даже собака, понуро шедшая за ними, – настолько добросовестно выполняла свою обязанность, что я был глубоко убежден в том, что она сделана из папье-маше, и остался бы при этом убеждении, если бы она в тот момент, когда за сценой раздался звонок, возвещающий конец картины, не сорвалась бы с места прежде, чем опустилась занавесь, и с веселым лаем выбежала бы за кулисы. Но тем не менее я глубоко убежден, что застыть с такой добросовестностью в такой деревянно-неудобной позе могла только немецкая собака и что именно эта собака была самым добродетельным псом во всем Обер-Аммергау, иначе бы ей ни за что не поручили исполнение этой роли.
Хор пропел еще несколько строф и торжественно удалился в противоположные стороны, разорвавшись посередине. Занавесь снова раздвинулась, и началось представление первого акта мистерии, изображавшего изгнание торговцев из храма, прообраз которого являлся в «Изгнании прародителей из рая». В таком порядке шли и все последующие акты, которых было, кажется, 25: сначала пролог, произносимый хором. Затем живая картина из Библии, служащая прообразом к следующему акту, снова хор и, наконец, самые евангельские сцены, разыгрываемые частью в закрытом театре, частью на авансцене под открытым небом, и т. д. без всякого антракта, кроме часового перерыва в 12 час., от 8 час. утра до 6 часов вечера.
В этом искусственном и утомительном расположении действий явно высказывается та порча, которой подвергся текст наивных средневековых мистерий благодаря ложно классическим принципам и богословной эрудиции пастора. В этом отношении мистерии окончательно утратили интерес культурно-исторических пережитков, но в самой игре актеров-самоучек, несмотря на проникшую и сюда порчу, осталось много интересного. Интересно уже и вполне необычно отсутствие грима, париков, накладных бород и других принадлежностей современной сцены, что придавало некоторым, особенно массовым сценам очень реальный и вполне художественный характер. Очень хороши были сцены заседаний Синедриона{7}: все эти действительно настоящие старики, с настоящими седыми бородами и настоящими старческими голосами, в довольно хорошо выдержанных костюмах, имели каждый свою резкую индивидуальность, которой не в силах достичь ни один карандаш самого опытного гримера. Художественности некоторых сцен иногда способствовало и неожиданное вмешательство стихийных сил природы. Что, например, можно представить себе реальнее и естественнее, чем вступление Христа в Иерусалим под проливным дождем? Хотя дожди в Палестине и не представляют такого обыденного явления, но фигуры детей и женщин, мокнувших под дождем с пальмовыми ветвями в руках в ожидании торжественного шествия, были настольно реальны, что невольно заставляли забыть о легкой барометрической несообразности.
Любопытнее всего было, конечно, исполнение отдельных ролей, в которых проявлялась индивидуальность и самостоятельная работа отдельных актеров и их понимание евангельских типов, на которое могло лечь только косвенное влияние пастора и школьного учителя.
Местный столяр, изображавший Христа, при первом своем появлении в сцене изгнания торговцев из храма, неприятно поразил меня. Он был жалкой пародией на рисовавшийся мне микеланджеловский образ Христа-Громовержца, изгоняющего презренных торгашей в припадке божественного гнева. Торжественно важно шагал он по храму и в такт с высоты своего достоинства стегал пуком веревок, зажатых в руках, провинившихся купцов, декламируя при этом со всеми особенностями плохого немецкого трагического актера. То есть с протяжными завываниями и с такими неожиданными переливами в голосе, на которые способны только немецкие актеры. В следующих актах он стал значительно естественнее, входя постепенно в роль. Иногда, когда он обращался к своим врагам, в его голосе дрожали нотки истинного и правдивого негодования. Но в общем он не удовлетворял необходимым на мой взгляд требованиям: это был чисто немецкий Христос: немного елейный, немного сентиментальный, он был хорошо сложен, высокого роста, с некоторой наклонностью к полноте и с традиционно благодушным лицом доброго священника.
Самая трудная сцена для него, требующая особенной подготовки и специальной физической тренировки, это сцена распятия: сцена эта составляет «гвоздь» мистерии и ожидается публикой с большим нетерпением.
Римские солдаты приводят Христа, одетого в трико телесного цвета и маленькие купальные панталончики. Крестные мученья воспроизводятся с удивительным реализмом. Железными щипцами натягивают на него терновый венок, и по лицу струится кровь; прибивают руки и ноги ко кресту огромными железными гвоздями, и из тела брызжет кровь, и, наконец, поднимают его вместе с крестом, на котором он висит в продолжение получаса. Иллюзия действительно получается удивительной. В толпе крестьян слышатся всхлипывания и рыдания: туристы интересуются тем, «как это сделано», а на человека с маломальским эстетическим чувством это все производит отвратительное впечатление. Этому способствуют еще многочисленные путеводители и программы, повествующие, умалчивая однако о самом «секрете» распятия, о том, что к этой операции актеру приходится подготавливаться специальными гимнастическими упражнениями, а после нее его в течение часа приводят в чувство и массажируют.
Можете себе представить, с каким чувством, после всех этих комментариев, смотришь на эту сцену, напоминающую те деревянные раскрашенные распятия, которых так много в Тироле.
Самой благодарной со сценической и психологической точки зрения должна бы была являться роль Иуды. Но вечная немецкая добродетельность не позволила местному живописцу, исполнявшему ее, отнестись к ней искренно и постараться вникнуть в действительную сущность этого сложного типа. Он сам, очевидно, считал Иуду глубочайшим подлецом и искал только такого компромисса при исполнении этой роли, благодаря которому он не вызвал бы слишком большого негодования публики, которое, разумеется, обратилось бы на его собственную особу. Компромисс он нашел самый неудачный: он сделал из Иуды к о м и ч е с к у ю р о л ь.
Самая ужасная «преступность» виделась в каждом его движении. Волосы на его голове были растрепаны и давно нечесаны, борода всклокочена и не стрижена, глаза его все время тревожно бегали по сторонам, все движения были какие-то нелепые, тревожно-испуганные. И действительно он достиг желаемых результатов: как только он появлялся, публика уже начинала хохотать. Характерным образчиком этого балаганничанья являлось его поведение во время «Тайной вечери», по удивительно неудачной мысли того же рокового пастора, поставленной по образцу «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.
Невольное сопоставление копии с оригиналом, с его классически отчетливыми типами и вполне законченными выражениями чувств и страстей, где каждый поворот головы и изгиб пальца составляет целую поэму и подробный психологический трактат, делало, разумеется, из этой сцены карикатурную пародию на гениальную картину. Впечатление это еще усиливалось совершенно неприличным поведением Иуды. Когда Христос протянул ему кусок хлеба, обмокнутый в соль, он его схватил прямо ртом, щелкнув при этом пастью, как голодный охотничий пес, поймавший на лету кусок хлеба, брошенный ему со стола. В этот же момент он судорожно схватился обеими руками за живот, точно почувствовав внезапное расстройство желудка, и порывисто выбежал вон из комнаты. Но верхом его триумфа была сцена повешенья, которая вызвала в публике неистовое ликование.
Мария, дочь почтальона, которая очень редко появлялась на сцене и главные сцены которой происходили у подножия креста, была очень хороша собой и типом вполне соответствовала своей роли, но играла плохо, благодаря опять той же неестественно слезливой немецкой манере, которая так портила роль Христа. Другие женщины и Мария Магдалина в особенности совершенно не подходили типами к своим ролям, благодаря местному некрасивому типу женщин.
Безусловно, лучше всех была проведена роль апостола Петра. В игре актера было много вдумчивости и силы Его строгая седая голова прекрасно передавала тип старого пламенеющего апостола. Но меня странно поразило то, что в самой сильной и лучшей его сцене – в сцене трехкратного отречения, проведенной им прекрасно, в рядах местной простонародной публики раздался смех. Такой же смех я и раньше замечал в совершенно неподобающих, на наш взгляд, местах. Что же это? Грубое непонимание смысла содержащихся на сцене событий или слишком строгая фанатическая мораль, не допускающая и не прощающая ни одного неверного шага?
Другие лица в большинстве случаев были хороши по своему внешнему виду, но принимали мало участия в ходе действий. Обращал на себя внимание первосвященник Каиафа (начальник пожарной команды), который нарядился в какие-то золотые латы и имел манеры совсем военного человека, причем ужасно напоминал Агамемнона из «Прекрасной Елены»{8}.
Апостола Иоанна играл долговязый парень с тупым лицом и длинными сильно напомаженными волосами. Он все время старался придать своей физиономии выражение глубокой святости и производил очень неприятное впечатление.
Пилата изображал толстый лавочник с большими усами, в котором не было ничего римского.
Но печальнее всего было положение того же нелепого хора из византийских царей и цариц, которому в продолжение 10 часов пришлось петь под проливным дождем, потоки которого часто проникали и в зрительную залу, заносимые порывами ветра. Бедные цари и царицы охрипли, побледнели от усталости, озябли; разноцветные тоги и хламиды намокли и облипли, и все они вздохнули с облегчением, когда наконец после живой картины, изображавшей «Вознесение» и поставленной по всем правилам балетных апофеозов: с электрическим светом, голубыми облаками и бесконечными рядами ангелов с белыми крыльями, занавес наконец опустился, ноги и голова Моисея соединились вместе и публика стала торопливо расходиться из театра.
Полчаса спустя я шел с мешком за плечами по сырой горной тропинке по направлению к белевшим вдали Альпам Тироля. Солнце только что проглянуло, и на густой зелени леса сияли капли дождя. От всего только что виденного в душе оставался какой-то мутный, неприятный осадок и глубокое отвращение к этому жалкому, исковерканному остатку «прекрасного средневековья», лишенному своей первобытной свежести и религиозной наивности ради удовлетворения нахально-праздного любопытства скучающей толпы европейских туристов…
А в голове звенели слова Гейне:
Ухожу от вас я в горы, Где живут простые люди, Где свободный веет воздух И дышать свободней груди. В горы, где синеют ели, Звонки, зелены, могучи, Воды плещут, птицы свищут И по воле мчатся тучи…{9}Листки из записной книжки
Вот она лежит предо мной – моя записная книжка: истрепанная, измятая, в черном клеенчатом переплете, покрытая какими-то желтыми пятнами и подтеками. Два месяца она болталась у меня в мешке за спиной, пропитываясь моим по́том под лучами итальянского солнца и промокая в потоках альпийских дождей и водопадов. На ней есть и капли от девственного снега Эцтальских глетчеров, и пятна от прозрачных волн Коринфского залива, посыпанные мраморною пылью Акрополя.
Между ее страницами лежат альпийские розы, сорванные на склонах Ортлера{1}, кипарисная ветвь с виллы Адриана{2}, лавровая веточка с могилы Шелли{3}, сорная травка, выросшая между мраморных плит театра Диониса, веточка какого-то вьющегося растения, с очень тонкими вырезанными листочками, которым был обвит старый фонтан на вилле д'Эсте, и, наконец, пыльная ветка оливы, выросшей на склонах Афинского акрополя.
С начала и до конца она исписана лиловым ализариновым карандашом; тут нет последовательного дневника: все отдельные фразы, мысли, слова… Кое-где записи расходов. Маленькие стихотворения, начатые и неоконченные…
Существуют такие «волшебные китайские цветы»: это маленькие, черные, деревянные палочки. Но стоит их только бросить в блюдечко с теплой водой, как они сейчас же начинают распускаться в красивые разноцветные цветы и фигуры.
Так же и эти неразборчивые лиловые арабески в моей записной книжке: стоит только одному такому значку попасть в мою голову – и он начинает сейчас же распускаться в блестящие, ослепительно яркие картины, такие яркие, что я жмурюсь от их света и блеска и сердце мое охватывает старое знакомое чувство, которое прекрасно поймет каждый бродяга.
Сумею ли я зафиксировать вас на бумаге, мои «волшебные китайские цветы»?
На первой странице такое стихотворение, написанное еще зимой в городе:
Душно в комнате! Как только Снег растает над лугами, — Закажу себе ботинки С двухдюймовыми гвоздями. Приготовлю «Lederhosen»[1], Альпеншток с крюком из рога, «Rüshensak» себе достану, Колбасы возьму немного. И лишь первый луч заглянет В запыленное оконце — Набекрень надену шляпу, Порыжелую от солнца. И пойду себе я в горы С неизменным красным гидом, Поражая и пугая Всех прохожих диким видом. Побегут за мной мальчишки Восхищенною толпою — Я люблю быть популярным, От читателей не скрою. А когда, минуя город, Я один останусь в поле, А кругом засвищут птицы, Запоют ручьи на воле, Затяну я тоже песню, Откликаясь птичкам дальним, Хоть отнюдь не обладаю Я талантом музыкальным. Хоть ни разу верной ноты Я не взял… Но вот привычка: Если я один останусь, То пою всегда как птичка{4}.Дальше идет несколько афоризмов:
«В путешествии количество истраченных денег обратно пропорционально количеству полученных впечатлений».
«Из всех пяти чувств во время путешествия самую главную роль играет осязание: для того, чтобы хорошо узнать какую-нибудь страну, нужно ощупать ее вдоль и поперек подошвами своих сапог» и т. д.
На последнем листке горделивая заметка:
«Итого все путешествие от Москвы до Севастополя через Вену, Мюнхен, Милан, Геную, Флоренцию, Рим, Неаполь, Бриндизи, Патрас, Афины, Константинополь, со всеми побочными расходами, обошлось в 170 рублей».
Но вот, наконец, мои лиловые иероглифы:
29 мая. Вена. Собор св<ятого> Стефана…{5} Ну, распускайтесь же, расцветайте, мои китайские палочки!
…Сумрак старого готического собора. После солнечного блеска и уличной пестроты глаз с трудом различает паутину скрещивающихся арок и колонн. Я сижу на почерневшей деревянной скамье. Ухо отдыхает от грохота экипажей в этой тишине и только позже, как и глаз в этом сумраке, начинает различать звуки органа. Они властно подхватывают душу и уносят ее не сквозь пространство, а сквозь время.
Все наполнено, все дрожит этими широкими плывущими звуками, которые застывают между стен собора в виде разноцветных стекол.
Слегка выделяясь, во мраке видны Пилястры, карнизы, оконца, И только розетки сверкают вверху, Как два фиолетовых солнца. Висят разноцветные нити лучей, На сводах дрожащие пятна, Весь сумрак какой-то прозрачный, цветной, Таинственно-тихий, понятный… А в окнах там целый особенный мир Готических старых соборов — Вся эта гармония красок, цветов, Фигур, переплетов, узоров…Невольно проникаешься этим стройным, законченным миром средневековой веры. Целый мир – свой собственный, красивый, всеисчерпывающий мир, не имеющий ничего общего с действительным миром и его законами, создал себе здесь человек. Он отделен от другого мира этими разноцветными стеклами, этими, созданными фантазией человека картинами, которые не пропускают в него ни одного простого белого луча солнца, ни одной логической мысли, не преобразив их в разноцветные тени и полосы своей фантазии, своей веры.
Credo, qiad absurdum <est>![2]
Это было, может быть, самое смелое слово, брошенное человеком в лицо истине.
Но какой прекрасный, законченный мир!
Вот они, эти застывшие кристаллы средневековой мысли. Человеческие волны залили европейские низменности. Потом волны эти сбежали и заменились новыми, но от них остались эти кристаллы. У нас есть наша кристаллизованная русская сказка – собор Василия Блаженного[3], а в Европе – кристаллизованное средневековье – готические соборы.
Готика зародилась в XI веке во Франции и развилась в течение двух столетий в полном блеске. Огромная и могучая ветвь ее переброшена была в Германию, но там она потеряла уже свою удивительную тонкость и грацию, которые можно найти только во Франции, и даже не в Notre Dame, а в маленьких церквах Парижа: St. Chapelle, St. Germain D'Auxerroi, St. Germain des Prés{6} и особенно в Реймском соборе.
Только там понимаешь всю эту музыку стекол, музыку красок во всей ее красоте – это старое, забытое, потерянное для нашего времени искусство. В Германии оно уже вырождается в отдельные фигуры на стеклах и утрачивает все свое красочное обаяние, но во французской готике фигуры сами по себе безобразны и не играют еще главного значения – все в музыке – в сочетании красок.
В Италию готика перекинулась слабым ростком. Ее принесли туда францисканцы. В Ассизи{7} она еще полна северным духом, но на тучной почве Ломбардии она распустилась только одним, совсем изменившимся под итальянским солнцем, но все-таки дивно-прекрасным беломраморным цветком, который уже не дал из себя оплодотворяющих семян. Но от св<ятого> Франциска потянулась другая, зеленая и свежая ветвь, которая через два века выросла в иное, еще более крепкое и широколиственное дерево – от него пошел Джиотто{8} и первое Возрождение. Но истинная итальянская готика воплотилась не в камне, а в слове. Самый великолепный готический собор в Италии это – «Божественная Комедия».
Тут тот же средневековый символизм формы: терцины, отчеканенные, острые и легкие, стремятся кверху, как бесчисленные стрелки и пилястры, образы и сравнения отливают всеми переливами цветных стекол; смутные, блуждающие тени ада освещаются багровыми и фиолетовыми лучами фантазии, проникающей сквозь узкие стрельчатые окна средневекового миросозерцания; в плавных и сильных созвучьях тосканской речи слышатся звуки органа и отголоски мелодий Палестрины{9}, а весь план, или скорее «распределение масс», с их ритмичностью формы, заканчивающий каждый из трех отделов одним и тем же стихом, невольно заставляет отождествить этот «голос десяти молчащих веков» с готическим собором.
В готике есть что-то растительное – органическое. Я долго рассматривал кафедру в соборе св<ятого> Стефана, сплетенную из бесчисленных каменных веточек, разошедшихся от одного ствола, и мне казалось, что я рассматриваю жилки дубового листа.
Внизу колонны, у которой стоит эта кафедра, полуоткрытое маленькое каменное окошечко, из которого выглядывает до пояса человеческая фигура. Это подпись строителя собора.
Раннее утро. На палубе еще пусто. Наш пароходик энергично режет неудержимо стремящиеся вперед струи Дуная.
«Тихий Дунай» русских песен весь покрыт водоворотами, a «Der blaú Donaú»[4] немецкой поэзии оказывается скверно-грязно-желтого цвета. Здесь, между Линцем и Веной, Дунай с обеих сторон сдавлен горами. Налево – отроги Альп, направо – Богемская группа. Осыпи и обрывы розовеют от утреннего света. Сочная зелень лесов, сады, виноградники, маленькие немецкие городки с остроконечными церквами – наивные, мирные, старые; монастыри, разоренные разбойничьи гнезда на горах…
В записной книжке начинает складываться стихотворение.
Свежий ветер. Утро. Рано. Дышит мощная река… В дымке синего тумана Даль прозрачна и легка. В бесконечных изворотах Путь Дунай прорезал свой И кипит в водоворотах Мутно-желтою волной. Уплывают вдаль селенья. Церкви старые видны, Будто смутные виденья Непробудной старины. И душа из тесных рамок Рвется дальше на простор… Вот встает старинный замок На скалистом кряже гор. Эти стены, полный ласки, Обвивает виноград… Как глаза античной маски Окна черные глядят. И рисуется сурово Стен зловещий силуэт, Точно мертвого былого Страшный каменный скелет {10}Ко мне подходит молодой человек, по костюму рабочий, и вступает в разговор. Он говорит на местном австрийском наречии, я говорю по-немецки вообще скверно – и мы в течение нескольких минут тщетно стараемся поддержать разговор и наконец умолкаем. Мой собеседник смотрит на меня с отчаянием и наконец произносит:
«Вы, вероятно, берлинец, что я вас совсем не могу понять?»
Это удивительная особенность путешествий по Германии: достаточно просто не уметь говорить по-немецки, чтобы вас сейчас же приняли за немца, только из другой части Германии.
Да вообще знание языков вовсе не так уже необходимо для путешествия, как кажется.
Для того чтобы прожить в Париже, например, вполне достаточно знать только два слова: monsier и madame. Если научиться их произносить как следует, то вас будут принимать за коренного парижанина.
Положим, вам нужно что-нибудь купить. Вы заходите в магазин, приподнимаете шляпу и говорите: «Madame!»
Это значит «здравствуйте!».
Продавщица кивает вам головой и отвечает: «Monsier!»
Затем она уже с новой интонацией спрашивает: «Monsier?»
Это уже значит: «Что вам угодно?»
Вы показываете на нужную вам вещь и предупредительно любезным тоном говорите: «Madame».
Она вам подает вещь, разумеется, со словами «Monsier».
Тогда вы спрашиваете: «Madame?»
Она называет вам цифру и говорит: «Monsier». Вы платите деньги и уходите, приподнимая шляпу со словами «Madame!», на что она, разумеется, опять отвечает вам неизбежным: «Monsier!»[5] Если вы будете держаться такого метода разговора, то вас всякий сочтет за француза. Но беда вам, если вы захотите, не зная французского языка, изъясняться подробнее: французский язык создан для каламбуров, которые так и просятся на язык – особенно тем, которые, не умеют говорить по-французски.
Однажды во время одной из больших рабочих демонстраций в Париже я вмешался в толпу вместе с одним приятелем – русским. Это было время процесса Деруледа{11}, страсти были приподняты, толпа пела разные куплеты по поводу героев дня и встречала каждого католического священника криками:
«A bas les calottes!»[6]
Настроение толпы было очень заразительно, и мы тоже подхватывали на лету остроты и восклицания и повторяли их. И вот в минуту общего затишья мой спутник, увидев на другом конце улицы пробиравшуюся черную продолговатую шляпу, рявкнул на всю площадь.
«A b-b-bas les culottes!!!»[7]
Я никогда не слыхал тона более убежденного и горячего, чем тот, которым было произнесено это требование. На минуту толпа оцепенела. Казалось, даже парижским рабочим это требование показалось чересчур радикальным… Но потом грянул взрыв гомерического хохота, а две стоявшие рядом с нами парижанки заметили моему спутнику, что, не зная французского языка, никак нельзя принимать активное участие в политических движениях, не рискуя сделаться чересчур радикальным…
* * *
Уж поздно под вечер приехал я в Кельн. Там слушал я Рейна журчанье, Там воздух немецкий мне веял в лицо.. И это имело влиянье На мой аппетит… Я поужинал там: Яичницу ел с ветчиною И жажду свою за столом утолял Рейнвейна прозрачной струею. Как прежде, рейнвейн золотистой струей В зеленом бокале сверкает, А если ты выпьешь бокал весь до дна, То он тебе в нос ударяет И так упоительно колет в носу, Что с ним бы вовек не расстался…{12}Эти слова Гейне я могу свободно применить к своему пребыванию в Линце. Садик маленькой старинной гостиницы, с бесконечными переходами, коридорами, галереями и дворами, выходил прямо к Дунаю.
Добродушные горожане с семействами здесь пили дешевое и кислое дунайское вино под сенью старых ветвистых каштанов, а сквозь зубчатые листья нависших ветвей расплавленным серебром струился Дунай, а на другом берегу, облитый луной, белел маленький городок, с остроконечной церковью.
На другой день в окнах вагона мелькнул Зальцбург со своими замками на горах – родина Моцарта и Маккарта{13}, этих двух художников, в творчестве которых есть такое же неуловимое созвучие, как и в их именах. Попробуйте закрыть глаза и произнесите эти два имени, прислушиваясь к их оттенкам: вся разница между этими именами только в звуках «ц» и «к». Но какой характер придают им эти звуки? В имени Моцарта блестит полированный паркет аристократических венских салонов конца XVIII века и дрожат звуки старинных клавесинов, а в имени Маккарта чувствуются тяжелые складки бархата, густые и сочные краски драпировок нестильных гостиных XIX века.
Поезд мчится. Налево мелькает цепь гор, подернутая сизым туманом дождя. Баварская граница осталась сзади. Мелькнуло озеро… Дождь перестал, и проглянуло солнце.
Чувствуется приближение к Мюнхену: всюду пиво, пиво, пиво… Пивные заводы… Бесчисленные вывески около полотна железной дороги, с объявлениями о пиве…
На зеленой траве около кабачков сидят приятно округлые люди, с кружками пива… Вот, наконец, городские предместья. Вдали мелькает колоссальная статуя Баварии{14}, которая что-то с торжеством держит в высоко поднятой руке… кажется, тоже кружку пива.
Добродушный немецкий паровозик прибавляет шагу, усердно пыхтит и несется между бесконечных путей и вагонов, точно и его тоже ждет на станции хорошая кружка пива.
Вот единственное, между прочим, в чем немецкие железные дороги совершенно пасуют перед русскими – это паровозные свистки. Не умеют свистеть немецкие паровозы. То ли дело хороший свисток русского паровоза! В нем есть художественность, настроение… Протяжный заунывный свист глубокою ночью! Ведь в нем так и слышится бесконечная унылая степь, косой дождик, бьющий в скользкие стены вагонов, огоньки затерянной в глуши станции и еще тысячи верст путешествия впереди… А здесь паровоз орет, точно ему на ногу наступили.
В Мюнхене я остановился в «Herberge zur Heimat». Это очень любопытное учреждение, о котором стоит рассказать. В Германии существует так называемый «Deutsches Herbergsverein», который имеет свои отделения решительно во всех городах Германии и во многих городах за границей. В России, между прочим, тоже существуют отделения этого общества в Петербурге, Ревеле, Дерпте и Гельсингфорсе. Всех отделений в Германии 507, а за границей – 42. В каждом таком отделении находится «Herberge zur Heimat» – ночлежный дом своего рода, гостиница (Hospir), очень дешевая, чистая и удобная, и, наконец, «vereinshaus», при котором находятся ресторан, читальня со всеми евангелическими газетами и журналами и залы для собраний общества. Это предприятие полурелигиозное, полукоммерческое.
Каждому одинокому путешественнику, странствующему по Германии с ограниченными средствами и не требующему особенных удобств, можно особенно рекомендовать эти «Herberge zur Heimat». За 30 пфенигов, т. е. на наши деньги немного меньше чем за 15 копеек, вы получаете там кровать с чистым бельем в общей комнате. Если хотите, то вы за эти же деньги можете взять ванну. Вещи свои вы оставляете внизу в конторе под квитанцию. Дом открывается с 8-ми часов вечера, а в 7 часов вас будят звоном колокола, и вы должны уходить, так как на день там оставаться нельзя. Комфорта особенного там нет, но обстановка нисколько не хуже, чем в дортуарах русских казенных закрытых учебных заведений. Ночлежники эти – большинство рабочие и путешествующие бурши. Вообще публику туда пускают с разбором.
В ресторане, обыкновенно находящемся в том же доме, можно получить хороший, совсем домашний и очень изобильный обед из двух блюд за 40 пфенигов, т. е. за 20 копеек.
Во главе такого заведения стоит всегда очень почтенный господин, называющийся Vateroм.
Гостиницы, находящиеся при этих Vereinshausa'x, очень комфортабельны, дешевы и безукоризненно чисты, как вообще все немецкие гостиницы.
К иностранцам там относятся с особенной предупредительностью.
Мюнхен – это город картинных галерей, пива, германской старины и греческих колоннад.
Это столица немецкого искусства. С немецкою живописью XIX века можно познакомиться только здесь. Здесь же и центр новейшей живописи: Sezession Aússtelling{15}.
Выставка была открыта, и прежде всего я, конечно, отправился туда. Переходя от одной картины к другой, я сначала и не заметил какого-то странного движения среди публики, пока один из портье не дернул меня за рукав со словами: «Das ist unser König»[8]. Обернувшись, я заметил маленького старичка с белой, довольно длинной бородой, тронутой кое-где желтизной, серыми волосами на высоком, морщинистом лбу, в золотых очках и довольно потертом черном сюртуке, который, как у всех немецких профессоров, морщился поперечными складками в талии. Это был Луитпольд{16}, принц-регент Баварский. Он был без свиты, и скорее всего его можно было бы принять за немецкого профессора, каковым он, положим, состоит и на самом деле, т. к. он, как известно, считается одним из лучших окулистов в Европе и продолжает практиковать, несмотря на свои королевские обязанности, исполняемые им уже второе царствование.
Он быстро переходил от одной картины к другой и, наконец, остановился перед огромной мраморной статуей, изображавшей его самого в средневековых доспехах, закованного в латы, с необыкновенно величественной и воинственной физиономией. Мне казалось, что седой старичок в потертом сюртуке был совсем уничтожен видом этого средневекового витязя, на которого он смотрел с каким-то испуганно-смущенным видом.
Es war eine schöne Scene![9]
Дальше в моей записной книжке значится такая краткая заметка: «Neue Pinakothek{17} – Сегантини, Габриэль Макс…»
Пред моими глазами с ослепительной яркостью встают две картины: два типа искусства.
Вероятно, до всякого русского обывателя, сколько-нибудь интересующегося живописью, доходили смутные отголоски какой-то «новой живописи», каких-то новых «приемов». Вероятно, ему попадались и разные слова: «Импрессионизм, плэнэр, прерафаэлизм, пунтуалисты» и т. д., которые он все обобщал под общим названием «декадентства». Иногда на русских художественных выставках он натыкался на странные картины, в которых он ничего не мог разобрать, кроме каких-то бесформенных пятен или какой-то разноцветной чешуи продолговатых мазков. Такие картины он принимал за личное себе оскорбление и начинал ругаться, а в конце сформулировал свое негодование неизменным словом «декадентство».
Еще в 30-х годах во Франции началось освободительное движение живописи (собственно пейзажа), вырывавшейся из лап академизма. Нашлись люди, которые утверждали, что деревья следует писать не коричневой, а зеленой краской, что нужно писать предметы не в искусственном освещении темной мастерской, а на вольном воздухе (Plain'air), что воздух – это та прозрачная среда, которая дает предметам их окраску, что следует писать предметы не такими, какими они есть, но такими, какими они представляются (импрессионизм)[10]. Это все уже общеизвестные и общепризнанные истины, которые неизвестны пока еще только русской публике, благодаря полному отсутствию у нас художественной критики.
На это движение, между прочим, сильно повлияла японская акварельная живопись с ее легкими прозрачными тонами. Когда у искусства явились новые задачи, то невольно должны были создаться и новые технические приемы изобразительности.
Приемы пунтуалистов и являются таким новаторством живописи. Их идея основана на том физиологическом законе, по которому несколько разноцветных точек, поставленных рядом на известном расстоянии, смешиваются в глазу у зрителя в один цвет. Этот способ «смешения цветов» значительно совершеннее способа «смешения красок», так как в природе происходит именно процесс смешения цветных лучей в глазу. Благодаря ему является возможность передать и трепетанье воздуха и чистоту красок, между тем как при смешении красок каждый цвет неизбежно приобретает немного грязноватый оттенок.
Обо всем этом я слышал и раньше и видел несколько нелепых картин, покрытых разноцветными червяками, но обращал на это мало внимания и серьезного значения этому для искусства не придавал.
И вот в Мюнхене, скитаясь по бесконечным залам Новой Пинакотеки, я неожиданно остановился, как ошеломленный, пред одной громадной картиной. Кругом висели сотни больших и маленьких пейзажей лучших германских мастеров, но сравнительно с этой картиной они казались совершенно плоскими, безжизненными и условными.
Мне казалось, что я вижу не картину, а просто окошко, прорубленное в стене, сквозь которое видна горная пашня высоко в горах. Два быка тащат плуг, подымая борозды черной блестящей жирной земли. Яркая альпийская трава… На близких невысоких склонах лежит снег. Небо темное, странное, непривычное, как всегда на больших высотах. Но дело в том, что это была не картина, а сама действительность. Краски не были неподвижными, а переменялись и блестели; тонкие струйки теплого воздуха не переставая переливались, трепетали, и черные борозды пашни дрожали от их движения. Это было что-то такое ослепительно-яркое, живое, чуждое условности, точно в темную душную комнату сразу брызнули яркие лучи солнца вместе со свежим степным воздухом.
Это была картина Сегантини{19} – известного итальянского художника французской школы, который умер полтора года тому назад в Альпах, не успев окончить своей последней громадной картины из горной жизни.
Сегантини является лучшим и самым совершенным представителем современных пунтуалистов.
Как раз против этой громадной картины Сегантини висела другая очень маленькая и незаметная картина, мимо которой я прошел несколько раз, не обратив на нее внимания. Потом я как-то случайно остановился против нее и увидел что-то, что заставило меня вглядеться в нее пристальнее.
Это была девушка – очевидно, больная. Она полусидела в кровати, закрытая до пояса белой простыней, в белой мягкой рубашке. Голова ее была повязана белым платком. На коленях ее лежало распятие, и она глядела на него, сжав виски обеими руками, странным глубоким взглядом, в котором было и болезненное недоумение, и ужас, и страдание… Это была очень молоденькая девушка с мягкими красивыми чертами, с матово-бледным, бархатистым цветом лица. «Умирающая… безнадежно больная?» – мелькнуло в голове…
Я прошел… Но этот мучительный загадочный взгляд мешал мне рассматривать другие картины. Я снова вернулся к ней. Казалось, картина уходила вглубь, и чем глубже погружался я в эти темные кроткие глаза с их странным выражением, тем сильнее и неотразимее покоряла меня красота этого странного взгляда. И вдруг я заметил маленькую подробность, которая сразу объяснила мне все непонятное выражение ее глаз: на белом платке, которым была обвита ее голова, я заметил легкие следы крови, а на ее прозрачных руках с голубыми жилками два маленьких красных пятнышка очень бледных, чуть заметных, – стигматы!
Это была знаменитая картина Габриэля Макса: «Катэрина Эмерих»{20}.
После этой картины я уже не мог смотреть на что-нибудь другое… Думать о том, как написана эта картина и какие технические приемы были употреблены для передачи этих белых тонов рубашки и одеяла, было бы в этот момент оскорблением для нее.
Техника играет великую роль в искусстве, и в технике могут быть такие же гениальные мастера, как и в том соединении чувства, мысли и техники, которое создает произведения, подобные этой картине Габриэля Макса.
Но техника только тогда будет вполне совершенна, когда ее не будет совершенно заметно, потому что это только орудие для передачи мысли и настроения: орудие великое, важное и могучее, которым великий художник должен владеть так же, как виртуоз пальцами своей руки. Поэтому если при мне говорят: «Какая блестящая техника у этого музыканта!» – то я знаю уже заранее, что его игра не произведет ни малейшего впечатления, а если я сам останавливаюсь пред картиной и начинаю прежде всего рассматривать ее колорит, мазки и краски, то это значит, что, хотя, может быть, картина и гениальна в смысле разрешения какой-нибудь новой задачи живописи, но она все-таки не истинное произведение искусства, а только материал, подготовляющийся для будущего великого мастера.
Истинное произведение искусства должно захватывать до такой степени, чтобы нельзя было в первый момент отдать себе отчета видите ли его, или слышите, или нюхаете, или едите.
* * *
В течение двух тысяч лет слово «Рим» звучало для человечества именем силы, власти и всемирного господства.
Что у него было своего, самобытного? Он все брал у других народов, у других цивилизаций. В идейном отношении он был тем же разбойничьим гнездом, что и в государственном.
Но у него была странная, таинственная способность придавать похищенным у других национальностей идеям великую жизненную силу. Это была лаборатория, из которой каждая идея, переработавшись в ней, выходила вооруженная всеми средствами для борьбы за всемирное владычество.
Рим брал идеи национальные, но отдавал их человечеству «всемирными идеями».
Он впитал в себя идеи двух блестящих народов древнего средиземного мира: Греции и Иудеи.
Как удивительно то, что оба эти народа взяли все, что составляет их вечную историческую заслугу из одного и того же источника – из Древнего Египта – этого пра-источника и изобретателя всех европейских идей.
Евреи заимствовали у египетских жрецов тайну неведомого Бога и религиозные легенды, а греки – искусство, философию и зачатки математики. В этом – характеристики обеих национальностей.
Египтяне с ненавистью смотрели на евреев, похитивших их главное сокровище, грекам говорили отечески-покровительственно:
«Вы, греки, еще совсем дети!»{21} – и при этом полусерьезно, полушутя рассказывали им не то быль, не то сказки…
Кто видел статую «Писца» или деревянную фигуру «Сельского старшины»{22}, тот поймет, сколько греки взяли у египетского искусства.
«Семя еще не умрет, не принесет плода»{23}. Мысль должна погибнуть, как школа, чтоб принести плоды.
Как государство, так и школа – это просто один фазис в развитии идеи: то же, что протекционизм в торговле.
Слабый, неразвившийся драгоценный зародыш идеи окружается жесткой непроницаемой скорлупой: законами, штыками – всем тем, без чего он неизбежно погиб бы, не успевши развиться.
Если идеи сильны сами по себе и развиваются быстро и сильно, то кора государства не успевает нарасти и быстро спадает.
Но если идея слаба и ничтожна, то грубая физическая сила, охраняющая слабый зародыш, становится крепка и несокрушима, как персиковая косточка.
Такая кора составляла основу древнего республиканского Рима. Греция и Иудея, где развитие идеи совершалось с бесконечной интенсивностью, не успели выделить из себя крепкой коры, да и та, которая была – слабая и разорванная внутренним давлением бунтующих сил, была раздроблена ударами римских легионов.
Тогда, освобожденные от оков государства, национальные идеи покорили Рим.
Тот день, когда стены олимпийского цирка потряслись ликующими криками толпы приветствовавшей Фламинина{24}, и тот день, в который добродушно улыбающийся, завитой и раздушенный, толстенький Тит{25} въезжал с триумфом в сожженный, разрушенный, обезумевший в последней борьбе Иерусалим – были днями самых страшных ударов Риму – несравненно более сильных и решительных, чем поражение при Каннах. Против своей воли, с ужасом всасывал Рим, как сухая губка, хлынувшую к нему греческую и еврейскую культуру. Греция покорила Рим философией и искусством, а Иудея покорила его христианством.
Когда внутренние силы проели насквозь ту скорлупу, которая казалась несокрушимой, тогда германские варвары кинулись на добычу, но сами были потоплены в потоках христианства, хлынувшего на них из пробитой бреши.
Этот великий потоп католичества продолжался десять веков, а когда вода начала спадать и показались на свет первые остатки античного мира, то мраморные зерна греческого искусства, сохранявшиеся под толстым слоем земли в почве Древнего Рима, пустили из себя мраморные и красочные побеги, и среди убегающих и звенящих ручьев спадающего половодья расцвел новый цветок, новая весна человечества – Возрождение.
С этого момента в душе европейца неотразимым обаянием красоты засияло новое слово: «Италия».
Маленькие итальянские городки эпохи Возрождения, старые, красивые, милые, обвитые зеленью, с толстыми крепостными стенами, узенькими уличками; красивые молодые художники с длинными волосами, работающие в своих мастерских; монастыри с их таинственностью и бесконечным спокойствием; пестрая средневековая толпа, веселые приключения и анекдоты Бокаччио, борьба во имя новой красоты, возникающей из недр земли, гуманизм, борьба партий в маленьких городках, пышность папского двора, фрески Ватикана, музеи Флоренции, восемнадцатый век с его упадком, грацией и великолепными виллами римских аристократов – все это, вычитанное из книг и украшенное воображением, возникало в уме моем при слове «Италия».
Потом вставали другие тени – тени XIX века: скорбная, благородно прекрасная голова Маццини{26}, легендарно громадная и простая фигура Гарибальди, мечтательно отважная тень Пизакане{27}, а за ним другие бледные окровавленные тени итальянского Risorgimente{28}: Медичи, Орсини, Марнара, Саффи…
И тут уже вставал пред глазами другой Рим – Рим художников: Рим красивых албанских крестьянок, транстеверинок, развалины водопровода, ленивые фигуры быков, остатки форума и Колизея…
В Италию ведет много дорог через Альпы.
Дорога из Мюнхена на Инсбрук, а оттуда на Триен{29} и по берегам Гардского озера, самого синего из всех итальянских озер, в Верону, освящена итальянскими путешествиями Гете и Гейне{30}. Но там уже проложена железная дорога, а мне хотелось пройти из Мюнхена пешком через Альпы по неизвестным диким горным тропинкам, так, как когда-то ходили в Италию германские паломники, с мешком за спиной, с палкой в руках. Поэтому я остановился на пути через Партенкирхе, Эцталь, Виндгигау и Стельвио.
Ухожу от вас я в горы, Где живут простые люди, Где свободный веет воздух И дышать свободней груди! В горы, где синеют ели, Звонки, зелены, могучи, Воды плещут, птицы свищут И по воле мчатся тучи!Я выхожу из Обер-Аммергау с толпой баварских крестьян, возвращающихся по домам с представления мистерий. Они все в тяжелых, подкованных гвоздями с трехугольными шляпками башмаках; мужчины в коротких панталонах, шерстяных чулках и с голыми коленами. На всех зеленые тирольские шляпы с полуопущенными полями и великолепными перьями. Перо на шляпе – это предмет гордости для каждого мужчины. Их осматривают и оценивают с видом знатоков. Особенное внимание привлекает старик с великолепным орлиным пером на шляпе, которое он с гордостью показывает остальным и оживленно рассказывает, как он достал его.
Бедная моя тирольская шляпа с перьями! Ее совсем не оценили здесь, в Ташкенте. Даже больше – ее не поняли. Однажды, когда я проходил по улице, меня остановила совершенно неизвестная мне дама и каким-то испуганным голосом сказала:
«Послушайте… у вас перо сзади…»
– Да… ведь это же тирольская шляпа.
«Ах, извините, пожалуйста! Я думала, что вы на базаре были и там над вами подшутил кто-нибудь».
Я ночевал в Партенкирхе и на другой день должен был перейти тирольскую границу.
К югу над Партенкирхе возвышается крутой кряж гор, который отделяет Баварию от глубокой долины Инна и Инсбрука. Так как дорога через ущелье Партнахкламма и через перевал «Blau Dúmpen» была еще завалена снегом, то мне пришлось идти в обход через Эрвальд{31}.
Я долго шел густым лесом по узенькой тропинке между скал, обросших мхом, и вдруг лес расступился и глубоко внизу, в широкой котловине, крутые склоны которой были одеты густым лесом, лежало мутно-зеленое озеро, в котором отражались противоположные склоны гор. Над ним, высоко над окружающими холмами, как темная грозовая туча, серела огромная масса Wildspitze{32}, спускавшаяся сюда одной отвесной стеной. Это была Eibsee.
Тропинка, проложенная по крутому склону в густом лесу, спустилась до самого берега, к неизбежному ресторану, около которого стояли неизбежные англичанки и смотрели в подзорную трубу на Wildspitze, и потом снова стала круто подниматься в гору по склонам противоположного берега, по которому проходила тирольская граница. Это была широкая просека, идущая вниз под гору, где виднелось озеро. Посреди ее стоял столб с черным австрийским двуглавым орлом, и кругом не было ни признака какого-нибудь строения и какой бы то ни было пограничной стражи. Поставив одну ногу в Австрию, а другую в Баварию, я несколько минут наслаждался своим интернациональным положением и, наконец, окончательно переступил тирольскую границу.
* * *
Деревянные домики с широкими, насупившимися крышами; низкие светлые комнаты деревенских гостиниц с бесконечным количеством маленьких окон, часто и тесно насаженных по всем трем наружным стенам, деревянные резные стулья на длинных расходящихся ножках; склоны гор, круто спускающихся в широкую долину, покрытые ярко-зеленой мелкой травой или густыми лесами; маленькие белые остроконечные церкви… Вот первые впечатления от Тироля. Таким он и представлялся мне раньше.
И вот я свободен! Весь мир предо мной. И всюду мне вольная воля. С ликующей песней, с мешком за спиной Я шел по долинам Тироля. На зелени ярких альпийских лугов Красивые церкви белели, А выше на фоне сияющих льдов Синели зубчатые ели. «В Италию!» – громко звенело в ушах, «В Италию!» – птицы мне пели, «В Италию!» – тихо шуршали кругом Мохнатые старые ели. Я шел через мхи в полумраке лесном, Где сыростью пахло и гнилью, Где тонкою нитью висел водопад, Дробясь серебристою пылью. Я шел сквозь ущелье, где бился поток О камень холодный и твердый, Куда опускался огромный ледник Запачканной мерзлою мордой… Я шел по сияющим снежным полям, И празелень льдов вековая Зияла из трещин. И мертвым кольцом Лежала пустыня немая…* * *
Под Гох-Йохом{33} нас застигла гроза на высоте трех тысяч метров.
Длинная и узкая долина Эцталя, впадающая одним концом в широкую долину Инна, другим концом уходит в глухой ледяной мешок Эцтальских глетчеров. Мы шли по ней три дня. Подъем был мало заметен, но казалось, что мы идем все к северу: становилось холоднее, растительности было все меньше, местность делалась как-то проще и угрюмее, деревушки реже. Колесная дорога прекратилась и перешла в узкую тропинку. Мы решили заночевать в последнем селении перед родниками – в Рофене. Здесь уже кончился пояс деревьев. Осталась только низкорослая альпийская сосна, стелющаяся своими густыми ветвями по зеленой траве, да бесконечные красные потоки альпийских роз (розодендрон), струящиеся по склонам долины. На зеленом склоне горы, которая немного ниже обрывалась в глубокую узкую расселину, на дне которой ревел поток, приютилось пять черных деревянных домиков. Они все как-то присели к земле, широко расставив свои деревянные крыши, укрепленные камнями, торчавшими на них как бородавки. Одно крыло было выставлено дальше другого. У всех у них был такой напряженно-испуганный вид, точно они ожидали, что их сейчас кто-нибудь съездит по шее…
Это был Рофен, крошечная испуганная деревушка, затерянная высоко-высоко в горах под самыми снегами.
Но нас не пустили там переночевать. Тирольцы, сколько я мог заключить из своего слишком кратковременного опыта, не особенно гостеприимный народ. Или они так подозрительно относятся только к иностранцам, но нас нигде не хотели пустить к себе ночевать крестьяне (разумеется, за плату) и отсылали в гостиницы, которые тут в горах иногда бывали сравнительно дороги. Так и здесь, в Рофене, никто из обитателей пяти домиков не согласился нас приютить, говоря, что дальше, около самого ледника, перед перевалом есть дом для путешественников. Было еще не поздно, но с гор ползли тучи и моросил дождик.
Мы перешли через расселину по мосту, состоявшему из двух длинных стволов, перекинутых рядом с одного края на другой, и пошли вверх по узкой тропинке, лепившейся по краю крутой и глубокой долины.
Мы перегнали маленький караван мулов, осторожно ступавших своими тонкими тупыми ножками по размокшей и скользкой земле. Трава исчезла совсем. Кое-где в глубоких долинах лежал снег. Кругом были только мокрые, черные камни. Туча спустилась низко и легла мокрым брюхом в долину. Дождь превратился в ливень, и наступили темные густые сумерки, в которых проносились только серые летучие волны тумана. Домика не было и признака.
Скоро нам преградил дорогу широкий пенистый поток, разбухший от дождя и с шумом тащивший вниз, в черное глубокое ущелье большие камни и щебень. Мы попробовали было подняться выше и пройти над ним по снежному своду, но первый вступивший на этот мост провалился по пояс в самую середину потока. И хотя остальные благополучно прошли по снежному мосту, но оказалось так трудно перебраться через щель, остающуюся всегда между снегом и землей благодаря таянию, перепрыгнув через которую, нужно было взбираться по размякшему крутому откосу балки, что мы перестали пользоваться этими натуральными мостами и стали прямо вброд пересекать все растущие и пухнущие потоки и водопады, опираясь только на палки, чтобы нас не снесло вниз. Мы были так мокры, что терять было нечего.
Наконец домик: каменный, в два этажа, безотрадно-унылый, занесенный с одной стороны сугробами снега. Совсем близко смутные очертания огромного белого глетчера.
Нас приветливо и радостно встретили две тирольки, заведующие домиком. Они проводят тут все лето одни, без мужчин. Зимой дом стоит пустой. Сами они только три дня как пришли сюда из Инсбрука, и только три дня тому назад прошла через перевал первая партия туристов с проводниками, веревками, кирками и т. д. Вообще же перевал делается проходимым только позже (это было в конце июня).
Мы все трое в первый раз были во льдах, и у нас не было ни проводника, ни веревок.
В домике оставалось только чуточку дров и совсем не было хлеба. Все это везли сюда мулы, которых мы обогнали по дороге. Но мулы не пришли в этот вечер. Верно, им помешала гроза. Мы напились горячего красного вина с сахаром и, завернувшись в холодные, но сухие одеяла, легли спать. Было как-то жутко в этом затерянном домике, где-то Бог знает где, в горах среди вечных снегов… В воздухе все время стоял какой-то непрерывный глухой шум: тут было и бормотанье ветра, и журчанье воды, и рев потока, и что-то сыпалось порой, что-то сразу обрывалось.
Все эти дни по нашему пути то и дело попадались деревянные кресты со скверными рисунками в красках и длинными надписями, подробно изъясняющими, кто и когда, и от какой причины погиб на этом месте. Тут были и снесенные потоками, засыпанные лавинами и оборвавшиеся в пропасть… И чем выше мы шли, тем крестов становилось все больше. Теперь нам почему-то неприятно было вспоминать об этом. А завтра перевал… Проводника тут не достанешь… А вот если б хоть веревку… Ведь путешественники на ледниках всегда связываются веревкой. Но тут оказалось, что все позабыли, как по-немецки веревка. Мы пытались было объяснить тиролькам это понятие иносказательно и говорили:
«Вир воллэн эйнен фэдель… абер нихт эйн фэдель… нихт эйн варэ фэдель, абер эйнезэр, зэр, зэр дикэ фэдель…»
Но тирольки были удивительно непонятливы.
Но наступившее утро было такое светлое и ясное, три ледника с сине-зелеными трещинами так красиво спускались в глубокую котловину под нашими ногами, снег так весело сверкал на спине самого большого и самого близкого глетчера, через который нам предстояло идти, что нам показалось, что мы и без веревки дойдем. Тирольки нам весело сообщили, что только что прошло несколько путешественников с проводниками и что мы их, верно, догоним на глетчере, а что мулы уже недалеко и сейчас придут сюда с дровами и с хлебом.
В воздухе было холодно и пахло снегом и зимой, платье было еще сыро, подкованные каблуки весело стучали по камням, потом захрустел талый снег… Мы скоро взобрались на край ледника и быстро обогнали партию, вышедшую раньше нас. Они шли как следует, связавшись веревками с двумя проводниками. И когда мы, обменявшись приветствиями, быстрым шагом прошли мимо них, то один из проводников, обернувшись назад, сказал, указывая на нас:
«Ну, эти уж бывалые – они скоро дойдут!»
Это было ужасно приятно, и нам казалось, что мы действительно «бывалые».
Но опасности и впрямь никакой не было. Все трещины, правда, были занесены снегом, но снег был плотный, крепкий, так что нога только иногда увязала по щиколотку. Теперь подъем был чуть заметен. Кругом лежала ослепительно белая равнина и невысокие белые холмы по краям. Ни одного темного пятна во всем мире!
Тишина удивительная. Единственные звуки – это легкое серебристое журчанье каких-то невидимых струек воды да изредка легкий треск… Небо совсем ясно, но на такой высоте, а может, и от контраста снега, оно кажется совсем темным, ночным. Легкие перистые облачка кажутся красновато-бурыми. Воздух холодный, но солнце обжигает лицо и руки. Все это так необычно, что даже кажется странным, что снег здесь холоден, так горячи отраженные им лучи. И что за странное небо! Что за освещение! Это и не день, и не ночь, и не вечер… Это освещение с какой-то другой планеты: на земле такого освещения никогда не бывает.
Перевал кончен. Мы вступаем со снега на твердую землю и на твердые камни. После этого сплошного, ослепительного снежного блеска все кажется окутанным густым багровым мраком. Только постепенно начинают различаться отдельные предметы. Теперь крутой спуск под гору.
Весна! Весна! Кругом еще лежат сугробы снега, но уже всюду шумят и бегут ручьи, пахнет сырой землей; дальше уж и травка показалась… Горят руки, горит лицо, обожженное этим полуторачасовым пребыванием в снегах, глаза воспалены…
Альпы на юг падают очень крутыми, почти отвесными склонами. Теперь мы вступаем в область южного Тироля и спускаемся в широкую теплую долину Эга, к Мерану. С каждым шагом все новые и новые растенья, новые виды. Какие-нибудь четыре часа быстрой ходьбы из царства зимы в долину, полную южной, почти итальянской растительности.
Узкая долина спускается круто и обрывисто.
Вот Картхайз, крошечный оригинальный городок, приютившийся на скале, высоко над долиной, в развалинах большого старого монастыря. Ниже долина переходит почти в ущелье. По обе стороны поднимаются остроконечные сине-фиолетовые скалы, на которых высятся развалины замков!
Юг близко! Югом веет!
Самые краски и тоны становятся сочнее и глубже. Вот и долина Эга. Вечереет! В долине дремлют тополя, окутанные вечерним сумраком… Из-за стены свешиваются густые ветви винограда. Пахнет тем неуловимым тонким запахом винограда, который можно заметить только при первом впечатлении и который незаметен потом.
По широкому пыльному шоссе идет бесконечное движение. Отсюда всего десять километров до Мерана, но мы поворачиваем в другую сторону. Дома каменные, высокие, уже похожие на итальянские. На окнах везде зеленые деревянные жалюзи.
Еще перевал через Ортлер, и мы в Италии.
«Стильзер-Йох», или по-итальянскому произношению «Стельвио» – высочайшая шоссейная дорога в Европе. Она проходит на высоте трех тысяч метров, т. е. на высоте почти вдвое большей, чем Военно-грузинская дорога, и была построена Австрией специально для военных целей еще во времена австрийского владычества над Ломбардией. Она пересекает Ортлер – одну из высочайших групп в Альпах – и соединяет Виндшгау – долину Эга с долиной Адды.
На другой день после спуска с Гох-Йоха мы ночевали в Праде, маленьком городке, лежащем при устье этого широкого, раскатанного проезжего шляха, по которому днем и ночью слышится шум колес. Во дворе гостиницы стоят десятки повозок и десятки лошадей, в комнатах и в пивной разнородная, разноязычная толпа проезжающих.
Вскоре после Прада дорога проходит сквозь ворота небольшой австрийской крепости, которая всегда может наглухо запереть это узкое ущелье. С итальянской стороны перед крепостью находится большая асфальтовая площадка, симметрично усаженная острыми металлическими стержнями, назначение которых осталось для нас загадкой, так как едва лишь мы приостановились, как послышался грозный окрик австрийского часового.
Бесконечными зигзагами дорога поднимается по правому лесистому склону круто спускающейся вниз долины, между тем как с противоположного склона один за другим спускаются большие ледники с Ортлера. Наконец, и эти ледники остаются далеко внизу. Дорога по краям тоже занесена снегом. Растительность исчезает. Подниматься по этим бесконечным зигзагам в разреженном воздухе страшно утомительно.
Конец подъема. Среди долины, покрытой снегом, стоит маленькая хибарка с итальянской надписью: «Casadeitre lindue». Здесь сходятся границы трех государств: Австрии, Швейцарии и Италии. Австрия там, внизу, в той пропасти, из которой мы только что вылезли. Швейцария направо, на этот холм, покрытый тающим снегом, а Италия отсюда – это белая, медленно спускающаяся к югу равнина, холодная, безотрадно унылая, по которой бегут низкие, растерзанные дождевые облака.
Среди этой унылой равнины – такое же унылое большое каменное здание итальянской пограничной стражи. Но оно тоже совсем уныло и мертво. Никто и не вышел взглянуть на трех бедных путников, спускавшихся в Италию по скользкому талому снегу.
Снова бесконечные зигзаги дороги. Но теперь она наполовину идет по темным каменным туннелям или под сводами крепких деревянных галерей, устроенных для защиты от лавин.
Первый итальянский городок на нашем пути – это Бормио{34}.
За этот день мы сделали не больше сорока верст, но этот подъем на высоту трех тысяч метров и спуск оттуда были настолько утомительны, что нам пришлось дать себе отдых в Бормио на целый день.
Бормио лежит в долине Адды, впадающей в озеро Комо на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря.
Это маленький грязный итальянский городок, со всеми скверными особенностями итальянских городов, т. е. с высокими каменными домами, с узенькими уличками, похожими на щелки, с резким запахом сухого навоза и всякой человеческой грязи, но только без Италии, без того солнца, без того воздуха, без той растительности, которая делает привлекательными даже самые скверные городки Италии. Тип жителей тут еще не итальянский, а скорее немецкий. Многие еще говорят по-немецки – граница близко.
Улицы, как во всех итальянских городах, вымощены каменными плитами, тротуаров нет. Эти темные щелки носят громкие названия «via Galileo», «via Garibaldi», «via Savonorolla», «piazza Cavour». Каждая из этих улиц имеет всего два шага в ширину и шагов десять в длину. Через 10 шагов название уже меняется, так как, очевидно, каждый владелец дома, нелепо сложенного из диких почерневших камней, предпочитает жить на своей собственной улице. Кое-где на стенах разноцветные избирательные афишки, уцелевшие от недавних выборов.
На деревянном мостике через Адду следующее объявление:
«Городской муниципалитет убедительно просит граждан не употреблять на дрова различные части этого моста, преимущественно же перила, так как в этом случае проходящие дети могут упасть в воду».
Андорра
Был конец мая. Салоны кончались. В Париже становилось пыльно и душно.
На киосках красовались соблазнительные объявления о дешевых поездках на берег моря, в горы, в Италию.
Очевидно, надо было куда-нибудь уехать.
…Андорра… Андорра?..
Не представляю хорошенько, как это слово попало мне в голову.
При этом имени у меня явилось только одно очень смутное и очень далекое воспоминание из географии Смирновского{1}. А в конце ее мелким шрифтом напечатано:
«…Монако – самое маленькое государство в Европе… Сан-Марино в Италии… Третье место по величине занимает Андорра… Находится в Пиренеях… Занимает площадь в 36 кв. километров и имеет 6000 жителей…»
А почему же бы и не в Андорру?..
Я зашел в библиотеку Св. Женевьевы:
«Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь об Андорре».
– Как-с?
– Об Андорре…
– Est-ce que cela se mange?[11]
«Нет. Это государство, находящееся под протекторатом Франции».
– В Центральной Африке?
– Нет, в Пиренеях…
– C'est èpatant!!![12]
Библиотекарь взглянул на меня очень недоверчиво и для вида справился в большой книге:
– Нет, у нас ничего нет.
Это как будто бы вполне подходило к моим целям.
Для проверки я купил томик Бедекера, касающийся Пиреней.
Там в конце одной страницы я нашел такую заметку, напечатанную петитом:
«Андорра – Виелла (1800 метров). Деревушка в 700 обитателей. Имеет значение только как столица государства того же имени.
Красиво расположено у подошвы Аклара над плодородной и живописной долиной.
Постройки бедны и достопримечательностей никаких не имеет, кроме первобытных нравов своих обитателей, государственного устройства да скромного дворца, который служит местом заседания государственного совета, местом ночлега для его членов, зданием суда, городской ратушей, школой и тюрьмой.
Республика Андорра – маленькое независимое государство между Францией и Испанией, в гористой местности. Ширина и длина его не превышает 30 км по птичьему полету. Жителей около 6 тысяч.
Главное занятие жителей контрабанда»{2}.
Затем шло несколько хронологических дат и указание на то, что самая легкая дорога ведет через Госпиталет, а проехать по ней можно только верхом. Это было уже значительно полнее, чем в географии Смирновского.
Но самое отрадное в этой заметке было отсутствие указаний на отели и на проезжие дороги.
Этого было достаточно, чтобы решить мое путешествие.
Справившись с картой французских Пиреней, я увидел, что кроме дороги на Акс и на Госпиталет возможна и другая – через городок Тараскон, деревню Викдессос и горный проход около пика Монткальма.
Я убедил идти вместе трех художников, и вечером мы были готовы.
– Билет III класса до Тараскона, – спросил я в кассе Орлеанского вокзала: – Mais pas a Tarascon de Dodet, mais a Tarascon en Ariege.
– Tarascon sur Rone?
– Mais non dons: Tarascon en departament d'Ariege[13]
– Такого нет, – категорически заявила кассирша, справившись в указателе.
– Ну так давайте мне билет до Тулузы.
Окончательно мой выбор был вполне удачен.
На рассвете я был в Тулузе.
Потом около часу мы сидели на пустынной платформе маленькой станции Foix в предгорьях Пиреней в виду развалин огромного замка графа Гастона де Фуа{3}, бывшего сюзерена Андорры, а в 11 часов крошечная проселочная жел<езная> дорога доставила нас на платформу станции Тараскон.
Городок был маленький. Улицы пустые. Мы взвалили наши мешки на плечи и пошли по белому шоссе, уходившему в зеленую долину.
От Парижа нас отделяло всего 12 часов.
До Викдессоса вела широкая проезжая дорога и навстречу часто попадались люди и повозки. За Викдессосом она превратилась из шоссейной в проселочную.
В Оза мы прошли мимо домика французской таможни и свернули на маленькую тропинку.
Отсюда начиналась полная Пиренейская глушь.
Последним французским жильем на нашей дороге по карте являлась деревушка Марк, где мы должны были заночевать.
Вечерело. Тропинка перебежала по каменному мосту над водопадом, раздвоилась, и одна ее ветка закружилась вверх по горному склону, где постройки деревни неясно отделялись от скалистых осыпей.
Дома, грубо сложенные из дикого камня, подымались друг над другом, лепясь по крутому склону. На поворотах тропинка образовывала маленькие площадки между домами, покрытая черной глубокой грязью и крупными камнями.
Ни на улице, ни в домах ни души. Наконец мы набрели на мальчика, глядевшего на нас испуганными глазами из груды бревен.
– Что это… разве в деревне никого нет?
– Oui…
– Но кого-нибудь ведь можно все-таки здесь найти?
– Oui…
– Ты живешь вот в этом доме?
– Oui…
Я постучал в деревянную дверь.
Ответа не было.
– Есть кто-нибудь в этом доме?
– Oui…
На вторичный стук не было никакого ответа. Мы сложили свои ранцы и сели отдыхать на бревнах, ожидая появления человеческой души.
Тогда дверь приотворилась и в щелку выглянуло желтое женское лицо.
– Нельзя здесь где-нибудь найти ночлег?
– Не знаю… едва ли…
– Как же нам быть? Мы идем в Андорру… Больше уже нет жилья по дороге…
Голова спряталась снова, и дверь закрылась.
Через несколько минут послышались шаги и на крыльцо вышел высокий человек в форменной кепи.
«Bonjour, messieurs… dames!»
– Monsiuer…
Он стал нас вопросительно рассматривать.
«Мы путешественники-художники. Идем в Андорру. Не можете ли вы нам указать, где здесь можно переночевать?»
– Переночевать… – Он сомнительно покачал головой. – Вы немцы?
– Нет, русские.
Это произвело магическое действие.
– Да вы, может, к нам зайдете? Жена моя яичницу уст<р>оит. А ночлег мы отыщем…
«Наш супрефект, когда собирал нас два года назад, все говорил нам, что у нас теперь союз с Россией, что теперь мы все равно, что братья», – говорил нам лесной сторож спустя полчаса, когда мы уже ели горячий омлет, а он сам сидел с женой по обеим сторонам большой пасти черного закопченного камина, в котором потрескивали дрова, и их фигуры выделялись на красном фоне неопределенными силуэтами, как на картинах Израэльса{4}.
Сумерки уже расползлись по долинам.
– А что, тропинка до Андорры достаточно ясна? Нигде сбиться нельзя?
«Нет, вам же лучше будет взять проводника. Я вам дам одного молодого человека – он часто ходит в Андорру. Только выйти вам надо будет не позже четырех часов».
По каменистой уличке, круто поднимавшейся в гору, лесной сторож привел нас на сеновал, который должен был служить местом нашего ночлега.
– Только тут нужно осторожно ступать, – предупредил он, становясь на шаткие и довольно редкие балки, балансировавшие под ногами. – Лучше прямо ложитесь.
Мы последовали его совету и хорошо сделали. Выходя, он задел ногой один из брусьев.
Трах… тарарах… тах… тах…
Слышно было, как брус ударился об стену… Посыпались камни.
Слабый свист рассекаемого воздуха… наконец глухой далекий удар об землю.
Однако…
– Да, здесь довольно глубоко, – заметил лесник, переступая уже на ту сторону высокого каменного порога.
Очевидно, здесь не только ступать, но и шевелиться было опасно. Было совсем темно. Сено сильно пахло. Слышалось грохотание горного потока. Сквозь сон иногда казалось, что этот грохот покрывается временами другим грохотом, еще более громким и прерывистым, далеко откликающимся в долинах. Потом было слышно, как по соломенному намету крыши мягко забарабанили крупные капли дождя…
Скрип заржавленной петли разбудил меня. В стороне двери было красное пятно фонаря.
– Что, уже пора?
– Скоро четыре часа.
Небо было ясно. Послегрозовые звезды были как-то особенно ярки и блестящи. Месяц в последней четверти освещал нея<р>ким светом маленькие четвероугольники домов, сползающих вниз. И опять-таки во всей деревушке не было ни одной живой души.
Мы спустились к тому же дому, где мы были вечером, и напились на дорогу молока.
«Вот и ваш проводник», – указал нам лесник на человека, лицо которого не было видно под тенью шляпы.
Тот не сказал ничего и пошел вперед легкой походкой, опираясь на длинную палку. В голове было как-то смутно и пусто от недоспанной ночи. Подкованные сапоги стучали резко и отчетливо, изредка взвизгивая о камень. Внизу шумел все тот же поток. Мы перешли по каменной арке моста на другую сторону долины, обогнули белое пятно новой, только что построенной церкви и начали подниматься в гору. Долина была узка и высока, и поэтому зари не было видно.
Только небо зеленело и звезды гасли.
Даже когда совсем рассвело и наступил день, солнце еще не проникло до дна глубокой долины, и было странно чувствовать ту же ночную предрассветную сырос<т>ь и ночной воздух, когда верхние скалы были давно уже залиты светом.
Подъем шел широкими ступенями. За широкой овальной поляной, заросшей мягкой, ярко-зеленой альпийской травой, поднималась крутая стена. Когда кончился этот подъем, снова была поляна, и только изредка мелькали вдали угольные черные вершины, испещренные белыми ледяными инкрустациями.
Деревья становились все реже и наконец с одним подъемом сразу исчезли. Тогда начали между камней показываться зеленовато-бурые заросли, кое-где прорезанные кровавым подтеком, – альпийские розы. Почва становилась сырее. Уже кое-где в ложбинках совсем близко виднелись сугробы уцелевшего снега.
Трава превращалась в сплошной цветочный ковер. Ручей в своем течении не прорывал уже земли, а прямо тек по мягкой траве, пригибая гибкие стебельки цветов.
Каждый раз после утомительного подъема на следующую ступень казалось, что это уже конец, но на другом конце неизменно высилась новая стена из черных осыпей и зубчатых камней.
Пересекая одну такую овальную поляну, до краев полную зеленой сырой травой, мы наконец выступили из ночной тени на дневной свет. Было уже девять часов утра. Теперь та долина, по которой мы шли с самого утра, достигла своего предела. Впереди, но еще далеко от нас черной, почти отвесной стеной поднимался главный кряж Пиреней, в который упиралась наша долина.
Тропинка окончательно потерялась и исчезла в болотистых кочках. Ноги глубоко увязали в черную жидкую землю, почва вздрагивала под ногами, как студень, и тяжело хлюпала.
Мы повернули круто налево и стали подниматься прямо в гору. Тропинка снова показалась и завертелась быстрыми крутыми зигзагами.
Еще час подъема, и снова зеленая поляна. На этот раз мы уже в полном альпийском мире. Выше уже нет травы – одни черные скалы и белые пятна снега, который подползает к самой траве. По каждому склону струятся тысячи светлых струек, точно мелкая сеть серебряных жилок, наполняя весь воздух серебристым звонким гамом.
Нас обступает овечье стадо. Овцы жмутся одна к другой и обнюхивают и лижут наши руки, ища хлеба.
Мы подходим к пастуху и после обмена приветствиями складываем наши ранцы на зеленую траву и садимся, с облегчением вдыхая чистый воздух, который пахнет весной и талым снегом.
Пастух – старик. Щурясь от солнца, он вглядывается в нас своими выцветшими глазами.
«Вы откуда?»
– Теперь из Парижа…
Он чиркает спичкой об камень, закуривает трубку и все время не спускает с нас мутных слезящихся глаз.
– А вы бывали когда-нибудь в Париже?
– Я?.. Бывал… давно… Солдатом был… в 71 году нас гоняли… Во время коммуны… Точно баранов гоняли… Скверное время…
Проводник наш начинает расспрашивать о состоянии проходов.
«Нет, теперь через [неразб. – Сост.] не пройдешь, снега много. Идите через [неразб. – Сост.]. А то там камни… провалы… Скверные места…»
Мы снова навьючиваемся нашими ранцами, а старик все еще шевелит губами и бормочет: «Как баранов гоняли…»
Теперь подъем уже начинается нешуточный. Каждый шаг надо взвешивать и тщательно выбирать следующий камень, на который надо ступить. Тропинки больше нет, зато всюду вода и камень. Вода струится по крутому склону, будто одной пеленой. Мы идем по щиколотку в воде.
Через каждые пятнадцать минут мы садимся. Чувствуется уже редкость воздуха. Ранец тянет невыносимо плечи и тянет назад. Перед глазами только пара черных ботинок, подбитых гвоздями: это ноги проводника, идущего впереди. Он ступает отчетливо и равномерно. Это однообразное чередование черных ботинок, порыжелых к подошве, и это беспрерывное движение струек воды, которые уносят в себе и голубые клочки неба и черные блики скал, доводят до какого-то галлюцинирующего состояния.
Во время кратких отдыхов, когда на минуту спадает с плеч безнадежная тяжесть ранца, в голове идет все то же тяжелое однообразное движение ботинок, подбитых гвоздями, и глаз остается невосприимчив к горизонтам, которые развертываются все шире. Он по-прежнему продолжает следить жилки синего неба, убегающего в струйке воды, и старается почему-то запомнить расположение нескольких камней, между которыми пробегает она.
Несколько раз мы пересекаем широкие сугробы слежавшегося снега. Я стараюсь попасть ногой в след проводника, и когда это не удается, то нога глубоко проваливается в сырой снег.
Подъем давит, как тяжелый кошмар. Каждый шаг уже сто́ит тяжелого напряжения. А конца все нет. Черные пропасти по сторонам все глубже, все безотраднее, и остается только одно, почти бессознательное желание: заглянуть по ту сторону хребта, по ту сторону перевала, которое одно поддерживает возможность идти.
Перевал…
Здесь снега нет… Зато резкий и упругий ветер с силой рвется на юг сквозь эти ворота. С головой закутавшись в плащ, я падаю на землю, стараюсь при этом, чтобы ноги все-таки остались выше головы, и почти моментально погружаюсь в мертвый сон. Через полтора часа я просыпаюсь, потому что солнце начинает мне жечь щеку.
Странное ощущение – воздух холодный, а солнце обжигает. Голова чиста, но тело все изломано.
Приподымаюсь и осматриваюсь. Сзади Франция. Оттуда мы пришли: черная пропасть, окруженная мертвым кольцом совсем черных изорванных вершин, которые заслоняют горизонт. Кое-где снег.
Впереди круто вниз идет долина и загибает к югу. В том месте, где она загибает, уже показываются деревья и леса. Но это все глубоко внизу. Ближе – крутой снежный склон и зеленые скаты. Это Андорра.
Мои спутники подымаются, и мы снова трогаемся в путь.
По глухим местам Испании. Вальдемоза
Каменная лестница пристани, высокая, стройная и легкая колонна с фигурой Колумба, громадное здание таможни, и аллея пальм на набережной, и пестрый муравейник человеческих фигур, и лес мачт, и шпицы церквей – все это медленно стало раскачиваться и уплывать куда-то назад.
Мы отчалили.
Барселона, красивая, блестящая, со своеобразной вычурностью в архитектуре, с узкими улицами, расцвеченными разноцветными тканями занавесок и горячими лучами, пробившимися из-за крыш, Барселона, полная этой пест<р>оязычной южной толпой, которая кипит днем и ночью под тенистыми платанами Rambla{1}, гогочет в кофейнях, залитых электрическим светом, свистит и рукоплещет во время боя быков и мрачно молчит в рабочих кварталах, Барселона – en sitio y en belleza única[14], по комплименту, сделанному ей Сервантесом, делалась все меньше, меньше и постепенно заволакивалась синим туманом.
Еще виднелась крепость Монтхуан{2}, которая прилегла на плоском, бесцветном холме, сторожа́ заколдованный город, повитый лентами дыма и тумана, но уже направо и налево стали развертываться бесконечные дали гористых берегов, а кругом корабля заиграли и запрыгали синие волны, весело потрясая белыми хребтами, белизна которых казалась еще ярче на этом глубоко синем тоне средиземной волны, который так резко изменяется в Гибралтаре и Дарданеллах, принимая в себя неприятный и мутный зеленый оттенок.
Солнце ложилось на мягкую белую вату облаков, окутавших горы. Но облака разошлись, горы расступились, и сквозь широкую брешь выглянул торжественный четвероугольный профиль горы Монтсеррат{3}, на которой лежит монастырь того же имени – национальная святыня Испании, окруженная ореолом легенд и исторических событий.
Экзальтированная фантазия средневековья перенесла сюда мечтательную фигуру Парсифаля, и, по легенде, рыцари св<ятого> Грааля невидимо собираются и теперь на этой безлесной вершине. Игнатий Лойола обдумывал здесь свой план о завоевании мира.
Солнце опустилось за выступы далеких гор, волны запунцовели и погасли. По палубе парохода растянулись во всех направления<х> темные фигуры пассажиров, расположившихся на ночлег.
Было уже совсем светло, когда я, приподняв голову, увидел в нескольких шагах от борта парохода огромную каменную стену. Это были западные, обрывистые берега Майорки. Море было ясно, как зеркало, и пароход огибал берег, почти вплотную подходя к каменным обрывам. Потом берега начали становиться ниже и разнообразнее. Мыс выглядывал из-за мыса и, глядя на эти серые камни, только кое-где исчервленные черными пятнами хвой и кустарника, можно было подумать, что остров представляет полную пустыню.
Около семи часов утра в глубине широкого залива, который был обхвачен плоской дугой земли (уже совершенно низко), показалась узкая белая полоска.
Это была Пальма{4}, столица Балеарских островов.
Пред глазами проплыл замок Бельвер, стоящий на вершине совершенно правильного конического холма с пологими краями, затканными густыми южными соснами.
Мы вошли в порт.
Неизбежная и мучительная процедура водворения в гостинице, а затем – осматривать город.
Ослепительно белый город, под ослепительно жгучим солнцем, на берегу ослепительно синего моря.
Ослепительно белый… Это не совсем точно передает впечатление. Это скорее цвет только что вымытых простынь, сушащихся на солнце. Что-то не вполне сухое, немного полинялое… чуть заметные следы синьки – вероятно, отсветы от моря.
Дома высокие, с плоскими крышами. Эта квадратность очертаний еще сильнее увеличивает иллюзию с развешанным только что вымытым бельем. Кое-где на улицах пальмы. Везде лопасти кактуса.
На берегу моря собор. Он стоит на известной высоте, но и сам он громаден. Он давит город.
«Он стоит, как слон среди стада баранов», по сравнению Теофиля Готье, относящемуся, впрочем, не к нему.
Это странная готика, южная. А готика юга не выносит. На юге она расцветает вширь и умирает в орнаментах.
Он выстроен из желтовато-розового губчатого песчаника. Красивый и благородный оттенок. Такой оттенок приобретают только старинные здания на юге. Его можно изучить на стенах Св<вятого> Петра, на вилле Боргезе и в Палаццо Барберини. Это оттенок XVII-го и XVIII<-го> века в Риме.
Пальмский собор был начат значительно раньше – в XIV веке, но закончен только к началу XVII.
Кто любит северную готику, тот разочаруется, увидав его внутренность. Там прохладно и тихо, но стекла теряют свою мистическую таинственность. Рисунок их незатейлив. Цвета ярки и резки. Это оранжевые, красные и желтые цвета тамбурина и лент, обвивающих кастаньеты.
Вокруг города крепост<н>ые стены, по которым можно обойти весь город. Эта прогулка не велика.
Со стены раскрывается вид на плодородные равнины Майорки. Бесконечное море серовато-синих оливок, которые тянутся до того самого места, где начинает вздыматься западная лесистая гряда гор, прорезанная ущельями и инкрустированная скалами.
Маленький трамвай, запряженный мулами, ведет в Хуэрту у подножья Бельвера.
Это совершенная Помпея, но не в настоящем, а в прошлом. Те же маленькие домики, те же зеленые помпейские дворики, те же красные стены. Каким чудом уцелел здесь этот тип древнеримского дома? Волны исторических движений редко захлестывали на «забытые острова», как назвал их Гастон Вилье, и, может, здесь скорее, чем в другом месте, могли сохраниться обрывки римского мира.
В парке Бельвер пахнет соснами, а сквозь стволы, разомлевшие на солнце, видна синяя муть гор, белые каскады домов да желто-розовый камень собора.
Вот и вся Пальма с ее окрестностями.
Но не Пальма привлекла меня на Майорку.
Моей целью была Вальдемоза. Об ней я знал только то, что там когда-то Жорж Занд провела зиму вместе с Шопеном, живя в келье старинного, упраздненного монастыря. Я вполне положился на их вкус{5}.
Из Пальмы в Вальдемозу надо ехать дилижансом. Железной дороги, слава Богу, еще нет.
Белая дорога сверкает нестерпимым блеском. Тени оливок среди этого света кажутся темно-фиолетовыми.
Направо и налево – сплошные оливковые леса. Кое-где белые домики. Кое-где зеленая шапка Пальмы.
Горы приближаются – и вдруг как-то сразу дорога вступает в узкое ущелье. Крутой подъем – пассажиров просят выйти.
Здесь тень от скал, прохлада. Глаз отдыхает от непривычного блеска. Белесовато-зеленый, будто выцветший от солнца, тон оливок сменяется сочной зеленью кустарников.
Дорога идет все кверху по долине, которая расширяется. Склон гор террасирован. И опять оливки; темно-зеленая, точно лакированная, листва лимонов, дикие лавры…
Широкими зигзагами по террасированным склонам дорога поднимается к Вальдемозскому монастырю.
Еще несколько поворотов – и мы стоим на площади между монастырем и городом, в полном недоумении, куда теперь деться.
Мальчишки нас ведут к какому-то дому.
В то время, когда мои спутники при помощи нескольких известных нам испанских слов стараются объяснить, что нам надо комнату, ко мне подходит мальчик лет семнадцати.
– Может, я могу вам помочь объясниться? – спрашивает он по-французски. – Ведь вы, кажется, иностранцы… Здешние не говорят по-испански, а знающих французский язык вы мало и на всем острове найдете…
– Как не говорят по-испански? А на каком же…
– Здесь свое майоркское наречие, приближающееся, скорее, к южнофранцузскому или к каталонскому.
– А вы сами, значит, тоже не здешний?
– Нет, я с острова. Но теперь я здесь провожу каникулы у родителей. Мой отец живет здесь всегда. Он литератор и состоит теперь на службе у эрцгерцога, которому принадлежит Мирамар{6}. Это в двух километрах отсюда. Да, так вас надо устроить…
Тем временем мои спутники, отчаявшись добиться толку, вышли из дому.
– Позвольте вас познакомить… Monsieur…
– Бернардо Обрадор…
– M<ademoise> К… M<ada>me D… русские художницы. Художник К…
Бернардо очень быстро нас устроил в маленькой деревенской гостинице. Собственно, комнат для приезжающих в ней не было, т. к. это был просто кабачок, но хозяева нам согласились отдать две комнаты на несколько дней.
– Конечно, вы хотите посмотреть наш монастырь… – сказал Бернардо. – Это ведь тот монастырь, в котором жила Жорж Занд с Шопеном. Мы живем теперь там, так что я смогу вам показать и кельи… да, кстати, и с моим отцом познакомитесь. Он вам многое сможет рассказать и показать.
До монастыря от нас было два шага. Наша «обержа» стояла на самом краю города, который спускался вниз в долину.
Пройдя через церковную площадку, на которой, под густой тенью каштанов, стояло несколько старинных каменных скамей, мы вошли в широкий и тихий сводчатый коридор, по одну сторону которого, из-за каменной балюстрады, выглядывала влажная зелень внутреннего садика, обнесенного колоннадой, а по другую шел ряд дверей, ведущих в кельи.
– Теперь это все занято. Сюда приезжают из Пальмы на лето.
– А где же та комната, в которой жила Жорж Занд?
– Это неизвестно. В ее «Зиме на Майорке» эта комната описана такими общими чертами, что это может быть любая из келий, т. к. они по форме совершенно похожи… Хотя один путешественник и уверял, в своем описании Вальдемозы, что ему показывали эту келью. Да вот, вы сейчас увидите их.
Бернардо достал ключ и отворил одну из дверей.
– Вот наша квартира.
Это было несколько комнат, чистых и светлых, с белыми стенами, соединенных в одну квартиру. Бернардо провел нас на террасу, завитую сверху виноградом и убранную цветами.
За балюстрадой был обрыв, внизу несколько кипарисов и склон горы, поросший оливами. Дальше, между скал, – бесконечная низменная равнина Майорки, сплошь подернутая оливами, местами синяя, местами бархатисто-лиловая… и серебряная полоска моря на горизонте.
Словом, весь тот вид, который с такой любовью описала Жорж Занд в своей книге. Только кипарисы внизу были уже другие. Они были слишком молоды, чтобы застать то время.
– Видите – здесь один и тот же вид изо всех келий – и они все сюда же, на эту сторону, выходят, – сказал Бернардо.
– А вот и отец, – добавил он.
Дон Матиас Обрадор любезно поздоровался с нами и предложил сейчас же показать нам достопримечательности Вальдемозы.
Ему было лет под пятьдесят. Это был человек среднего роста, с крепкой, юношески стройной, худощавой фигурой. В золотых очках. Подобно большинству испанской интеллигенции и вопреки народным традициям, он носил усы и бороду, в которой уже серебрилась седина. Он больше напоминал француза, чем испанца. Но в его манерах было много утонченности, простоты и не французского благородства.
Сопровождаемые дон Обрадором, мы вышли из монастыря и поднялись на невысокий холм, поднимавшийся над долиной. Он густо оброс старыми дубами. На его площадке стояла развалившаяся мельница, а ближе к краю, над обрывом, – большой каменный крест.
– Вон видите – там, пониже, – указал дон Обрадор, – стоит маленькая часовня в честь одной местной святой. Как у всякой деревни, и у нас тоже есть своя легенда. Несложная, впрочем. Эта маленькая святая была дочерью мельника, каждый день носила ему сюда воду из деревни, а так как церкви еще здесь не было, то она ходила сюда, к кресту, молиться по вечерам и слушала, когда в Пальмском соборе ударят «Angеlus», – и ангелы доносили эти звуки сюда.
– Отсюда не видно Пальмы: она вон за той скалой, – добавил он, указывая на синий простор равнин, раскрывавшийся в рамке ущелья.
Теперь даль стала еще мутнее, еще глубже. Внизу, под ногами, – крыши Вальдемозы скатывались вниз по долине, а простая, стройная и красивая башня монастыря горела в вечернем воздухе своими зелеными изразцами, вся оранжево-красная на глубоко-фиолетовом фоне гор.
– Вон там, налево от деревни, видите, целый ряд столпившихся кипарисов… Это усыпальница фамилии Сен-Симонов{7}. Это потомки знаменитого автора мемуаров, одна ветвь которых переселилась сюда, на Майорку, в XVIII-ом столетии.
– А дальше… вон там, на склоне горы… эти сосны?
– Это уже имение эрцгерцога. Если вы не устали, то мы можем пройти туда до заката.
Мы спустились в долину.
Дорога шла между черными искривленными стволами многовековых олив.
– Посмотрите, какие странные формы, – ведь это совсем какие-то сказочные чудовища…
– А вон там… Смотрите – голова античной женщины. Видите… Совсем ясно: классический профиль, голова немного опущена, развеваются густые распущенные волосы… корона на голове… А другой рукой она держит кувшин на голове… видите…
– А тут вот прямо какие-то чудовища. Вон этот – с громадной головой, вытаращенными глазами… шагает сюда… без рук.
– Да ведь тут можно прямо приходить их портреты писать… Ведь этакая прелесть…
Это было, действительно, удивительнейшее собрание всевозможных странных и причудливых форм. Гиганты, змеи, уроды, головы… Какой-то дикий бред, выросший на этой красноватой, разрыхленной земле. В каждом повороте этих черных извивавшихся стволов чувствовалось страшное напряжение мускулов, судорожный порыв, застывшее движение…
Широкая и крутая каменная лестница, закрытая темным сводом лавров, привела нас на небольшую площадку, с которой открывался широкий вид на долину и на вечернее море. Еще выше над этой площадкой росла группа сосен: стройных, сухих южных сосен, с их смелыми, почти плоскими, клубящимися коронами.
Теперь их стволы пламенели, как раскаленные угли. Такие краски встречаются на картинах Синьяка{8}.
Долина, покрытая оливковыми рощами, залитая красным светом, по которому ползли резкие сине-фиолетовые тени, лежала теперь под ногами.
– Поднимитесь-ка еще выше, к соснам, – предложил мне Бернардо.
Узкая крутая тропинка, переходившая несколько раз в лестницу, привела нас в странное место.
Это был небольшой круглый пруд или, скорее, большой бассейн с каменными тёмными краями, местами покрытыми мхом. В темно-зеленой воде неподвижно отражался ряд печальны<х> кипарисов, охвативших кольцом края бассейна, а за кипарисами, отчетливо рисуясь на розовато-желтом перламутровом небе, величаво-грустно клубилась корона сосны.
Чем-то глубоко-таинственным веяло от быстро сгущавшихся теней, от мрака, шевелившегося среди кипарисов, от глубокого, зазеленевшего неба, от траурных кипарисов. Бесконечно грустная элегия, печальный ноктюрн Шопена чудились в лучах меркнущего света.
Знал ли он это место? В воспоминаниях Жорж Занд нет указаний на это. Она избегает говорить о нем и называет его «наш спутник». Он редко выходил из дому.
Только об одной совместной прогулке упоминается в «Зиме на Майорке»: они ходили в «Эрмитаж» к монахам-отшельникам. Этот «Эрмитаж» существует и теперь. Они должны были пройти недалеко от этого места. Но, как бы то ни было, «Ноктюрны», написанные в Вальдемозе, говорят яснее и правдивее исторических справок.
Еще одно великое произведение неудержимо напомнила мне эта картина – «Священную рощу» Беклина{9}. Напомнила не по очертаниям, не по краскам, а по настроению.
«Для художника это лучшая страна в мире и при том совершенно неизвестная», – писала Жорж Занд про Майорку. Это верно. Но в ее время у французских художников еще не было ни глаз, чтобы видеть т а к и е настроения, ни красок, чтобы их передавать.
Было уже темно, когда мы вернулись домой ужинать. Хозяйка принесла медный светильник с фитилем, какие еще до сих пор употребляются на Майорке.
Это была молодая, красивая, но неимоверно толстая женщина, как и подобает истой «целовальнице». У ней были жгучие глаза и тонкие черты лица. Ото всей фигуры веяло благодушием и довольством. Хозяин – бритый испанец, с горбатым носом и актерским лицом, имел вид плутоватый и прижимистый. Несмотря на голод, мы не могли притронуться почти ни к одному кушанью. От них разило «оlео'м» – дешевым оливковым маслом, которое почти исключительно употребляется в деревнях и особенно на Майорке. Оно ничего общего не имеет с тем прованским маслом, которое известно у нас. У него пронзительно резкий запах и такой же вкус. Несмотря на все усилия привыкнуть к нему – это было для нас невозможно. Одна капля его, попавшая в кушанье, уже отравляла все.
Это единственное неудобство при путешествии в Испании. Но трудно устранимым оно бывает только в такой глуши. В городах же даже в самых скромных гостиницах оно редко попадает в кушанье.
Кстати, об испанских гостиницах. Они мало похожи на европейские и, в большинстве случаев, сохранили свою оригинальную внешность, вместе с удивительно дешевыми ценами. Пансион (а в Испании иначе как с пансионом никто не останавливается), то есть: комната, шоколад, обед и ужин, стоят от 3 до 4-х песет в день, – на наши деньги около рубля. И это везде, даже в Мадриде. Я не говорю, конечно, об новых – европейских гостиницах, где и цены европейские.
К концу нашего обеда пришел профес<ссор> Обрадор с сыном.
– Ну, вы ведь, наверно, хотите посмотреть наши национальные танцы? Вот мы сейчас устроим здесь бал. Моя дочь протанцует вам… Позвольте вас познакомить с моей женой…
Донна Обрадор – урожденная «di Bolion» – из рода Готфрида Бульонского{10} (как мы узнали впоследствии) ни слова не говорит по-французски, и потому нам приходится ограничиться поклонами.
Между тем побежали в деревню за танцорами, гитаристами и кастаньетами, а в комнате расставили столы по стенам и расчистили место для танцев.
Теперь представьте себе обстановку.
Продолговатая комната деревенского кабачка с белыми штукатуреными стенами. Деревянные столы и плетеные стулья, составленные по углам. Ветка каштана в открытом окне, а за ней звездное небо. В другом конце – трактирная стойка. Две медных светильни с маслом и тусклая керосиновая лампочка – все освещение.
Публика собирается и располагается у стен.
Пришли гитаристы.
Где-то в углу щелкнули кастаньеты.
На середину комнаты выступают две девочки. Дочери Обрадора лет двенадцать. На ней простенькое, голубое, короткое платье. Тонкое бледное аристократическое лицо, тонкий нос, тонкие приподнятые брови. В маленькой фигурке чувствуется грация и благородство «породы».
Другая – деревенская девочка, постарше, с оливковым лицом, загорелыми руками, черными вьющимися волосами, в темном поношенном платье.
Они приноравливают к рукам кастаньеты, густо обвитые желтыми и красными лентами, и становятся в позу одна против другой.
Первый аккорд гитар… и они, плавно изгибаясь и почти не двигая широко разведенными руками, в которых слегка потрескивают кастаньеты, начинают медленно кружиться одна вокруг другой.
Начинается «болеро».
Перебор струн идет все быстрее и быстрее, сухой треск кастаньет становится все ярче, все солнечнее…
Откуда-то в толпе появляется еще несколько кастаньет, и кажется, что это треск нескольких сотен цикад, который повис среди застывшего полуденного зноя…
Он опьяняет, оглушает, разжигает…
– Вы посмотрите на их лица, – шепчет Обрадор, видимо, сам опьяненный этим ликующим треском. – У нас танцы – это дело в высшей степени серьезное. Ведь ни одна из них не улыбнется…
А танцуньи скользят все быстрее, изгибаясь и наклоняясь, и только кисти их рук вздрагивают вместе с желто-красными лентами, потрясая трескучими кастаньетами.
Последний аккорд, и, перегнувшись назад, они застывают на мгновенье в финальной позе вместе с оборвавшейся музыкой.
После краткого перерыва танец начинается снова. По майоркскому обычаю, танцуют до трех раз.
Когда кончен третий танец, все сразу обращаются к одной молоденькой крестьянке, которая до этого сидела скромно в углу, укачивая ребенка, и начинают ее о чем-то горячо уговаривать. Та сперва отрицательно качает головой, но потом, быстрым движением сунув ребенка на руки донне Обрадор, бежит домой переодеваться и возвращается через несколько минут уже в полном национальном костюме с короткими рукавами до локтей, с круглым вырезом около шеи, с белой батистовой наколкой на голове, прикрепленной к затылку, так что спереди волосы совершенно открыты, а сзади они спадают на плечи, закрывая шею. Это придает фигуре и легкую сутуловатость, и едва уловимую грацию. На груди у нее какие-то диковинные местные застежки, а на лице два сияющих глаза, точно черные бриллианты, окруженные чернью.
При первом звуке, сорвавшемся с гитар, она сразу вся преображается.
Вся ее фигура вспыхивает вдохновением танца.
Una estrella se ha perdido… En el ciel y no parece; En tu cara se ha metido J en tu frente se resplandece. С неба звездочка скатилась… Нет ее во мраке ночи, Но она мне вновь смеется Сквозь твои большие очи… —запевает кто-то в толпе…
Кастаньеты прыгают и заливаются… Весь танец – это какая-то неуловимая сеть быстрых движений, полных южной, стрекозиной грацией. Все танцует: все тело, каждый мускул, каждая косточка, только руки почти неподвижно распростерты в воздухе, точно стрекозиные крылья.
…Мне предсказано ученым: От любви своей умру я… Ах! не долго жить осталось — Ведь тебя уже люблю я…Кавалер медленно плывет около нее, подняв руки и глаза устремив вверх, точно молится…
– Это звезда Майорки, – говорит Обрадор, – первая танцорка всего острова…
Кастаньеты в исступлении рассыпаются на тысячи игл, на тысячи жгучих, отточенных солнечных лучей, веками копившихся в сухом стволе оливы, из груди которой их вырезали…
Sie tanzt… Der selbe Tanz ist das. Den einst die Tochter Herodias Getanzt vor dem Judenkönig Nerodes. Jhr Auge spricht wie Blitze des Todes Sie tanzt mich rasend – ich werde toll Sprich, Weib, was ich dir Schenken soll? Du lächelst?[15]Сухой треск цикад… Даль, залитая солнечным блеском… Черные стволы олив…
Полдень… зной исчезла тень,[16] В синей дымке тонут горы. Шевельнуться розам лень. Прочь железные затворы! И из каменных темниц С громким смехом, без заботы, Как из клеток стая птиц, Показались «патриоты» – Эка жалость – нет гитар! Дон Хозе! раскинь-ка крылья! Заиграли, в пыл и в жар Полетела «сегедилья» Пели, пели и пришли… Все цветами блещет поле. – Ну-ка! В честь родной земли Чтоб цвела она на воле, Чтоб господь ее хранил, Чтоб росла ее свобода! Мир в дому и в битве пыл Пожелаем для народа! – Становись, сеньоры, в ряд! И под крик: «Долой, тираны!» Залпы бешено гремят И рокочут барабаны. Сразу стихло все кругом.. Кончив казнь, уходят роты. И в дыму пороховом Спят как будто «патриоты»Эта трескучая музыка под аккомпанемент гитар и бешеный танец действуют так заразительно, что К… бежит наверх, надевает ботинки с каблуками, чтобы показать испанцам, как следует танцевать «русскую».
Все то, что Италия поет, – Испания танцует. Она танцует всегда, она танцует везде.
Она танцует обрядные танцы на похоронах у гроба покойника; она танцует в Севильском соборе на святой неделе свой священный танец пред алтарем в церкви, как часть богослужения; она танцует на баррикадах и пред смертной казнью; она танцует перед началом боя быков; она танцует днем, танцует в полуденный зной, танцует благоуханной ночью, когда звезды отражаются в застывшей морской волне, а воздух «лавром и лимоном пахнет».
Хота, малагенья, русская, севильяна, андалузийские мотивы, «Вниз по матушке по Волге», местные майоркские песни, «Ночи бессонные» и «Дубинушка» – все сливается в каком-то одном упоительном вихре, над которым дрожит, смеется и рассыпается жгучая песня кастаньет, не прекращаясь ни на минуту.
Было уже далеко за полночь, когда замолкли неугомонные кастаньеты и публика стала расходиться.
– Да что это в с а м о м деле? Или только сон?
– Нет… это совершенно что-то фантастическое…
– Средние века… Мы теперь где-то в XIII-ом столетии… Этот деревенский кабачок… крестьяне… испанский ученый… и урожденная графиня Бульонская с этим ребенком на руках… и дочь, которую он привел танцевать. Нет… – это все не теперь… Это когда-то давно…
– Но какая прелесть эта танцорка…
Мы еще долго не могли прийти в себя и опомниться от этого вихря впечатлений.
– Смотрите же – завтра в восемь часов я вас жду, чтобы показать вам Мирамар, – крикнул из темноты голос Обрадора.
– Эрцгерцог Луи Сальватор вот уже два года как не был здесь, в своем имении, – говорил нам дон Обрадор на следующее утро, когда мы снова шли по оливковым рощам, по направлению к морю. – Теперь он живет в своем имении на Занте, а когда-то он почти всегда жил в Мирамаре. Он составил громадное описание Белеарских островов в двадцати томах, с собственными иллюстрациями{11}. Это издание очень редкое, так как оно появилось всего в нескольких десятках экземпляров, которые эрцгерцог раздал некоторым близким людям, разослал по главным ученым обществам и библиотекам Европы да кое-кому из известных географов. В Пальме есть один экземпляр – и вы можете его видеть, если хотите.
Хорошая шоссейная дорога, ведущая из Вальдемозы в Мирамар, сперва слегка поднимается по широкой отлогой долине, которая потом обрывается к морю почти отвесной стеной в 500 метров высоты. Здесь дорога заворачивает к северу и, держась приблизительно на той же высоте, вьется по крутым склонам гор, обрывающихся к морю. С одной стороны – зеленая пропасть, с другой – скалистая цепь.
Мы свернули налево по тропинке, которая вилась немного ниже шоссе в зеленоватом сумраке узкой аллеи. Она поднималась и опускалась, заходила в сырые гроты, задрапированные вьющимися растениями, выбегала снова на солнце, на верхушки голых скал, далеко выдвинувшихся вперед. Отсюда открывалась перспектива скалистых мысов, выглядывающих один из-за другого.
Море было тихо и ясно, и с это<й> высоты ясно было видно морское дно, точно сквозь прозрачный слой зеленого хрусталя, пронизанного солнцем.
На одной скале, отделенной от земли пропастью, через которую была перекинута арка каменного моста, стояла небольшая круглая часовня. Кругом ее шла небольшая площадка, обнесенная балюстрадой. Все это, казалось, висело в воздухе.
Внутри часовни стояла большая мраморная статуя старика в длинном одеянии, с длинной бородой древнего мага, типом лица своего напоминавшего Леонардо да Винчи и в такой же шапочке.
И больше ничего.
– Это часовня, построенная эрцгерцогом в честь Раймонда Люлля Благочестивого (Bienhenreux){12}, – объяснил Обрадор: – он был родом из этих мест и долгое время жил здесь.
Раймонд Люлль Б л а ж е н н ы й!
Как плохо вяжется и этот титул, и эта канонизация с исторической личностью великого ученого и искателя XIII века.
Это было время, когда варварская Европа только что начинала теснить арабскую культуру. Каталония уже принадлежала христианам. Король Хакмес I Покоритель{13} без особенного труда завоевал Балеарские острова, выгнал трудолюбивых земледельцев-арабов, а землю раздал баронам.
Отец Раймонда получил область Вальдемозы и Соллера. Раймонд родился в Мирамаре и 18 лет уж был майордомом Хакмеса II-го{14}, который, унаследовав царство своего отца, перенес свою резиденцию в Пальму.
Будущий алхимик в то время был великосветским кавалером Испании. К этому времени относится та знаменитая легенда его жизни, которая послужила материалом для сотен рассказов и поэтических произведений, которой хотел воспользоваться и наш Алексей Толстой в своей неоконченной поэме «Алхимик»{15}.
Легенда эта заключается в том, что Раймонд Люлль, пораженный красотой одной дамы, которую он встретил на улице, преследуя ее, въехал в Пальмский собор верхом на коне. Дама эта была удивительная красавица, державшаяся совершенно в стороне от придворных кругов, посвящая свою жизнь благотворительности и уходу за больными. После этого факта, наделавшего страшный скандал в Пальме, она назначила ему свидание и, по католической легенде, раскрыв перед ним свою грудь, показала ему страшную рану – рак, разъедавший ее тело. По другим вариантам она обещала ему свою любовь, если только он найдет философский камень.
Это был момент перелома в жизни Раймонда Он уезжает в Мирамар и принимается за науку, но скоро бросает совершенно Майорку и начинает свои бесконечные странствования по миру, которые-то и окружили его личность таким ореолом легенды.
В Риме он получает отпущение грехов и задумывает смелый план проповеди христианства среди магометан.
Но христианское смирение и особенно терпение совершенно не были в характере этого аристократического бродяги, схоластического философа, католического апостола, не чуждого «черной мессы», искусного построителя «морального древа», алхимика и обладателя философского камня.
Вернувшись в Мирамар, он начал со всей энергией своей буйной натуры обращать в христианство своего раба-араба, поощряя его к познанию христианской кротости и смирения зуботычинами и оплеухами так усердно, что несчастный араб сделал попытку его зарезать.
Житиеописатель Раймонда, искренний католик, подробно рассказав про зуботычины, простодушно негодует:
«Благочестивый обращался с ним не как со слугой, а как с другом, как с братом. Он отводил ему громадную роль в своих будущих планах – и этот негодяй отплатил ему такой неблагодарностью».
Проповедь Люлля, кажется, вообще не была очень успешна. Он был взят в плен, путешествовал долго по востоку и умер в Мирамаре, где он создавал свою «новую науку» и писал своего «Бланкерну»{16}.
Он не убедил мусульман, но арабская наука через него влилась в европейскую схоластику.
Через десять минут мы подошли к небольшому домику, служащему резиденцией эрцгерцога во время его пребывания в Вальдемозе.
Это двухэтажный дом, выкрашенный в желтоватую краску и украшенный коричневыми пятнами, расположенными в полной симметрии. Это старинный способ украшения домов на Майорке, который еще и теперь можно найти в глуши на некоторых старых домах.
Внутри все так же скромно, как и снаружи.
Некрашеные полы покрыты тростниковыми циновками. Простая майоркская мебель, т. е. деревянные столы и стулья старой работы. По стенам – местная майолика.
Есть предположение, что майолика и получила свое название от Майорки, где она впервые возникла.
Коллекция блюд очень велика и интересна. Некоторые чашки ужасно напоминают по узору русские глиняные миски.
В других комнатах стены укра… т. е. обезображены несколькими лубочными картинами, с подписями «от автора», повешенными, очевидно, из вежливости. Причина отсутствия герцога была ясна: он не мог быть невежливым, но, к несчастью, вероятно, обладал художественным вкусом.
В нижней зале стоит еще одно художественное чудовище: надгробный памятник секретарю эрцгерцога, изготовленный в Италии каким-то специалистом-могильщиком из тех, которые создали великолепные пошлости Милана и Генуи.
Отвратительно лощеный ангел поднимает из могилы сахарного молодого человека с завитыми усами и круглой улыбающейся физиономией. У обоих между пальцами торчат нелепые мраморные палочки.
– Этот памятник эрцгерцог заказал в честь своего покойного секретаря, которого он очень любил. Одна его перевозка стоила двадцать тысяч франков, – замечает дон Обрадор – и ни по лицу его, ни по голосу нельзя заметить, смеется ли он над этой пошлостью или восхищается.
– Однако пора домой, чтоб поспеть к обеду, – прибавил он. – И теперь уже будет жарко идти.
Действительно – тень от гор не падает больше на дорогу. Но солнце не жарко, а горячо. Сквозь густую зелень сверкает раскаленная синева моря.
Нам навстречу попадается древний старец с большими седыми бакенбардами и загробным глухим голосом. Обрадор нас знакомит. Это дон Лос-Херрерос, управляющий имением. Ему на вид лет под восемьдесят.
Гастон Вюилье в своей книге о «Забытых островах» рассказывает, что у эрцгерцога Луи Сальватора в молодости была очень трагическая история: его невеста сгорела в то время, когда она шла уже к венцу. Луи Сальватор был в отчаянии и отправился скитаться по Средиземному морю. Тут он в первый раз попал на Майорку и познакомился с доном Лос-Херрерос, бывшим в то время президентом Академии в Пальме. Лос-Херрерос каким-то образом сумел его утешить, как говорит Вюилье, и из дружбы к нему согласился впоследствии взять на себя управление Мирамаром.
Несколько минут спустя мы подошли к небольшому двухэтажному дому, стоявшему в стороне от шоссе.
– Это гостиница, устроенная эрцгерцогом для приезжающих. Здесь каждый приезжий имеет право в течение трех дней на комнату, огонь, масло и хлеб. Все это бесплатно. Вот зайдемте.
Нас встретила древняя старуха крестьянка – заведующая, которая, вероятно, еще раза в полтора была старше управляющего.
В виде приветствия она фамильярно потрепала по щеке элегантного Обрадора своей желтой морщинистой рукой. Тот принял это как обычное приветствие.
– А это кто? – спросила она, указывая на нас.
– Это художники из России.
– Как же они это сюда попали? – наивно удивилась она.
– Это одна из наших старожил, – сказал нам Обрадор по-французски: – Когда эрцгерцог приехал сюда в первый раз лет тридцать назад, он ее нашел в то время уже такою же старою, как и теперь. А она еще настолько бодра, что может проходить пешком километров по двадцати.
Мы вернулись домой к полудню в самый жар.
Бой быков (Севилья. Июль 1901 г.)
Когда я уезжал из Парижа, то мои знакомые испанцы-художники, напутствуя меня, говорили:
«Вот вы едете в Испанию. Увидите бой быков…» – и при этом даже глаза у них горели от удовольствия.
А один, наиболее экспансивный, когда мы с ним как-то шлепнулись на пол во время возни в одном ателье, с уважением поглядел на меня и сказал:
– Вы настоящий бык.
Вероятно, это был высший испанский комплимент. Но зато другие испанцы-студенты Сорбонны говорили:
– Бой быков? Это совершенно варварская штука. Теперь в Испании никто из интеллигентных людей не пойдет смотреть на бой быков.
Разумеется, после всего этого я только и думал, по приезде в Испанию, о том, чтобы посмотреть на бой быков.
Севилья… Июль. Солнце заставляет относиться к себе с уважением. Улицы сверху задернуты парусиной, передвигающейся по целой сложной сети веревок и канатов, протянутых с одной крыши на другую. Внизу желтоватый рассеянный полусвет, в котором приятно отдыхает глаз, ослепленный белым полымем андалузского солнца. Несмотря на полуденный час, по улицам движется густая толпа, и точно крылья бесчисленных птиц трепещут сотни вееров. Сегодня бой быков. Corrida de toros. Севилья изменила свой дневной пустынный вид. Повсюду мелькают серые бумажки билетов, продающихся на улицах.
Мороженщики и оршадерии работают усиленно.
Продавцы с кругло продолговатыми кувшинами античной формы выкрикивают «Aqua fresca»[17].
Начало представления в 5 часов, но уже с 3 часов публика начинает занимать места в цирке.
Это огромный амфитеатр под открытым небом, с каменными скамейками внизу, так же, как и в римских постройках этой формы, и с двухъярусной деревянной галереей наверху.
Главное разделение мест – это «sol» и «ombra», т. е. «солнце» и «тень». Последнее, конечно, дороже. Более высокие места тоже считаются лучшими. Внизу на солнечной стороне и здесь и там чернеют кучки народа, прячась за всеми уступами и выступами, где только можно найти тень. Другие спешат занять места с той стороны, куда через несколько времени должна прийти тень.
Продавцы шныряют по каменным уступам амфитеатра, предлагая свежую воду, апельсины, веера, бумажные зонтики, сушеный горох, размоченный в соленой воде, засахаренные орехи и тому подобные дешевые лакомства.
Арена – широкое круглое пространство, посыпанное песком. Она теперь усердно поливается водой из кишки. Но солнце так горячо, что темнеющий от влаги песок почти сейчас же становится светлым и сухим.
От амфитеатра арена отделена барьером немного ниже человеческого роста. Между этим барьером и стеной, за которой начинаются места для зрителей, находится проход, где стоят служители и куда спасаются во время представления в критические моменты лица, находящиеся на арене, перепрыгивая через барьер.
Как раз против той низенькой двери, над которой изображена голова быка и красуется надпись: «Toros», находится ложа начальника города, который по традиции всегда открывает представление.
Около пяти часов эта ложа наполняется людьми в цилиндрах. На арену выезжают два герольда, одетые во всем черном, в черных треуголках и в черных плащах. Они шагом объезжают кругом арены и останавливаются против ложи губернатора.
И по знаку, поданному из ложи, на арену выходит длинное шествие всех действующих лиц: пикадоров, верхом на их костистых клячах, приговоренных к смерти, тореадоров в их костюмах, горящих золотом и серебром, с разноцветными плащами через плечо, в черных характерных шапках и искусственной косицей сзади.
За ними идут простые прислужники в красных рубашках. Герольды подводят их к губернаторской ложе, представляют их и, под оглушительный туш оркестра, карьером вылетают с арены. Пикадоры занимают свои места около барьера. Служители перепрыгивают через барьер. Тореро принимают выжидательные позы.
И вот сквозь маленькую дверь на арену вылетает бык: черный, крепкий, грациозный, живой, совсем не похожий на тех почтенных и неуклюжих представителей этой породы, с видом сенаторов или банкиров, которых обыкновенно весною в России приглашают в соседнее стадо на гастроли.
Бык находится в прекрасном расположении духа. Он весел, игрив, возбужден свежим воздухом и ярким солнцем, немного смущен странной обстановкой и видом бесчисленной толпы.
Веселым галопом он проносится мимо арены, делая по дороге легкие выпады на пикадоров.
Но в этот момент с ним избегают столкновения. Тореадоры при его приближении перепрыгивают через барьер. Да и он сам в первые моменты настолько ослеплен всей фантастической обстановкой, что почти не замечает своих противников, находящихся на арене. Когда же, после нескольких неудачных нападений на тореадоров, которые ему подставляют свои красные плащи, он с недоумением начинает замечать, что каждый его удар попадает в пустое место, его начинает охватывать ярость.
Он с легким ревом устремляется на пикадора и наносит острым, словно отточенным рогом удар лошади в ногу. По ноге течет узенькая черная полоска крови. Но бык уже мчится дальше к следующему пикадору, который бьет шпорами свою старую испуганную клячу с завязанными глазами, заставляя ее идти навстречу быку. Бык, низко наклонив голову, делает сильный прыжок и обоими рогами ударяет в живот лошади. Пикадор, приподнявшись на стременах и крепко ухвативши под мышкой свою пику, упирается ее острием в хребет быку. На черно-лоснящейся шерсти показывается темно-красное разорванное мясо.
Обезумевший от боли бык новым ударом приподнимает лошадь на воздух. Одна ее нога касается земли. Три остальные беспомощно и странно болтаются в воздухе.
Публика замирает и приподнимается с мест, чтобы лучше разглядеть. Лошадь теряет равновесие и тяжело падает на землю.
Пикадор при падении со всего размаха ударяется головой о деревянный барьер. Среди мертвой тишины отчетливо слышен глухой звук удара.
Сейчас же со всех сторон к нему подбегают прислужники в красных рубахах и в красных арестантских шапках и, взявши его под мышки, ставят на ноги, так как он сам не может подняться: его ноги одеты тяжелой металлической броней, прикрытой сверху желтыми кожаными панталонами, чтобы защитить их от удара быка.
Между тем другие красные прислужники возятся около лошади. Быка же тореадоры уже отманили своими плащами на другую сторону арены.
Лошадь, тяжело дыша, лежит на арене. Из ее распоротого живота вывалились горячие темно-красные внутренности.
Повязка сбилась набок, и виден один вытаращенный, полный ужаса и боли глаз.
Но ее муки еще не кончились. Ее тянут за узду, бьют палками, ударяют каблуками и заставляют снова подняться. И вот она, вся дрожа какой-то мелкой страшной дрожью, шатаясь, подымается на своих тонких ногах. Ее внутренности, запачканные в песке, волочатся по земле Задней ногой она наступает на какую-то длинную тонкую желтоватую кишечку.
Делает странный прыжок, обрывает кишку и, путаясь копытами в своих собственных внутренностях, снова тяжело падает на землю.
После новых мучительных подбадриваний каблуками и палками ее прирезали.
Мне почему-то все представлялась фигура толстовского «Холстомера», которого ведут, также с завязанными глазами, на бойню.
Между тем другие пикадоры уже уехали со сцены. Начинается второй акт трагедии.
Все шесть тореадоров должны по очереди воткнуть в хребет быка пару пестрых палочек с острыми крючками на конце – бандильери.
Тореадор в своей черной двое-круглой шляпе, сверкающей золотом короткой куртке, таких же штанах и розовых чулках, становится против быка, подняв обе палочки, обвитые лентами, вровень со своей головой, и стараясь разными угрожающими движениями вызвать нападение со стороны быка. Когда же бык бросается на него, то он, ловко уклонившись от удара, втыкает грациозным движением обе палочки ему в спину и по-балетному на цыпочках отбегает в сторону. Иногда же он бежит прямо против него и на бегу втыкает свои палочки.
Бык, ошеломленный новой болью, с громким ревом подымается на дыбы, трясет головой. Бандильери бьют его по бокам и разрывают мясо. В бешеной ярости мечась по арене, он снова натыкается на труп убитой лошади и с невероятной силою подбрасывает его в воздух и потрясает его на своих рогах.
Потом снова начинаются бесплодные нападения на тореадоров.
Замечательно, что собственно на самого тореадора бык н и к о г д а не бросается. Он бросается всегда на более яркий плащ, который тореадор всегда держит в руке. Так что, пока у тореадора есть в руке плащ, он находится в абсолютной безопасности.
Третий акт – единоборство между быком и эспадой, как называется тот тореадор, который убивает быка, начинается только тогда, когда бык окончательно измучен.
Бык уже настолько ошеломлен всеми мучительными, но несмертельными ранами и настолько обескуражен безуспешными нападениями, что не только уже не старается поднять эспаду на рога, но в смущении отступает, взрывая копытами песок. Публика в негодовании свистит и кричит. Этот свист шеститысячной толпы окончательно убивает всякое мужество у быка, и он мелкой трусцой бежит по арене от своих мучителей.
В толпе буря негодования. Для того чтобы пристыдить быка, на арену выводят двух огромных глупых волов с громадными колокольчиками. Бык в недоумении подбегает к ним, обнюхивает и снова кидается на тореадоров.
Задача эспады состоит в том, чтобы поразить быка в шею сверху вниз в то время, когда он наклонит голову для удара. Тут необходима математическая верность глаза и руки, так как уязвима в этом месте только одна какая-то определенная точка.
Редко первый удар бывает смертелен.
Большей частью шпага остается воткнутой в спину быка, и тореадорам представляется новая задача – выдернуть шпагу. Если это не удается, т. е. если шпага засела слишком глубоко, то эспаде приносят новую, и снова начинается это бесконечное прицеливание.
Бык, как загипнотизированный, стоит, опустив голову книзу, но не производя нападений, а выжидая.
Наконец еще удар… Бык с ревом кидается на красный плащ. Но колени у него подгибаются, и он тяжело рухает мордой в песок.
Толпа приветствует убийцу восторженными криками, кидает ему на арену веера и шапки, а он, любезно раскланиваясь и делая ручкой, обходит кругом арены и по дороге перебрасывает обратно за барьер брошенные ему шляпы.
Между тем четверка лошадей, изукрашенных золотистыми бубенцами, красно-оранжевыми лентами и такими же помпонами, уволакивает со сцены трупы быка и убитых лошадей.
Прислужники засыпают песком свежую кровь, а ворота растворяются снова, чтобы выпустить новую жертву.
Так с удивительным однообразием убивается шесть быков.
Среди публики много детей.
Я видел недалеко от себя мальчика лет семи, хорошо одетого, который пришел, очевидно, с родителями.
Он стоял, обхвативши рукой деревянный столб, и дрожал как в лихорадке.
Когда поднимали палками лошадь с вывалившимися внутренностями, он от волнения топал ногами и всхлипывал.
Во время травли шестого быка в представление было внесено некоторое разнообразие неожиданным инцидентом.
Из публики из амфитеатра перескочил на арену какой-то молодец в голубой парусиновой куртке, какие здесь носят рабочие. Ему сейчас же кинули откуда-то на арену две бандильери. В то же время через барьер в погоню за ним перескочило с десяток городовых в их синих мундирах. И вот началась чрезвычайно забавная погоня, во время которой им приходилось увертываться от быка. Но он чрезвычайно ловко вонзил в шею быка свои бандильери и при оглушительных аплодисментах публики перемахнул обратно через барьер.
Тут его уже ждали другие городовые. Но уже сотни рук протянулись к нему сверху и, несмотря на то, что городовые, бывшие внизу, ловили его за ноги, его успели втащить наверх, и он исчез в толпе.
«Ну как вам понравился бой быков?» – спрашивал меня вечером один приятель-испанец, журналист из Мадрида, с которым мы жили в одной гостинице.
«Да как вам сказать… Когда я собирался идти смотреть, я старался настроить себя. Я именно думал получить такое сверхчеловеческое удовольствие в древнеримском духе и старался по возможности отрешиться от рутинных взглядов и от христианской морали. Но, знаете, к этому все-таки нужно привыкнуть с детства. Христианские традиции все-таки слишком сильны во мне, и когда лошадь наступает копытами на свои собственные внутренности, я никак не могу найти в этом наслаждение. Конечно, я только не привык…
А потом это все так однообразно. В конце концов, наиболее человечным и симпатичным лицом во всей этой истории для меня был бык».
– Относительно разнообразия… Тут, собственно, нужно знать. Тут сотни различных приемов и ударов. Ведь вся эта публика – это специалисты и ценители. Тут каждый поворот, каждый жест имеет свое значение, и это надо изучить.
– А что такое этот «Дор Танкредо», о котором теперь поют столько куплетов, пишут в газетах?
– Ах, это совершенно новая штука.
– Это, видите ли, на белом пьедестале посередине арены становится человек во всем белом, в белой треуголке, скрестив вот этак руки… И бык, когда выбегает, сперва бросается к нему, но он должен стоять совершенно неподвижно, и тогда бык принимает его за статую, но если он только шевельнется, то бык сейчас же бросится на него.
– Но ведь теперь, кажется, уже очень многие в Испании высказываются против боя быков?
– Да, конечно! Собственно, вся интеллигенция говорит и пишет против этого, а в конце концов все ходят смотреть. Я вот всецело против этого, а все-таки раз десять в своей жизни был.
– У наших быков геройский характер. Со мной был такой случай. Я был раньше инженером. Еду как-то на паровозе. И вот впереди на рельсах стоит бык. После мне пастух говорил, что этот бык давно уже приглядывался к поездам. Другое стадо уже уйдет давно, а он все стоит и смотрит вслед поезду. И вот он, наконец, решил попробовать и стал перед паровозом на рельсах. Вот так…
Мой собеседник наглядно принял позу быка, но, хотя это было на улице, никто из прохожих не был этим поражен и толпа вокруг нас не собиралась.
– Я даю тревожные свистки… Стоит. И гордо так стоит. Я велел пустить пары. Ведь это страшно. Шум. Ш-ш-ш-ш… Стоит. Вот так: грудь выставил и не шелохнется. Так я дал уже самый быстрый ход, и его прямо в клочки разнесло. Но ведь это геройство!..
Над Севильей раскинулась голубая прохладная ночь. Но Гвадалквивир «не шумел и не бежал», так как здесь он вообще не имеет привычки этого делать. Он мутен и тих как пруд и настолько глубок, что по нему до самой Севильи ходят океанские пароходы.
Кавалеров «с гитарой и шпагой» тоже не было видно, но зато по темным переулкам шныряли подозрительные личности с внушительными палками.
Я пошел домой…
Весенний праздник тела и пляски
Христианство дало Эросу яду. Он не умер от этого, но выродился в порок
Ницше…Один из всех зверей, он изобрел одежду, Чтоб наслаждаться наготой…
Сюлли-Прюдом {1}У художников сохранились свои исторические привилегии с тех пор, как лицемерное мещанство окончательно замкнуло человеческое тело в темницу одежды.
Стыд тела, охвативший Европу, развился недавно. Въезд Карла V{2} в Антверпен, когда его лошадь вели под уздцы четыре обнаженные девушки, выбранные из аристократических фамилий города, не художественная вольность Маккарта, а исторический факт, взятый им из записок современников. На пороге девятнадцатого века Полина Боргезе (Бонапарт){3} не стыдилась позировать нагой перед Кановой; только в половине XVIII века был издан указ Екатерины II, запрещавший в России общие бани, причем исключение, допускавшее право входа в женские бани, было сделано для художников и врачей – «имея в виду их совершенствование в своей профессии».
В то время, когда нравственность и красота регламентируются полицейскими предписаниями, когда в Германии обязательны костюмы в мужских банях и установлены абонементные билеты для посещения публичных домов, парижские художники сохранили право устраивать весной свой бал, на котором тело разбивает стены своей темницы.
Это бал четырех искусств «Bal des Quat'z Arts», бал, на который допускаются только посвященные – художники и модели, весенний шабаш, на котором ликующее обнаженное тело получает свободу на одну ночь в году.
Но оскорбленная стыдливость «не посвященных», проникавших обманом на бал, вызвала репрессии и посягновения на исторические привилегии от лица сенатора Беранже{4}, и в этом году устроители бала имели малодушие дать подписку в том, что они не допустят полного отсутствия фиговых листиков. «Надевая на статуи фиговые листики, вы достигнете только того, что у молодых людей будут являться игривые мысли при виде фигового дерева», – говорит аббат Жером Куаньяр{5} у Анатоля Франса.
В ночь на 27-е апреля отряды римских легионеров, в касках и сандалиях, с обнаженными голенями, гладиаторы, византийские патриции, греки из колоний, «перейдя воду»{6} и пересекши Большие бульвары, мелькая пестрыми пятнами среди обычной уличной толпы, направлялись толпами к Монмартру.
На бульваре Рошешуар стояла и гудела толпа любопытных, раздвинутая веревками и городовыми.
Входящие пропускаются через жюри, решающее, достаточно ли артистичен костюм. Каждый должен назвать то ателье, в котором он работает, и быть узнанным своим «массье»{7}.
Не удовлетворяющие этим требованиям безжалостно изгоняются.
На больших пригласительных листах-билетах значится:
«Старина (Mon vieux)! Мы тебя ждем в этом году на наш бал со всеми твоими маленькими приятельницами. Бал в этом году изображает ярмарку в Византии. Те идиоты, которые вздумают нарядиться в костюмы арлекинов или пьеро или возьмут их напрокат в мещанских лавчонках, могут искать других балов, где допускаются идиотские костюмы».
Огромная зала полна толпой до краев. Она вся волнуется, плещется и расходится концентрическими кругами, как широкий бассейн. По краям ряды лож, устроенных различными ателье, которые группируются в них, размещаясь в декоративные группы.
В одной норманские борцы, одежда которых состоит из черных шлемов и черных ленточек, охватывающих тело; в другой высокий трон, на котором стоит византийская царица с пальмовой ветвью, и группы придворных расположились по ступеням; дальше эшафот и орудия пыток, потом балаганы, с эстрады которого выкликают шуточные приглашения…
А посреди залы в бешеной сарабанде{8}, схватившись за руки, с криками несутся танцующие…
Трубы, барабаны, оркестр…
Все стихает. Из дверей выходит процессия – Les Chars[18], которые медленно влекутся их устроителями вокруг залы.
Впереди колесница с царским балдахином. На ней полунагая женская фигура. Все в том модном и легком византийском стиле, который создал Муха на афишах «Феодоры» у Сары Бернар{9}, который ввел в моду в литературе еще раньше Поль Адан{10} своим романом «Basile et Sophia», который с необычайной эрудицией и мастерством разработал его предшественник, давно позабытый и недавно открытый вновь – Жан Ломбар{11} в своем романе «Burance».
Когда первая процессия медленно обошла залу при одобряющих кликах, выходит следующая.
Это грациозное сооружение архитекторов из Ecole des Beaux Arts[19].
На куполе Айа-София{12}, широко раскинув крылья, сидит орел, и на спине его лежит земной шар. И еще выше, попирая земной шар, на громадной высоте, почти под потолком, нагая женщина в тяжелых золотых запястьях и ожерельях.
Дальше восточный караван с живыми верблюдами, на которых сидят восточные женщины в белых покрывалах, из-за которых смотрят газельи глаза, и еще один верблюд, на котором женщина в красном покрывале. И пред эстрадой, где сидят судьи, она движением плеча роняет покрывало и остается нагая, золотистая и стройная, как стебель ржаного колоса, с тонкими, приподнятыми стрельчатыми сосцами. И торжествующее целомудренное тело, плавно качаемое верблюдом, плывет над пеной сотен плещущих рук.
А с другой стороны залы уже выходит целая галера, на которой матросы натягивают парус; за галерой – пурпурный балдахин с византийским императором, у ног которого лежат рабыни…
И «шары» еще раз обходят залу, и первый приз общими криками присуждается женщине, попирающей земной шар.
Процессии ушли. Начинается ужин. В буфете с боя берутся карточки с холодной закуской и бутылки вина. Располагаются как кто может – кто в ложах, кто на ступеньках, а большинство прямо на полу посреди залы.
Шампанское не покупают, но, согласно традициям, крадут.
И теперь, когда залу можно окинуть глазами, всю, с ее пестротой, с ее клочками пурпура, розового газа, серебряных блесток, золотых обручей, волнистых линий тела, подернутую легкой синеватой дымкой и угасшим головокружением танца, теперь исчезают балаганные детали маскарада и проступает величественно и властно античный мир, вечная всевременная и всенародная оргийная радость освобожденного и ликующего тела – языческого символа красоты и целомудрия.
Мужское чувство, лежащее в основе наслаждения красотой, раздражаемое присутствием одежды, этой искусственной и лживой оболочкой тайны, переходит здесь в стихийную радость тела, в огне которой сгорает все личное, случайное, звериное.
Когда выпито шампанское и разбиты бокалы, танец начинается снова.
Танец…
Здесь не видно этих обыкновенных видов классического танца – польки, вальса. Если какая-нибудь пара и попробует сделать несколько па, то ее быстро сметет и унесет набегающая волна. Здесь не видно и обычного chahut (канкана), развратного танца лжи, длинных юбок и шелковых dessous[20].
Каждый танцует свой собственный танец, танец своей личности, – танцуют до самозабвения, танцуют, схватившись за руки, танцуют длинной вереницей, образующей волнистый, местами прерывающийся круг…
На судейской эстраде появляется танцовщица, покрытая одной ниспадающей волной черного газа, который расходится и розовеет от каждого движения тела.
«Платья долой! A poil!»[21] раздаются крики. Художники-администраторы стараются успокоить: «Вы же давали подписку. Вы же знаете, что бал будет запрещен, если мы допустим полное nu. Нагота разрешена только в процессии».
– Я не давал подписки… Пусть лучше бала совсем не будет. Это наше право… Мы не хотим мещанских маскарадов… Мы – художники.
Спорящих уносит водоворот сарабанды.
Протест вырывается то здесь, то там криками «A poil!».
Тело, в экстазе танца, старается сбросить с плеч одежду, отбросить движением стана оскорбительные ткани.
Греческие пеплумы в повороте танца раскрываются и обнажают профиль фигуры.
Мелькает тело египтянки, продолговатое и золотистое, как плод финиковой пальмы, сребристо-серые мулатки, точно вырезанные из bois de spa[22], бронзовая кожа моделей итальянок, облитая зноем и солнцем, и тело парижанки, белесоватое и обесцвеченное, как стебель травы, выросший без солнца…
Рассвет. Электричество гаснет. Синеватый подводный свет дня льется сквозь окна.
Зал пустеет. Как осенние листья, уносятся последние танцоры бала. На полу, как следы урагана, остались куски разноцветной ткани, обрывки мишурных ожерелий, блестки золота, осколки бокалов, растерзанный букет цветов, забытый алый плащ.
Кое-где в углах еще кружатся забывшиеся в экстазе танца плясуньи, которые продолжают танцевать одни, для себя, не слыша, что угас и рассыпался последний аккорд оркестра, и не замечая, что синеватая зала опустела и поблекла.
Другие пользуются моментом, чтобы сбросить с себя на минуту ткани и скользнуть в последнем танце через залу, между угасающими блестками и лоскутами бала, точно лепестки розы, подхваченные ветром.
Шесть часов утра. Золотистое весеннее утро, дымчатое и свежее… Пустынные и гулкие улицы просыпающегося Парижа, с их утренними обитателями: молочницы в голубых платьях, гарсоны, снимающие ставни с кафе, эписьерки[23], булочницы, бонны в белых чепцах, растворяющие окна.
И сквозь этот деловой, утренний, сдержанный Париж, с криками, песнями и музыкой, кто пешком, кто в каретах, кто верхом на извозчичьей лошади, кто, взобравшись на верх кареты, разгоряченные пляской и головокружением бала, пестрой лентой в две тысячи человек, возвращаются художники с Монмартра, чтобы по старинной традиции заключить праздник на дворе Ecole des Beaux Arts.
«A poil! A poil!! Эй, вы! Платье долой!!» – кричат они, обращаясь к женским фигурам, с любопытством выглядывающим из окон.
И разгульный крик вырастает в этой утренней тишине Парижа до символического протеста жизни и язычества.
Это идут последние непримиренные, последние язычники, последние, которых коснулся тирс Диониса.
«A pile! A pile!!» Потом вся толпа начинает петь: «Conspuez Bérenger… Conspuez Berenger! Con-spu-e-ez!![24]
Ha Place du Carousel делает ученье батальон Национальной гвардии.
Шествие останавливается.
«Да здравствует армия! Salut á l'Armée!!»
И все соскакивают с экипажей, сбрасывают плащи и шляпы, полуприкрывающие костюмы бала, и через пять минут вокруг всей Карусельной площади, замкнутой строгими колоннадами Лувра, с солдатами посередине, несется в бешеной пляске grand-rond[25].
Офицеры приветствуют художников восклицаниями. Потом все бегом возвращаются к своим экипажам. «Conspuez Berenger! Conspuez Berenger! Con-spu-e-eez!»
Сена. Золотистые блики солнца в воде. Шелестящие тополя, с клейкими бледными листьями.
Rue Bonaparte, как узкое сырое ущелье, прорезанное косым столбом света.
И вот, наконец, старинный двор Ecole des Beaux Arts с почерневшими тонкими колоннами Ренессанса. «Conspuez Bérenger! Conspuez Bérenger! Con-spu-e-e-ez!»
– Товарищи! Мы теперь у себя, и здесь никакие глупые полицейские предписания нас не касаются! Поэтому будем продолжать здесь наш бал. А пока на память о бале получите это… Это великолепное средство против новой заразной болезни – стыдливости (pruderie), которое называется bérengite!..
И бозарец в костюме центуриона, взобравшись на серый цоколь статуи Демосфена, кидает в толпу пряники, имеющие вид поросят с надписью «Théodora».
Их подхватывают с криками и хохотом.
«И мне одного Беранже! Эй ты! Сюда! Сюда Беранже!.. Еще!..
– A poil! A poil! Мы теперь у себя.
Толпа расступается, и одна из натурщиц – девушка лет восемнадцати – выбегает на середину двора, сбрасывает с себя одежду и нагая начинает пляску. Вкруг ее стана вьются струйки золотистой газовой ткани. Она подхватывает ее рукой и жестом Саломеи{13} обвивает вокруг головы.
Острый утренний холод жжет тело. Сиреневые полосы тени чередуются с золотистыми столбами солнечной пыли. Зацветающие каштаны тянут свои лапчатые листья сквозь стрельчатые балюстрады и колонны.
Строгие статуи богов и философов каменным оком взирают со своих пьедесталов.
И на почерневших мраморных плитах, поросших мелкой травой и бурым мохом, под ясным пологом небесной лазури, перед лицом всего радостного и старого Парижа, плывет, бьется, плещется розоватое, перламутровое женское тело, в размахе исступленной пляски, как воспоминание Древней Греции, как смелый жест Ренессанса, как воплощенная греза мужчины, греза о женщине-цветке, уносимом водоворотами танца, как последний протест язычества, брошенный в лицо лицемерному и развратному мещанству…
И до самого вечера в разных кварталах Парижа по кафе мелькают одинокие затерявшиеся маски, как пестрые лоскутья на полу помутневшей рассветной залы, по которой прошел ураган весеннего шабаша.
Кровавая неделя в Санкт-Петербурге
Я приехал в Петербург утром 22 января{1} из Москвы. По Москве ходили смутные слухи о забастовке и называли имя Гапона. Но о том, что готовилось, – никто не имел никакого представления. Проходя по Литейному, я увидел на тротуарах толпы людей; все, задрав головы, смотрели расширенными от ужаса глазами. Я повернулся, стараясь понять, на что они так смотрели, но ничего не увидел. Я почувствовал, что их взгляды скользят совсем близко от меня, не останавливаясь на мне. И вдруг я разглядел, что во всех санях, которые проезжали мимо меня, находились не живые люди, а трупы. Извозчичьи сани слишком малы, чтобы можно было уложить тело: поэтому убитые были привязаны. В одних санях я увидел близко рабочего: черная густая жидкость вытекла у него из глаза и застыла в бороде; рядом с ним другой, в окровавленной шубе, с отрезанной кистью, еще живой, он сидел прямо, а потом тяжело привалился к спинке. В следующих санях везли труп женщины, с запрокинутой назад и болтающейся головой: у нее был прострелен череп. Дальше труп красиво одетой девочки, лет десяти.
В этот момент я увидел на небе три солнца – явление, которое наблюдается в сильные холода и, по веровании некоторых, служит предзнаменованием больших народных бедствий.
«Это перевозят народ с Троицкого моста», – объяснил мне извозчик. По инерции я продолжал путь к Васильевскому острову. На Невском – массы народа; нас несколько раз теснили волны бегущих, но за морем черных спин нельзя было разглядеть причины их бегства. Около Исаакиевского собора бивуаком расположились войска, горели костры. Солдаты, чтобы согреться, прыгали на месте, топали ногами, и боролись. В толпе говорили: «Топайте, топайте, – вот так же вы топтались во время войны». Проезжавшим кавалеристам кричали: «Вот она кавалерия, которая отбирает назад Порт-Артур».
На Васильевском острове толпы не было, но были патрули. Меня не пропустили дальше Третьей линии. Все было так мирно, что я и не подозревал, что в этот момент на соседних улицах воздвигались баррикады. Когда я повернул назад, меня остановил патруль. Пока я говорил с солдатами, подошел бледный, с дрожащей челюстью рабочий, в истерзанных одеждах, и, обращаясь частью ко мне, частью к солдатам, рассказал, что на Дворцовой площади по толпе были даны два залпа. «Толпа собралась, чтобы увидеть царя. Говорили, будто он примет рабочих в два часа. Было много женщин и детей. На площади войска выстроились, как для встречи царя. Когда трубы заиграли сигнал: «В атаку!», люди решили, что едет царь и стали вставать на цыпочки, чтобы лучше видеть. В этот момент, без всякого приказа, был дан залп, потом другой, прямо в упор по толпе». Солдаты окружили человека и слушали его с тем же выражением ужаса и сострадания, какое я видел на Литейном в толпе, глядевшей на «крестный ход» убитых. В этот момент был отдан приказ, и солдаты ушли… чтобы стрелять, быть может.
Я поехал на извозчике в редакцию журнала «Русь»{2}. Малая Морская и Невский от Адмиралтейства до Полицейского моста были совершенно пустынны. Ни одной души. Вдалеке войска. Как я узнал позднее, эта часть проспекта только минуту назад была прочесана огнем. Сани пропускали везде. И меня пропустили через Полицейский мост между шеренгами солдат. Они, в этот момент, заряжали ружья. Офицер крикнул извозчику: «Сворачивай направо». Извозчик отъехал на несколько шагов и остановился. «Похоже, стрелять будут!» Толпа стояла плотно. Но не было рабочих. Была обычная воскресная публика. «Убийцы!.. Ну, стреляйте же!» – крикнул кто-то. Рожок заиграл сигнал атаки. Я приказал извозчику двигаться дальше. «А не все ли равно, если будут стрелять, разве кто останется в живых?» – сказал он. Он медленно и нехотя поехал, оборачиваясь назад. Едва мы свернули за угол, послышался выстрел, сухой, несильный звук. Потом еще и еще. Улочки, по которым мы проезжали, были заполнены народом и войсками. То мы наталкивались на атакующих солдат, то нас уносило на гребне толпы. На Гороховой{3} мы снова увидели выстраивающиеся войска и опять услышали за спиной залп. Но извозчик ехал, не прибавляя шагу, храня невозмутимое спокойствие. Только когда мы снова выехали на Невский, он повернулся ко мне и сказал: «Сударь, посмотрите, как полиция сегодня напугана. Я на углу не буду разворачиваться, чтобы объехать жандарма, я проеду у него под носом, и он ничего не скажет».
Он так и сделал, и жандарм действительно ничего не сказал. Странная и почти невероятная вещь: в толпу стреляли, а она оставалась совершенно спокойной. После залпа она отхлынет, потом снова возвращается, подбирает убитых и раненых и снова встает перед солдатами, как бы с укором, но спокойная и безоружная. Когда казаки атаковали, бежали только некоторые «интеллигенты», рабочие же и крестьяне останавливались, низко наклоняли голову и спокойно ждали казаков, которые рубили шашками по обнаженным шеям. Это была не революция, а чисто русское, национальное явление: «мятеж на коленях».
То же самое происходило и за Нарвской заставой, где стреляли по процессии с крестьянами впереди. Толпа с хоругвями, иконами, портретами императора и священниками во главе не разбежалась при виде нацеленных дул, а упала на колени с пением гимна во славу царя: «Боже, царя храни».
В редакции «Руси» я встретил военного корреспондента, который только что вернулся из Маньчжурии. Он мне рассказал, что произошло у Полицейского моста спустя несколько минут после моего проезда. «Дав несколько залпов, пошли вперед, рубя шашками направо и налево». Его несколько раз ударили шашкой плашмя, но даме, которая шла рядом, рассекли голову. Толпа спряталась в каком-то дворе. Тогда к воротам привели солдат и выпустили залп в глубину двора, где было множество народу.
Только к концу дня начали ясно видеть смысл всего этого. Каждый в отдельности видел лишь часть картины, и только в последующие дни стал охватывать ужас от случившегося, когда уже не происходило кровавых событий.
Вдруг, непонятно как, возникла привычка к смерти: такое положение вещей стало вдруг представляться нормальным. Казалось, что так было всегда – каждый мог быть убитым на улице в любую минуту. Как прежде спрашивали у привратника: «Что, сегодня морозно на улице?», так спрашивали: «Сегодня стреляют?», и швейцар отвечал: «Да вот… сейчас рядом на улице две дамы вышли и сели в сани. Обеих убило пулями наповал. Их отвезли в больницу».
В народе говорили: «Последние дни настали. Брат поднялся на брата… Царь отдал приказ стрелять по иконам». Вот! Люди, как святые мученики, гордятся своими ранами. Я видел одного на улице в санях, открыв грудь, он показывал рану – вылитый св. Георгий-великомученик.
В то же время к солдатам относились без гнева, но с иронией. Продавцы газет, продавая официальные вестники, выкрикивали: «Блестящая победа русских на Невском!» Дразнили офицеров: «Лейтенант, бегите, японцы близко!»
В понедельник вечером я подвергся нападению казаков на Садовой. Они выехали галопом с Гороховой, раздалась команда: «Шашки наголо», и они ринулись на тротуары, рубя всех, кто оказывался на пути; а впереди прыгала стайка мальчишек, крича: «Ну, поймай, поймай!», и била стекла и фонари. Темнота распространялась все ближе. Казаки, доскакав до темноты, повернули обратно. Говорили, что в темных улицах стреляли по солдатам, но вообще, никто, нигде не оказывал сопротивления силой, никто не был вооружен, только говорили с упреком солдатам: «Вот так добрые православные!»
Но эта неожиданная привычность была лишь видимостью, под которой, чувствовалось, непрестанно и таинственно растет ужас. Попадая на улицы Петербурга, казалось, попадаешь в заколдованный круг, где ты пленник. Всякое действие было парализовано – оставалось только слово. В лихорадочной атмосфере бесед рождались факты легенды, пророческая ложь после рассказа становилась явью. По ночам город полнился голосами, ухо ясно улавливало в ночной тишине крики толпы и треск залпов. И, однако, все молчало. Казалось, звуки жили во времени и ждали. Все были в состоянии галлюцинации.
Атмосфера страха, которая сгущалась вокруг последнего из Романовых, заражала всех. Казалось, что кто-то, до совершения грандиозного жертвоприношения, начертил круги и пентаграммы и написал ритуальные заклинания. Перечислялись все знамения царя: японская рана{4}, катастрофа на Ходынке в момент коронования{5}, императорский стяг, который обрушился от ветра и убил стоящего рядом с царем начальника полиции Пирамидова, пушечный выстрел в царя, который убил жандарма по имени Петр Романов.
Странными путями предзнаменования, которые собирал народ – как три солнца, светивших над Петербургом 22 января, – связывались с повторением исторических фактов перед Великой французской революцией, вплоть до звукового совпадения имени Фулон{6}. Слова великого князя Владимира: «Мы знаем слишком хорошо историю французской революции, чтобы допустить ошибки, совершенные тогда», ввиду полного параллелизма фактов, пробуждали глубокий фатализм.
Кровавая неделя в Петербурге не была ни революцией, ни днем революции. Происшедшее – гораздо важнее. Девиз русского правительства «Самодержавие, православие и народность» повержен во прах. Правительство отринуло православие, потому что оно дало приказ стрелять по иконам, по религиозному шествию. Правительство объявило себя враждебным народу, потому что отдало приказ стрелять в народ, который искал защиты у царя.
Эти дни были лишь мистическим прологом великой народной трагедии, которая еще не началась.
Зритель, тише! Занавес поднимается…
Вернисаж Салона Независимых
Этот день открытия Салона Независимых{1}, ранний весенний день, всегда немного мокрый, немного солнечный день, в который листья еще не распустились, но почки уже налились, является всегда гранью, датой в артистическом мире Парижа.
Здесь бывает весь Париж. Не тот «весь Париж», о котором пишут в кавычках, Париж модный и блестящий, Париж салонов, снобов, эстетов-любителей, но настоящий весь артистический Париж, тот Париж, который ютится по мастерским и мансардам, который ищет, работает, учится, который презирает правительственное покровительство больших салонов, который пишет своим девизом «Pas de jury, pas des recompenses!»[26].
Здесь выставляют все: и те, кто совсем не умеет рисовать, и те, кто учится рисовать, и те, которые ушли слишком далеко для того, чтобы быть принятыми академическими жюри больших салонов.
В этот день встречаешь всех своих знакомых, встречаешь те лица, которые можно видеть при дневном свете только в этот день. Фигуры длинноволосые, длинно-бородатые, в необъятных бархатных шароварах, с широкими черными бортами, в остроконечных широкополых шляпах, вылезают в этот день из своих монмартрских и монпарнасских берлог, в которых еще длится мгновение романтизма тридцатых годов, как в некоторых, крепко замкнутых, отелях Rue de Bourgogne еще не кончилось царствование Людовика XVI.
И среди этой толпы, с трудом движущейся в пыльном воздухе стеклянных оранжерей, в которых Независимые устраивают свою выставку, под безжалостным ослепительным светом, обличающим каждую черноту в картине, мелькают иногда лица знаменитостей, законченные и отлитые в глазу, как сталактитовые кристаллы, десятками виденных портретов и фотографических карточек.
Октав Мирбо{2} со своим грубым и сильным лицом, точно вырезанным из корня старого дерева, со своим тяжелым и неприятным взглядом, – лицом, на котором написано усталое и презрительное знание всех позорных тайн жизни. От его фигуры веет силой, но в глазах написана поблеклость старости. Его волосы редки и приглажены набок. Пальцы его мускулисты и грубы. Такими пальцами можно задушить человека, это пальцы «честного палача». Насколько наружность Мирбо соответствует его литературному облику, настолько же лицо Метерлинка{3} не похоже на его произведения.
Это – высокий человек с гладким и невинным лицом московского купчика. Именно у московских купеческих сыновей, сильно покучивающих, есть то соединение помятости и чего-то телячьего в глазах. Лицо у него моложавое и сероватость в волосах. Вся фигура немного в стиле С. П. Дягилева{4}.
Приземистая, мускулистая фигура Родена{5} с белоснежной бородой патриарха и упрямым, закручивающимся лбом микеланджеловского Моисея производит такое впечатление мощи и энергии, что кажется, что он сам себя высек из камня. По крайней мере, никто из современных скульпторов не мог бы создать подобную фигуру.
Иногда там можно встретить и Верхарна, никогда и нигде не показывающегося в Париже. Он скромно и робко бродит между толпой, редко кем узнанный, в своем потертом, длинном, гороховом пальто, вглядываясь в картины голубыми, выцветшими, старческими глазами. Его длинный нос, мягкий и длинный висячий ус, трагическая морщина на лбу, имеющая форму распростертых крыльев летящей чайки, его длинные, тонкие, сухие и очень белые руки производят впечатление чего-то очень интимного, совсем не парижского. Такие бывают в больших семьях старые родственники, одинокие и добрые, которые привозят детям много игрушек.
Одилон Редон{6}, с приплюснутой большой головой седой камбалы, ходит по выставке маленькими и неуверенными шагами человека, редко выходящего из своей комнаты, пожимает руки своим друзьям и, останавливаясь перед самыми невозможными картинами, добродушно твердит: «Все хорошо… Все хорошо… Это мой любимый день в году».
Его окружают Вюйар, с благородным лысым черепом, тонкими ноздрями и волнистой бородой; Серюзье и дорожном плаще, с загорелым лицом, обвеянным морскими ветрами и обожженным весенним солнцем; Морис Дени, маленький, строго очерченный, с точно обрубленной прической и бородой; Лакост{7} – смуглый и курчавый южанин.
Из поэтов выделяется тонкая и стройная фигура Анри де Ренье{8}, парижанина с головы до ног, с бледным аристократическим лицом, с моноклем, русыми усами, безукоризненным цилиндром и свободно спадающим модном пальто.
Поль Фор{9} – нервный, с черными усами, похожий на испанца, порывистой манерой говорить, точно выбрасывая слова, напоминающий Бальмонта.
И, наконец, Англада{10}, с благодушной и величественной головой молодого Зевса.
Вся эта толпа, целый музей поразительных лиц и силуэтов, от 3 до 6 бродит по накаленным солнцем оранжереям, пожимают друг другу руки, обмениваются приветствиями. Но картины в этот день не смотрят. Это день встреч и свиданий.
Письмо из Парижа
Анни Безант{1} и «Русская школа»{2}…
Эти два впечатления соединились в мозгу в течение одного вечера на расстоянии десяти минут одно от другого.
Будучи проездом в Париже, Анни Безант читала публичную лекцию в зале Географического общества. Лекция была популярна, т. к. предназначалась для большой парижской публики.
Публика была смешанная и необычная. Чувствовалось, что в зале есть такие центры, такие завязи, для которых это не просто лекция, а событие мистического и великого значения, что здесь есть те, которые ждут явления пророка. Это висело в воздухе и делало настроение таинственным и торжественным.
У Анни Безант не то лицо, которым обычно наделяют пророков в своем воображении. Это лицо некрасивое, неправильное, скорее полное, чем худое, очень законченное в своих линиях, очень бледное.
Оно поражает четкостью и реалистичностью своих деталей, точно оно написано кем-то из старых голландцев. Только глаза, страшно яркие, большие, подвижные и темные, на этом толстом морщинистом лице, почти таком же белом, как ее седые короткие волосы, горят пламенем воли, как языки Святого Духа.
Она стояла на эстраде вся в белом, с белыми волосами, в горячей человеческой полумгле этой тусклой залы, стены которой закрыты поучительно знакомыми, неумолимо определенными очертаниями земных материков, начертанных в исполинских размерах.
Ее французская речь, отчеканенная и ясная, с легким английским акцентом, падала сверху. Голос слабый и матовый, точно подернутый бархатным инеем, отчетливый, собранный в комок ровным усилием воли.
«Мы спрашиваем себя – почему мы несчастны? Но отчего же, когда мы счастливы, нам никогда не приходит в голову спросить себя – откуда истекает наше счастье?..
Смерть это переход…
Этот переход можно совершить и свободно, не проходя сквозь врата смерти… Я это знаю потому, что я это испытала…
…Кто подготовлен к этому, тот за гранью найдет естественное продолжение своих интересов. Для тех, кто привязан к земным формам и вещам, – этот переход связан с долгими периодами потерянности и скорби…
Чуда нет в мире. Нет случая! – все связано одно с другим, все имеет смысл…
Не удивляйтесь, если человек высокого и прекрасного духа совершает поступки низкие, недостойные его: дух часто далеко опережает наше материальное существо… Никогда не судите по поступкам… Факты ничего не говорят о человеке… Судить можно только по намерениям… Поступки – это предохранительные клапаны… Действием мы часто только освобождаемся от чужих нам желаний, живущих в нас…
Великая роль принадлежит славянской расе… В ней сосредоточены все силы и токи… Уже рождаются дети, которым суждено составить то поколение…»
В тот же вечер было официальное закрытие «Русской школы социальных наук». В толпе русских студентов, живущих в Париже, больше чем где-либо удивителен этот слепой мозг, подернутый непрозрачной плевой русских будней, который русская молодежь приносит с собой за границу. Долгие годы они могут жить в самом яром огне плавильного горна европейской мысли и не чувствовать его кипения и видеть только все те же серые силуэты призраков и наваждений петербургского периода, с детства отпечатавшиеся на ретине их глаза, всюду приносит с собой тусклую скуку либеральных интеллигентов, сосланных в глухую русскую провинцию.
Профессор Трачевский{3}, с седой головой и лицом византийского страстотерпца, читал заключительную лекцию о Великой революции.
«…Храбрый босоножка прошел по всей Европе в своем капотике с трехцветкой в руках. Но под синей шинелью скрывалась драгоценность – его огненное сердце. Когда он приходил в новый город, он сейчас же сажал посреди площади маленькое деревцо и вешал на него фригийский колпак. Это называлось «деревом свободы»…»
Эти страницы французской революции, приноровленные для понимания десятилетних девиц, где «санкюлоты» переводились «босоножками», произносились в нескольких шагах от того места, где помещался когда-то клуб якобинцев, среди камней, пропитанных жертвенной кровью народов, на которых еще горят прикосновения горячих пальцев, хватавшихся за них.
В заключение он сказал несколько слов о «чуде» гражданского обновления России. Прислушиваясь дальше к речам, произносившимся с этой кафедры позитивной мысли, меня удивило частое повторение слова «чуда». Оно приходило на язык говорившим случайно, его употребляли между прочим, не придавая ему слишком большого значения. Но тем большее значение приобретало оно, сопоставленное со словом Анни Безант, сознательно и гордо отрицавшей возможность чуда в мироздании.
«Нет чуда! нет случайностей! Все имеет тайную связь, и ее надо найти…»
Европейская мысль никогда не могла отказаться от сладостной веры в чудо и сквозь мертвые хрустали позитивизма остановилась перед тем же чудом в его мещанской разновидности случая.
Может быть, вся разница между позитивизмом и идеализмом… символизмом… словом, тем миросозерцанием, которое теперь любой назовет новым, но которое на самом деле является самым старым на земле, – и заключается в том, что позитивизм в глубине души признает чудо, оставляя для него широкое место в своем миросозерцании, а символизм, допуская для краткости это имя, – отрицает его…
Литературные банкеты «La Plume»[27]
Банкеты журнала «La Plume»{1} в настоящее время представляют из себя историческую традицию. За ними почти двадцатилетняя давность.
Они тесно связаны с литературной историей двух последних десятилетий французской литературы.
Леон Дешан{2}, основатель «La Plume», семнадцать лет тому назад в пяти энергичных параграфах формулировал свою боевую программу:
1) Создать для общей пользы художников, граверов, скульпторов, литераторов орудие для борьбы, инструменты для пропаганды между артистами – до остальных нам нет дела. (Журнал «La Plume».)
2) Воодушевить борцов, дав им возможность лично и непосредственно обращаться к избранной аудитории. (Субботы «La Plume».)
3) Создать антологию избранных произведений новых писателей, иллюстрированную избранными артистами, еще неизвестными публике: Ропсом{3}, Редоном, Люсом{4}, Десбутэном{5}.
4) Уничтожить несправедливость и пристрастность в литературных и артистических спорах; произвести полный переворот в отношениях между признанными мастерами и молодыми – только приходящими: по отношению к старшим заменить презрительную насмешку почтенным уважением. (Банкеты «La Plume».)
5) Пробудить у нас культмастеров, разбивая враждебное безразличие и партийный дух. (Подписка в пользу Верлена{6}, памятник Бодлера{7}.)
На этой программе сохранилось горячее дыхание первых борцов за символизм… «La Plume» должен был стать не журналом, а эстетическим парламентом. Дешан обладал редкою способностью собирать вокруг себя людей. Все эти бесшабашные и талантливые юноши, про которых в Париже ходили чудовищные легенды, которых «Фигаро» называл «мертвецами из пивных, Гелиогабалами{8} публичных домов», ютившиеся в своем излюбленном кафе «Francois I», куда приходил потихоньку Макс Нордау{9} собирать материалы для своего «Вырождения» и где для него устраивались мальчишеские бляги и его дурачили невероятными рассказами о своих извращениях и чудовищных вкусах, – все они переселились в погребок на площади St.-Michel на субботние собрания «La Plume».
На торжественных банкетах устраивались мирные встречи старшего поколения, метавшего на газетных столбцах гром и молнию против символистов, и этих молодых людоедов. Банкеты происходили всегда под председательством кого-нибудь из «стариков».
Пювис де Шаван{10}, Леконт де Лиль{11}, Маллармэ{12}, Верлен, Эрредиа{13}, Золя, Кларти{14}… по очереди занимали председательское кресло. Одни из них спускались в Латинский квартал как к своим детям и наследникам, другие с робостью, как в вертеп своих литературных и политических врагов.
«La Plume» было всегда знаменем, в складках которого трепетали все ветры и порывы дня… Наряду с эстетическими и философскими движениями там процветал социализм и анархизм, особенно анархизм, который всегда шел об руку с символизмом.
Во времена Дешана «La Plume» было скорее не журналом, а полем для литературных турниров…
В то время как другие журналы становились степеннее, росли, изменялись, «La Plume» как-то всегда оставался в руках молодежи.
Свежего ветра не было – складки знамени беспомощно опускались, бессильные и сморщенные, но при новом порыве орифламма распускалась снова…
В течение года «La Plume» умирал… Он перестал уже выходить… И вот теперь он снова обновился, очутившись опять в руках каких-то совсем молодых и совсем еще неизвестных литературному Парижу поэтов.
Недавно снова был годичный банкет «La Plume» под председательством Альбера Бэнара{15}.
«Стариками» на нем оказались те самые, кто семнадцать лет тому назад выступали в качестве молодежи: Поль Адан, Метерлинк, Элемир Бурж{16}…
В обычной зале на Rue de la Serpente новые хозяева «La Plume» принимали гостей.
Риччиото Кануло{17}, молодой человек с красными веками и ласковыми развратными глазами, и Альбер Тротро{18} – другой редактор – музыкальный критик и притом абсолютно глухой.
– В этом нет ничего удивительного… В Брюсселе я знал одного определителя картин – слепого, и он никогда не ошибался, – пояснил сведущий человек из редакции…
Альбер Бэнар – монументальный, громадный в своем черном сюртуке, сидящем на нем, как вороненые стальные латы, расчесанный, с приглаженными волосами, с широким сияющим лицом сидел на председательском месте рядом со своей величественной супругой, силуэт которой так хорошо знаком по портретам ее мужа.
Все речи приурочены к его «Аполлону» – плафону для Большой Оперы, выставленному в этом году в Национальном салоне…
… – В первый раз мысль о смерти пришла мне в детстве, когда я в наказание переписывал семь раз басню Лафонтена{19} «Дуб и тростник»… Помните ее великолепные заключительные слова: «Тот, чья голова была близка к небу, а корни касались царства мертвых…
Будемте благодетельными гениями для тех поколений, которые следуют за нами…
Будем хранить память о великих мертвецах…»
Это говорит Бэнар…
Потом его приветствуют Карьер{20}, m<ada>me Северин{21}, Карл Боэс{22}, Поль Адаи…
Когда голоса требуют речи от г<оспо>жи Северин, она встает со своими седыми волосами маркизы XVIII века и с нервным изменчивым лицом, желтым, морщинистым, с огненными черными глазами, похожая на Марата, переодетого в женское платье.
– Я думаю: вот будет, наконец, банкет, на котором мне можно будет ничего не говорить…
Cher Maître, вы прославили Аполлона, позвольте же мне прославить Марсиаса. Если надо выбирать между солнечным богом и несчастным существом – получеловеком, полуживотным, – то во всем, что касается политики и искусства, я становлюсь на сторону Марсиаса; я могла бы быть бабушкой «La Plume»…
Я не верю ни в богов, ни в большинство… Народ?.. О, да! Толпа?.. О, нет!..
Она ссылается на книгу Поль Адана… Поль Адан, только что вернувшийся из Америки, очень шикарный, с большой черной бородой, которую он отпустил себе недавно, – немного конфузясь и очень польщенный словами госпожи Северин, рассказывает о том, как он стоял на выставке в С.-Луи, против панно Бэнара с несколькими очень красивыми американками.
«Красота Америки любовалась красой Франции».
Несколько десятков молодых людей, с любопытством рассматривая этих знаменитостей, стараются их faire chanter[28] по очереди.
Когда доходит очередь до Метерлинка, он испуганно озирается, робко поднимает глаза, конфузится, как маленький мальчик, что очень идет к его атлетической и простой фигуре. Он отмалчивается, отрицательно качает головой. Потом он начинает с интересом подробно расспрашивать о Бальмонте и его путешествии в Мексику.
Элемир Бурж, который редко выползает из своего угла, с длинными небрежно зачесанными волосами, с звериной челюстью и кроткими глазами, сгорбленный, в какой-то полудамской кофте, застегнутой на одну пуговицу, в ответ на усиленные вызовы молодежи говорит:
– Мне понадобилось двадцать лет для того, чтобы написать три книги… Как же вы хотите, чтобы я сымпровизировал целую речь в несколько минут?
Потом говорит рябой и стремительный Майар{23}, главный помощник Дешана, вся жизнь которого прошла около «La Plume».
В нем горят старая бесшабашность и порыв первых схваток за символизм.
Карл Боэс – бывший редактор «La Plume», заморозивший его порядком в скучные времена своего директорства, усыпляет длинной и тягучей речью.
Душа Фрица Тауло{24} не выносит этого многоглаголанья. Он поднимается с другого конца стола во всю высоту своей величественной фигуры семидесятилетнего патриарха, с головой, овеянной тонкими седыми волосами, мягкими и рассыпчатыми, как иней, с глазами, затянутыми тусклой дымкой старости, и внушительным голосом, в котором иногда проскальзывают ребячливые ноты, говорит:
– Слишком много вы говорите, господа… Художникам рисовать нужно, писателям писать… Что же тут много разговаривать… А много слов говорить очень вредно.
После конца обеда «знаменитости» торопятся улизнуть. . Г<оспо>жа Северин, уходя, жмет мне руку и говорит:
– Вы ведь русский?.. Я очень люблю вашу родину и много для нее делала… Теперь вы переживаете тяжелый период… Но вот погодите… Я теперь занята, но через месяц… я уже готовлю статью… Вы можете не беспокоиться… Через месяц я снова займусь Россией.
Национальный праздник 14 июля в Париже
Когда Бастилия была взята и разрушена, то на ее месте была устроена ровная площадка, поставлен столб и к столбу прибита надпись:
«Ici on danse!»[29]
С тех пор Национальный праздник разделяется на две части: военную – большой смотр, который происходит утром, и танцевальную, которая происходит вечером, всю ночь и не прекращается еще несколько дней.
Шесть часов утра. Парижане едут в Лоншан{1}
От Pont Royal[30] отходят пароходы.
Внизу, около старых сводов моста, постройки Короля Солнце, серых и несимметричных, в тени [огромных][31] старых тополей, заслоняющих «Pavillon de Flore»{2} со стороны Сены, публика жмется в железных загородках. Черный змей свернулся несколько раз и теснится к горлу пристани. Сзади к хвосту бегом бегут прибывающие, быстро шелестя по крутым каменным сходням, спускающимся к Сене.
Белые пароходы [быстро] уходят один за другим. На Сене еще утренний холодок, но день будет жарким [очень жарким].
Город бежит по берегам – светлый, серебристый, четкий. Пароход мерно разбивает идущие навстречу волны. Берега опрокидываются в воде и расщепляются на тонкие разноцветные иглы и замкнутые глазки. Каждый глазок обведен голубой полоской неба, а внутри его инкрустированы отражения прибрежных тополей.
– Mais c'est bean cela – le matin?[32]
– Seine peut se payer les pareilles petites attracti – ons![33]
– Она делает конкуренцию Луи Фуллер!{3}
– А жаркий будет день сегодня…
По небу веером развернулись перистые облака. [Точно] жемчужные короны на голубом фоне.
Высоты Медона и Сен-Клу обременены садами и купами деревьев, которые стекают с гор вплоть до реки и тяжело склоняются над водой.
Пароход поворачивает по петлям реки к Сюреню и, не дойдя, причаливает к пристани Лоншан в виду высот Mont Valerian.
У решеток Лоншанских трибун опять публика «делает хвосты».
Внутри загородки, у подножия трибун, толпа с боя берет деревянные стулья. Вдоль барьера [уже] выросла непроницаемая стена черных спин. Все стоят на своих стульях.
[Ставят стулья на стулья. Балансируют на спинках стульев.]
Из-за сплошного желтого панциря соломенных шляп виден кусочек зеленого поля и зубчатая стена леса. Солнце бьет в глаза. За солнцем лес кажется лиловым, мутным и [очень] высоким. Далеко, по тому клочку зеленого поля, который виден в пролет между красной щекой, ухом и белым зонтиком, движутся [какие-то] живые геометрические массы и поминутно вспыхивают искорки. Видно, что сверху эти массы сплошные, а снизу шевелятся тонкие, гибкие стебли – ноги лошадей.
– Зонтики! зонтики! Эй, уберите зонтики!..
Зонтики клубятся над толпой как водяные пузыри – белые, красные, голубые.
– Зонтики!
Но зонтики не двигаются.
На трибунах движение. Перевешиваются через барьеры.
Долетает далекий плеск аплодисментов.
– Это m<onsie>r Лубэ{4} и бей…
Толстая дама наклоняется с высоты двойного нагромождения стульев: – Филипп! Филипп!
– Я знаю m<onsie>r Лубэ уже двадцать лет. Очень мне интересно!..
Он вытирает мокрый лоб и кладет газету на голову.
Почти у всех мужчин под шляпой надеты белые носовые платки.
– Это сен-сирцы{5} идут.
– Генерал Андре{6}? Это вон тот на белой лошади…
Сверкают каски… Правильным движением ножниц смыкаются и размыкаются ряды ног.
За лесом виден кончик Эйфелевой башни – совсем голубой.
В голубом зное тает далекое кучевое облако.
На крупный серый гравий падают синие переплеты теней от стульев, зонтиков и шляп.
Совсем близко, сейчас за головами, черной густой массой движутся тонкие штрихи штыков, но солдат не видно.
Доносится дальний треск барабанов.
Когда оборачиваешься назад, то видишь только напряженные линии приподнятых подбородков, полураскрытые рты и белые полоски зубов.
Сейчас за оградой трибун полная тишина.
Ряды красных и серых автомобилей и колясок.
Еще несколько шагов – зеленые берега зацветшего озера. Звезды белых кувшинок. Пахнет сыростью и стоячей водой.
Глубокие зеленые тени. Несколько спящих фигур по зеленым бархатистым берегам.
Дальше по аллеям, окружающим Лоншанское поле, около старой мельницы, обвитой плющем, по пыльным краям дороги, на вытоптанной траве – тысячи и тысячи людей, не попавших в ограду трибун.
Везде в лесу балаганы – стойки с сидром, с пивом, с мороженым, холодным бульоном.
Везде амбулаторные палатки с приготовленными носилками для пострадавших от солнечного удара.
Стоят плечом к плечу, тесной горячей массой. Чтобы пробраться на другую сторону леса, надо погрузиться в эту жидкую и вязкую толпу. Чувствуешь прикосновение ситца, холодноватого полотна, шероховатого сукна, иногда горячего и влажного тела.
Из-за голов временами видно далекое поле, клубы пыли, скачущие эскадроны и далекие ряды трибун, как разноцветным гравием посыпанные народом.
Чем дальше по аллеям, тем толпа все реже, а около [больших] озер почти пусто.
Париж теперь тоже пуст и раскален. Белый зной.
Place de la Concorde[34] погружена в африканскую пустынность. Она вся в желтоватых и сер[оват]ых тонах – выцветших от солнца. Обелиск светлеет в синем небе пустынным, изъеденным зубцом.
Асфальтовые тротуары становятся мягкими и ароматичными.
Статуя города Страсбурга{7} убрана новыми верками.
У театров длинные «хвосты» в ожидании даровых представлений.
Так до вечера.
Перед вечером.
Поперек улицы от домов падают вечерние прозрачные тени.
Только верхние части домов освещены и золотятся. На перекрестках стоят наскоро сколоченные павильоны для музыкантов.
Они обвиты пестрыми лентами и зелеными ветвями. Но листья на ветвях уже свернулись и почернели.
Две женщины, держа друг друга за талию, без музыки кружатся по пыльной мостовой.
Изо всех лавочек вынесены столы на улицу и обедают под открытым небом. Зеленые бутылки, грязные тарелки, оловянные ложки, на которых застыло желтое сало. Дети. Собаки.
Я погружаюсь в узкие переулки старого Парижа.
Перекресток Rue de Galande. Из-за черных стрельчатых камней St. Severin{8} вырываются струи и каскады свежей земли.
В устьях темных ущелий, впадающих на перекресток, – ряды деревянных столов. Над перекрестком устроен воздушный балдахин из стеклянных плошек. Огни еще не зажжены, и прозрачные стаканчики висят тонкими нитями, точно гигантская седая люстра.
На Rue de Galande старые дома вытягивают свои животы и смотрят десятками маленьких окон. В соседнем переулке сквозь деревянную калитку виден в глубине двора фасад, вросший в землю, самой старой церкви Парижа – St. Julien la Pauvre{9}. [Она построена в XIII веке. Она была домовой церковью старого Hotel-Dieu, когда тот одним крылом перекидывался на левую сторону Сены. Теперь в ней совершается православное богослужение по коптскому обряду. В ней есть могила барона Монтиона{10} – знаменитого основателя премии за добродетель. В ней несколько лет тому назад служил обыкновенно известный московский священник Толстой, перешедший в католичество.]
Улицы, идущие ниже к Сене, полны запаха пыли и грязных лохмотьев. В них острый вкус нищеты. Это кварталы старьевщиков, нищих – последние остатки трущоб, расстилавшихся за площадью Мобер. Теперь эти улицы сплошь увешаны флагами, грязными, пыльными, висящими поперек улицы на длинных веревках, точно купальные костюмы.
В глубине, за Сеной, серыми кристаллическими глыбами поднимаются стены Notre Dame. На ее башнях нагло и карикатурно торчат букеты трехцветных флагов.
Сена пустынна. Движение пароходов, как и движение омнибусов и конок, сегодня прекращается с семи часов.
По небу перистые облака, смазанные и дымчатые, точно мазки кисти. От Jie St. Louis по воде бегут первые струйки вечерних огней.
Площадь Hôtel de Ville {11} готовится к иллюминации. Она еще пустынна. Небо над домами зеленовато-оливковое. Один ряд домов уже освещен двумя непрерывными линиями газовых рожков. Они ярко освещают тротуары, но дома остаются мрачными, черно-коричневыми
За Hôtel de Ville'ем начинаются лабиринты самых старых переулков Парижа, примыкающие к кварталу Марэ. Здесь переулки сохраняют еще характер XVI и XVII столетий; это настоящий дореволюционный Париж. Это кварталы самых глухих трущоб старого и нового Парижа.
Севастопольский бульвар, пробитый в шестидесятых годах, был просекой, разрезавшей самые дремучие дебри Парижа.
Две старые артерии, шедшие параллельно: Rue St. Denis и Rue St. Martin, утратили свое значение. От них во все стороны пошли новые просеки, беспощадно вырубая старые дома.
Место старого Cour des Miracles[35] теперь пришлось на заднем дворе grand magasin Reomur. Из лабиринта улиц, ведших к нему, сохранился только один завиток Rue de Nil, идущая странной петлей.
Но наилучше сохранившийся клочок старого Парижа лежит около церкви St. Merry{12}, совсем вблизи от Hôtel de Ville.
В ограде St. Merry вспыхнуло восстание 1834 года, описанное в «Les Miserables»[36] Гюго. И сохранились именно те завитки переулков, которые описаны в этом романе.
Это улицы Бризмиш, де Вениз, Бобур… Улицы старинных публичных домов Парижа, квартал, для которого еще при Людовике XI была учреждена особая полиция, который на ночь запирался особыми цепями.
Rue de Venise[37] сохранила весь характер улицы XV века. Раньше она носила имя Rue de la Baudroire. Здесь бушевала ажиотажная горячка в эпоху регентства, здесь был тот кабачок «De I'Epèe de Bois»[38], в котором собирались Расин и Мариво{13}, где среди белого дня граф Горн{14}, позже колесованный на Гревской площади, заколол банкира Лакруа.
Теперь эти улицы носят характер узких каменных коридоров Венеции. В них уютно, грязно, душно и темно. Белые вывески и фонари отелей-притонов висят поперек улицы. Кое-где освещены окна и двери кабаков, из которых вырывается гам и звон. Кое-где видны коридоры, освещенные в глубине коптящей керосиновой лампой. Нижние этажи иногда представляют крытые дворы-сараи, в которых свалены дрова, стоят повозки и разные тележки, а в глубине подымаются лестницы. Улицы так узки, что извозчик проехать не может, но по краям ступеньками все-таки обозначены тротуары в пять вершков ширины. Вдоль тротуаров бегут струйки зловонной жидкости. Здесь, внутри этих улиц, похожих на сточные трубы, Национальный праздник не сказывается ничем.
Но рядом, на клинообразной площадке улицы Бобур, огни и музыка.
Теперь уже совсем стемнело.
Быстро вертится карусель, и играет орган. Карусель маленькая, из велосипедов. На них сидят верхом девицы с прическами a la chien[39], макро{15} в каскетках, дети… Все они с увлечением работают ногами и трясут расставленными локтями. Тут же рядом по тротуарам идут танцы – настоящие танцы парижских «апашей»{16}, с выкидыванием ног, подкидыванием дам в воздух. Парень в фуфайке, в каскетке, надвинутой набекрень, с тонким горбатым носом, острым подбородком и хищными скулами, держит за талию «жиголетку»{17}, волосы которой, завязанные узлом на затылке, прямыми рыжими прядями падают ей на лицо, образуя настоящую casque d'or[40]. Они сперва долго и широко раскачиваются, потом он начинает крутить с такой силой, что ноги ее отделяются от земли.
Сзади зажигают бенгальский огонь, и фигуры становятся мутными и прозрачными, точно вырезанными из розового хрусталя.
На другой стороне площадки танцуют дети. Толстые женщины, наклонившись, танцуют с маленькими девочками. Кажется, точно они трамбуют землю маленькими трамбовками. Крошечный трехлетний мальчуган один танцует кэк-уок{18}, отчетливо и грациозно махая в воздухе тонкими грязными пальцами.
Из ущелий маленьких улиц я снова выхожу на площадь Hôtel de Ville. Я вижу ее немного сверху. Она вся затоплена черной толпой, над которой поднимается накаленный малиновый пар, оранжевые клубы пыли и висят два прозрачных огненных шатра. В перспективе улицы Риволи – башня St. Jacques{19}. Ее длинные готические окна слабо мерцают внутренним светом.
Вершины домов темны и равнодушны к тому свету и зною, что поднимается снизу. Небо лилово-синее, точно непрозрачный матовый камень. Газовые языки оттеняют огненным пурпуром крупные архитектурные линии здания Hôtel de Ville. Крыша поднимается скачистыми зубцами, чуть светлее неба. На асфальтовой площади светло, пыльно и знойно. Лотки с кокосовыми орехами, с апельсинами, с лимонадом в стеклянных бочонках; куски льда с матовыми пузырьками воздуха внутри.
Avenue Victoria…
Круглые оранжевые бумажные фонари, как апельсины. Их тысячи, десятки тысяч в перспективе, развешанных в беспорядке по ветвям деревьев. Небо синее. Деревья глубоко-зеленые. Каждый оранжевый кружок горит четко и отдельно. Они висят огненными виноградными гроздьями, выгнутыми ожерельями, спелыми плодами, длинными гирляндами.
Мостовая, светлая и палевая по тону, сливается со светлыми женскими платьями, а черные юбки и пиджаки сливаются в сложный продолговатый узор, вышитый квадратиками и фестонами на этом фоне. Парапеты набережной покрыты густой толпой, ожидающей фейерверка у Pont-Neuf[41].
Я перехожу на левый берег и сквозь густую толпу пробираюсь до Quai de Conti[42].
Здесь, у подножья этого дома, в мансарде которого жил молодой Бонапарт{20}, только что выпущенный из бриенской школы, на углу улицы Дофин, толпа упружится, сжимается и останавливается. По высоким решетчатым окнам Hôtel de la Monnay{21} висят десятки людей, цепляясь с наружной стороны.
Толпа заняла каждый выступ, каждое возвышение. Из-за черных спин видны большие купы столетних деревьев, растущих на полуострове, замыкающем Cite, – том полуострове, где происходил последний акт трагедии тамплиеров. Из-за черных ветвей желтым жидким пламенем течет огненная вывеска «Belle Jardiniere»[43]. Ее отблески освещают покатую крышу с лукошками того дома, в котором провела свое детство m<ada>me Roland{22}.
Эти ряды старых домов, толпящиеся неровной и пестрой толпой вдоль набережной, представляются клавиатурой рояля. Каждый дом – это отдельная нота, отдельная историческая физиономия, определенная историческая личность.
Каждый взгляд – целый аккорд исторических сопоставлений, ступени времени, закристаллизовавшиеся в определенных клавишах.
Ракеты и римские свечи одна за другой, с шипом и хлопаньем, взлетают над Сеной и, мелькнув сквозь бледную листву редких деревьев, обрамляющих набережную, рассыпаются в звездном небе. И от каждой остается маленькое облачко, которое медленно плывет от [созвездья] Кассиопеи к семизвездью Большой Медведицы.
В небе загораются огненные хризантемы, желтые снопы, перевитые васильками, сыплются обрывки аметистовых ожерелий, горят зеленые стрелы, в клубах оранжевой пыли с треском опускаются молниеносные кулаки, бьют огненные фонтаны, вертятся со свистом пламенные колеса, шипят изумрудные змеи…
Дальше…
Людный и шумный перекресток улиц Anci enne Comedie и St. Andre des Arts. Здесь густо, как в бочке. Танцующим почти нет места, но танцы идут с жаром, с остервенением. Оркестр играет кэк-уок.
Длинная цепь молодых людей, положив друг другу руки на плечи, с гиком, приплясывая, продираются сквозь толпу. Многие посадили своих дам себе на спину. Танцуют отдельно, танцуют группами. Толпа хочет расступиться, но расступиться некуда. По краям горят освещенные стекла баров, внутри сверкают зеркала, матовые цинковые стойки, опаловые стаканы абсента{23}.
Шагом проезжает коляска. [Все] внимание сосредоточивается на ней. Лошадь хватают под уздцы, качают коляску за кузов; вешаются сзади, раскачивают рессоры, вскакивают на подножки. В коляске сидит седая старуха в глубоком трауре. Виден тонкий восковой профиль, сжатые губы и надменно опущенные веки. Она точно не замечает шума и не чувствует толчков.
На углу Rue Ecole de Medecine, освещенном al giorno[44] желтым светом ауэровских горелок только что открытого кафе, несколько красивых дам в шикарных и вызывающих туалетах собрали вокруг себя толпу. Они канканируют, высоко поднимая пышные, спадающие висячими складками юбки. Они показывают тонкие лакированные ботинки и ажурные чулки до колен. Они перекликаются с вокруг стоящими, присаживаются к сидящим около столиков, полутанцуют, полукривляются, кружатся, держа друг друга за талию. В углу на тротуаре стоит пианино, и улица имеет вид просторной комнаты.
Здесь начинается мир Буль-Миша{24}, с его petites-femmes[45], etudiantes[46], дамами из кафе d'Harcourt i Lorrena, плясуньями с бала Бюлье{25}, заменяющими здесь мидинеток, жиголеток и увриерок народных кварталов
Главные танцы здесь идут на Rue Soufflau, на Place de la Sorbonne и на Rue des Ecoles. Здесь все веселое, бездельное, неугомонное, крикливое, молодое население Латинского квартала.
Художники в широких бархатных шароварах и черных галстуках, их модели, студенты-медики в парусиновых балахонах и бархатных беретах, их подруги, тоже в беретах, студенты-юристы, более шикарные и в цилиндрах, русские студенты, которых можно сейчас же узнать [по неуменью носить платье], по неряшливому виду, по серьезной скуке лица и типичной линии обвисших плеч, на которые легла какая-то вековая вялость.
[На одном перекрестке обращают на себя внимание несколько молодых людей в мундирах русских реалистов.
– И вам не стыдно – в ливреях?.. – спрашивает их по-русски какой-то желчный господин.]
Здесь для танцев просторнее. Танцуют долго, искренно, с наслаждением. Отдельные фигуры, движения, черты отчетливо и странно застывают на ретине глаза.
Две девочки в круглых шляпах и пышных платьях, тесно прижавшись, медленно и безостановочно, как волчок, кружатся по мостовой; кокотка в синем платье, с подведенными глазами, танцует кэк-уок одна, медленно и тягуче, делая змеиные движения талией.
Декольтированная дама, тесно прижав грудь к своему кавалеру, выгнув талию, почти положив голову ему на плечо, туго обтянув платье на бедрах, почти замерла в неподвижности танца.
Я гляжу на толпу и вижу по очереди: плоский, готический затылок с длинной косой, в которой чувствуется добродетельность и глупость.
Спущенные пряди волос и под ними только широко, по-детски, раскрытый от увлечения рот.
Миниатюрное лицо, все вымазанное белилами, с черными бровями и острыми змеиными глазами.
Высокий кружевной воротник, детские губы, высокий лоб и одна отделившаяся прядь влажных, гладко причесанных белокурых волос.
Наглое лицо смеющейся козы и упругая открытая шея.
Что-то простое, болезненно тонкое и потерянное в лице, на минуту глянувшем из-под черной шляпки.
Жуткие, прозрачные глаза, остекленелые от абсента: глаза… десятки влажных, лучистых, разгоряченных глаз, обведенных тонкими, черными линиями. Глаза, в которых мерцает и дробится тысячегранное сердце города.
Это глаза «Сестер Монелль{26}». Это они, «Les petites prostituèes»[47] Марселя Швоба. И в моих ушах звучат те бессмертные слова, которые она шептала ему темной ночью, среди большого города:
«Я буду говорить тебе о маленьких блудницах…
Бонапарт-убийца, когда ему было восемнадцать лет, встретил у ворот Пале-Рояля маленькую блудницу. Она была бледна и дрожала от холода. «Нужно жить», – сказал он ей… Ни ты, ни я, мы не знаем имени той бедной девочки, которую Бонапарт привел в свою маленькую комнату в отеле Шербур. Она была из Бретани. Она была слаба и больна. Ее любовник ее только что бросил. Она была искрення и простодушна… Бонапарт никогда не мог забыть ее. Воспоминание о ее голосе трогало его до слез. Он ее после искал в темноте зимних вечеров, но никогда не мог найти.
Потому что, видишь ли, маленькие блудницы только на одно мгновение выходят из уличной толпы…
Бедная Анни подошла к Томасу де Квинси{27} – курильщику опиума, стоявшему на широкой Оксфорд-стрит под тусклым светом больших фонарей. С влажными глазами принесла она ему стакан вина, поцеловала его и утешила. После она вернулась в ночь. Может, она скоро умерла. Она кашляла, рассказывал де Квинси.
Видишь ли, они понимают вас только тогда, когда вы несчастны. Они плачут с вами и утешают вас.
Маленькая Нелли{28} пришла к каторжнику Достоевскому, когда он сидел у порога своего Мертвого дома, и, умирая от лихорадки, долго смотрела на него своими большими, трепетными темными глазами.
Кроткая Соня{29} (потому что она тоже существовала, как и другие) поцеловала убийцу Раскольникова, когда он признался ей в своем преступлении. «Вы погубили себя», – сказала она с дрожью отчаяния. И вдруг, поднявшись, она бросилась ему на шею и поцеловала его.
«Нет на земле теперь человека, несчастнее тебя», – воскликнула она в порыве жалости и разразилась рыданиями.
Как Анни и та, без имени, что пришла к молодому и грустному Бонапарту, так и Нелли растаяли без следа в тумане. Достоевский не рассказал нам, что сталось с худенькой Соней, бледной и грустной…
Ни одна из них не может остаться с нами. Они слишком грустны. Им стыдно остаться. Когда вы не плачете, они не смеют глядеть на вас. Они дают вам тот урок, который вам нужно получить, и уходят. Они приходят сквозь дождь и вьюгу, чтобы поцеловать ваш лоб, и мрак снова вбирает их в себя.
Не нужно думать о том, что они будут делать там, во мраке.
Нелли – в публичном доме, Соня – пьяная, на скамейке бульвара, Анни – возвращающаяся с пустым стаканом в кабак, там они могут быть бесстыдны и жестоки. Они выходили только на мгновение из своего темного закоулка, чтобы дать поцелуй милосердия под газовым фонарем большой улицы.
В это мгновение они были святыми.
Забудем остальное…»
Небо бледнеет. Оркестры замолкают один за другим. Скоро рассвет. Созвездия висят в пролетах между крышами. Кассиопея перешла уже на другую сторону неба.
А на перекрестках все танцуют.
И вдруг в душе безнадежно веселым мотивом начинают звучать трагические стихи поэта Пьеро{30}, обращенные к небу:
On y danse. On y danse. Sans fond. Sans I'plafond… On y danse, Tous en rond…[48]Все мы будем раздавлены автомобилями
Еще лет пять тому назад улицы Парижа были безопасны. Несмотря на быстроту и густоту движения экипажей, можно было свободно переходить через улицу.
Важно было только не делать никаких порывистых и неожиданных движений. Надо было идти медленно, не торопясь, вполне доверяясь опытности и твердой руке возницы, – и вы были в полной безопасности.
Безопаснее всего было быть слепым и глухим, тогда вы были вполне гарантированы от случайностей. Можно было без преувеличения говорить, что на любой из нелюдных улиц Москвы и Петербурга вы подвергаетесь большей опасности быть раздавленным, чем на самой людной улице Парижа.
Но с тех пор как появились автобусы и автотакси, все изменилось.
Автобус-чудовище, снабженное не колесами, а рубчатыми жерновами шириною в полметра, начало свою деятельность тем, что раздавило профессора Кюри{1}. Мозг, открывший радий, первый был расплющен этим бронтозавром машинной фауны больших городов. Это было только начало.
Вернувшись в Париж теперь, после трех лет отсутствия{2}, я сразу почувствовал громадное изменение уличного движения. Теперь перейти улицу в Париже действительно страшно. Число автомобилей за эти годы удесятерилось, и средняя скорость их по меньшей мере утроилась.
Парижские шоферы, надо им отдать справедливость, обладают изумительно верным глазом и твердой рукой. Надо самому сидеть рядом с шофером и следить за его мане<в>рами, чтобы понять, каким искусством обладают они. Рекорды скорости – это национальная гордость Франции. При таком тесном движении, при таких узких улицах, при таких крутых и быстрых поворотах на всем ходу катастрофы были бы бесчисленны – здесь же, по самому широкому подсчету, несчастные случаи никогда не превышают сорока в день, а такие грандиозные крушения, как недавнее падение автобуса в Сену, далеко не часты.
Постоянное увеличение скорости автобусов и автотакси обусловлено, прежде всего, экономией бензина: большая скорость выгоднее в смысле потребления бензина, чем малая. А бензин оплачивается не компанией, а шоферами.
Вообще, улучшения в этой области не может предвидеться. Широта улиц остается неизбежно та же, между тем как напряжение и масса движения растет непрерывно. Пешеход на улице себя чувствует теперь затерянным среди этих громадных и тяжелых масс, мчащихся с быстротой курьерских поездов по свободным траекториям, не обозначенным рельсами.
Все яснее и яснее становится невозможность соединения на одной плоскости таких различных скоростей. Скорость человеческого шага и извозчичьей клячи соединимы. Но скорость автомобилей с человеческим шагом несовместима совершенно. Автомобильное движение нельзя перенести под землю, как движение железнодорожное (Metropolitain), его нельзя поднять вверх, как воздушную железную дорогу: для этого требуется слишком широкое полотно. Но есть еще другая возможность. Об ней еще, насколько я знаю, никто не начал говорить, ни в Европе, ни в Америке, но я предсказываю, что не пройдет еще и десяти лет, как об ней заговорят и она будет осуществлена.
Мы можем пешеходное движение перенести вверх, устроив воздушные тротуары на высоте верхних этажей домов и переходы над крышами, а моторному движению (лошадиное исчезнет очень быстро) предоставив всю ширину полотна теперешних улиц.
Это произведет, конечно, громадный переворот во внутреннем устройстве городов: вся жизнь – магазины, рестораны, кафе – перенесется в верхние этажи. Но там горожанин найдет прежнюю уютность пешеходного города, которой он лишен теперь совершенно, даже в Париже, так приспособленном для уличной жизни. И мне думается, что этот переворот начнется прежде всего в Париже, так как в нем сильнее, чем где-либо, чувствуется теперь «автомобильная опасность».
Константин Богаевский (Отрывок)
Искусство Богаевского целиком вышло из земли, на которой он родился. Для того чтобы понять его творчество, надо узнать эту землю; его душа сложилась соответственно ее холмам и долинам, а мечта развивалась, восполняя ее ущербы и населяя ее несуществующей жизнью. Поэтому, прежде чем говорить о Богаевском и его искусстве, я постараюсь дать представление о той земле, голосом которой он является в современной живописи.
Земля Богаевского – это «Киммерии печальная область»[49]. В ней и теперь можно увидать пейзаж, описанный Гомером{2}. Когда корабль подходит к обрывистым и пустынным берегам этих унылых и торжественных заливов, то горы предстают повитые туманом и облаками, и в этой мрачной панораме можно угадать преддверье Киммерийской ночи, какою она представилась Одиссею. Там найдутся и «узкие побережья со священными рощами Персефоны, высокими тополями и бесплодными ивами». Дальние горы покрыты скудными лесами. Холмы постепенно переходят в степи, которые тянутся вплоть до Босфора Киммерийского, прерываемые только мертвыми озерами и невысокими сопками, дающими пейзажу сходство с Флегрейскими полями{3}. Огонь и вода, вулканы и море источили ее рельефы, стерли ее плоскогорья и обнажили мощные и изломанные костяки ее хребтов.
Здесь вся почва осеменена остатками прошлых народов: каменщик, роющий фундамент для дома, находит другие фундаменты и черепки глиняных амфор; копающий колодец натыкается на древние могильники; в стенах домов и между плит, которыми замощены дворы, можно заметить камни, хранящие знаки орнаментов и несколько букв оборванной надписи; перекапывая виноградник, «земледелец находит в земле стертую монету, выявляющую лик императора».
Камни и развалины этой страны безымянны. Как для греков, так и для более поздних народов, выдвигавших сюда передовые посты своих колоний, Киммерия всегда оставалась пределом ведомых стран. Связанная с историческими судьбами Средиземного моря, она была лишь захолустьем Истории. Народы, населявшие ее, сменяли один другой, не успевая ни закрепить своих имен, ни запомнить старых.
К. Ф. Богаевский родился в Феодосии.
Та складка земли, в которой она расположена, была местом человеческого жилья с доисторической древности. Холмы, ее окружающие, много раз одевались садами и виноградниками и вновь прикрывались на целые столетия саваном праха. Они как бы стерты ступнями народов, их попиравших, плоть их изъедена щелочью человеческих культур, они обожжены войнами и смертельно утомлены напряженностью изжитых веков.
В годы детства Богаевского Феодосия была похожа на приморский городок южной Италии. Развалины Генуэзских башен напоминали об ее историческом позавчера.
Море соединило ее со средиземным миром, а бездорожье южных степей отделяло от России. Она не успела еще прикрыть свою доисторическую древность приличным безвкусием русской провинции.
Богаевский вырос в итальянско-немецкой семье генуэзского происхождения, связь которой со старой метрополией была еще так велика, что молодых людей еще посылали заканчивать образование в Геную.
Первые сильные впечатления природы он получил на Керченском полуострове. Это – страна холмистых равнин, соленых озер и низких кольцеобразных сопок. Уныние хлебных полей сменяется унынием солончаков, темное золото пшеницы – снежною солью высохших озер. Из-под редких колосьев и буйных репеев сквозит седое тело земли, глубоко растрескавшееся от зноя. Полдни гудят роями мух и глухим жужжанием молотилок. Берега Черного и Азовского морей разбегаются широкими лукоморьями, пески которых желты, как спелая пшеница.
Просторный кенегезский дом{4}, с которым связано отрочество Богаевского, окруженный скудною зеленью, стоит у ската длинного «Сырта», по хребту которого, от одного моря до другого, проходит «Скифский вал» – остатки стены, замыкавшей Босфорское Царство.
Плоское уныние этой земли заставляет невольно обращать глаза к небу. Там облака подымаются и с Черного и с Азовского моря.
Но дыхание одного моря встречает дыхание другого, и два огромных полукружия туч непрерывно колеблются, то отступая, то надвигаясь, по обе стороны небосклона, никогда не покрывая всего неба. Тяга ветра подымает их вверх огромными столбами, придает упругость их очертаниям, и амфитеатры облаков, расположенные по всей овиди, образуют нагромождения фризов и барельефов. Созерцание горизонта, на котором непрерывно созидаются и расходятся циклопические архитектуры, имело громадное значение для творчества Богаевского.
Но решающую роль в определении путей его искусства сыграла гора Опук. Она лежит к востоку от Кенегеза, там, где берег поворачивает к северу, обозначая линию Босфора Киммерийского, в ужасающей пустынности солончаков и мертвых озер. Во времена Страбона на ее хребте стояли циклопические развалины Киммерикона. Теперь их нет, но глаз, галлюцинирующий в полдень среди ее каменной пустыни, видит их явственно в срывах скал и над разорванными краями ущелий. Гора образована из мягкого как мел камня и вся проработана, глубоко и подробно, тонкими вникающими пальцами дождя, ветра и солнца. Ее плоскогорья изъедены узкими щелями, напоминающими трещины ледников. В них пахнет зверьем. Морские заливы кишат змеями. Каждый шаг отдается глухо и гулко, как в пещере. Гроты, выветренные сквозняками по углам обрывов, подражают своей внутренней отделкой сталактитам.
Широкие каменные лестницы посреди скалистых ущелий, с двух сторон ограниченные пропастями, кажется, попираются невидимыми ступнями Эвридики. И хребты, осыпавшиеся как бы от землетрясения, и долины, подобные Иосафатовой{5} в день Суда, и поляны, поросшие тонкой нагорной травой, и циклопические стены призрачных городов, и ступени, ведущие в Аид, – все это тесно и беспорядочно жмется друг к другу. И это чрезмерное разнообразие так однотонно, что, пройдя десяток шагов, чувствуешь себя безнадежно заблудившимся в этих безысходных лабиринтах.
Когда в полдень солнце круто останавливается над Опуком и мгла степных далей начинает плыть миражами, здесь может показаться, как на Синае, что под ногами расстилается почва, «вымощенная сапфирами, горящая как голубое небо». В эти моменты посетитель реально переживает «панический» ужас полудня…
В годы самых мучительных сомнений в себе Богаевский именно здесь почувствовал ясно предназначенный ему путь в искусстве. Можно сказать, что он был п р и з в а н на этой горе. Если с Опука или с высоты Скифского вала, проходящего над Кенегезом, посмотреть к западу, то за холмистыми равнинами, за высохшими озерами, за крылатыми луками желтых морских отмелей, за плоскими сопками, за несколькими планами далей, все более синих, более лучистых и отмеченных крестиками ветряных мельниц, в те вечера, когда над землею не стоит мгла, на самом краю горизонта, за тусклыми мерцаниями двух глубоко уходящих в землю морских заливов, встает нагромождение острых зубцов, пиков и конических холмов. И среди них, полуразрушенным готическим собором, с недостроенными башнями в кружеве стрелок, переплетов и извивающихся языков окаменелого племени, встает сложное строение Карадага{6}. Такой романтически-сказочной страной представляется Коктебель из глубины Керченских степей.
Вся Киммерия проработана вулканическими силами. Но гнезда огня погасли, и вода, изрывшая скаты, обнажила и заострила вершины хребтов. Коктебельские горы были средоточием вулканической деятельности Крыма, и обглоданные морем костяки вулканов хранят следы геологических судорог. Кажется, точно стада допотопных чудовищ были здесь застигнуты пеплом. Под холмами этих долин можно различить очертания вздутых ребер, длинные стволы обличают скрытые под ними спинные хребты, плоские и хищные черепа встают из моря, один мыс кажется отставленной чешуйчатой лапой, свернутые крылья с могучими сухожильями обнажаются из-под серых осыпей; а на базальтовых стенах Карадага, нависших над морем, можно видеть окаменевшее, сложное шестикрылье Херубу{7}, сохранившее формы своих лучистых перьев.
Если к этим основным пейзажам Киммерии присоединить еще мускулистые разлатые можжевельники Судака, пещерные города Бахчисарая да огромные ломбардские тополя и ясени Шах-Мамая{8}, пред высотой которых степной горизонт кажется низким и плоским, то перед нами все элементы, из которых сложились пейзажи Богаевского.
Он родился среди камней древней Феодосии, стертых, как их имена; бродил в детстве по ее размытым холмам и могильникам; Кенегезские степи приучали его взгляд разбирать созвездия и наблюдать клубящиеся облака. Опук был горой посвящения, с которой ему был указан путь в искусстве; зубцы коктебельских гор на горизонте были источником его романтизма, рождая в нем тоску по миражам южных стран, замкам и скалам; а деревья Шах-Мамая направляли его вкус к Пуссену и Клоду Лоррену. <…>
Репинская история
Когда несчастный Абрам Балашов{1} исполосовал картину Репина «Иоанн Грозный и его сын», я написал статью «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина».
На другой день после катастрофы произошел факт изумительный: Репин обвинил представителей нового искусства в том, что они п о д к у п и л и Б а л а ш о в а. Обвинение это было повторено Репиным многократно, следовательно, было не случайно сорвавшимся словом, а сознательным убеждением.
Оно требовало ответа от лица представителей нового искусства.
Так как для подобных ответов страницы газет и журналов закрыты, то мне пришлось сделать его в форме публичной лекции.
В своем обвинении Репин указывал прозрачно на художников группы «Бубновый валет»{2} и назвал по имени г. Бурлюка{3}. Я счел моральной обязанностью отвечать Репину под знаком «Бубнового валета», ни членом, ни сторонником которого не состою, хотя многократно, в качестве художественного критика, являлся его толкователем.
Я прекрасно знал, что мое выступление совместно с «Бубновыми валетами» повлечет для меня многие неприятности, злостные искажения моих слов и нарочито неверные толкования моих поступков. Но обвинение Репина я, как участник прошлогодних диспутов об искусстве, принимал и на себя и отвечать на него счел долгом вместе с ними.
В лекции своей я не касался репинского искусства и его исторической роли вообще. Эта тема слишком большая и общая. Для нее нужна книга, а не лекции. Я говорил только о его картине «Иоанн Грозный и его сын». Я выяснял, почему в ней самой таятся саморазрушительные силы и почему не Балашов виноват перед Репиным, а Репин перед Балашовым.
Читатель найдет в тексте лекции мое толкование реализма и натурализма, и главным образом выяснение роли ужасного в искусстве.
Узнав перед началом лекции, что Репин находится в аудитории, я счел своим долгом подойти, представиться ему, поблагодарить за то, что он сделал мне честь выслушать мой ответ и мои обвинения против его картины лично, и предупредить, что они будут жестоки, но корректны.
Последнее было исполнено, как всякий может убедиться из текста моей статьи.
Отвечая мне, Репин имел бестактность заключить свою речь словами: «Балашов – дурак, и такого дурака, конечно, легко подкупить».
Как можно было ожидать, и мои слова, и все, происходившее на диспуте, было извращено газетами. Сказанное мною находится в этой брошюре. В тексте ее ничего не прибавлено, ничего не убавлено. В главе «Психология лжи» я даю точный протокол диспута и восстанавливаю процесс преображения действительности.
Относительно же членов общества «Бубновый валет» я должен сказать, что их участие в данном случае ограничивалось только административным устройством: никто из них в самом диспуте участия, как оратор, не принимал, так как даже г. Бурлюк, который вел себя на этот раз очень сдержанно, членом «Бубнового валета» не состоит.
Те же ругательные слова, что звучали в зале, относились только ко мне и исходили из уст самого Репина и его учеников.
Надеюсь, что сторонники Репина, на лекции не присутствовавшие, но покрывающие десятками подписей протесты против моего «поступка», не ограничатся одними лирическими восклицаниями, личными, на мой счет, инсинуациями и сочувственными адресами оскорбленному художнику.
Вот точный текст моей лекции. Они его обязаны прочесть. Я жду на мои обвинения, обращенные против картины Репина, ответа по существу. Того ответа, которого я еще не получил ни от самого художника, ни от его защитников. <…>
Психология лжи
В Берлинском университете, в Институте экспериментальной психологии был сделан следующий опыт над студентами: во время лекции в аудиторию ворвался арлекин, а вслед за ним негр с револьвером в руке. Они добежали до середины амфитеатра. Здесь негр настиг арлекина, но тот свалил его с ног, после краткой борьбы вырвал у него револьвер, вскочил и убежал в противоположную дверь, а негр вслед за ним. Вся сцена длилась не больше двадцати секунд. Она была заранее подготовлена и разучена двумя актерами; все их движения срепетированы и записаны; костюмы и грим нарочно выбраны самые характерные и бросающиеся в глаза и предварительно сфотографированы. Револьвер не был заряжен.
Спустя две недели всем студентам, присутствовавшим при этом опыте, было предложено описать, что произошло. Получилась коллекция самых противоречивых показаний. Никто не мог определить точно, в каком костюме был негр, в каком арлекин, и большинство утверждало, что арлекин гнался за негром, а негр стрелял в арлекина. Многие слышали выстрел своими ушами. При этом надо принять в соображение, что свидетели, хотя и не были подготовлены к данному эксперименту, однако находились в курсе подобных психологических опытов.
То, что произошло на моей лекции 12 февраля в Политехническом музее между мной и Репиным, и то, какие формы это приобрело сперва в газетных отчетах, потом в газетных статьях и, наконец, в коллективных и индивидуальных протестах в виде писем в редакцию и адресов, весьма напоминает опыт, произведенный в Берлинском университете.
Случай этот настолько характерен для психологии возникновения и развития лжи, что мне кажется интересным изложить фактически все то, что было, и во что все превратилось.
Лекция моя «О художественной ценности пострадавшей картины Репина» составляла тему для диспута «Бубнового валета». «Бубновый валет» взял на себя все хозяйственные хлопоты по устройству лекции, но этим его роль и ограничилась. Никто из членов общества «Бубновый валет» в диспуте участия не принимал.
Председательствовал присяжный поверенный Александр Богданович Якулов. Официальными оппонентами моими были литераторы: Георгий Иванович Чулков, Алексей Константинович Топорков{4} и художник Давыд Давыдович Бурлюк, который членом общества «Бубновый валет» не состоит.
Перед началом лекции представитель полиции объявил председателю, что участие в прениях разрешается только лицам, заранее помеченным в программе. Таким образом, никакое выступление членов общества «Бубновый валет» на данном диспуте не было возможно.
После лекции, по ходатайству председателя, представитель полиции дал, в виде исключения, право голоса самому Репину и его ученику г. Щербиновскому{5}.
Таким образом, на диспуте говорили: И. Е. Репин, г. Щербиновский, Георгий Чулков, А. К. Топорков, Д. Д. Бурлюк и я. Ни одного «бубнового валета».
Перед лекцией я имел следующий разговор с И. Е. Репиным. Узнав, что он в аудитории, я направился на верх амфитеатра, где мне его указали. Никогда не видав его в лицо, я спросил: «Не вы ли Илья Ефимович Репин?»
Получив утвердительный ответ, я представился и сказал: «Очень извиняюсь, что вам, вопреки моему распоряжению, не было послано почетного приглашения» (это было фактически так).
На что Репин ответил мне: «Если бы я его получил, я бы не пошел. Мне не хочется, чтобы о моем присутствии здесь было известно». Затем я поблагодарил его за то, что он пришел лично выслушать мою лекцию, прибавив: «Мне гораздо приятнее высказать мои обвинения против вашей картины вам в глаза, чем вы стали бы потом узнавать их из газетных передач. Предупреждаю вас, что нападения мои будут корректны, но жестоки». На это Репин ответил мне: «Я нападений не боюсь. Я привык». Затем мы пожали друг другу руки и я спустился вниз, чтобы начать лекцию.
Лекция моя была выслушана спокойно, без перерывов. Только в одном месте, когда я говорил о том, что произведениям натуралистического искусства, изображающим ужасное, – место в Паноптикуме, кто-то из кружка Репина крикнул: «Как глупо!» Когда на экране появился портрет Репина – ему была устроена публикой овация. Когда я закончил свою речь, раздались аплодисменты, перемешанные со свистками. Было ясно, что одна часть публики сочувствует Репину, другая – идеям, высказанным мною.
С этого момента я перестаю быть активным действующим лицом диспута и становлюсь только слушателем и зрителем происходящего. Следовательно, из области объективной правды перехожу в область субъективных свидетельских показаний.
Когда во время антракта выяснилось, что вся публика уже осведомлена, что И. Е. Репин находится в зале и что пристав разрешает слово самому Репину и его ученикам, то член «Бубнового валета» художник Мильман{6} подошел к Репину и предложил ему отвечать мне. Когда Репин поднялся на верху амфитеатра, чтобы говорить, вся публика повскакивала со своих мест, а председатель А. Б. Якулов предложил ему спуститься вниз на кафедру, чтобы лучше быть услышанным. Замешательство и крики «сойдите на кафедру», «пусть говорит с места» длились несколько минут. Речь И. Е. Репина сохранилась в моей памяти в таких отрывках:
«Я не жалею, что приехал сюда… Я не потерял времени… Автор – человек образованный, интересный лектор… У него прекрасный орган… много знаний… Но… тенденциозность, которой нельзя вынести… Удивляюсь, как образованный человек может повторять всякий слышанный вздор. Что мысль картины у меня зародилась на представлении «Риголетто» – чушь! И что картина моя – оперная – тоже чушь… Я объяснял, как я ее писал… А обмороки и истерики перед моей картиной – тенденциозный вздор. Никогда не видал… Моя картина написана двадцать восемь лет назад, и за этот долгий срок я не перестаю получать тысячи восторженных писем о ней, и охи, и ахи, и так далее… Мне часто приходилось бывать за границей, и все художники, с которыми я знакомился, выражали мне свой восторг… Значит, теперь и Шекспира надо запретить?.. Про меня опять скажут, что я самохвальством занимаюсь…»
Говоря это, Репин как бы все больше и больше терял самообладание. Сколько помню, затем он говорил об идее своей картины, о том, что главное в ней не внешний ужас, а любовь отца к сыну и ужас Иоанна, что вместе с сыном он убил свой род и, может быть, погубил царство. «И здесь говорят, что эту картину надо продать за границу… Этого кощунства они не сделают… Русские люди хотят довершить дело Балашова… Балашов дурак… такого дурака легко подкупить…»
На этом кончилась речь Репина. С появлением на кафедре его ученика г. Щербиновского бурная атмосфера начала еще более сгущаться.
Он говорил о том, что не может молчать, когда его гениальный учитель плачет, когда он ранен. «Мне пятьдесят пять лет, а я младший из учеников Репина, я мальчишка и щенок…» Затем он сравнивал Репина с Веласкесом. Говорил, что рисунок есть понятие, никакими словами неопределимое, что «искусство – это такая фруктина…» и т. д. Восстанавливать содержание его речи я не берусь.
Выступивший вслед за ним Д. Д. Бурлюк{7} говорил очень сбивчиво. Выход Репина, покинувшего аудиторию при овациях со стороны публики, перебил его речь. Он спутался и заявил, что чувствует себя нехорошо и будет продолжать речь после.
Вслед за Бурлюком говорили Георгий Чулков и А. К. Топорков, оба официальных оппонента, принявшие участие в диспуте по моей просьбе. <…> После окончания речи Топоркова снова говорил Д. Бурлюк. <…>
В заключение диспута я, обращаясь к публике, сказал:
«Прежде всего, я хочу поблагодарить И. Е. Репина, хотя теперь и заочно, т. к. он уже покинул аудиторию, за то, что он сделал мне честь, лично явившись на мою лекцию. К сожалению, отвечая мне, он совсем не коснулся вопросов моей лекции по существу: он не ответил ни на устанавливаемое мною различие реального и натуралистического искусства, ни на поставленный мною вопрос о роли ужасного в искусстве. В последнем же вопросе, нарочно подчеркиваю и упираю на это, заключается весь смысл моей лекции и моих нападений на картину Репина».
Затем я в кратких словах отвечал Топоркову на его критику моего деления реального и натурального и Чулкову на вопрос о значении кубизма, не касаясь больше ни Репина, ни его картины.
Так прошел фактически диспут «Бубнового валета».
На следующий день начинается процесс преображения действительности в хроникерских отчетах. Свидетели начинают путать, кто за кем гнался: арлекин за негром или негр за арлекином. <…>{8}
На второй день начинается следующая стадия. Выражают свое мнение те, что на лекции не присутствовали, а прочли отчеты об ней. Действительность получает вторичное преображение:
«…Третьего дня, во вторник, в Москве произошло явление, по реальным последствиям бесконечно меньшее, чем исполосование репинской картины, но по своему внутреннему содержанию гораздо более отвратительное.
То, что произошло третьего дня, было безмерно постыднее, гаже, оскорбительнее, чем неосмысленный поступок безумного Балашова». <…>
На третий день те, что не были на лекции, не читали отчетов, а читали только статьи, написанные на основании отчетов, дают уже такие свидетельские показания:
«В лапы дикарей попал белолицый человек…
«Они поджаривают ему огнем пятки, гримасничают, строют страшные рожи и показывают язык.
«Приблизительно подобное зрелище представлял из себя «диспут» бубновых валетов, на котором они измывались над гордостью культурной России – И. Е. Репиным. <…>
Одна из газет воспроизводит мою фотографию, вырезанную из группы, где я снят вместе с Григорием Спиридоновичем Петровым и Поликсеной Сергеевной Соловьевой, в своем обычном рабочем костюме, который ношу у себя в Крыму (где живу, между прочим, уже 20 лет): холщовой длинной блузе, подпоясанной веревкой, босиком и с ремешком на волосах, на манер, как носят сапожники. Портрет воспроизведен с таким комментарием:
«Максимилиан Волошин, громивший Репина на диспуте. На фотографии он изображен в «костюме богов». В таком виде он гулял в течение прошлого лета в Крыму, где этот снимок и сделан (Ран<нее> утро)». <…>
Дальше, на четвертый, на пятый день свидетельские показания прекращаются совсем, и слышны только истерические выкрики, негодующий вой и свист толпы. Газеты пестрят заглавиями: «Комары искусства», «Гнев божий», «Полнейшее презрение», «Бездарные дни», «Репин виноват».
Слышны голоса из публики: «Старого Репина, нашу гордость, обидели, и за него надо отмстить!», «Присоединяю и мой голос, голос оскорбленной в лучших чувствах своих русской женщины, к протесту против неслыханного издевательства нашей молодежи над красою и гордостью нашей, Ильей Ефимовичем Репиным!», «Присоединяюсь к протесту. Слава Илье Репину!», «Как больно, как стыдно, как страшно в эти бездарные дни!», «Полнейшее презрение! Бойкот выставок! А нашему гениальному Репину слава, слава и слава на многие годы!», «Присоединяем наши голоса к прекрасному крику негодования против неслыханной выходки наших мазилок!», «…нам, допускающим озлобленных геростратов совершать их грязную вакханалию, должно быть стыдно!» <…>
Наконец, все сливается в десятках и сотнях подписей известных, неизвестных лиц, присоединяющихся к протесту и подписывающихся под сочувственными адресами оскорбленному Репину.
Попробуйте теперь установить, что делали негр и арлекин, кто за кем гнался, в каких костюмах оба они были одеты, был ли произведен выстрел и кто на кого покушался?
Год назад
Любопытство, жгущее подошвы ног, когда в первый раз вступаешь на мостовую неизвестного города, заставило меня, несмотря на усталость пути, прямо с вокзала пойти бродить по улицам в этот июльский вечер.
Безстильно монументальные, под прямыми углами пересекающиеся и безлюдные переулки вывели меня к широкому пространству реки
Это была желто-зеленая поверхность, вся напряженная мускулами внутреннего движения, обрамленная каменными набережными. В ней чувствовалась царственность великой исторической реки. Город перебрасывался на ту сторону цепными и сводчатыми мостами, теснился в долинах, взбирался на крутые холмы, повитые парками и венчанные коронами старых крепостей.
Рядом – огромное, многочленное здание спускалось к реке широкими перспективно пустынными лестницами и над самой водой тянули<сь> зигзагами узкие парапеты и ногами вытоптанные в камне тропы.
На одной из лестниц, заканчивавшейся пристанью, продавщица разложила красные розы и гвоздики. Цветы, алевшие в закатных лучах, впервые обратили внимание на безлюдье, сопровождавшее мои блуждания по этому городу.
Три дня назад я переступил границу этой страны, язык которой мне был непонятен. Я пересек горную область, скалистую, снежную, с редкими соснами. Я видел мирные города, сдавленные лесистыми склонами крутых долин, целиком скрытые под сенью старых каштанов; церкви и дома, хранившие знаки истории суровой и рыцарственной. Выветрившиеся статуи и полинялые гербы украшали площади, поросшие травой, и ворота, зацветшие мохом. В первый вечер сквозь окно вагона глянул алмазный серп, врезанный в зеленое поле закатного неба. Быстрые реки, стремительные холмы, леса, подбегавшие к железному пути, деревья, отступавшие, держась за руки, напомнили о той Европе, которую можно было проехать на коне от ворот Парижа до Константинополя, не выходя из-под лесной сени.
Медленный поезд останавливался на полустанках, и его везде ждали веселые толпы: днем – с цветами, ночью – с огнями. В вагон садились рослые парни в светлых рубахах и зипунах с вышивками и лентами. На скрещении мы ждали подолгу встречных поездов, тоже переполненных людьми, криком и песнями.
Немой и глухой среди этого говорливого множества, влекомый по руслу большого железнодорожного пути, я вместе с ним влился в этот город – сердце страны. Молчаливость и безлюдье его улиц после радостного возбуждения, переполнявшего всю страну, удивили, почти обеспокоили.
Обойдя готическое здание, я пересек площадь (в оконницах горели золото-алые лучи и светились зелеными тенями на оранжевых занавесках) в том направлении, где должно было находиться средоточие города.
Но сколько ни углублялся я в каменные коридоры, они были пусты, магазины заперты и только пунктиры загоравшихся фонарей сопровождали мои шаги в быстро лиловевших сумерках.
Наконец, за крутым поворотом из глубины улицы в лицо пахнуло светом и гулом: там кипело, чернело и сверкало.
Я вышел на улицу, обсаженную деревьями, подымавшими в электрической пыли жестяные листья; рестораны и кафе раскрывали огненные зевы; мигали надписи; толпа текла, как ртуть, то сливаясь, то дробясь на шарики. В ней, как и в реке час назад, чувствовались мускулы внутреннего напряжения, шаги, заставлявшие переходить на бег, захватывающие, кружащие, уносящие.
Отдавшись им, я был вынесен на улицу, еще более людную и широкую. Сквозь тупой, почти ровный гул вспыхивали яркие лоскуты песни. Далеко впереди призрачно веяли знамена. В самой глубине звука можно было угадать глухой удар марширующих ног и заглушенный треск барабана. Вокруг были лица с губами, разверстыми криком в форме омеги. Стало ясно, что город переживает нечто необычайное.
Но что? Мятеж? Революцию? Демонстрацию? Празднество? Выборы? Я искал признаков, по которым можно было определить смысл судороги, охватившей его.
Прислушиваясь к языку и читая вывески, я не мог различить знакомых звуков: в нем не было ни славянских, ни латинских, ни германских корней, скорее звучали горловые согласные монгольских наречий. На вопросы, обращенные на других языках, не отвечал никто.
Оставалось разбирать по слогам интонацию и жесты. Вечерние издания газет, жадно развертываемые, говорили о быстро накопляющихся событиях. Протискавшись сквозь группу толпившихся у стены, я увидел, что они читали широкие, белые афиши.
Я не мог понять в них ни слова. Но цвет бумаги, официальность шрифта, государственные гербы подсказали мне, что это не революционное воззвание, а обращение правительства.
Манифест… солдаты… знамена… барабаны… – Война!
С кем? Четыре дня назад, когда я перешагнул границу этой страны, во всей Европе царило самое летнее затишье{1}.
Но вдруг стало понятно и праздничное ликование страны, и встречные поезда с товарными вагонами, переполненными людьми, шедшие по направлению к восточной границе.
Прислушиваясь к крикам, мне казалось, что я различаю звуки, похожие на имя моей страны{2}.
Чувство исторической связи событий и мест странно оборвалось, казалось невозможным, чтобы за три дня совершились какие-то события, вызвавшие войну; казалось, что я переживаю фантастический сон, что я кинут в неведомые века и в неизвестную страну, быть может, европейскую, но после ее завоевания монголами. Об этом говорили убедительно, как во сне, европейские формы города в связи со звуками азиатских наречий и не арийский тип лица. Было так, будто я читаю первую главу фантастического романа будущих времен.
И сознание того, что ни я, ни ко мне никто не сможет обратиться с вопросом, рождало чувство странной безопасности, как будто я сам был невидим.
И до глубокой ночи я бродил по воспаленному городу, наблюдая оком человека иных времен, как постепенно гасли крики, страсти, огни, глаза, звуки, движение…
На другое утро номер немецкой газеты восстановил порванную связь событий и снова включил меня в течение исторической жизни, навсегда запечатлев образ Будапешта вечером 19-го июля 1914 года{3}.
Поколение 1914 г.
Мировые трагедии обычно бывают прекрасно срежиссированы. История задолго готовит актеров, ей нужных.
Перед началом первого акта она в последний раз просматривает списки исторических масок и быстро вычеркивает те, которые ей больше не понадобятся.
Так теперь перед самым поднятием занавеса она вычеркнула Жореса{1}, потом Ж. Леметра{2}, потом папу Пия X{3}, потом графа де Мен{4}, позже Сан-Джульяно, короля Карла{5}, Витте{6}…
Эти быстрые штрихи красного карандаша могут показаться произвольными. Но они внятно говорят о том, кого из старших актеров не надо больше, какие характеры не будут иметь роли в той трагедии, которая начинается.
Во всем соблюдены мера и точность оттенков: Жореса и Леметра она вычеркнула перед самым началом, даже не дав им заглянуть за волнующийся занавес; папе дала произнести вступительную молитву о мире мира, это было необходимо, чтобы дать почувствовать предстоящую игру контрастами и внести ноту трагического сарказма; графу де Мен отвела роль актера, читающего патетический пролог при поднятом уже занавесе и уходящего, сказав свое слово, совсем.
Витте, Сан-Джульяно, румынский король были вычеркнуты позже, очевидно при просмотре списков дипломатов, которые будут делить карту Европы во второй части трилогии.
Напротив – протагонистам пьесы история дала долгую предварительную подготовку. Императору Вильгельму II дала со свойственной ей иронией справить двадцатипятилетний юбилей царствования, на котором он был провозглашен главным защитником европейского мира, а императору Францу-Иосифу сплела судьбу, достойную дома Атридов по накоплению роковых ударов и таинственному сплетению звеньев. Она продолжила его жизнь за пределы обычного человеческого срока, для того чтобы 1849 год уравновесить 1915-м.
И та же самая ясновидящая сила вырастила во Франции к 14-му году поколение юношей, способных пронести на своих плечах великую европейскую войну. Их нужно было родить, воспитать и подготовить так, чтобы к этому сроку им было между 21 и 30-ю годами. Это было выполнено с непогрешимой точностью.
Уже три года назад наблюдатели, стоящие у пульса нации, стали предупреждать, что в психологии молодого поколения совершился переворот огромной важности, что растут юноши, непохожие ни на своих отцов, ни на своих дедов.
Около 1912–13 года Агатон, подводя итоги опросам, произведенным юношам в возрасте от 18-ти до 25-ти лет, находил, что в молодежи совершается что-то новое, «мужественность и энергия тех, кто вступает теперь в жизнь, поражает их старших», «молодое поколение поражает оптимизмом, жизнеспособностью, вкусом к действию».
Бергсон отмечал серьезность, с которой юноши теперь относятся к жизни, отсутствие пессимизма, мужественность, осознание своих поступков, своей ответственности за них. Молодой критик Андрэ Френуа (теперь уже убитый) говорил от лица молодого поколения: «У нас больше нет вкуса к пороку».
Эти юноши отвергали мастеров скептицизма и иронии – Ренана{7} и Тэна{8}, отворачивались от поколения эстетов и интеллектюелей. Напротив, своими учителями они признавали традиционалиста Барреса{9}, теоретика неороялизма Морраса{10}, апостола и проповедника Шарля Пеги{11}, поэтов: Клоделя{12}, Сюареса{13} и Жамма, романиста Ромена Роллана, философа Бергсона.
Совершался непонятный парадокс: школа, отнятая у клерикалов и всецело переданная в руки свободомыслящих, воспитала поколение с определенным уклоном к католичеству; социалистическая пропаганда породила юношей с консервативными и монархическими традициями.
Одни не хотели верить точности этих наблюдений, другие верили и ждали от идущего поколения национального возрождения. Никто не думал о том, что ясновидящий гений расы, не считаясь с ошибками и слепотой политических руководителей, готовит бойцов, нужных для наступающей эпохи.
А между тем, признаки были – за год до упомянутых опросов и полемик история сделала генеральную репетицию – пробную тревогу в виде «Агадирского хода»{14}.
Мне случилось быть в Париже в эти дни. Психология момента была знаменательна, и в ней уже был написан 1914 год. Не было разговоров об отыгрыше, не было желания войны: были молчаливая решимость и готовность. Помню противовоенную демонстрацию, устроенную в эти дни. Ее не запрещали, демонстрантов не осыпали ни ругательствами, ни камнями, но в отношении Парижа к ним было столько молчаливого осуждения, что от всей демонстрации осталось чувство национальной бестактности. Было явно, что это отношение исходило не от правительства, не от печати, а от тех, кто готовился идти на войну.
Но это была лишь проба, – нужно было, чтобы и самые юные, которым было в то время по 18 лет, достигли призывного возраста.
Теперь, на десятом месяце войны, зная, как много поэтов, литераторов, художников этого поколения, учеников Нормальной школы{15} уже погибло в траншеях, упомянутая книга Агатона «Les jeunes gens d'aujourdz d'hui»[50] приобретает совершенно новый исторический смысл, раскрывая те пути, которыми было создано сильное поколение Франции 14-го года.
Его тяготение к роялизму в лице Морраса объясняется не только его красноречивой и страстной логикой, но и тем, что в республике при торжествующем социализме оппозиция, неизбежная у сильных натур, естественно должна принять монархическую окраску (как при монархии она приобретает республиканскую). В данном поколении она обозначала не реакцию, а независимость характера.
У Мориса Барреса они учились прислушиваться в самих себе к голосам предков. Шарль Пеги, убитый в самом начале войны под Вильруа, нес в своем творчестве традиции средневековой Франции и гипнотизировал настойчивыми повторениями своей проповеди. Сюарес и Ромен Роллан (в своих биографиях Микель Анджело и Бетховена – не романах) учили культу героев воли.
Клодель и Жамм были им близки своею католическою окраской. На католицизм во Франции не следует смотреть с точки зрения «свободомыслящих».
Ни для Брюнетьера{16}, ни для Гюисмана{17}, ни для Клоделя, ни для Жамма, ни для Пеги, ни для Леона Блуа{18} он не был успокоением в лоне церкви.
Среди «обращенных» предыдущей эпохи мы встречаем имена наиболее глубоких и самостоятельных художников. Этому не надо удивляться: в духовной (не политической) жизни Франции католичество это – живая преемственность исторических традиций нации, это прекрасная дисциплина ума. Оно шлифует, дает гибкость, выявляет именно французские его достоинства: ясность, верность, четкость формулировки.
И даже если мы возьмем писателей, наиболее далеких церкви, – мастеров сомнения и иронии, как Ренан, Анатоль Франс или Реми де Гурмон, то должны признать, что их оружие, направленное против нее, закалено в горне ее же догматики, отточено на оселке ее же казуистики.
Наконец, метафизика Бергсона наметила для этого поколения возможный мост от позитивизма к вере и мистике.
История теперь показала, что Франции было необходимо это поколение вовсе не для того, чтобы колебать основы республики и вносить новый элемент раздора в политическую борьбу, где их и без того слишком много, а для того, чтобы застигнутая врасплох, благодаря недальновидности правящих, разбитая наголову при Шарлеруа{19}, стоявшая уже, казалось, на краю окончательной гибели, Франция судорожным движением спинного хребта вывернулась в воздухе, как кошка, и стала сразу на все четыре лапы.
Всего спокойного и зоркого шахматного мастерства Жоффра{20} было бы недостаточно, если бы армия не была проникнута духом этого крепкого и мужественного поколения 1914 года. Оно составляет ядро сейчас сражающейся армии. Чтобы понять силу настоящей Франции, надо понять его и во всем целом, и в его отдельных представителях, и в его духовных руководителях.
Последний смотр
I
Саша Гитри{1} – один из самых увлекательных парижских забавников. Антуан{2} ожидает от него возрождения французского театра. Если б его темперамент и ловкость можно было сплавить едкостью Куртелена{3}, то Париж увидел бы нового Мольера.
Несмотря на войну, С. Гитри продолжает забавлять Париж, искусно лавируя между национальным трауром и неискоренимой радостью жизни.
На этот раз он показывал фильмы, им снятые, и давал им пояснения.
Этот «conference»[51] назывался «Ceuxe de chez nous»[52].
Он объехал с кинематографом великих людей французского искусства и снял их в интимной обстановке и за работой.
Никто не мог бы сделать этого лучше его. Он не только любезный парижанам артист и драматург, – он и сын Люсьена Гитри{4}, и эти ветераны французского искусства – старые друзья его отца, знавшие его с детства: Сара Бернар{5} говорит ему «ты»… Все это, конечно, я знаю из его лекции, которая вовсе не лекция, а остроумная болтовня, делающая зрителя из толпы соучастником разглашения интимных подробностей жизни, не совершая при этом нескромности, без грубости интервьюера и без навязчивости фотографа.
Этот вечер мог бы показаться блестящим даже и не в «сезон» Великой войны. Но как С. Гитри ни был остроумен в своих характеристиках и изобретателен в неожиданных выдумках, но после этого вечера я выходил из театра глубоко потрясенный виденным.
На световом экране прошли в своей обстановке и в своих жестах Анатоль Франс{6} и Октав Мирбо, Клод Моне и Роден, Ренуар и Дегаст, Ростан и Сара Бернар… представители того искусства, которое сейчас для всего мира представляет знамя, победный панаш{7} Франции в области чувства и мысли. Их имена покрывают собою кипящий горн творчества Парижа, ими будет обозначаться век искусства, предшествовавшего Великой войне.
Трагизм этого последнего смотра был в том, что они уже не современники, что они уже прошлое.
Между тем, еще каких-нибудь пятнадцать лет назад, когда я еще внове кинулся в художественную жизнь Парижа, они были еще его будущим, за их признание еще ломались копья, их права и титулы еще надо было доказывать.
За эти годы они успели достичь зенита признания и стать мишенью новой реакции искусства.
Но они оставались современниками по преимуществу, и только теперь сквозь милую и забавную болтовню С. Гитри вдруг оказались отдаленными предками.
Никогда еще не думалось о том, что почти все они уже вступили в восьмой десяток, а некоторые, как Ренуар, даже миновали его, что признание их значения так запоздало, что полтора года войны сделало их такими дряхлыми, что достаточно одного толчка судьбы или случайного сквозняка, чтобы погасить творческое пламя, в них тлеющее.
II
Анатоля Франса я не видал лет шесть.
Тогда его длинное, костлявое, с долгим скривленным носом, удлиненное еще узкой бородой лицо напоминало благородного и мудрого Дон-Кихота, исцелившегося от безумия действительности и вполне познавшего превосходство мира идеального, заключенного в книгах, над миром земных реальностей, всегда неполным и не завершенным.
А лицо Мирбо в ту эпоху поражало мощным строением челюстей боевого бульдога и усталым равнодушием стальных глаз.
Война, как тяжелая болезнь, проработала эти маски усталого бульдога и успокоенного Дон-Кихота, она иссушила их кости, сморщила и опрозрачила кожу, положила на них черты преждевременной дряхлости.
Но Ренуар и Дегаст выглядят еще старше, еще дряхлее.
Им в течение жизни больше удавалось скрывать свои лица и проходить незамеченными в толпе «Всего Парижа».
Их черты не были зафиксированы ни афишами, ни карикатурами.
Даже в искусстве Ренуар выявился во весь свой рост великого мастера так недавно, каких-нибудь восемь лет назад, после своей ретроспективной выставки, устроенной Осенним салоном.
Восемьдесят лет усталости от напряженной работы чувствуются в каждой черте этого беспомощного старца, сидящего перед мольбертом в глубоком кресле. В его онемевшие руки со склеротическими жилами, с пальцами, скрюченными от ревматизмов, чужая рука вставляет кисть, чужая рука выжимает ему на палитру краски, и он, кидая из-под прикрытых тусклой плевой глаз проницающие взгляды старой хищной птицы, все-таки не прекращает работы, перенося на холст дрожащей рукой шелковистые, лоснящиеся и жемчужные отливы плодов и человеческого тела.
Дегаст такой же дряхлый, но еще способный передвигаться, пойманный безжалостным филином, на улице близ своего дома, озирающийся, как затравленный зверь, производит не менее трагическое впечатление.
Только Роден и Клод Моне, похожие lруг на друга своими мощными, атлетическими фигурами, как два дубовых ствола, поросших седым мохом, бодро выдерживают натиск лет и событий. Их не так-то легко сбить с ног.
Но самое болезненное и жуткое впечатление оставляет Сара Бернар.
Во время войны ей, благодаря давно запущенной болезни, пришлось отнять ногу. Бесстрашная, она не только согласилась на эту операцию, но три месяца спустя снова выступила на сцене.
Но здесь, вне огней рампы, на садовой скамейке, еще не оправившаяся от операции, кутающаяся в длинное покрывало, напоминающее саван, она невольно вызывает в памяти александрийскую куртизанку Левконойю, умершую две тысячи лет назад, мумия которой, улыбаясь мертвыми золотыми глазами, лежит под зеркальной витриной музея Гиме{8}. Это – то же бессмертие плоти, та же женственная элегантность скелета и нежно-пергаментная кожа, плотной лайковой перчаткой обтянувшая иссохшие кости черепа и вечной улыбкой обнажившая зубы.
Нет, веселый парижский забавник показал в этот вечер страшное зрелище умирающей Франции.
В то время, как смерть косит молодое поколение ее на фронте (по декабрьскому бюллетеню число убитых писателей достигло 205), старики не могут пережить духовной пустоты, созданной войной.
С начала войны умерли: Жюль Леметр, граф де Мен, Поль Эрвье{9}, Реми де Гурмон, «Гомер насекомых» – Фабр{10} и поэт Стюарт Мерилль{11}. Они умерли не на войне, но из-за войны, благодаря войне.
Рашильд{12} недавно очень верно писала по поводу смерти Реми де Гурмона:
«Смерть убивает не только лезвием своей косы. Машинальным движением своего костяного локтя она опрокидывает и тех, кто и не стоит непосредственно на ее дороге. Это «отбой» войны. Он сбивает с ног тех, кто, будучи осужден на бездействие, живет напряжением всех нервов тем, что вершится на полях сражений».
Фильм, показанный Саша Гитри, действительно казался последним смотром французского искусства. Эти «старцы», которые еще так недавно были последним трепетом современности, скользили полутенями, полупризраками по белому экрану, и было ясно, что о дного неловкого движения Великого Скелета довольно, чтобы погасить тлеющую в них жизнь, и невольно вставал вопрос: За кем очередь?
Цеппелины над Парижем
Этот сон я видел очень давно – на границе отрочества, лет двадцать пять назад, когда не только о цеппелинах{1}, но и об авиации вообще не было еще и речи.
Я был в огромном, многоэтажном серо-каменном городе, имени которого не знал. Город был безлюден и цепенел в молчании и ужасе. Какое-то неведомое бедствие витало над ним. В чем заключалась грозящая беда, никто не знал, но все прятались, таились, боялись показываться на улицы.
Вместе с несколькими мне неизвестными людьми я скрывался на чердаках огромных пустых домов. Мы перебирались по крышам среди каменных лабиринтов с одного дома на другой, прятались за трубами, укрывались в слуховые окошки.
Помню, как я услыхал глухой гуд раздвигаемого воздуха, похожий на низкое и глухое жужжание тяжелого шмеля, и вспомнил или понял в это мгновенье, что опасность, от которой все бежали из города, – Дракон, который временами кружит над ним в сумерках. И тут я увидел его прямо над собою, сквозь слуховое окно.
Он пролетал так медленно, точно полз по небу, и так низко, что я не мог разглядеть его всего; я различил отчетливо серо-желтую чешую на его брюхе, и все щитки ее двигались, точно дышали.
И вдруг я понял, что эта чешуя не живая, что она часть какого-то сложного аппарата и что этот Дракон не зверь, а машина. И ужас, живший в душе от этого открытия, начал превращаться в безграничное отвращение, более жестокое, чем самый страх.
Этот сон я вспомнил сразу в ночь на 22 марта 1915 года, когда, разбуженный тревожными звуками трубы и грохотом пожарного автомобиля, возвещающего набег цеппелинов, я, наскоро одевшись, бросился на чердак, чтобы посмотреть, что происходит в воздухе, и увидал прямо над собою в созвездии Тельца, ярко освещенный рефлектором Эйфелевой башни, летучий корабль, похожий своими каннелюрами <и> сужением диаметра на короткий ствол дорической колонны.
Действительность, как всегда, была менее ужасна, чем сон.
Цеппелины, сперва один, потом другой, упорно шли на Эйфелеву башню. Человеческие звуки смолкли. Слышны были только выстрелы соседних батарей и собачий лай. Осветительные фузеи разрывались, как ракеты и римские свечи.
Полнозвездная ночь весеннего равноденствия, созвездия, служившие фоном для воздушной битвы, разрывы осветительных бомб – все это давало скорее впечатление фейерверка, ночного празднества, нежели опасности и ужаса.
Психологическая сторона сна была верна только для рассудка, но не для чувства непосредственно.
Теперь, после десяти месяцев отсутствия, цеппелины вернулись снова.
Их не ждали. От них отвыкли. Но их встретили, как старых знакомцев.
Прошлой весной их ожидание вызывало еще некоторое беспокойство: согласно полицейским наставлениям, люди добросовестно прятались в подвалы, в квартирах тушили все огни, спешили вернуться с улицы домой.
На этот раз никто не хотел идти в подвалы, тем более что при возможности употребления удушливых газов там было бы еще опаснее, а все кинулись на балконы, на крыши, па улицы: смотреть, и напрасно полицейские и пожарные подходили к темным группам, толпившимся у каждых ворот, и советовали вернуться домой.
Но ожидания не оправдались. Зрелища не было.
Невысоко над городом быстро протекали негустые массы разорванного тумана, то позволявшие изредка различать тусклые звезды, то совсем покрывавшие небо.
В этой движущейся мгле промелькнуло несколько беглых огней. Они падали сверху вниз, наискось, приблизительно из одной точки, заставляя предположить, что это – бомбы, брошенные с цеппелинов, или фузеи преследующих их авианов. В стороне северных кварталов раздалось несколько сильных и глухих взрывов.
Но все было кончено одновременно с тревогой. Она запоздала.
Теперь уже ни для кого не секрет, что первый набег состоялся потому только, что их прозевали.
Все авиаторы были в субботнем отпуску.
Нынешнее нападение снова и, очевидно, не случайно пришлось на субботу, и, благодаря тому, что тревога была поднята слишком поздно, оставалось впечатление, что не доглядели.
На следующую ночь они вернулись снова, но им пришлось разгрузиться в северных предместьях, не переступив линии парижских укреплений.
Но несмотря на то, что на этот раз оказалось довольно много человеческих жертв, их появление ни в первую, ни во вторую ночь не произвело особенной тревоги.
Поезда metropolitain шли в полном мраке. Вагоны были переполнены.
И вся эта толпа, запертая в темных вагонах, пела хором пресловутое возглашение, оставшееся последнею памятью министерства Мильерана{2}.
Tenez-vous! Taisez-vous![53] Hou! Hou! Hou![54]И только один отпускной с фронта громко ворчал в углу вагона:
– Думал – приеду к вам в Париж – отдохну, а у вас здесь такие ж точно пакости, как у нас.
Судьба Верхарна
Верхарн был последним, кого я видел в Париже перед моим отъездом весною этого года. Мы встретились случайно накануне моего отъезда в музее Гиме (музее религий), в угловой зале, посвященной буддийскому искусству. Он стоял перед статуей «Дхармы» и внимательно рассматривал ее.
Дхарма – это высший религиозный долг. Он олицетворен в виде странника, идущего на облаке с башмаком в руке, в черной одежде, развеваемой ветром времен. Эта статуя одно из самых патетических и строгих произведений религиозного искусства Японии. Она вырезана из черного дерева. А ее белые агатовые глаза приковывают своим пронзительным, необычайно живым и глубоким взглядом. Они смотрят прямо в человека и сквозь него, на какие-то отдаленные горизонты его души.
Мой короткий разговор с Верхарном, разговор, которому было суждено стать последним, был ничем не замечателен: несколько общих слов о России, о знакомых, обмен адресами.
Но теперь, вызывая в памяти наружность Верхарна, его худую немного сутулую фигуру в потертом драповом пальто, в котелке, его висячие, с сильной проседью усы, его уже по-старчески голубые глаза из-за тяжелого пенсне, криво сидящего на середине длинного и доброго, дон-кихотовского носа – носа идеалиста и мечтателя, и его лоб с широкой трагической морщиной, похожей на крылья летящей птицы, я невольно вижу за его плечом черную фигуру и упорный агатовый взгляд странника на облаке с башмаком в руке. Она теперь связалась для меня с обликом Верхарна, как символический зверь с фигурой евангелиста.
Этот образ «Долга» не случайно соединился в моем воспоминании с физическим ликом умершего поэта.
В годы юношеского кризиса сознания, [когда] труп его разума в саване цвета яда и пламени влачился по Темзе, и жизнь диктовала ему суровый завет: «Будь сам своим палачом, не уступай радости измучить себя никому и никогда; единственный свой поцелуй отдай отчаянью», когда ему казалось, что «одежды прекраснейших грез и гордость напрасных человеческих знаний висят лоскутьями на его теле» и что сама жизнь в ужасе отшатывается от него, ему было чудесное видение:
«Широкой молнией среди туманов разверзается проход, и святой Георгий, весь сверкая золотом и перьями, на взмыленном белом коне без узды – спускается.
Святой Георгий, «рыцарь Долга», посланник из белой страны, сверкающей мрамором.
Святой Георгий в блестящих доспехах промчался сквозь мою душу, прыжками пламени, ясным утром… Он был юн и прекрасен верой. Он склонялся ко мне тем ниже, чем ниже я пригибал колени… Он наполнил меня своим полетом и нежным ужасом… И склонясь перед высоким видением, я сложил в его бледную, гордую руку печальные цветы моей скорби. И он умчался, наложив на меня п о с л у ш а н и е м у ж е с т в а, копьем начертав золотой крест на моем челе, прямо к Господу, с собой унося мое сердце…»
Поэма, в которой Верхарн раскрывает свое посвящение и «рыцари Долга», принявшего «послушание мужества», составляет часть книги «Видение на моих путях»{1}, являющейся поворотной точкой всего его творчества. Отсюда начинается его восхождение к высочайшим ступеням поэтического просветления, к любви и благословению всего сущего в мире.
Мало кто из поэтов переживал кризис отчаяния и неверия с большею силой, чем Верхарн пережил его в «Вечерах», «Разгромах» и «Черных Факелах»{2}, и редко кому мир окружающей реальности, мир внешних форм жизни, мир современности являлся в таких грозных, безнадежных, безжалостно-четких видениях. Но, верный своему «послушанию мужества», он подошел к этому миру в упор, ни на что не закрывая глаза, ни от чего не отворачиваясь.
Его «призрачные деревни», его «галлюционирующие поля», его «города-спруты», его «буйные силы» – это героические этапы его борьбы с миром современности{3}. И ему удается победить современность, то есть опрозрачить, освежить изнутри, найти ей имя. Потому, что в этом победа поэта над миром. Одержав ее, он выходит на широкие просторы вселенской любви…
Пламенеющий энтузиазм любви, приподнимающий все творчество последних лет Верхарна, прекрасно выражен во второй половине его поэмы «Дерево».
В октябре, когда золото блещет в листве его, — Часто шаги мои – тяжко-усталые, но все же широкие Я направлял в богомолье к этому дереву, Пронзенному ветром и осенью. Как исполинский костер листьев и пламени, Оно подымалось спокойно в синее небо, Все наполненное миллионами душ, Певших в дуплистых ветвях. Шел я к нему с глазами, повитыми светом, Трогал руками его и чувствовал ясно, Как движутся корни его под землей Нечеловечески мощным движеньем. Смешан и слит с глубокой и полною жизнью — Я сам прилеплялся к нему, как ветвь средь ветвей, Глубже любя эту землю, леса и ручьи, Это великое, голое поле с клубящимся небом… И кричал я: «Сила – свята! Надо, чтоб сам человек метил печатью ее Дерзкие планы свои – грубо и страстно. Рая ключарница, ей – право выламывать двери!» Ствол узлистый без памяти я целовал, Когда ж вечер спускался с небес — Я терялся в мертвых полях. Шел неизвестно куда – прямо вперед пред собой, С криком, бьющим со дна сумасшедшего сердца.Европейская война и бедствие, постигшее Бельгию, застали Верхарна в момент высшего просветления его духа. Разразись европейская война на двадцать лет раньше, она бы прекрасно вязалась с исступленными видениями «черных факелов» и «городов-спрутов».
Для Верхарна, пришедшего к полному оправданию мира и экстатическому просветлению духа, эта война с ее проявлениями и формами была катастрофой, разбивающей все его миросозерцание.
Пророчественность – основное свойство поэзии. Это не значит, что все написанное поэтами должно осуществиться. Но каждое истинно поэтическое творение говорит о том, что жизнь вступит в ту полосу, где подобные переживания станут неизбежными.
Поэтому в жизни поэтов повторяется судьба пророков: в эпохи глубокого исторического затишья они исступленно кричат о бедах и ужасах; а когда земля, потрясенная их же пророчествами, сотрясается, и с неба падает огненный дождь, они становятся подобны людям, ничего не знавшим и не предвидевшим. Пророчествуя о будущем, они сами не знают, что пророчествуют, потому что души их подобны раковинам, лабиринты которых гудят звуками, доходящими из неизвестно каких времен.
Душа Верхарна жила в огненной атмосфере, окружавшей души Иезекииля и Исайи{4}. Он глядел на крыши современного Лондона и Парижа с тем же чувством и той же перспективой, как они глядели на дома и стогны Ниневии и Вавилона.
В годы спокойного расцвета и благоденствия Бельгии в душе Верхарна звучали топоты апокалиптических конниц, разверзались бездны, рушились небеса, пылали пожары, текли кровавые реки.
Он видел «вечера, распятые на сводах небосклона», «черные Голгофы в свитках пламени», «источники чистых вод, которые кровавятся червонными струями», «жизнь – слепую и исступленную», а над нею «парила смерть – безумная и ослепительная».
Но по мере того, как талант его уравновешивался, он сам старел, а великие катастрофы реальной жизни созревали и надвигались, – дух его успокаивался, прояснялся, и он от пророческих воплей и проклятий переходил к благословению всего сущего.
Пророчественность подобна дальнозоркости: она различает только далекое, только то, что мерещится на горизонте, и не видит близкого. По мере того, как приближается момент катастрофы, провидец слепнет. Для Верхарна – апокалиптического провидца злобных и стихийных сил, которые скрывались за безопасными и упрощенными формами европейской культуры и клокотали в сердцах машин, – великая война, ими же подготовленная, была полною неожиданностью.
«Окровавленная Бельгия»{5}, книга статей Верхарна, написанных во время войны, открывается таким трагическим признанием:
«Тот, кто написал эту книгу, в которой он не хочет скрывать своей ненависти, был некогда мирным человеком. Он удивлялся многим народам. Некоторые он любил. Среди них была Германия. Не она ли была самой плодоносной, самой трудолюбивой, зачинательной, смелой и размеренной из всех? Не давала ли она посещавшим ее ощущение безопасности в силе? Не заглядывала ли она в будущее глазами более острыми, более горящими, чем другие?
Настала война.
Германия явилась другой – мгновенно. Сила ее стала несправедливой, свирепой, подлой. В ней не осталось гордости иной, чем гордость самовластия. Она стала бичом, от которого надо защищаться для того, чтобы самая жизнь человеческая не иссякла на земле.
Написавший эту книгу не знал разочарования более великого, более внезапного. Оно поразило его так, что о н п е р е с т а л с е б я ч у в с т в о в а т ь п р е ж н и м ч е л о в е к о м.
А так как в том состоянии гнева, в котором он живет сейчас, его сознание кажется ему как бы замутненным, то он с глубоким волнением посвящает эти страницы тому человеку, которым о н б ы л к о г д а – т о».
Это признание тем более страшно и патетично, что из всех поэтов, пишущих на французском языке, Верхарн был наиболее проникнут германским духом. Именно это делало его таким необычным во французской поэзии и таким близким в России и Германии.
Германский дух, сложный, глубокий и темный, становится ясным и прозрачным, вправленный в четкие и пластические формы французской речи; а в текучей устремленности его французского стиха сверкают мглистые и металлические отливы германских руд. Верхарн в поэзии был единственным слиянием латинского и германского духа, слиянием органическим, целокупным, совершенным.
Тигель, в котором мог произойти этот сплав, – Фландрия.
Что Верхарна нельзя и не следует судить как французского поэта, отмечалось в свое время многими критиками.
Реми де Гурмон после выхода «Городов-спрутов» писал:
«Чтобы оценить Верхарна по справедливости, не надо его судить с французской точки зрения, сравнивать его с поэтами нашей расы, нашей традиции. Его надо оставить в своей среде: пусть он остается для нас фламандским поэтом, который для передачи своей фламандской души пользуется средствами французского языка.
Для фламандского духа характерно это странное сочетание мистицизма и чувственности, кротости и ярости, бунта и смирения. Это все можно было бы найти и в парижанах средневековья. Но Фландрия именно и является в наше время страной, наиболее подчиненной духу средневековья. Она стремилась одновременно к социальной свободе и религиозному подчинению. Там католические празднества уживаются рядом с народными кермессами. Это страна веры и обжорства, скупости и расточительности, насилий и кротости…
Но насколько глаз германца – Гете был латинским, настолько же глаз фламандца Верхарна остается германским. Ему неведома латинская четкость. Ему никогда не удается вызвать отчетливую картину своих видений. Его рисунок тонет всегда в волнах великолепных туманов, кое-где прорезанных лучами красноватого света, лунным сиянием или далеким заревом пожара.
Верхарн – часто неуклюжий, но мощный кузнец слова, самый мощный, какого французская речь видела со времен Виктора Гюго».
Но Реми де Гурмон, указывая на Германию, отмечает только один из исторических истоков духа Верхарна.
Фландрия была плавильным горном, в котором вместе с германскими рудами было расплавлено и испанское золото.
Этот исток поэтического духа Верхарна был указан братьями Мариус-Ари Леблон{6}:
«В произведениях Верхарна поражает и ослепляет то, что осталось в нем от Испании, от великолепной и роковой Испании Карла V и Филиппа II, от этого цветения феодального и католического средневековья цветами огня и золота. Во всей совокупности его творения мы прозреваем Испанию черную и золотую; она в архитектуре его стихов – грандиозных и мрачных, как Эскуриал, тусклый Эскуриал, все окна которого на закате солнца прыщут золотом на фасаде, уже одетом саваном ночи. Золото и огонь! Все творение Верхарна сверкает бликами великих пожаров имперского владычества над Брабантом, преданным огню и мечу герцогом Альбой».
Сам Верхарн любил вспоминать о «смуглых предках, обнимавших своих белокурых жен». Испания и Германия сплавились воедино в фламандской крови Верхарна и нашли себе выход во французском стихе.
Тем страшнее и катастрофичнее была его личная драма, вызванная войной. Это не просто разочарование в культуре, которую он считал высокой, это бунт против собственной своей крови, ненависть к своей духовной родине, отказ от собственного происхождения.
«Инстинкт национальности диктует нам отныне один долг – ненависть. Германия не оставила нам выбора между любовью и ненавистью», – говорил Верхарн. И признавался:
«Я ненавижу Германию за то, что она заставила меня ненавидеть».
Все творчество Верхарна было постепенным просветлением любви. Последние книги его, предшествовавшие войне, как «Вся Фландрия», «Волнующиеся нивы»{7}, проникнуты ясным вечерним светом благословляющей любви. Голос его звучит величаво и просто; каждая фраза, каждый образ ложатся естественно и легко в законченные, архитектурные, классические строфы свободного стиха.
Совсем не то в его последнем сборнике «Красные крылья войны»{8}. Его нельзя сравнить ни с его последними, ни с ранними его книгами. Поэтический голос его звучит в нем надтреснуто, пафос ему изменяет и становится риторикой. Слишком часто за этими стихами чувствуется газетная статья. И те же самые образы и слова, сказанные прозой в «Окровавленной Бельгии», звучат сильнее и глубже.
Голос поэта срывается и падает, голос гражданина крепнет и покрывает голос поэта.
Как почва Фландрии, так и душа Верхарна оказались полем битвы народов. Латинская и германская стихии, конкретным синтезом которых он был сам, всем существом своим восстали друг на друга не только во внешнем мире, но и в глубине его духа; и, произнеся свое «н е н а в и ж у», он проклинал и самого себя в своих глубочайших истоках. Его стихи о войне свидетельствуют о расчленении его души: в них осталась латинская форма, страстность, риторика, но глубина и прозрение, и пророчественность, которые он черпал от германского духа, иссякли.
Валерий Брюсов назвал Верхарна «Верный до конца». Нет, Верхарн не остался верным до конца. «Рыцарь Долга» – св. Георгий, посвящая его в поэты, наложил на него «послушание мужества», и весь путь Верхарна, как поэта, был мужественным оправданием мира, оправданием современности, оправданием силы. В последние годы своей ясной старости он достиг той высоты познания и любви, с которой человек благословляет все сущее и теряет право на ненависть.
Ненависть является одной из форм выражения любви только для сердец не просветленных. Долг гражданина и поэта не совпадают и могут противоречить один другому.
Когда на земле происходит битва, разделяющая все человечество на два непримиримых стана, надо чтобы кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпоху всеобщего ожесточения и слепоты надо, чтобы оставались люди, которые могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обезумевшую реальность – благословением. В этом высший религиозный долг, в этом «Дхарма» поэта.
Жестокая и нелепая смерть Верхарна, религиозного долга: он захотел смиренно разделить со своей страной ее судьбу.
Жестокая и нелепая смерть Верхарна с отрезанными ногами, под колесами поезда, является совершенно точным отображением в мире физическом того душевного разлада, разорванности, расчлененности, которую он нес в своем духовном мире.
Но поэт, которому в глубине трагических закатов чудились золотые катафалки, в которых покоятся не тела победителей с наглыми глазами, а тела побежденных, чьи сердца были переполнены пеплом печали, а руки, как безумные ветви, были простерты к далям мечты, всегда останется нашему сердцу ближе и дороже побежденным, чем победителем.
Молитва о городе (Феодосия весною 1918 года при большевиках)
Феодосия при большевиках не напоминала ни один другой русский город.
Она была единственным беззащитным и открытым портом на Черном море. Туда спасались со всех его побережий. Каждый день в ее порт врывались транспорты: заржавленные, помятые, заплатанные. По два, по три, по четыре в день. Однажды их пришло 34. Это было в день взятия Одессы{1}.
Каждый из них требовал места, грозил расстрелять остальных, расталкивал их, швартовался у мола, спускал сходни, и по сходням, со знаменами, с пулеметами, с плакатами, на которых было написано, кто они, спускалось его народонаселение и шло к совету «захватывать власть».
Тут были трапезундские солдаты{2}, армянские ударники, румынские большевики, сербский легион, турецкие пленные, просто беженцы и анархисты всех оттенков: анархисты-коммунисты, анархисты-террористы, анархисты-индивидуалисты, анархисты-практики…
В течение месяца большевики были крайне правой партией порядка. Местные «буржуи» молили Бога: «Дай, Бог, только, чтобы н а ш и большевики продержались». Благодаря борьбе с более левыми партиями, большевикам некогда было заняться собственными делами – т. е. истреблением буржуев.
Иногда наведывался миноносец из Севастополя – «Пронзительный» или «Фидониси» – и спрашивал: «Что, ваши буржуи до сих пор живы? Вот мы сами с ними управимся». На что председатель совета Барсов{3} – портовый рабочий, зверь зверем, – отвечал с неожиданной государственной мудростью:
«Здесь буржуи мои, и никому другому их резать не позволю».
Благодаря всему этому Феодосия избегла резни и расстрелов, бывших в Севастополе, в Симферополе, в Ялте.
Каждая волна приносила с собой что-нибудь новое.
Социалистический рай начался с продажи рабынь па местном базаре – на том самом месте, где при генуэзцах и турках продавали русских рабов.
Трапезундские солдаты привезли с собою орехи и турчанок. Орехи – 40 р. пуд. Турчанки – 20 р. штука{4}.
Потом прибыло турецкое посольство на двух миноносцах с помирающими от голода тяжелоранеными{5}. Совет устроил обед – но не голодающим, а турецкому посольству. Председатель совета сидел в каскетке. Турки были корректны, в мундирах и орденах. Был произнесен ряд речей.
– …Передайте вашей турецкой молодежи и всему турецкому пролетариату, что у нас социалистическая республика… Да здравствует третий интернационал.
Таких речей было произнесено 6–7. После каждой турецкое посольство вставало и отвечало одной и той же речью:
«Мы видим, слышим, воспринимаем. И с отменным удовольствием передадим обо всем, что мы видели и слышали, его Императорскому Величеству – Султану».
Когда настала неделя анархистов и через каждые 20 минут где-нибудь в городе лопалась бомба – очень громкая и безопасная, на стенах Феодосии можно было видеть единственную в своем роде прокламацию:
«Товарищи! Анархия в опасности! Защищайте Анархию!»
Но анархия была на следующий день раздавлена, сотня анархистов-практиков была вывезена под Джанкой и там расстреляна, а на месте прокламации было наклеено мирное объявление:
«Революционные танц-классы для пролетариата, со спиртными напитками».
После только раз появился в Феодосии отряд анархистов: они построились на площади по росту, они были вооружены до зубов и обвешаны ручными гранатами по поясу. Вид у них был грозный, и они улыбались во весь рот. Над ними развевалось черное знамя во всю площадь с надписью «Анархисты-террористы».
По какому-то наитию я подошел к правофланговому и спросил: «Sind Sie Deutsche?» – «О, ja, ja – wir sind die Freunde»[55]. А затем шепотом пояснил: «Мы немецкие пленные. Сейчас анархистам очень хорошо платят».
Через неделю Феодосия была занята немецкими войсками.
Таковы иронические улыбки этого жуткого времени. Вот патетическая сторона его:
I.
И скуден, и неукрашен Мой древний град В венце генуэзских башен, В тени аркад; Среди иссякших фонтанов, Хранящих герб То дожей, то крымских ханов, — Звезду и серп; Под сенью тощих акаций И тополей, Средь пыльных галлюцинаций Седых камней, В стенах церквей и мечетей Давно храня Глухой перегар столетий И вкус огня; А в складках холмов охряных — Великий сон: Могильники безымянных Степных племен; А дальше – зыбь горизонта И пенный вал Негостеприимного Понта У желтых скал.II
Войны́, мятежей, свободы Дул ураган; В сраженьях гибли народы Далеких стран. Шатался и пал великий Имперский столп; Росли, приближаясь, клики Взметенных толп. Суда бороздили воды, И борт о борт Заржавленные пароходы Врывались в порт. На берег сбегали люди, Был слышен треск Винтовок и гул орудий, И крик, и плеск. Выламывали ворота, Вели сквозь строй, Расстреливали кого-то Перед зарей.III
Блуждая по перекресткам, Я жил и гас В безумьи и в блеске жестком Враждебных глаз; Их горечь, их злость, их муку, Их гнев, их страсть, И каждый курок и руку Хотел заклясть. Мой город, залитый кровью Внезапных битв, Покрыть своею любовью, Кольцом молитв, Собрать тоску и огонь их И вознести На распростертых ладоньях: «Пойми… Прости!»Первое впечатление Одессы (Письмо в редакцию Максимилиана Волошина)
Я приехал в Одессу, как в последнее сосредоточие русской культуры и умственной жизни{1}. Приехав, естественно, простудился, пролежал две недели и, выйдя в первый раз, стал свидетелем такого происшествия:
В одном из больших домов, со многими флигелями и сотнями квартир, около 5 часов дня, я искал знакомую семью. Путеводительницей моей в этом лабиринте была молоденькая барышня. Она позвонила у дверей квартиры, в которой наниматели комнаты – мои знакомые. Дверь полуоткрылась, и послышался заспанный генеральский бас хозяина квартиры:
– Только что лег спать… Неужели нельзя, когда приходят к моим жильцам, не будить меня?
Моя спутница отвечала:
– Будьте добры обращаться с этим к вашим жильцам. Они дома?
После этого раздался громкий удар захлопнутой двери и крик моей спутницы, махавшей окровавленной рукой, по которой пришелся удар дверью.
Генерал-квартирохозяин пихнул ее, ни слова не говоря, в грудь и захлопнул дверь.
Все это произошло так быстро и неожиданно, что я, стоявший в трех шагах на площадке лестницы, не успел физически принять никакого участия в происшедшем, а когда я снова стал звонить и стучать в дверь, то она больше не открылась.
Когда я нашел дворника, то он устало махнул рукой: было ясно, что истории с генералом ему давно надоели. Впрочем, он посоветовал обратиться в ближайший полицейский пост. Там моей спутнице сделали перевязку, но наотрез отказались идти к генералу составлять протокол о происшедшем.
Я в глубоком недоумении. Стараясь объяснить себе психологию генерала, я пытался оправдать его действия «святою трусостью». Но он никак не мог принять мою спутницу за «налетчицу», этому не соответствовал час дня, а сама она уже не раз бывала у него в квартире. Нет – ему просто хотелось спать…
У меня возникает целый ряд вопросов:
Может быть, одесские налетчики оклеветаны и, чтобы иметь возможность корректно разговаривать с квартирохозяином, необходимо прежде вставлять в приоткрывшуюся дверь дуло револьвера?
Неужели немецкие списки, по которым истреблялось русское офицерство, были так систематично и хорошо составлены, что туда были внесены только действительно ценные и благородные люди?
Где и какими путями надо искать законной управы против таких странных людей, калечащих барышен за то, что не вовремя позвонили в их квартиру, как генерал К-ов{2}, хозяин квартиры № 4, в доме № 3, по Пироговской улице?
Я прошу сведущих и тактичных людей Одессы осведомить меня об обычаях и нравах этого «последнего культурного центра России».
Искусство в Феодосии
Феодосия – город контрастов.
Кажется, нет <среди> русских городов города, менее живущего художественной жизнью, чем она.
Нельзя себе представить театральной публики более неблагодарной, художественно и архитектурно более безвкусной, чем богатое феодосийское мещанство{1}.
Екатерининская набережная с ее дворцами в стиле турецких бань, публичных домов и лимонадных киосков, с ее бетонными Эрехтейонами, гипсовыми «Милосами», голыми фисташковыми дамами с декадентских карт-посталей представляет совершенно законченный «Музей Дурного Вкуса».
Большевики и анархисты, в руках которых Феодосия побывала дважды{2}, не захотели оказать ей единственной услуги, на которую были способны: они не взорвали этих вилл.
Не думаю, чтобы этим тонким и злым способом они хотели наказать буржуазию, сохранив ее позор на будущие времена, – нет, они сами находились под обаянием монументальности этих построек: мещанин мещанина чует издалека.
Мещанство «Пролетариата» благоговеет перед мещанством «Буржуазии», и идеал комфорта и роскоши, воплощенный в типе первоклассного отеля, станционного буфета и пароходной кают-компании, туманит воображение обеих сторон, так неудачно и не вовремя поссорившихся из-за дележа жизненных благ.
Единственная реальная услуга, оказанная большевиками городу, – удаление безобразного памятника Александру III{3} – была ими совершена отнюдь не из эстетических соображений и не из уважения к личности покойного императора, а из дурацких политических антипатий.
Когда феодосийские мещане поголовно бежали из города перед вторым пришествием большевиков, я, опасаясь полного исчезновения зоологического вида и желая использовать тот авторитет и уважение, которое мне доставили среди большевиков мои стихотворения «Брестский мир» и «Святая Русь», пытался суфлировать «Пролеткульту» идею об устройстве на Екатерининском проспекте «Национальн<ого> парка».
Я рекомендовал сохранить один из дворцов во всей его неприкосновенности внутренней обстановки, выкрасть где-нибудь на Кавказе чету бежавших буржуев и поселить их, как Адама и Еву, в этом идеальном раю мещанства, чтобы сохранить их семейный и хозяйственный быт для наглядного сравнения с формами грядущего пролетарского рая.
Большевики, занятые политич<еской> суетой и Владиславовским фронтом, к сожалению, не оценили всего социально-педагогического значения моего предложения.
К счастью, приход добровольцев, которые привезли с собою всех представителей временно исчезнувшего вида, снова превратили Екатерининск<ий> проспект в живой музей, своими богатствами и научной полнотой способный соперничать с самой Аскания-Нова.
Потому что в Феод<осийском> питомнике, по отзывам специалистов, были выведены совершенно новые виды «буржуев-спекулянтов», как по совершенно новым приемам работы, так и по своей прожорливости.
Очевидцы и пострадавшие на Кавк<азском> побережье рассказывали мне с восторгом и ужасом о «мертвой хватке» феод<осийских> спекулянтов, как они купили тот пароход, на котором бежали, и успели его два раза перепродать с чудовищным барышом, не дойдя до места назначения; как один из них изобрел жидкость для восстановления утраченной молодости керенских кредитных билетов и, скупив за бесценок партию бракованных бумажек, нажил миллионы: весь Кавказ еще два месяца спустя гудел стонами и легендами.
Казалось бы, откуда такому деловому и передовому городу, как Феодосия, иметь свое искусство и свой стиль.
А между тем в ней есть и то, и другое.
У старой Феодосии есть своя архитектурная физиономия, сохранившаяся кое-где на Итальянской, в старых домах, с аркадами, в кварталах, идущих по направлению к Карантину, в Караимской слободке около Митридата, наконец, в самом Карантине{4}.
Есть у нее и еще большее, чем архитектурн<ое>, лицо: Феодосия, может быть, единственный из провинциальных городов России, который может гордиться, что она является родиной целой школы живописи, которую мы вправе называть Киммерийской{5}. Это ее роднило бы с маленькими городками Средней Италии, если бы в ней сохранялись материальные памятники ее искусства.
Но, к сожалению, кроме галереи Айвазовского, в которой собраны самые плохие произведения этого большого мастера, то есть все те, которые остались непроданными при жизни его, и нет ни одной картины его творческого расцвета, – кроме этой галереи, только компрометирующей память великого мариниста, – нет ничего. Ни в одном публичном здании вы не найдете ни одной картины Куинджи, Лагорио, Богаевского, Латри, Шервашидзе – художников, которыми Феодосия вправе гордиться, но о которых она часто даже не подозревает.
Помню, как в одном из первых газетных листков, издававшихся в Феодосии, была помещена заметка: «По слухам, известный русский художник Богаевский собирается переселиться на постоянное жительство в Феодосию». Редакция газеты не подозревала, что Богаевский родился в Феодосии <и> в течение всей своей жизни <в> ней жил.
Зато в частных домах Феодосии встречается очень много ценных произведений живописи. Айвазовский оставил здесь после себя целую школу копиистов и подражателей, и в редком из старых феодосийских домов не хранится «подлинный Айвазовский». А таковой, будь он и плох для музея – для частного провинциального дома все же очень большая роскошь.
Здесь же можно часто встретить произведения таких чисто крымских живописцев, не выходивших за пределы Крыма и не вошедших ни в один музей, как Феслер и М. М. Петров{6}. Так же можно найти Лагорио, Богаевского, Латри. Все эти картины распространялись в порядке семейственном – подарков и сувениров.
Т. о. за внешним художественн<ым> бесплодием Феодосии, за ее показным, бьющим в нос безвкусием, в глубине ее таится богатая и щедрая историческая подпочва.
В дальних углах, в старых кварталах, построенных на благородных итальянских фундаментах, продолжается в молчании творческая работа, о которой богатые мещане, строящие себе роскошные особняки, к счастью своему и спокойствию, даже не подозревают.
Мнением крупных русск<их> художников, живущих в одном с ними городе, они не интересуются. Когда перед войной был поставлен на очередь вопрос о постановке памятника Айвазовскому, «отцы города» и не подумали обратиться к ним за советом, а втихомолку, на свой страх и риск, заказали известному кукольных дел мастеру – Гинсбургу{7} – соответственную куклу феодосийского патриарха.
Поэтому, когда в Феодосии возникает новое Художественно-литературное общество, ему каждый раз приходится считаться с очень трудной и ответственной задачей: клиентуры у них не может быть иной, чем местное богатое мещанство, которое должно оплатить все расходы по предприятию; а художественный уровень, до которого они должны дотянуться, определяется тем высоким градусом напряженной творческой работы, которая ведется в уединенных мастерских.
Соединить эти концы, разумеется, невозможно.
Но тем не менее, пожелаем Литературно-художественному кружку{8} всяческого успеха.
Он начинает хорошо и удачно и, кажется, избрал верный путь.
Он имеет свой орган «К искусству», украшенный такими литературными именами, как Поликсена Сергеевна Соловьева, Вересаев, Марина Цветаева, Аделаида Герцык, София Парнок, Мандельштам, Андрей Соболь и пр.
Он будет иметь собственное художественно-украшенное помещение. Нельзя не приветствовать выбора художника, которому кружок доверил роспись своего помещения.
В. В. Бобрицкий является одним из самых талантливых молодых художников Юга России. Он мастер харьковского союза «7» и известен широко, как оригинальный и опытный театральный декоратор.
Из больших театральн<ых> постановок ему принадлежат ремизовская «Трагедия об Иуде принце Искариотском» в театре «Студия», «Король без венца» Буэлье{9} в Большом Драматическом, ибсеновский «Брандт» и клоделевский «Обмен» в Камерном Театре, наконец, так нашумевшая глаголинская постановка ванлерберговского «Пана» в Драматическом театре. Наконец, ему же принадлежит роспись Дома Артистов в Харькове.
Это настоящий стенной мастер, крепко чувствующий цвет, форму и материал; в отличие от большинства молодых он «грамотен», он умеет хорошо проникаться стилем и обладает широким диапазоном стилей, начиная от «кубизма», «лубка», «подноса», «иконы» и кончая итальянск<им> примитивом и строгой академией.
Роспись подвала Литературно-художественного кружка{10}, эскизы которой мне довелось видеть, будет выдержана в стиле персидских миниатюр и будет представлять для Феодосии истинно художественное приобретение, когда будет закончена.
Вот если после открытия своего подвала Литературно-художественному кружку удастся взять феодосийского буржуя за горло и заставить его замазать в своих «Виллах» мазню доморощенных маляров и дать вновь расписать таким декораторам, как Бобрицкий и его постоянный помощник и сотрудник скульптора Цибис{11}, да заставить их покупать картины таких мастеров, как Богаевский, Латри, Хрустачев – перечисляю тех, кто сейчас живет и работает в Феодосии, – то это будет действительно неоценимая услуга, оказанная городу.
Но думаю, что этого результата можно достичь только физическим насилием.
Дай Бог всякого успеха этому предприятию!
Автобиография
Сейчас (1925 г.) мне идет 49-й год. Я доживаю седьмое семилетье жизни, которая правильно располагается по этим циклам:
1-ое семилетье: Детство (1877–1884).
Кириенко-Волошины{1} – казаки из Запорожья. По материнской линии – немцы, обрусевшие с XVIII века.
Родился в Киеве 16 мая 1877 г<ода> в Духов день.
Ранние впечатления: Таганрог, Севастополь. Последний в развалинах после осады, с Пиранезиевыми деревьями из разбитых домов, с опрокинутыми тамбурами дорических колонн Петропавловского собора{2}
С 4-х лет – Москва из фона «Боярыни Морозовой». Жили на Новой Слободе у Подвисков, там, где она в те годы как раз и писалась Суриковым в соседнем доме{3}.
Первое впечатление русской истории, подслушанное из разговоров старших, – «1-ое марта»{4}.
Любил декламировать, еще не умея читать. Для этого всегда становился на стул: чувство эстрады.
С 5 лет – самостоятельное чтение книг в пределах материнской библиотеки. Уже с этой поры постоянными спутниками становятся: Пушкин, Лермонтов и Некрасов, Гоголь и Достоевский и немногим позже – Байрон и Эдгар По.
2-ое семилетье: Отрочество (1884–1891).
Обстановка: окраины Москвы – мастерские Брестской ж<елезной> д<ороги>, Ваганьково и Ходынка. Позже – Звенигородский уезд: от Воробьевых гор и Кунцева до Голицына и Саввинского монастыря.
Начало учения: кроме обычных грамматик, заучиванье латинских стихов, лекции по истории религии, сочинения на сложные не по возрасту литературные темы. Этой разнообразной культурной подготовкой я обязан своеобразному учителю – тогда студенту Н. В. Туркину{5}.
Общество: книги, взрослые, домашние звери. Сверстников мало. Конец отрочества отравлен гимназией. 1-й класс – Поливановская{6}, потом, до V-го, – Казенная 1-ая{7}.
3-е семилетье: Юность (1891–1898).
Тоска и отвращение ко всему, что в гимназии и от гимназии. Мечтаю о юге и молюсь о том, чтобы стать поэтом. То и др<угое> кажется немыслимым. Но вскоре начинаю писать скверные стихи и судьба неожиданно приводит меня в Коктебель{8} (1893).
Феодосийская гимназия. Провинциальный городок, жизнь вне родительского дома сильно облегчает гимназический кошмар. Стихи мои нравятся, и я получаю первую прививку литературной «славы», оказавшуюся впоследствии полезной во всех отношениях: возникает требовательность к себе. Историческая насыщенность Киммерии{9} и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают дух и мысль.
В 1897 г<оду> я кончаю гимназию и поступаю на юридический факультет в Москве. Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. 10 драгоценнейших лет, начисто вычеркнутых из жизни.
4-ое семилетье: Годы странствий (1898–1905).
Уже через год я был исключен из университета за студенческие беспорядки и выслан в Феодосию. Высылки и поездки за границу чередуются и завершаются ссылкой в Ташкент в 1900 г<оду>. Перед этим я уже успел побывать в Париже и Берлине, в Италии и Греции, путешествуя на гроши пешком, ночуя в ночлежных домах{10}. 1900-й год, стык двух столетий, был годом моего духовного рождения. Я ходил с караванами по пустыне. Здесь настигли меня Ницше{11} и «Три разговора» Вл<адимира> Соловьева{12}. Они дали мне возможность взглянуть на всю европейскую культуру ретроспективно – с высоты азийских плоскогорий и произвести переоценку культурных ценностей.
Отсюда пути ведут меня на запад – в Париж, на много лет, – учиться: художественной форме – у Франции, чувству красок – у Парижа, логике – у готических соборов, средневековой латыни – у Гастона Париса{13}, строю мысли – у Бергсона{14}, скептицизму – у Анатоля Франса, прозе – у Флобера, стиху – у Готье и Эрредиана… В эти годы – я только впитывающая губка, я весь – глаза, весь – уши. Странствую по странам, музеям, библиотекам: Рим, Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, Андорра… Лувр, Прадо, Ватикан, Уффици… Национальная библиотека. Кроме техники слова, овладеваю техникой кисти и карандаша.
В 1900 г<оду> первая моя критическая статья печатается в «Русской мысли»{15}. В 1903 г. встречаюсь с русскими поэтами моего поколения: старшими – Бальмонтом, Вяч. Ивановым, Брюсовым, Балтрушайтисом и со сверстниками – А. Белым, Блоком.
5-е семилетье: Блуждания (1905–1912).
Этапы блуждания духа: буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Р. Штейнер{16}. Период больших личных переживаний романтического и мистического характера.
К 9-му января 1905 г. судьба привела меня в Петербург и дала почувствовать все грядущие перспективы русской революции{17}. Но я не остался в России, и первая революция прошла мимо меня. За ее событиями я прозревал смуту наших дней («Ангел мщенья»).
Я пишу в эти годы статьи о живописи и литературе. Из Парижа в русские журналы и газеты (в «Весы», в «Золотое руно», в «Русь»). После 1907 г. литературная деятельность меня постепенно перетягивает сперва в Петербург, а с 1910 г. – в Москву.
В 1910 г. выходит моя первая книга стихов{18}.
Более долгое пребывание в России подготавливает разрыв с журнальным миром, который был для меня выносим только пока я жил в Париже.
6-е семилетье: Война (1912–1919).
В 1913 г. моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для моих статей закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам.
Годы перед войной я провожу в коктебельском затворе, и это дает мне возможность сосредоточиться на живописи и заставить себя снова переучиться с самых азов, согласно более зрелому пониманию искусства.
Война застает меня в Базеле, куда приезжаю работать при постройке Гетеанума{19}. Эта работа, высокая и дружная, бок о бок с представителями всех враждующих наций, в нескольких километрах от поля первых битв Европейской войны, была прекрасной и трудной школой человечного и внеполитического отношения к войне.
В 1915 г. я пишу в Париже свою книгу стихов о войне «Anno Mundi Ardentis»{20}. В 1916 г. я возвращаюсь в Россию через Англию и Норвегию.
Февраль 1917 г<ода> застает меня в Москве{21} и большого энтузиазма во мне не порождает, т. к. я все время чувствую интеллигентскую ложь, прикрывающую подлинную реальность революции.
Редакции периодических изданий, вновь приоткрывшиеся для меня во время войны, захлопываются снова перед моими статьями о революции, которые я имею наивность предлагать, забыв, что там, где начинается свобода печати – свобода мысли кончается.
Вернувшись весною 1917 г. в Крым, я уже более не покидаю его: ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую – и все волны гражданской войны и смены правительства проходят над моей головой. Стих остается для меня единственной возможностью выражения мыслей о совершающемся. Но в 17-ом году я не смог написать ни одного стихотворения: дар речи мне возвращается только после Октября, и в 1918 г. я заканчиваю книгу о революции «Демоны глухонемые»{22} и поэму «Протопоп Аввакум».
7-е семилетье: Революция (1919–1926).
Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали: я их ожидал давно и в формах, еще более жестоких. Напротив: я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к заработной плате и к купле-продаже.
19-й год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моем отрицательном отношении ко всякой политике и ко всякой государственности, утвердившемся и обосновавшемся за эти годы, – к борьбе с террором, независимо от его окраски. Это ставит меня в эти годы (1919–1923) лицом к лицу со всеми ликами и личинами русской усобицы и дает мне обширный и драгоценнейший революционный опыт.
Из самых глубоких кругов преисподней Террора и Голода я вынес свою веру в человека (стихотв<орение> «Потомкам»{23}). Эти же годы являются наиболее плодотворными в моей поэзии, как в смысле качества, так и количества написанного.
Но так как темой моей является Россия во всем ее историческом единстве, т. к. дух партийности мне ненавистен, т. к. всякую борьбу я не могу рассматривать иначе, как момент духовного единства борющихся врагов и их сотрудничества в едином деле, – то отсюда вытекают следующие особенности литературной судьбы моих последних стихотворений: у меня есть стихи о революции, которые одинаково нравились и красным, и белым. Я знаю, например, что мое стихотворение «Русская революция» было названо лучшей характеристикой революции двумя идейными вождями противоположных лагерей (имена их умолчу).
В 1919 г. белые и красные, беря по очереди Одессу, свои прокламации к населению начинали одними и теми же словами моего стихотворения «Брестский мир». Эти явления – моя литературная гордость, т. к. они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и те, и другие. Поэтому же, собранные в книгу, эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой. Поэтому же они распространяются по России в тысячах списков – вне моей воли и моего ведения. Мне говорили, что в вост<очную> Сибирь они проникают не из России, а из Америки, через Китай и Японию.
Сам же я остаюсь все в том же положении писателя вне литературы, как это было и до войны.
В 1923 г. я закончил книгу «Неопалимая купина» С 1922 года пишу книгу «Путями Каина»{24} – переоценка материальной и социальной культуры. В 1924 г. написана поэма «Россия» (петербургский период).
В эти же годы я много работал акварелью, принимая участие на выставках «Мира искусства» и «Жар-цвет»{25} Акварели мои приобретались Третьяковской галереей и многими провинциальными музеями.
Согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы, – все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно. Свой дом я превратил в приют для писателей и художников, а в литературе и в живописи это выходит само собой, потому что все равно никто не платит. Живу на «акобеспечение» Ц<Е>КУ БУ{26} – 60 р<ублей> в месяц.
Иконография
Кошелев{27} Портрет маслом во весь рост. 1901
Е. С. Кругликова. Поясной порт<рет> маслом. 1901 Много карикатур, рисунков и силуэтов разных годов.
Сливинский{28}. Порт<рет> маслом с книгой. 1902.
Якимченко{29}. Голова, масло. 1902.
В. Харт{30}. Голова углем. 1907.
А. Я. Головин. Портрет поясной. Темпера. 1909.
Голова, литография. 1909.
Э. Виттиг{31}. Бюст в виде герма. 1909.
Е. Зак{32}. Голова, сангина. 1911.
Диего Ривера{33}. Мал<ый> порт<рет>, вся фигура. 1915.
Колоссальная голова. Масло. 1916.
Баруздина{34}. Порт<рет> маслом. 1916. Рис<унок> головы. 1916.
Бобрицкий{35}. Сангина. 1918.
Мане-Кац{36}. Поясной, масло. 1918.
Хрустачев{37}. Сангина. 1920.
Остроумова-Лебедева{38}. Голова акварелью. 1924.
Поясной портрет. Масло. 1925.
Кустодиев. Масло. 1924.
Костенко{39}. Гравюра на лин<олеуме>. 1924–1925
Верейский{40}. Литография.
Библиография.
Вот в каком порядке мои стихи должны быть изданы:
Две книги лирики:
Годы странствий (1900–1910)
SELVA OSCURA (1910–1914).
Книга о войне и революции:
Неопалимая купина (1914–1924).
Путями Каина.
Из франц<узских> поэтов мною переводились: Анри де Ренье, Верхарн, Вилье де Лиль Адан <«Аксель»>, Поль Клодель («Отдых седьмого дня», ода «Музы»), Поль де Сен-Виктор («Боги и люди»).
Из критических моих статей под названием «Лики творчества» {41} вышел только первый том о Франции в изд<ательстве> «Аполлона» (Спб., 1912). Остальные же, посвященные театру, живописи, русской литературе и Парижу – 4 тома, остались неизданными.
О самом себе
Автор акварелей, предлагаемых вниманию публики под общим заглавием «Коктебель», не является уроженцем Киммерии по рождению, а лишь по усыновлению. Он родом с Украины, но уже в раннем детстве был связан с Севастополем и Таганрогом. А в Феодосию его судьба привела лишь в 16 лет, и здесь он кончил гимназию и остался связан с Киммерией на всю жизнь. Как все киммерийские художники, он является продуктом смешанных кровей (немецкой, русской, итало-греческой). По отцовской линии он имеет свои первокорни в Запорожской сечи, по материнской – в Германии. Родился я в 1877 году в Киеве, а в 1893 году моя мать переселилась в Коктебель, а позже и я здесь выстроил мастерскую.
В ранние годы я не прошел никакого специально живописного воспитания и не был ни в какой рисовальной школе, и теперь рассматриваю это как большое счастье – это не связало меня ни с какими традициями, но дало возможность оформить самого себя в более зрелые годы, сообразно с сознательными своими устремлениями и методами.
Впервые я подошел к живописи в Париже в 1901 году. Я только что вернулся туда из Ташкента{1}, где был в ссылке около года. Я весь был переполнен зрительными впечатлениями и совершенно свободен в смысле выбора жизни и профессии, так как был только что начисто выгнан из университета за студенческие беспорядки «без права поступления». Юридический факультет не влек обратно. А единственный серьезный интерес, который в те годы во мне намечался, – искусствоведение. В Москве в ту пору – в конце 90-х годов прошлого века – оно еще никак не определилось, а в Париже я сейчас же записался в Луврскую школу музееведения, но лекционная система меня мало удовлетворяла, так как меня интересовало не старое искусство, а новое, текущее. Цель моя была непосредственная: подготовиться к делу художественной критики.
Воспоминания университета и гимназии были слишком свежи и безнадежны. В теоретических лекциях я не находил ничего, что бы мне помогало разбираться в современных течениях живописи.
Оставался один более практический путь: стать самому художником, самому пережить, осознать разногласия и дерзания искусства.
Поэтому, когда однажды весной 1901 года я зашел в мастерскую Кругликовой и Елизавета Сергеевна со свойственным ей приветливым натиском протянула мне лист бумаги, уголь и сказала: «А почему бы тебе не попробовать рисовать самому?» – я смело взял уголь и попробовал рисовать человеческую фигуру с натуры. Мой первый рисунок был не так скверен, как можно было ожидать, но главными его недостатками были желание сделать его похожим на хорошие рисунки, которые мне нравились, и чересчур тщательная отделка деталей и штрихов. Словом, в нем уже были все недостатки школьных рисунков, без знания, что именно нужно делать. Словом, я уже умел рисовать и мне оставалось только освободиться от обычных академических недостатков, которые еще не стали для меня привычкой руки. На другой же день меня свели в Академию Коларосси{2}. Я приобрел лист «энгра», папку, уголь, взял в ресторане мякоть непропеченного хлеба и стал художником. Но кроме того я стал заносить в маленькие альбомчики карандашом фигуры, лица и движения людей, проходящих по бульварам, сидящих в кафе и танцующих на публичных балах. Образцами для меня в то время были молниеносные наброски Форена{3} Стейнлена{4} и других рисовальщиков парижской улицы. А когда три месяца спустя мы с Кругликовой, Давиденко и А. А. Киселевым отправились в пешеходное путешествие по Испании через Пиренеи в Андорру, я уже не расставался с карандашом и записной книжкой.
В те годы, которые совпали с моими большими переходными странствиями по Южной Европе – по Италии, Корсике, Балеарам, Сардинии, – я не расставался с альбомом и карандашами и достиг известного мастерства в быстрых набросках с натуры. Я понял смысл рисунка. Но обязательная журнальная работа (статьи о художественной жизни в Париже и отчеты о выставках) мне не давала сосредоточиться исключительно на живописи. Лишь несколько лет спустя перед самой войной я смог вернуться к живописи усидчиво. В 1913 году у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине. Я был предан российскому остракизму, все редакции периодических изданий для меня закрылись, против моих книг был объявлен бойкот книжных магазинов.
Оказавшись в Коктебеле, я воспользовался вынужденным перерывом в работе, чтобы взяться за самовоспитание в живописи. Прежде всего я взялся за этюды пейзажа, приучил себя писать всегда точно, быстро и широко. И вообще, все неприятности и неудачи в области литературы сказывались в моей жизни успехами в области живописи.
Я начал писать не масляными красками, а темперой на больших листах картона. Это мне давало, с одной стороны, возможность увеличить размеры этюдов, с другой же, т. к. темпера имеет свойство сильно меняться высыхая, это меня учило работать вслепую (т. е. как бы писать на машинке с закрытым шрифтом). Это неудобство меня приучило к сознательности работы, и тот факт, что <в> темпере почти невозможно подобрать тон раз взятый, – к умеренности в употреблении красок и чистоте палитры.
Акварелью я начал работать с начала войны. Начало войны и ее первые годы застали меня в пограничной полосе – сперва в Крыму, потом в Базеле, позже в Биаррице, где работы с натуры были невозможны по условиям военного времени. Всякий рисовавший с натуры в те годы, естественно, бывал заподозрен в шпионстве и съемке планов.
Это меня освободило от прикованности к натуре и было благодеянием для моей живописи. Акварель непригодна к работам с натуры. Она требует стола, а не мольберта, затененного места, тех удобств, что для масляной техники не требуются.
Я стал писать по памяти, стараясь запомнить основные линии и композицию пейзажа. Что касается красок, это было нетрудно, так как и раньше я, наметив себе линейную схему, часто заканчивал дома этюды, начатые с натуры. В конце концов, я понял, что в натуре надо брать только рисунок и помнить общий тон. А все остальное представляет логическое развитие первоначальных данных, которое идет соответственно понятым ранее законам света и воздушной перспективы. Война, а потом революция ограничили мои технические средства только акварелью. У меня был известный запас акварельной бумаги, и экономия красок позволила мне его продлить долго. Плохая акварельная бумага тоже дала мне многие возможности. Русская бумага отличается малой проклеенностью. Я к ней приспособился, прокрывая сразу нужным тоном, и работал от светлого к темному без поправок, без смываний и протираний.
Эту эволюцию можно легко проследить по ретроспективному отделу моей выставки. Это борьба с материалом и постоянное преодоление его.
Если масляная живопись работает на контрастах, сопоставляя самые яркие и самые противоположные цвета, то акварель работает в одном тоне и светотени. К акварели больше, чем ко всякой иной живописи, применимы слова Гете{5}, которыми он начинает свою «теорию цветов», определяя ее, как трагедию солнечного луча, который проникает через ряд замутненных сфер, дробясь и отражаясь в глубинах вещества. Это есть основная тема всякой живописи, а акварельной по преимуществу.
Ни один пейзаж из составляющих мою выставку не написан с натуры, а представляет собою музыкально-красочную композицию на тему киммерийского пейзажа. Среди выставленных акварелей нет ни одного «вида», который бы совпадал с действительностью, но все они имеют темой Киммерию. Я уже давно рисую с натуры только мысленно.
Я пишу акварелью регулярно, каждое утро по 2–3 акварели, так что они являются как бы моим художественным дневником, в котором повторяются и переплетаются все темы моих уединенных прогулок. В этом смысле акварели заменили и вытеснили совершенно то, что раньше было моей лирикой и моими пешеходными странствованиями по Средиземноморью.
Вообще в художественной самодисциплине полезно всякое самоограничение <:> недостаток краски, плохое качество бумаги, какой-либо дефект материала, который заставляет живописца искать новых обходных путей и сохранить в живописи лишь то, без чего нельзя обойтись. В акварели не должно быть ни одного лишнего прикосновения кисти. Важна не только обработка белой поверхности краской, но и экономия самой краски, как и экономия времени. Недаром, когда японский живописец собирается написать классическую и музейную вещь, за его спиной ассистирует друг с часами в руках, который отсчитывает и отмечает точно количество времени, необходимое для данного творческого пробега. Это описано хорошо в «Дневнике» Гонкуров{6}. Понимать это надо так: вся черновая техническая работа уже проделана раньше, художнику, уже подготовленному, надо исполнить отчетливо и легко свободный танец руки и кисти по полотну. В этой свободе и ритмичности жеста и лежат смысл и пленительность японской живописи, ускользающие для нас – кропотливых и академических европейцев. Главной темой моих акварелей является изображение воздуха, света, воды, расположение их по резонированным и резонирующим планам.
В методе подхода к природе, изучения и передачи ее я стою на точке зрения классических японцев (Хокусаи, Утамаро), по которым я в свое время подробно и тщательно работал в Париже в Национ<альной> Библиотеке, где в Галерее эстампов имеется громадная коллекция японской печатной книги – Теодора Дерюи{7}. Там <у меня> на многое открылись глаза, например, на изображение растений. Там, где европейские художники искали пышных декоративных масс листвы (как у Клода Лоррена{8}), японец чертит линию ствола перпендикулярно к линии горизонта, а вокруг него концентрические спирали веток, в свою очередь окруженных листьями, связанными с ними под известным углом. Он не фиксирует этой геометрической схемы, но он изображает все дефекты ее, оставленные жизнью на живом организме дерева, на котором жизнь отмечает каждое отжитое мгновенье.
Таким образом, каждое изображение является в искусстве как бы рядом зарубок, сделанных на коре дерева. Чтобы иметь возможность отличать «дефекты» от нормального роста, художник должен знать законы роста. Это сближает задачи живописца с задачами естественника. Раз мы это поняли и приняли, мы не можем отрицать, что в истории европейской живописи в эпоху Ренессанса произошел горестный сдвиг и искажения линии нормального развития живописи. Точнее, этот сдвиг произошел не во времена Ренессанса, а в эпоху, непосредственно за ним последовавшую. При Ренессансе опытный метод исследования был прекрасно формулирован Леонардо. Но на го́ре живописцев этот метод не был тогда же воспринят наукой, а был принят два поколения спустя в формулировке не художника, а литератора Фр. Бекона{9}. Это обстоятельство обусловлено, конечно, самим складом европейского сознания.
Таким образом, экспериментальный метод попал из рук людей, приспособленных и природой и профессией к эксперименту, к опыту и наблюдению, в руки людей, конечно, способных к очень точному наблюдению, но никогда не развивавших и не утончавших своих естественных чувств восприятия, что привело прежде всего к горестному дискредитированию «очевидности», но через это и к неисправимому разделению путей искусства и науки.
Правда, в области научного познания это привело к созданию различных механических приспособлений для точного определения мер и веса.
В свое время Ренессанс еще до раздвоенности науки и искусства создал различные дисциплины для потребностей живописцев: художественную перспективу и художественную анатомию. Но в наши дни художник напрасно будет искать так необходимых ему художественной метеорологии, геологии, художественной ботаники, зоологии, не говорю уже о художественной социологии. Правда, в некоторых критических статьях, например, у Рескина есть нечто, заменяющее ему эти нехватающие дисциплины (в статьях о Тернере), но ничего по существу вопроса еще не существует в литературе.
Точно так же, как и художник не имеет сотрудничества ученого, точно так же и ученый не имеет сейчас часто необходимого орудия эксперимента и анализа – отточенного тонко карандаша, потому что научный рисунок – художественная дисциплина, которую еще не знает современная живописная школа.
Пейзажист должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по которому можно летать, т. е. в пейзажах должна быть такая грань горизонта, через которую хочется перейти, и должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью, а в небе те восходящие потоки, по которым можно взлететь на планере.
Вся первая половина моей жизни была посвящена большим пешеходным путешествиям, я обошел пешком все побережья Средиземного моря, и теперь акварели мне заменяют мои прежние прогулки. Это страна, по которой я гуляю ежедневно, видимая естественно сквозь призму Киммерии, которую я знаю наизусть и за изменением лица которой я слежу ежедневно.
С этой точки зрения и следует рассматривать ретроспективную выставку моих акварелей, которую можно характеризовать такими стихами:
Выйди на кровлю. Склонись на четыре Стороны света, простерши ладонь.. Солнце… Вода… Облака… Огонь… — Все, что есть прекрасного в мире… Факел косматый в шафранном тумане… Влажной парчою расплесканный луч… К небу из пены простертые длани… Облачных грамот закатный сургуч… Гаснут во времени, тонут в пространстве Мысли, событья, мечты, корабли.. Я ж уношу в свое странствие странствий Лучшее из наваждений земли…P. S. Я горжусь тем, что первыми ценителями моих акварелей явились геологи и планеристы, точно так же, как и тем фактом, что мой сонет «Полдень»{10} был в свое время перепечатан в Крымском журнале виноградарства. Это указывает на их т о ч н о с т ь.
Портреты современников
В каждой статье я стремлюсь дать цельный лик художника.
Произведения же художника для меня нераздельны с его личностью.
Если я, как поэт, читаю душу его по изгибам его ритмов, по интонации его стиха, по подбору его рифм, по архитектуре его книги, то мне, как живописцу, не меньше говорит о душе его и то, как сидит на нем платье, как застегивает он сюртук, каким жестом он скрещивает руки и подымает голову. Мне мало прочесть стихотворение, напечатанное в книге, – мне надо слышать, как звучит оно в голосе самого поэта; книга мертва для меня, пока за ее страницами не встает живое лицо ее автора.
М. ВолошинСергей Городецкий
«Ярь» – это прекрасное старое слово войдет снова в русский язык вместе с этой книгой. Редко можно встретить более полное и более согласное слияние имени с содержанием.
Ярь – это все, что ярко: ярость гнева, зеленая краска – ярь-медянка, ярый хмель, ярь – всходы весеннего сева, ярь – зеленый цвет.
Но самое древнее и глубокое значение слова Ярь – это производительные силы жизни, и древний бог Ярила властвовал над всей стихиею Яри.
Какое лучшее имя мог дать своей книге молодой фавн, написавший ее?
Что Сергей Городецкий молодой фавн, прибежавший из глубины скифских лесов, об этом я догадался еще раньше, чем он сам проговорился в своей книге:
Когда я фавном молодым Носил дриад в пустые гнезда…{1}Это было ясно при первом взгляде на его худощавую и гибкую фигуру древнего юноши, на его широкую грудную кость, на его лесное лицо с пробивающимися усами и детски ясные, лукавые глаза. Волнистые и спутанные волосы падали теми характерными беспорядочными прядями, стиль которых хорошо передают античные изображения пленных варваров.
Огромный нос, скульптурный, смело очерченный и резко обсеченный на конце смелым движением резца сверху вниз, придавал его лицу нечто торжественно-птичье, делавшее его похожим на изображения египетского бога Тота{2}, «трижды величайшего», изображавшегося с птичьей головой, которому принадлежали эпитеты «носатый», «достопочтенный Ибиси» и «павиан с блестящими волосами и приятной наружностью».
Та же птичья торжественность была и в поворотах его шеи, и в его мускулистых и узловатых пальцах, напоминавших и орлиные лапы, и руки врубелевского «Пана»{3}.
Но когда я видел его в глубине комнаты при вечернем освещении en face, то он напоминал мне поэтов двадцатых годов. Так я представлял себе молодого Мицкевича, с безусым лицом и чуть-чуть вьющимися бакенбардами около ушей.
А над его правым ухом таинственно приподымалась прядь густых волос, точно внимательное крыло, и во всей его фигуре и в голосе чувствовалась «Ярь непочатая – Богом зачатая»{4}.
«Ярь» открывается странной и необычайной космогонией мира, в которой звездное так слито с чревным, астрономия с биологией, что разделить их невозможно.
Я бы сказал, что это слияние было только у одного художника – у покойного Эжена Карриера. Но разница громадна. Карриер в сумеречной комнате и в движущихся людях видел звездные вихри и образующиеся миры, которые никогда не соприкоснутся друг к другу, в поцелуях матери ребенка, которым он придавал такую страстную безнадежность, чувствовалась бесконечная грусть последнего прикосновения млечной туманности к новообразовавшейся звезде, которая сейчас оторвется совсем и начнет свой одинокий бег в холодных пространствах вселенной.
Этой грусти совершенно нет у Городецкого. Он сам – молодая звезда, молодая вселенная, только что вышедшая из чьих-то чресл, хранящая воспоминание «чревных очей»; в нем еще живы «скорбь исхождения, путы утробные»; он полон весь ярою радостью найденного земного лика…
Михаил Кузмин
Как песня матери{1} Над колыбелью ребенка. Как горное эхо, Утром на пастуший рожок отозвавшееся, Как далекий прибой Родного, давно не виденного моря, Звучит мне имя твое Трижды блаженное: Александрия!{2} («Александрийские песни»)Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?», но не решаешься, боясь получить в ответ: «Две тысячи».
Без сомнения, он молод, и, рассуждая здраво, ему не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. Только он не из мумий Древнего Египта. Такие лица встречаются часто на эль-файумских портретах{3}, которые, будучи открыты очень недавно, возбудили такой интерес европейских ученых, дав впервые представление о характере физиономий Александрийской эпохи. У Кузмина такие же огромные черные глаза, такая же гладкая черная борода, резко обрамляющая бледное восковое лицо, такие же тонкие усы, струящиеся по верхней губе, не закрывая ее.
Он мал ростом, узкоплеч и гибок телом, как женщина.
У него прекрасный греческий профиль, тонко моделированный и смело вылепленный череп, лоб на одной линии с носом и глубокая, смелая выемка, отделяющая нос от верхней губы и переходящая в тонкую дугу уст.
Такой профиль можно видеть на изображениях Перикла и на бюсте Диомеда{4}.
Но характер бесспорной античной подлинности лицу Кузмина дает особое нарушение пропорций, которое встречается только на греческих вазах: его глаз посажен очень глубоко и низко по отношению к переносице, как бы несколько сдвинут на щеку, если глядеть на него в профиль.
Его рот почти всегда несколько обнажает нижний ряд его зубов, и это дает лицу его тот характер ветхости, который так поражает в нем.
Несомненно, что он умер в Александрии молодым и красивым юношей и был весьма искусно набальзамирован. Но пребывание во гробе сказалось на нем, как на воскресшем Лазаре в поэме Дьеркса.
«Лоб его светился бледностью трупа. Его глаза не вспыхивали огнем. Его глаза, видевшие сияние вечного света, казалось, не могли глядеть на этот мир. Он шел, шатаясь, как ребенок. Толпа расступалась перед ним, и никто не решался с ним заговорить. Сам ужаснувшись своей страшной тайны, он приходил и уходил, храня безмолвие»{5}.
Древняя Александрия была одной из последних областей истории, которую открыло внутреннее око европейца, устремленное в свое прошлое. Флобер, Анатоль Франс, Пьер Луис один за другим произносили призывные заклинания над древними александрийскими гробницами, и в нашем сонном сознании возникали радостные и трагические тени богов и людей: Таис{6}, св. Антоний, Билитис{7}. Но заклинания их действовали не только в области искусства. Когда Анатоль Франс произнес свое заклинание над душой Таис, то гробница св. Таис действительно раскрылась, и труп ее вышел и был привезен в Париж, где он лежит теперь в круглом зале музея Гимэ, под стеклянным колпаком, с ужасом глядя своими широко раскрытыми золотыми глазами, сияя своими обнаженными зубами, скрестив стройные костяные ноги, тонко обтянутые желтым пергаментом кожи. А кругом нее лежат другие обитательницы Александрии, их одежды, их украшения и их изображения.
Почему же не могло случиться, чтобы призывная сила властных заклинаний, обращенных к Александрии, не вызвала к жизни одного из тех, в чьем набальзамированном теле продолжала тлеть в течение тысячелетий неугасающая искра земной жизни?
Мне бы хотелось привести Кузмина в музей Гимэ, подобно тому как следователи приводят подозреваемых преступников в морг, и внимательно следить за каждым изменением его лица и ждать, как задрожат его руки, как вспыхнет огонь в его огромных и мертвых агатовых глазах, когда он узнает в одной их тех, что лежат рядом с Таис, ту, которая танцевала для него «Осу» на зеленой лужайке, в обуглившихся от времени лохмотьях ту шелковую ткань, которой он одевал ее тонкое тело, узнает те золотые запястья и ожерелья из разноцветных камней, которые он покупал ей, «продав свою последнюю мельницу», и на куске истлевшего папируса прочтет стихи, написанные своею собственной рукой:
Что ж делать, что перестану я видеть Твое лицо? Слышать твой голос? Что выльется вино, улетучатся ароматы, И сами дорогие ткани истлеют через столетье? Разве меньше я стану любить эти милые хрупкие вещи За их тленность?Я знаю, что он быстро овладеет собой и, когда мы выйдем из музея, он будет напевать про себя:
Что мы знаем? Что нам знать? О чем жалеть? Кружитесь, кружитесь, держитесь крепче за руки. Звуки звонкого систра несутся, несутся, В рощах томно они отдаются. Мы знаем, что все – превратно, Что все уходит от нас безвозвратно. Мы знаем, все все – тленно, И лишь изменчивость неизменна. Мы знаем, что милое тело Дано для того, чтобы потом истлело. Вот что мы знаем, вот что мы любим, За то, что хрупко, трижды целуем!Мне хотелось бы восстановить подробности биографии Кузмина – там, в Александрии, когда он жил своей настоящею жизнью в этой радостной Греции времен упадка, так напоминающей Италию восемнадцатого века.
Подобно лирику Мелеагру{8} – розе древней Аттики, затерявшейся в хаосе александрийской антологии, Кузмин несет в своих песнях цветы истинной античной поэзии, хотя сквозь них и сквозит александрийское рококо.
В жилах его не было чистой эллинской крови. Вероятно, он, как и Мелеагр, был сирийцем. По крайней мере в одном месте он вспоминает о «родной Азии и Никомедии»{9}.
Так же, как и Мелеагр, он имел право написать на своей гробнице:
«Я, Мелеагр, сын Эвкрата, я возрос вместе с музами и первое свое странствие совершил сопровождаемый меницейскими грациями. Что ж из того, что я сириец? Чужеземец! У нас одна родина – Земля. Единый Хаос породил всех смертных. Подойди к гробнице моей без боязни. Эроса, муз и харит славил я стихами. Мужем я жил в божественном Тире и в священной земле Гадары, милый Кос приютил мою старость. Если ты сириец – «Салям», если ты финикиец – «Хайдуи», если грек – «Хайрэ». И ты скажи мне то же».
Он жил значительно позже Мелеагра – уже в царствование императора Адриана{10}, как можно заключить из одного стихотворения, в котором речь идет несомненно об Антиное{11}, с которым он встретился три раза. В это время он был воином в войске императора. Он рассказывает, что шел за обедом для товарищей мимо дворцового крыла и через широкое окно увидал его:
Он сидел печально один, Перебирая тонкими пальцами струны лиры. А белая собака лежала у ног не ворча, И только плеск водомета мешался с музыкой… Волшебством показалась мне его красота, И его молчанье в пустом покое – полднем. И крестясь, я побежал в страхе прочь от окна.В другой раз он стоял ночью на карауле в Лохии в переходе, ведущем к комнате царского астролога. Мимо него прошли три человека с факелами и он между ними.
Он был бледен, но мне казалось. Что комната осветилась не факелом, а его ликом. Проходя, он взглянул на меня И сказал: «Я тебя видел где-то, приятель!» И удалился в помещение астролога… И когда, легши в казарме, я почувствовал, Что спящий рядом Марций Трогает мою руку обычным движением, Я притворился спящим.Третий раз он его видел вечером, купаясь около походных палаток цезаря.
Мы купались, когда услышали крики. Прибежав, мы увидели, что уже поздно. Вытащенное из воды тело лежало на песке, И то же неземное лицо – лицо колдуна, Глядело не закрытыми глазами. Император издали спешил, пораженный горестной вестью, А я стоял, ничего не видя И не слыша, как слезы, забытые с детства, Текли по щекам. Всю ночь я шептал молитвы, Бредил родною Азией, Никомедией, И голоса ангелов пели: «Осанна! Новый бог дан людям!»Упоминание о Никомедии и особенно это смешение христианских понятий с язычеством и с суеверием («лицо колдуна») несомненно убеждают нас в сирийском происхождении автора.
В других песнях мы не находим больше никаких упоминаний о военной и лагерной жизни. Надо предположить, что поэт оставил военную службу, получив в наследство имение близ Александрии, стал вести очень широкую и роскошную жизнь и быстро растратил все, что у него было. По крайней мере в последующих песнях мы находим только воспоминания о «проданных мельницах». Когда имение было продано и последние деньги истрачены, у него явилась мысль о красивом самоубийстве в стиле Петрония{12}, в которую он вложил, однако, столько детской беззаботности и грации, что эти мечты послужили темой для одной из его лучших песен.
«Сладко умереть на поле битвы за родину, слыша кругом: «Прощай, герой!» – говорит он, вспоминая свою службу в войсках императора.
«Сладко умереть маститым старцем… слыша кругом «прощай, отец».
Но еще слаще, еще мудрее, Истративши все именье, Продавши последнюю мельницу Для той, которую завтра забыл бы, Вернувшись после веселой прогулки В уже проданный дом, поужинать И, прочитав рассказ Апулея{13} в сто первый раз, В теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний, Открыть себе жилы. И чтобы в длинное окно у потолка Пахло левкоями, светила заря И вдалеке были слышны флейты.Но эллинская привязанность к милой жизни не позволила поэту последовать примеру пресыщенного римского вельможи.
Сперва он жил у своих друзей, которые приютили его, заботясь о нем, и охраняли от мрачных и трагических мыслей.
К нему снова вернулась любовь к жизни:
Как люблю я, вечные боги, Светлую печаль, любовь до завтра, Смерть без сожаления о жизни… Как люблю я солнце, тростники И блеск зеленоватого моря Сквозь тонкие ветки акаций! Как люблю я книги (моих друзей), Тишину одинокого жилища И вид из окна на дальние дынные огороды.Он некоторое время еще с грустью проходил «по широкой дороге между деревьев – мимо мельниц, бывших когда-то моими, но промененных на запястья тебе».
Из последующей его жизни мы знаем только то, что он был библиотечным писцом, как это видно из его великолепного гимна Солнцу.
«Солнце, Солнце, – говорит он: – Я – бледный писец, библиотечный затворник, но я люблю тебя, Солнце, не меньше, чем загорелый моряк, пахнущий рыбой и соленой водой, и не меньше, чем его привычное сердце ликует при твоем царственном восходе из океана, мое трепещет, когда твой пыльный, но пламенный луч скользнет сквозь узкое окно у потолка на исписанный лист и на мою тонкую желтоватую руку, выводящую киноварью первую букву гимна тебе, о, Ра-Гелиос, Солнце!»
Как видно из этого гимна, поэт в конце своей жизни становится вполне язычником, и христианские влияния и верования его юности стираются и исчезают совершенно. Быть может, на него повлияли в этом отношении смерть Антиноя и его обожествление, которые так потрясли его сердце, и у нас является невольная мысль о том, не принимал ли он участия в организации тех благотворительных обществ во имя Антиноя, которые получили большое развитие в его эпоху и спустя два столетия уже готовыми учреждениями перешли в руки христиан.
Этим кончаются все наши сведения о внешних обстоятельствах жизни автора «Александрийских песен» в том далеком эллинском восемнадцатом веке, откуда он принес свои сияющие воспоминания. <…>
Алексей Ремизов
«Посолонь»{1} – книга народных мифов и детских сказок. Главная драгоценность ее – это ее язык. Старинный ларец из резной кости, наполненный драгоценными камнями. Сокровища слов, собранных с глубокой любовью поэтом-коллекционером.
«Вы любите читать словари?» – спросил Теофиль Готье{2} молодого Бодлэра, когда тот пришел к нему в первый раз.
Бодлэр любил словари, и отсюда возникла их дружба.
Надо любить словари, потому что это сокровищницы языка.
Слова от употребления устают, теряют свою заклинательную силу. Тогда необходимо обновить язык, взять часть от древних сокровищ, скрытых в тайниках языка, и бросить их в литературу.
Надо идти учиться у «московских просвирен»{3}, учиться писать у «яснополянских деревенских мальчишек»{4}, или в те времена, когда сами московские просвирни забыли свой яркий говор, а деревенские мальчишки стали грамотными, идти к словарям, летописям, областным наречиям, всюду, где можно найти живой и мертвой воды, которую можно брызнуть на литературную речь.
В «Посолонь» целыми пригоршнями кинуты эти животворящие семена слова, и они встают буйными степными травами и цветами, пряными, терпкими, смолистыми…
Язык этой книги как весенняя степь, когда благоухание, птичий гомон и пение ручейков сливаются в один многочисленный оркестр.
Как степь, тянется «Посолонь» без конца и без начала, меняя свой лик только по временам года, чередующимся по солнцу, и от «Весны красны» переходя к «Лету красному», сменяясь «Осенью темной», замирая «Зимой лютой».
И когда приникнешь всем лицом в эту благоухающую чащу диких трав, то стоишь завороженный цветами, как «Chevalier des Fleures»[56], зачарованным ухом вникая в шелесты таинственных голосов земли.
Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю сущность, древний сон каждой вещи.
Искусство его – игра. В детских играх раскрываются самые тайные, самые смутные воспоминания души, встают лики древнейших стихийных духов.
Сам Ремизов напоминает своей наружностью какого-то стихийного духа, сказочное существо, выползшее на свет из темной щели. Наружностью он похож на тех чертей, которые неожиданно выскакивают из игрушечных коробочек, приводя в ужас маленьких детей.
Нос, брови, волосы – все одним взмахом поднялось вверх и стало дыбом.
Он по самые уши закутан в дырявом вязаном платке.
Маленькая сутуловатая фигура, бледное лицо, выставленное из старого коричневого платка, круглые близорукие глаза, темные, точно дырки, брови вразлет и маленькая складка, мучительно дрожащая над левою бровью, острая бородка по-мефистофельски, заканчивающая это круглое грустное лицо, огромный трагический лоб и волосы, подымающиеся дыбом с затылка, – все это парадоксальное сочетание линий придает его лицу нечто мучительное и притягательное, от чего нельзя избавиться, как от загадки, которую необходимо разрешить.
Когда он сидит задумавшись, то лицо его становится величественно, строго и прекрасно. Такое лицо бывало, вероятно, у «Человека, который смеется»{5} в те мгновения, когда он нечеловеческим усилием заставлял сократиться и застыть искалеченные мускулы своего лица.
Ремизов сам надел на свое лицо маску смеха, которую он не снимает, не желая испугать окружающих тем ужасом, который постоянно против воли прорывается в его произведениях.
Особенно в старых его вещах – в романе «Пруд»{6}, который был напечатан в «Вопросах жизни», и в рассказе «Серебряные ложки» в «Факелах»{7}.
Он строго блюдет моральную заповедь Востока, которая требует улыбаться в моменты горя и не утруждать сострадание окружающих зрелищем своих страданий.
Голос его обладает теми тайнами изгибов, которые делают чтение его нераздельным с сущностью его произведений. Только те могут вполне оценить их, кому приходилось их слышать в его собственном чтении. В печати это только мертвые знаки нот. О таких цветах, распускающихся в столетие раз, память хранит воспоминания более священные, чем о книгах, которые всегда можно перечесть снова.
Когда поэту приходится в жизни заниматься делом, ничего общего не имеющим с внутренней сущностью его души, когда обстоятельства жизни заставляют Спинозу{8} шлифовать стекла, утонченнейшего поэта А. Самэна{9}, чья душа была «Инфантой в пышном платье», служить приказчиком в одном из больших парижских магазинов, Маллармэ быть учителем английского языка, а Ламартина{10} – президентом французской республики, это производит на меня такое впечатление неизъяснимого оскорбления, как тогда, когда Ремизов, блестящий ювелир русской речи, занимается статистикой грудных детей, заполняя кусочки разграфленного картона своим изысканным почерком XVII века. Как Лев Николаевич Мышкин{11}, Ремизов любит почерк. Он ценит, собирает и копирует старые манускрипты и пишет рукописи свои полууставом, иллюминируя заглавные буквы, что придает внешности их не меньшую художественную ценность, чем их стилю.
Но то, что он занимается статистикой грудных младенцев, это даже гармонирует со всей его сказочной фигурой. Кажется, что он, как его «Кострома», – «знает, что в колыбельных деется, и кто грудь сосет, и кто молочко хлебает, зовет каждое дите по имени и всех отличить может».
Его письменный стол и полки с книгами уставлены детскими игрушками. Белая мышка-хвостатка стережет шкатулку. А в шкатулке хранится колдовской платок. «Махнешь им, а за спиной озеро встанет». Платок шелковый, полуистлевший от времени, точно из паутины сотканный. Вылинявший пурпур с черным.
На желтых кожаных переплетах старопечатных книг сидят две белки-мохнатки «и орешки щелкают».
Около чернильницы стоит глиняная курица с глупым и растерянным лицом: «Не простая курица – троецыпленница – трижды сидела на яйцах, три семьи вывела: пятьдесят пар кур, шестьдесят петухов».
На картонке сидит Зайчик Иваныч: одно ухо опущено и одним глазом глядит, «все о каких-то лисятах вспоминает… Он ли их съел, они ли его детей слопали – понять мудрено».
«А вот это Наташин медведь – Наташа-то уехала, он и голову опустил{12}. А раньше он все с ней был и в ванне с ней вместе купался. Лапы-то у него передние и отмокли. А вот здесь в брюхе у него веретено. Им Наташа уколется, когда ей будет шестнадцать лет, и заснет на три года».
Детские игрушки – это древнейшие боги человечества.
Рукой первобытного дикаря были они вырезаны из обрубка дерева. Воцарились олимпийские боги, но они остались жить около человеческого очага и стали домашними ларами и пенатами.
Когда же пришло христианство и олимпийцы обратились в демонов, а античные боги второго порядка перешли в католических святых, то эти древнейшие божества, прижившиеся около человеческого очага подобно домашним животным – кошкам и собакам, остались по-прежнему на своих местах и стали игрушками для детей{13}. Для взрослых это кусочки раскрашенного дерева или клубки защитных тряпок, хранящие слабое символическое подобие человеческого лика или звериной морды, но для детей они сохранили всю свою божественную силу творчества и власти, и как только наступает таинство игры, они, как древле, творят марева и иллюзии, охватывающие душу ребенка, но недоступные оку взрослого человека.
Игрушки до сих пор остались богами домашнего очага; нет очага в том доме, где не видно детских игрушек, этих истинных пенатов-покровителей.
У домашнего очага Ремизова эти грубо сделанные игрушки: глиняные курицы, войлочные зайцы, деревянные медведи и картонные мыши, – действительно остаются богами, сохранившими свою власть над миром явлений, и от них возникают его художественные произведения.
«Идешь по улице и видишь: мужик шерстяных зайцев по гривеннику продает. Купишь этого зайца, а он тебе про себя такую историю расскажет».
Безжалостно должна была жизнь преследовать человека для того, чтобы его заставить искать покрова и защиты у этих древних загнанных богов, которые в благодарность открыли ему так много первозданных мифов и первобытных тайн, скрытых в человеческом слове. И сам Ремизов напоминает всем существом своим такого загнанного, униженного бога, ставшего детской игрушкой…
Александр Блок. Константин Бальмонт. Андрей Белый. Валерий Брюсов. Вячеслав Иванов
Мысленно пропускаю я перед собой ряд образов, лики современных поэтов: Бальмонт, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр Блок – длинное ожерелье японских масок, каждая из которых остается в глазах четкостью своей гримасы.
Бальмонт со своим благородным черепом, который от напряжения вздыбился узлистыми шишками, с глубоким шрамом – каиновой печатью, отметившим его гневный лоб, с резким лицом, которое все – устремленье и страсть, на котором его зеленые глаза кажутся темными, как дырки, среди темных бровей и ресниц, с его нервной и жестокой челюстью Иоанна Грозного, заостренной в тонкую рыжую бородку.
Вячеслав Иванов, несколько напоминающий суженностью нижней части лица, увенчанного лбом, черты Бальмонта. В глазах его пронзительная пытливость, в тенях, что ложатся на глаза и на впалости щек, есть леонардовская мягкость и талантливость. Длинные волосы, цветочными золотистыми завитками обрамляющие ровный купол лба и ниспадающие на плечи, придают ему тишину шекспировского лика, а борода его подстрижена по образцам архаических изображений греческих воинов на древних вещах.
У Валерия Брюсова лицо звериное – маска дикой рыси, с кисточками шерсти на ушах: хищный, кошачий лоб, убегающий назад, прямой затылок на одной линии с шеей, глаза раскольника, как углем обведенные черными ресницами; злобный оскал зубов, который придает его смеху оттенок ярости. Сдержанность его движений и черный сюртук, плотно стягивающий его худую фигуру, придают ему характер спеленутой и мумифицированной египетской кошки. Неуловимое сходство, которое делает похожей маску Вячеслава Иванова на маску Бальмонта, сближает лица Андрея Белого и Брюсова.
В Андрее Белом есть та же звериность, только подернутая тусклым блеском безумия. Глаза его, точно так же обведенные углем, неестественно и безумно сдвинуты к переносице. Нижние веки прищурены, а верхние широко открыты. На узком и высоком лбу тремя клоками дыбом стоят длинные волосы, образуя прическу.
Среди этих лиц, сосредоточенных в одной черте устремленности и страстного порыва, лицо Александра Блока выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска. Академически нарисованное, безукоризненное в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами, с влажным изгибом уст, оно напоминает строгую голову Праксителева{1} Гермеса, в которую вправлены бледные глаза из прозрачного тусклого камня. Мраморным холодом веет от этого лица.
Рассматривая лица других поэтов, можно ошибиться в определении их специальности: Вячеслава Иванова можно принять за добросовестного профессора, Андрея Белого за бесноватого, Бальмонта за знатного испанца, путешествующего инкогнито по России без знания языка, Брюсова за цыгана, но относительно Блока не может быть никаких сомнений в том, что он поэт, так как он ближе всего стоит к традиционно-романтическому типу поэта – поэта классического периода немецкой поэзии.
Стих Блока гибок и задумчив. У него есть свое лицо. В нем слышен голос поэта. Это достоинство редко и драгоценно. Сам он читает свои стихи неторопливо, размеренно, ясно, своим ровным, матовым голосом. Его декламация развертывается строгая, спокойная, как ряд гипсовых барельефов. Все оттенено, построено точно, но нет ни одной краски, как и в его мраморном лице. Намеренная тусклость и равнодушие покрывают его чтение, скрывая, быть может, слишком интимный трепет, вложенный в стихи. Эта гипсовая барельефность придает особый вес и скромность его чтению.
Блок напоминает старый, ныне вышедший из моды тип поэта-мечтателя. Острота жизненных ощущений, философская широта замыслов и едкая изысканность символической поэзии сделали этот тип отжившим и смешным. Сами слова – мечты и сны потеряли свою заклинательную силу и стали в поэзии прискорбными общими местами. Но для Блока и мечты и сон являются безвыходными состояниями духа. Его поэзия – поэзия сонного сознания.
В таком состоянии духа живут созерцатели, охваченные религиозной мечтой; так чувствовали себя испанские мистики XVII века, отдавшиеся культу Девы Марии, и средневековые трубадуры, посвятившие себя служению Прекрасной Даме. <…>
Реми де Гурмон
Наружность Реми де Гурмона производит трагическое впечатление.
Имея надобность переговорить с ним об одном литературном деле, я получил от него карточку, назначавшую час свидания, и отправился к нему на Rue des St. Peres – одну из наиболее сохранившихся улиц старинного университетского квартала, до сих пор полную книжными магазинами и издательскими фирмами, благодаря соседству с собором св. Сульпиция, до сих пор сохранившую строгий монастырский стиль.
Двор дома был выложен стертыми плитами, лоснящимися от сырости. Несмотря на большие запыленные окна, четыре стены, замыкавшие двор, казались пустынными.
Весь Париж построен из одного камня – белого и пористого. Вбирая в себя пыль и дым, камень этот постепенно становится желтоватым, серо-желтым, дымчатым, серым, наконец почти черным с фиолетовым отливом, так что по сгущенности тона можно определить древность здания.
Этот дом, судя по цвету, должен был быть построен в XVII веке.
Лестница узкая и темная – и ступени ее не соответствуют ритму современного шага.
Дверь отворило неопределенное и зловещее существо. Оно походило на серую старуху с седыми клоками волос на подбородке.
– Могу я видеть Реми де Гурмона?
– Это я.
Грязный монашеский халат когда-то был красным. Вокруг шеи была обвязана нечистая тряпица или чулок. На черепе красная шапочка.
Я знал, что Реми де Гурмон болен одной из тех страшных болезней, которые отмечают лицо человека Каиновой печатью, и я помнил его старые портреты, на которых он изображен красивым молодым человеком с холодным, замкнутым лицом, обрамленным темной бородой, и огромным лбом, подавлявшим лицо{1}.
Теперь лицо его возбуждало ужас, но не было безобразно. Оно рождало мысль о цветущей долине Гоморры{2}, по которой прошло пламя Божьего гнева, и опаленные холмы предстали в своей трагической наготе.
Я видел неимоверно громадный лоб, изборожденный холмами и впадинами, точно кость местами вздынулась от вулканической работы мозга, и под ним два больших светящихся глаза – умных и злых.
Нос, рот, подбородок были сожжены, как скалы, по которым прошла лава. Редкая серая щетина торчала кое-где на подбородке и на верхней губе отдельными кучками, точно кустарники, покрытые белым пеплом.
Казалось, что это не живое лицо, а каменная маска, высеченная над бассейном в старом парке, вся покрытая пятнами плесени, полосами влажной сырости и зеленого моха.
Он провел меня по трем узким комнатам, заставленным книгами. Они стояли и на полках по стенам, и тяжелыми стопами были свалены на полу. Было тесно. Потолок висел низко над головой. Пахло старыми книгами: кожаными старинными переплетами и пожелтевшими листами бумаги. Воздух был спертый и пыльный.
Были сумерки. Свет проникал сквозь пыльные стекла со стороны старого двора, который казался колодцем, вымощенным черными плитами.
Войдя в кабинет, где стоял большой письменный стол, до краев заваленный рукописями и корректурами, он сел в кресло около камина, так что тонкая полоса света обрамляла его профиль, лицо же его было в тени.
Деловой разговор занял несколько минут. Я не старался навести разговор на общие темы и не слыхал от него ни одного значительного слова. Мне и не хотелось этого, так как я чувствовал, что он, подобно большинству современных французских писателей, самые драгоценные слова свои доверяет листу бумаги, а не человеческому уху, оставляя для любопытствующих иностранцев «клише» любезностей.
Но я видел его лицо, и этого было довольно. Мне запомнилось движение его пальцев, когда он перелистывал непонятные ему страницы русской книги, в которой было написано о нем{3}. Казалось, что они сознательно и пытливо всматривались в знаки незнакомого ему алфавита, и становилось до жуткости ясно, какое значение играла книга в жизни этого человека, в котором были живы только мозг, пальцы и глаза.
После несколько раз в сумерках я встречал его около лавок букинистов на набережных и под аркадами Одеона{4} в те часы, когда приказчики с шумом торопливо сваливают книги в ящики и запирают книжные шкафы деревянными ставнями.
И всегда я видел это остро-зрительное движение его пальцев, берущих книгу, и долго следил эту зловещую фигуру человека, который только при меркнущем дне смеет показывать городу свое лицо, обожженное библейским проклятием.
И в книгах его чувствуется та же прозорливая ощупь пальцев, когда он осторожно, точно прозрачную бабочку, берет за крылышки идею и всматривается в нее испытующим оком. <…>
Иннокентий Анненский
«Все мы умираем неизвестными»…{1}
Слова Бальзака оказались правдой и для Иннокентия Федоровича Анненского.
Но «жизнь равняет всех людей, смерть выдвигает выдающихся». Надо надеяться, что так случится и теперь.
И. Ф. Анненский был удивительно мало известен при жизни не только публике, но даже литературным кругам. На это существовали свои причины: литературная деятельность И. Ф. была разностороння и разнообразна. Этого достаточно для того, чтобы остаться неизвестным. Слава прижизненная – удел специалистов. Оттого ли, что жизнь стала сложнее и пестрее, оттого ли, что мозг пресыщен яркостью рекламных впечатлений, память читателя может запомнить в наши дни о каждом отдельном человеке только одну черту, одно пятно, один штрих; публика инстинктивно протестует против энциклопедистов, против всякого многообразия в индивидуальности. Она требует одной определенной маски с неподвижными чертами. Тогда и запомнит, и привыкнет, и полюбит.
Быть многогранным, интересоваться разнообразным, проявлять себя во многом – лучшее средство охранить свою неизвестность. Это именно случай Иннокентия Федоровича Анненского; и лишь теперь для него начнется синтезирующая работа смерти.
И. Ф. был звездой с переменным светом. Ее лучи достигали неожиданно, снопами разных цветов, то разгораясь, то совсем погасая, путая наблюдателя, который не отдавал себе отчета в том, что они идут от одного и того же источника. И надо отдать справедливость, что у Иннокентия Федоровича были данные для того, чтобы сбить с толку и окончательно запутать каждого, кто не знал его лично.
Вспоминаю хронологическую непоследовательность моих собственных впечатлений о нем и о его деятельности. В начале девятисотых годов в беседе о прискорбных статьях Н. К. Михайловского о французских символистах: «Михайловский совсем не знал французской литературы – все сведения, которые он имел, он получал от Анненского». Тогда я подумал о Николае Федоровиче Анненском и только гораздо позже понял, что речь шла об Иннокентии Федоровиче.
Года два спустя, еще до возникновения «Весов», Вал. Брюсов показывал мне книгу со статьей о ритмах Бальмонта{2}. На книге было неизвестное имя – И. Анненский. «Вот уже находятся, значит, молодые критики, которые интересуются теми вопросами стиха, над которыми мы работаем», – говорил Брюсов.
Потом я читал в «Весах» рецензию о книге стихов «Никто»{3} (псевдоним хитроумного Улисса, который избрал себе Иннокентий Федорович). К нему относились тоже как к молодому, начинающему поэту; он был сопоставлен с Иваном Рукавишниковым{4}.
В редакции «Перевала» я видел стихи И. Анненского (его считали тогда Иваном Анненским). «Новый декадентский поэт. Кое-что мы выбрали. Остальное пришлось вернуть».
Когда в 1907 г. Ф. Сологуб читал свою трагедию «Лаодамия», он упоминал о том, что на эту же тему написана трагедия И. Анненским{5}. Затем мне попался на глаза толстый том Эврипида в переводе с примечаниями и со статьями И. Анненского{6}; помнились какие-то заметки, подписанные членом ученого комитета этого же имени, то в «Гермесе», то в «Журнале Министерства народного просвещения», доходили смутные слухи о директоре Царскосельской гимназии и об окружном инспекторе Петербургского учебного округа…
Но можно ли было догадаться о том, что этот окружной инспектор и директор гимназии, этот поэт-модернист, этот критик, заинтересованный ритмами Бальмонта, этот знаток французской литературы, к которому Михайловский обращался за сведениями, этот переводчик Эврипида – все одно и то же лицо?{7}
Для меня здесь было около десятка различных лиц, друг с другом не схожих ни своими интересами, ни возрастом, ни характером деятельности, ни общественным положением. Они слились только в тот мартовский день 1909 года, когда я в первый раз вошел в кабинет Иннокентия Федоровича и увидал гипсовые бюсты Гомера и Эврипида, стену, увешанную густо, по-старинному, фотографиями, литографиями и дагерротипами, шкафы с книгами – филология рядом с поэтами, толстые томы научных изданий рядом с тоненькими «plaguettes»[57] новейших французских авторов, еще не проникших в большую публику. Наружность Иннокентия Федоровича гармонировала с этим кабинетом, заставленным старомодными, уютными, но неудобными креслами, вынуждавшими сидеть прямо. Прямизна его головы и его плечей поражала. Нельзя было угадать, что скрывалось за этой напряженной прямизной – юношеская бодрость или преодоленная дряхлость. У него не было смиренной спины библиотечного работника; в этой напряженной и неподвижной приподнятости скорее угадывались торжественность и начальственность. Голова, вставленная между двумя подпиравшими щеки старомодными воротничками, перетянутыми широким черным пластроном, не двигалась и не поворачивалась. Нос стоял тоже как-то особенно прямо. Чтобы обернуться, Иннокентий Федорович поворачивался всем туловищем. Молодые глаза, висячие усы над пухлыми слегка выдвинутыми губами, прямые по-английски волосы надо лбом и весь барственный тон речи, под шутливостью и парадоксальностью которой чувствовалась авторитетность, не противоречили этому впечатлению. Внешняя маска была маской директора гимназии, действительного статского советника, члена ученого комитета, но смягченная природным барством и обходительностью.
Все, что было юношеского, – было в неутомленном книгами мозгу; все, что было старческого, было в юношески стройной фигуре. Хотелось сказать: «Как он моложав и бодр для своих 65 лет!», а ему было на самом деле около пятидесяти{8}.
Его торжественность скрывала детское легкомыслие; за гибкой подвижностью его идей таилась окоченелость души, которая не решалась переступить известные грани познания и страшилась известных понятий; за его литературною скромностью пряталось громадное самолюбие; его скептицизмом прикрывалась открытая доверчивость и тайная склонность к мистике, свойственная умам, мыслящим образами и ассоциациями; то, что он называл своим «цинизмом», было одной из форм нежности его души; его убежденный модернизм застыл и остановился на определенной точке начала девяностых годов.
Он был филолог, потому что любил произрастания человеческого слова: нового настолько же, как старого. Он наслаждался построением фразы современного поэта, как старым вином классиков; он взвешивал ее, пробовал на вкус, прислушивался к перезвону звуков и к интонациям ударений, точно это был тысячелетний текст, тайну которого надо было разгадать. Он любил идею, потому что она говорит о человеке. Но в механизме фразы таились для него еще более внятные откровения об ее авторе. Ничто не могло укрыться в этой области от его изощренного уха, от его ясно видящей наблюдательности. И в то же время он совсем не умел видеть людей и никогда не понял ни одного автора как человека. В каждом произведении, в каждом созвучии он понимал только самого себя. Поэтому он был идеальным читателем.
Перелистывая немногие и случайные письма, полученные мною за эти несколько месяцев знакомства от Иннокентия Федоровича, я нахожу такие фразы, глубоко характерные для его отношения к слову.
«Да, вы будете один… Вам суждена, быть может, по крайней мере на ближайшие годы, роль, мало благодарная». Пишет он мне после первого нашего свидания. «Ведь у вас – школа… у вас не только светила, но всякое бурое пятно не проснувшихся, еще сумеречных трав, ночью скосмаченных… знает, что они С л о в о и что ничем, к р о м е с л о в а, им – светилам – не быть, что отсюда и их красота, и алмазность, и тревога, и уныние.
…Мысль… Мысль?.. Вздор все это. Мысль не есть плохо понятое слово; в поэзии у мысли страшная ответственность… И согбенные, часто недоумевающие, очарованные, а иногда – и нередко – одураченные словом, мы-то понимаем, какая это святыня, сила и красота…
…А разве многие понимают, что такое С л о в о у нас? Но знаете, за последнее время и у нас, ух! как много этих, которые нянчатся со словом и, пожалуй, готовы говорить об его культе. Но они не понимают, что самое с т р а ш н о е и в л а с т н о е слово, т. е. самое з а г а д о ч н о е, может быть, именно слово б у д н и ч н о е» {9}.
Я не стесняюсь приводить эти слова только потому, что это «Вы» – здесь лишь форма выражения, а читать следует «я». Это самого себя Иннокентий Федорович под впечатлением нескольких моих стихотворений почувствовал одиноким, себя понял осужденным на роль мало благодарную в течение ближайших лет, себя знал носителем школы, сам сознавал, что для него внешний мир ничего, к р о м е с л о в а, не представляет, сам трепетал красотой и алмазностью, тревогой и унынием страшных, властных, загадочных – будничных слов.
Каким поэтом мог быть тот сложный и цельный человек, намеренная парадоксальность речей которого была лишь бледным отражением парадоксальных сочетаний, составлявших гармоническую сущность его природы? Это был нерадостный поэт. Поэт будничных слов. В свою лирику он вкладывал не творчество, не волю, не синтез, а жесткий самоанализ<…>
Василий Суриков
Среднего роста, широкоплечий, крепкий, с густой шапкой русых от проседи, в скобку подстриженных волос, жестких и слабо вьющихся в бороде и усах, моложавый, несмотря на свои шестьдесят пять лет, – таким я увидел Василия Ивановича Сурикова впервые в январе 1913 года
В наружности его – простой, народной, но не простонародной и не крестьянской, чувствовалась закалка плотная, крутая. Скован он был крепко – по-северному, по-казацки. Лоб широкий, небольшой, скошенный одним ударом, нос короткий, сильный, ловко стесанный. Все лицо само разлагалось на широкие, четкие, хорошо определенные планы. Морщины, глубокие, резкие, но не слишком заметные на плотной, свежей, сибирскими морозами дубленой коже, рождали представление о бронзовом полированном отливе. Глаза небольшие, с умным собачьим разрезом, спокойно-внимательные, настороженные, охотничьи. Во всей фигуре подобранность и комкость степного всадника.
Рука у него была маленькая, тонкая, не худая, с красивыми пальцами, суживающимися к концам, но не острыми.
Письмена ладони глубокие, четкие, цельные. Линия головы сильная, но короткая. Меркуриальная – глубокая, удвоенная, на скрещении с головной вспыхивавшая звездой, одним из лучей которой являлось уклонение Аполлона в сторону Луны, говорила о редкой остроте и емкости наблюдательности, о том, что все виденное даже мимоходом отпечатляется четко в глубине зрачка, о разуме ясном и простом, не озаряющем области более глубокой подсознательной жизни, а потому не мешающем свободному течению сокровенных интуитивных процессов; о том, что идея, едва появившаяся, у него уже облекается в зрительную форму, опережая свое сознание и этим парируя отчасти опасность творческого уклонения в сторону бесплодных лунных мечтаний.
Холм Венеры, только у самой линии жизни прегражденный несколькими отрывочными чертами, говорил о непосредственности натуры, о свободном подходе к людям, не исключающем неожиданного каприза, тугого упрямства и часто лукавого «себе на уме».
Линия сердца главным руслом недалеко огибала холм Сатурна, а боковой, но очень четкой линией узорно проходила через весь холм Юпитера и, направляясь к самому центру пальца, знаменовала сердце открытое, благосклонное и благородное, хотя и склонное в минуты темноты к душному себялюбивому самоутверждению, распылявшемуся при первом же взрыве жизнерадостности.
Жил он всю вторую половину своей жизни настоящим кочевником – по меблированным комнатам, правда, по дорогим и комфортабельным, но где ни одна вещь не говорила об его внутреннем мире. Но всегда и всюду с ним переезжал большой старый кованый сундук, в котором хранились рисунки, эскизы, бумаги, любимые вещи.
Когда раскрывался сундук – раскрывалась его душа.
Вытаскивая оттуда документы и книги, он читал вслух страницы истории Красноярского бунта, перебивая себя и с гордостью восклицая: «Это ведь все сродственники мои…», «Это мы-то воровские люди» и «С многогрешными я учился – это потомки гетмана».
Потом он доставал оттуда же куски шелковой ткани и показывал треугольный платок из парчовой материи – половину квадрата, разрезанного от угла до угла. Парча красновато-лиловая, церковного тона, с желтизной и пожелтевшим металлом хранила жесткие, привычные складки, которыми ложилась вокруг лица.
«Этот платок бабушка моя на голове носила; его, значит, для двух сестер купили и пополам разрезали»
Тут же он показывал фотографию своей матери в гробу{1}. Она лежит с лицом старой крестьянки, с головой, повязанной платком. Облик спокойный, благостный, сильный. В нем та же кованность и тот же бронзовый чекан, что и в лице самого Василия Ивановича. Только морщины глубже, резче, прямее.
Рядом с фотографией лежат несколько сохранившихся детских его рисунков, копии с черных гравюр, сделанные любовно и старательно, каллиграфически тонко отточенные свинцовым карандашом и подкрашенные акварелью «от себя».
«Только вот эти три остались. Все в Академии пропали. А дивные рисунки были. Вы посмотрите, как эти складки здесь. А ручка как тонко лепится», – говорил он с наивным восторгом.
Затем из сундука появляются тяжелые свертки масляных этюдов и подклеенные листки карандашных и акварельных эскизов, составляющие главное иллюстрированное содержание настоящей книги.
Так постепенно, увлекаясь воспоминаниями, он переходит к рассказам. Рассказывал он охотно и мастерски. Как у опытного рассказчика, эпизоды его жизни были закристаллизованы в четкие и зафиксированные повествования, повторявшиеся в своих общих чертах, но всегда освещаемые по-новому каким-нибудь неожиданным эпитетом или вариантом.
Интонации и манера речи у него были своеобразные, красочные, полнокровные. Он замедлял голос к концу фразы, но обрывал их всегда резко и сразу. Круто ставил точки и делал сосредоточенные паузы. В его речи не было ни точек с запятой, ни многоточий.
В каждом жесте, в каждом слове он сказывался со всей полнотой своего темперамента. Прихлебывал ли он из рюмки на художественной вечеринке, приговаривая: «Ай да наливочка!», говорил ли он о фигуре Петра в «Стрельцах», прибавляя: «Люблю Петруху», – в этих словах был весь Суриков, не меньше, чем в его картинах.
Своеобычную свою красоту он знал, любил себя показать лицом, но влагал сюда столько художественного такта, что это никогда не становилось позой.
Относясь к героям своих картин, как к живым лицам, он и всю минувшую историю России читал по живым лицам своих современников. Поэтому художник-реалист начинал иногда свои рассказы так, что казалось, что слушаешь визионера.
«А вы знаете, Иоанна-то Грозного я раз видел – настоящего: ночью в Москве на Зубовском бульваре в 1897 году встретил. Идет сгорбленный, в лисьей шубе, в шапке меховой, с палкой. Отхаркивается. На меня так воззрился – боком. Бородка с сединой. Глаза с жилками. Не свирепые, а только проницательные и умные. Пил, верно, много. Совсем Иоанн. Я его вот таким вижу. Подумал: если бы писал его – непременно таким бы написал. Но не хотелось тогда писать – Репин уже написал. И Пугачева я знал – у одного казацкого офицера такое лицо».
Точно так же встретил он и Меншикова, и Суворова, и Морозову, и рыжего стрельца, и юродивого, зорким взглядом степного охотника впиваясь в лица толпы и потом стараясь кистью заставить их выдать незапамятную историческую тайну.
«Мужские-то лица по скольку раз я перерисовывал. Размах, удаль мне нравились. Каждого лица хотел смысл понять».
Как художник он шел своей особливой волчьей тропой и охотился в одиночку. В искусстве он не бунтовал по пустякам. Младший сверстник передвижников, он не откликался на академические мятежи, а, напротив, постарался взять у Академии все, что ему было нужно, и как можно больше, хотя Академия до нелепости не соответствовала его будущему искусству. Во время своих поездок по Западной Европе он впитывал в себя, как губка, все, что мог впитать от старых венецианцев. Тинторетто был особенно близок его духу, и он говорил с восторгом: «Черно-малиновые эти мантии его. Кисть у него прямо свистит».
Связанный поколением и славой с передвижниками, он до конца жизни выставлял на их выставках, но никогда не надевал эстетических шор своей эпохи. Он вел себя в искусстве как человек, которому слишком много надо сказать и выразить и который поэтому не отказывается ни от каких материалов, попадающихся ему по пути, зорко отбирает все полезное для его работы из каждого нового явления и таким образом не перестает учиться своему ремеслу до конца.
Поэтому он сохранил до старости редкую эстетическую свободу и единственный из своего поколения не был ни сбит с толку, ни рассержен новейшими поисками и дерзаниями живописи.
Однажды мне случилось быть вместе с Василием Ивановичем в галерее С. И. Щукина. Одновременно с нами была другая компания. Одна из дам возмущалась живописью Пикассо{2}. Василий Иванович выступил на его защиту:
«Вовсе это не так страшно. Настоящий художник именно так всякую композицию и должен начинать: прямыми углами и общими массами. А Пикассо только на этом остановиться хочет, чтобы сильнее сила выражения была. Это для большой публики страшно, а для художника очень понятно».
К «большой публике» он относился с чисто художественным презрением и говаривал с иронией:
«Это ведь как судят. Когда у меня «Стенька» был выставлен, публика справлялась: «А где же княжна?» А я говорю: «Вон круги-то по воде – только что бросил». А круги-то от весел. Ведь публика как смотрит: раз Иоанн Грозный, то сына убивает, раз Стенька Разин, то с княжной персидской».
Строгий реализм и жажда по точности были надежными руководителями Сурикова в области формы. Недаром он гордился тем, что еще в детстве был «пленэристом» – писал Красноярск с горы акварелью, а юродивого заставлял позировать на снегу босиком и в одной рубахе. При этом он прибавлял с энергией: «Если бы я ад писал, то в огне позировать заставлял бы и сам в огне сидел».
Из русских мастеров он особенно ценил Александра Иванова{3}.
«Иванов – это прямое продолжение школы дорафаэлистов, усовершенствованное. Никто не мог так нарисовать, как он. Как он каждый мускул мог проследить со всеми разветвлениями в глубину! Только у Шардена это же есть. Но у него скрыта работа в картинах, а у Иванова она вся на виду».
Для собственного своего художественного опыта он находил выражения такие же четкие и своеобразные.
«Надо время, – говорил он, – чтобы картина утряслась так, чтобы в ней ничего переменить нельзя было. Действительные размеры каждого предмета найти нужно. В саженной картине одна линия, одна точка фона – и та имеет значение. Важно в композиции найти замок, чтобы все части соединить в одно, – математика. А потом проверять надо: поделить глазами всю картину по диагонали».
Эти слова Василия Ивановича и послужили нам основным директивой при том опыте анализа его композиции, который мы попытались дать в этой книге.
На вопрос мой о палитре Василий Иванович отвечал:
«Я употребляю обыкновенно охры, кобальт, ультрамарин, сиену натуральную и жженую, оксид-руж, кадмий темный и оранжевый, краплаки, изумрудную зелень и индейскую желтую. Тело пишу только охрами, краплаком и кобальтом. Изумрудную зелень употребляю только в драпировки – никогда в тело. Черные тона составляю из ультрамарина, краплака и индейской желтой. Иногда употребляю персиковую черную. Умбру редко. Белила – кремницкие».
Самобытность и своеобразность его натуры не могла не сказываться в современной жизни чертами анекдотическими.
Так, в Париже, приходя в Академию Коларосси на croguis[58], он частенько довольно бесцеремонно расталкивал работающих, чтобы занять лучшее место, приговаривая: «Же сюи Суриков – казак рюсс».
Человек другой эпохи и другой расы, он часто обращался к своим современникам колючими сторонами своей натуры. Особенный протест подымался в нем, когда он заподозревал желание на себя повлиять, им воспользоваться для своих целей. Характерен его эпизод со Стасовым{4} после того, как была выставлена «Боярыня Морозова».
«Помню, на выставке был, – рассказывал он. – Мне говорят: «Стасов вас ищет». И бросается это он меня обнимать при всей публике. Прямо скандал.
– Что вы, – говорит, – со мной сделали?
Плачет ведь. Со слезами на глазах. А я ему говорю:
– Да что… Вы меня-то… (Уж не знаю, что делать – неловко). Вот ведь здесь «Грешница» Поленова{5}.
А Поленов-то ведь тут – за перегородкой стоит. А он громко говорит:
– Что Поленов?.. Дерьмо написал.
Я ему:
– Что вы?.. Ведь услышит.
А Поленов-то мне ведь письма писал – направить хотел, как ему не стыдно: «Вы вот «Декабристов» напишите», только я думаю про себя: «Нет уж, ничего этого писать не буду».
И продолжая свои воспоминания:
«Император Александр III{6} тоже на выставке был. Подошел к картине. «А это юродивый», – говорит. Все по лицам разобрал. А у меня горло от волнения ссохлось – не мог говорить. А другие-то, как лягавые псы, кругом…
Я на Александра III смотрю как на истинного представителя народа. Никогда не забуду, как во время коронации мы стояли вместе с Боголюбовым{7}. Нас в одной из зал дворца поставили. Я ждал, что он с другого конца выйдет. А он вдруг сзади мимо меня – громадный, я ему по плечо был. В мантии и выше всех головой. Идет и мантию так ногами сзади откидывает. Так и остались в глазах плечи. Я государыни-то и не заметил с ним рядом. Грандиозное что-то в нем было.
А памятник этот новый, у храма Спасителя, никуда не годится{8}. Опекушин совсем не понял его. Я-то ведь помню. И лоб у него был другой, и корона сидела иначе. А у него на памятнике корона приземистая какая-то и сапоги солдатские. Ничего этого не было».
Из современников своих Суриков особенно ценил мнение Льва Толстого и часто ссылался на него, как мы виде ли. Но это, конечно, не устраняло столкновений между этими двумя властными и столь друг на друга непохожими натурами.
«Софья Андреевна{9}, – говорил он, – заставляла Льва в обруч скакать – бумагу прорывать. Не любил я бывать у них из-за нее. Прихожу раз: Лев Николаевич сидит, у него на руках шерсть, а она мотает. И довольна: вот что у меня, мол, Лев Толстой делает. Противно мне стало – больше не стал к ним ходить».
Про разрыв Сурикова с Толстым я слыхал такой рассказ от И. Э. Грабаря:
«А он вам никогда не рассказывал, как он Толстого из дому выгнал? А очень характерно для него. Жена его помирала в то время. А Толстой повадился к ним каждый день ходить, с ней о душе разговоры вел да о смерти. Так напугает ее, что она после целый день плачет, просит: «Не пускай ты этого старика пугать меня». Так Василий Иванович в следующий раз, как пришел Толстой, с верху лестницы на него.
– Пошел вон, злой старик, чтобы тут больше духу твоего не было.
Это Льва Толстого-то… Так из дому и выгнал».
Последним публичным актом Сурикова было письмо в «Русских ведомостях», написанное по поводу травли, поднятой в это время против Грабаря из-за перевески картин в Третьяковской галерее{10}.
«Волна всевозможных толков и споров, поднявшихся вокруг Третьяковской галереи, не может оставить меня безучастным и не высказавшим своего мнения. Я вполне согласен с настоящей развеской картин, которая дает в надлежащем свете и расстоянии возможность зрителю видеть все картины, что достигнуто с большой затратой энергии, труда и высокого вкуса. Раздавшийся лозунг «быть по-старому» не нов и слышался всегда во многих отраслях нашей общественной жизни.
Вкусивший света не захочет тьмы».
Письмо это было написано Суриковым за несколько дней до смерти.
Умер он 6 марта 1916 года.
Обычно судьба, когда ей надо выплавить из человека большого художника, поступает так: она рождает его наделенным такими жизненными и действенными возможностями, что ему их не изжить и в десяток жизней. А затем она старательно запирает вокруг него все выходы к действию, оставляя свободной только узкую щель мечты, и, сложив руки, спокойно ожидает, что будет.
Поэтому источник всякого творчества лежит в смертельном напряжении, в изломе, в надрыве души, в искажении нормально-логического течения жизни, в прохождении верблюда сквозь игольное ушко. В самых гармонических натурах художников мы найдем этот момент. Иначе и быть не может Иначе им незачем было и творить, они бы просто широко и блестяще прожили свою жизнь.
Судьба слепила Сурикова для того, чтобы он бунтовал против или вместе с Петром, делал Суворовские переходы, завоевывал новые Сибири и грабил персидские царства, щедро оделила его всеми нужными для этого качествами, но, попридержав на два века, дала ему в руки кисть вместо казацкой шашки, карандаш вместо копья и сказала: «Ну, а теперь вывертывайся!»
И теперь, когда последний экзамен его жизни сдан, мы можем засвидетельствовать, что он вышел из своего трудного положения блестяще, осуществил в мечте все, чего не мог пережить в жизни, и ни разу в чуждом веке, в чуждом круге людей, с непривычным оружием в руке не изменил ни самому себе, ни своей древней родовой мудрости.
Илья Эренбург
Париж в первую зиму войны.
Вы поднимаетесь по высокой, узкой, прямой, без площадок, лестнице-коридору, на верхней ступени которой коптит лампа. Большая мастерская переполнена народом. По углам продавленные сомье, пыльные склады подрамков, несколько трехногих стульев и колченогих столов.
Высоко по стенам криво и густо развешены холсты с тонкими кривыми, зелеными и багровыми, распиленными на куски деревянными людьми, раскинувшими свои кегельные руки и ноги в катастрофическом запустении кубически-вздутых пейзажей.
Ковер из проклеенного войлока с рельефными коричневыми разводами.
На вопрос «что это?» вам отвечают:
– Это делают в Новой Зеландии из сгустков человеческой крови. А вы посмотрите там в углу африканских идолов.
В густом табачном воздухе толпа гудит по-английски, по-русски, по-шведски, по-норвежски, по-испански, реже всего слышны французские слова.
В одном углу играют на пианино, в другом пьют плохое вино. Все говорят, но никто друг друга не слушает. Все друг друга знают, но мало кто с кем знаком. Многие кажутся опьяневшими, но иным опьянением, чем от алкоголя: в них работает кокаин, гашиш, морфий.
Каждый одержим по-своему и никто не обращает внимания на других.
Юноша с лицом черепа и длинными прямыми волосами ловит пальцами воздух и бормочет: «Дух веет всюду»…
Толстый человек с шевелюрой Зевса, держа за пуговицу незнакомого ему господина, толкует ему: «Мне двадцать пять лет, и я еще невинен».
Другой, с бритым, передергивающимся лицом и с неожиданными вскриками ночной птицы, носится среди толпы с большой книгой, раскрывает ее перед носом и тыкает пальцем в пророчества Нострадамуса{1}.
Маскарад или сумасшедший дом?
Маскарады, музыка, танцы запрещены в Париже на время войны.
Это художественная «кантина» на Монпарнасе.
Так во время войны стали называться дешевые рестораны, устроенные в некоторых мастерских художников.
После обеда, так как кафе запираются в девять, художники остаются здесь, чтобы провести вечер.
В каждом городе есть свои солнечные сплетения и нервные узлы. Положивши руку на них, чувствуешь напряженное биение духовной жизни и пульсацию токов, из них лучащихся. Париж богат такими средоточьями. Его творческие вихри затягивают чужестранца, причащая его своему рабочему ритму. Эти сплетенья можно почувствовать и в Национальной библиотеке, и в Лувре, и в «College de France», и в библиотеках Латинского квартала, и в академиях Монпарнаса.
Одним из самых страшных симптомов, говоривших о духовном опустошении, произведенном войной, было то, что жизнь этих «солнечных сплетений» иссякла.
Внешне это не бросалось в глаза, но душа не чувствовала пульса, горячей волны крови. Она испытывала жуткое головокружение, встречая неожиданную пустоту именно там, где привыкла находить опору и оправдание. Эта пустота говорила о полном отливе крови от мозга, о духовном обмороке страны. <…>
Но ни один из кварталов Парижа не производит во время войны впечатлений большего душевного запустения, чем Монпарнас. Внешне он изменился, быть может, меньше других: он оживлен, он люден. «Академии» переполнены. Но нигде больше, чем на этом перекрестке бульваров Монпарнаса и Распайля, не чувствуется запустения великого города, нигде отлив духа не обнажил более трагически затягивающего ила на дне каналов. На этих улицах кипело и вырастало то поколение французского искусства, которое теперь истреблено войной, и видимость жизни, сообщаемая этому кварталу присутствием иностранцев, зияет всей огромной пустотой, оставленной по себе этим поколением, хирургически изъятым из европейской жизни.
Последние книги поэта Ильи Эренбурга – «Стихи о Канунах»{2}, «Повесть о жизни некоей Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей», «Избранные переводы Франсуа Вийона» – возникли в этом запустении Монпарнаса, в духовном обнажении Парижа времен Великой войны. Даже переводы <из> Франсуа Вийона (Виллона), прекрасные в своей субъективности, не менее, чем оригинальные стихи Эренбурга, говорят об эпохе, в которую они были сделаны.
Исступленные и мучительные книги, местами темные до полной непонятности, местами судорожно-искаженные болью и жалостью, местами подымающиеся до пророческих прозрений и глубоко человечной простоты. Книги, изуродованные цензурными ножницами и пестрящие многоточиями. Книги большой веры и большого кощунства. К ним почти невозможно относиться как к произведениям искусства, хотя в них есть и высокие поэтические достижения. Это – лирический документ. И их надо принимать, как таковой. В них меньше, чем надо, литературы, в них больше исповеди, чем возможно принять от поэта…
Я не могу себе представить Монпарнас времен войны без фигуры Эренбурга. Его внешний облик как нельзя более подходит к общему характеру духовного запустения. С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелелыми семитическими губами, с очень длинными и очень прямыми полосами, свисающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, «которым только что вымыли пол», Эренбург настолько «левобережен» и «монпарнасен», что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих.
Такое впечатление должны были производить древние цинические философы на улицах Афин и христианские отшельники на улицах Александрии. В нем есть, конечно, и то, и другое.
Прихотливой и нелепой, чисто русской судьбой кинутый почти ребенком, как политический эмигрант, на многодорожье мирового города, он, несмотря на свою мо<ло>дость, прошел уже сложный поэтический путь{3}. За ним уже целый ряд книг, из которых каждая по-своему интересна и каждая, как лирическое устремление, отрицает все предыдущие. Его путь идет резкими зигзагами, неожиданными скачками, и за него нельзя поручиться, что он на следующем повороте не прорвет орбиту поэзии и не провалится в мир религиозных падений и взлетов, для судорог, уже молчаливых.
Он выступил в 1910 году, как крайний эстет, книжкой стихов, сразу искусных, но безвкусных и с явным уклоном в сторону эстетического кощунства. Книга имела несомненный успех у критики. В следующих сборниках стихов: «Я живу», «Одуванчики» «Будни»{4} – Эренбург делал зигзаги между эстетством, лирической идиллией и натуралистическим цинизмом. Определяющими моментами этих книг была ненависть к Парижу и мечта об Италии.
Очень большое и творчески благотворное влияние имел на него Франсис Жамм{5}.
Книга «Детское», отмеченная его знаком, является самой гармоничной и трогательной из книг Эренбурга. Кроме того, Эренбург перевел книгу стихов Жамма и составил хрестоматию французских поэтов за последние сорок лет, в своих переводах, не считая еще не опубликованных им переводов поэтов «Плеяды» и XVIII века, что указывает, как творчески переживает он культуру Франции и как подробно любит ее, ненавидя.
«Стихи о Канунах» открываются словами из Апокалипсиса…<…> Основная идея Эренбурга, проходящая через всю книгу, это то, что земная жизнь и есть настоящий, подлинный ад и что «всякий, кто жизнь отработал, – в раю». Проникнутый христианскими символами и образами, он в каждой строке остается исполненным глубоко иудейского, непримиренного духа. Богоборчество – один из основных родников его поэзии. Он не может принять изначальной божественной несправедливости, вышнего каприза, который формулируется для него в библейских словах: «Иакова я возлюбил, Исава возненавидел». <…> И стихи Эренбурга, проникнутые духом «Плача Иеремии»{6}, могут служить психологическим свидетельством великого духовного запустения Парижа первых лет европейской катастрофы.
Александр Бенуа
Изо всех автопортретов художников – один неотступнее других остается в глазах: это портрет Шардена{1}, на котором он написал себя в очках, с головой, повязанной платком, и с козырьком зеленой саржи над глазами.
В нем останавливает внимание не столько это причудливое и остроумно-практичное снаряжение для живописной работы (недаром Сезанн говаривал об этом козырьке: «О, он был себе на уме – Шарден»), сколько испытующий, пристальный взгляд, которым художник вглядывается в стоящую перед ним натуру – в данном случае в самого себя.
Это один из самых зеркальных автопортретов, уводящий по анфиладам взаимоотражений в самую глубину творческой лаборатории и дающий истинный образ живописного вдохновения.
Глядя на этого некрасивого старика в явно смешном наряде, не можешь не сказать себе: «Он прекрасен», настолько каждая деталь его костюма и наружности связана с его ремеслом.
Не могу себе дать отчета, в силу каких сложных сопоставлений этот портрет выплывает перед глазами, когда я вспоминаю встречи с Александром Николаевичем Бенуа в Версале.
Быть может потому, что только здесь я встречал А. Н. Бенуа не как критика, не как собеседника, наконец, не как петербуржца, а только как живописца, и притом в самые острые моменты его творческого вглядыванья в натуру.
Сильно горбясь, в старом пиджаке, перепачканном краской, с мольбертом и холстами под мышкой, с ящиком в руке проходил он сквозь ворота «Резервуаров», направляясь в один из уединенных боскетов в том состоянии внимательного и подробного экстаза перед окружающим, когда взгляд художника, боясь пропустить хотя бы малую черту видимости, как бы выпивает все собственное обличье человека, заставляя забывать о своих жестах, одежде, словах, обо всей обычной эпидерме внешности, с которой всегда более или менее связано его сознание.
При этом он мог только повторять: «Нет, мое сердце не вынесет столько красоты!»
И не случайно, когда кн<язь> Шервашидзе зарисовывал его портрет для «Золотого Руна», А. Бенуа выбрал сам для него именно это версальское свое обличье, как самый ценный из своих ликов{2}.
Встречаясь с Бенуа в Версале, я понял, насколько кисть и краски служат для него инструментами познания: это его циркуль и отвес; он не только творит – он исследует и проверяет.
Критик и художник в нем слиты органически.
Чувствуется, что он не может судить о художественной эпохе, предварительно не выверив ее собственной кистью, и что он не подойдет к природе, не сделав справки о том, как она до сих пор принималась и трактовалась глазом живописцев иных времен.
За спиной Бенуа-живописца всегда стоит художественный критик, дающий каждому движению его кисти историческую обоснованность, а перо Бенуа-критика направляет художник и неволит его к неожиданным скачкам, капризным пристрастиям и антипатиям, не оправдываемым исторической логикой, но эстетически всегда правым.
Каждый рисунок, каждую картину Бенуа можно логически доказать, каждую статью нужно почувствовать живописным чутьем.
Даже в этюдах с натуры Бенуа почти всегда остается графиком: рисунок четкий, крепкий, тяжеловатый, продуманный, стоит всегда в его работе на первом плане.
Акварель и гуаши более отвечают его намерениям, чем масло. Но ими он пишет густо, с чернотой, всегда монументально.
Он как бы чеканит кистью – отчетливо и глубоко: бретонские ли скалы, террасы, лестницы и стриженые буксусы Версаля, горы северной Италии или холмы Судака{3}.
В каждом его пейзаже по четкости и глубине контуров, по разработке пятен и распределению светотени есть элемент гравюры.
Он подходит к природе как строитель: он внимательно изучает, как все построено, куда перенесена тяжесть, что к чему притерто: ему важен архитектурный чертеж местности, геометрия планов и устойчивость предметов.
Его лиризм никогда не выливается целиком в едином произведении: он разливается по сериям и по циклам.
Рисунок, как орудие анализа и логики, в нем преобладает, потому что рисунок служит звеном между живописью и литературой.
Было бы большой несправедливостью разделять в Бенуа художника и критика: в этом сплаве сила и ценность его для русского искусства. Им объясняется то особое положение, которое занимает Бенуа среди современных художников.
Кто Бенуа в современном русском искусстве?
Бенуа – это наша Академия.
Академия – это необходимое средоточье художественного организма страны; это школа ремесла, живое хранилище традиций, лаборатория индивидуальностей, ковчег идей.
Правда, исторические Академии никогда не удовлетворяли этим требованиям: их официальное положение во всех странах обрекало их на старческий склероз.
Но это не мешало живучему организму искусства рядом с окостеневшими органами создавать новые нервные узлы, которые и становились живыми солнечными сплетениями данной эпохи: когда Академия не делала своего дела – возникали «сенакли», принимавшие на себя ее отправления.
Так, Малларме был в точном смысле Академией символистов: сквозь дисциплину его бесед прошло целое поколение поэтов, из которых ни один не был учеником его личного творчества. Каждый открывал в его беседах свою собственную индивидуальность и уходил своей дорогой, но насыщенный великим историческим опытом творчества, ему сообщенным.
В этом разница между «Академией» и «Учителем». Учитель-мастер создает школу, т. е. учеников, Академия же создает мастеров.
Так, Одилон Редон создал своим идейным влиянием ряд мастеров, среди которых мы знаем Вюийяра, Мориса Дени, Боннара{4}, Серюзье, и ни один из них не пошел дорогой редоновского искусства. А рядом Сезанн посмертно породил не мастеров, а ряд учеников и подражателей, продолжающих его приемы.
Поэтому мы вправе говорить об Академиях Малларме и Редона и о школе Сезанна.
В развитии русского искусства мы видели за последнее время ряд лиц, своеобразно исполнявших функции Академии: не был ли таковой Савва Иванович Мамонтов, из рук которого вышли и Врубель, и Шаляпин, и Русская опера? В литературе князь Александр Иванович Урусов своей многолетней пропагандой Бодлера и Флобера, французской формы и строгого вкуса играл ту же роль – и каждый из писателей последнего поколения чем-нибудь ему да обязан.
Но, конечно, группа «Мира искусства» в гораздо большей полноте осуществила задачи Академии, чем это могли сделать отдельные лица.
Они пришли во время безнадежного развала русского искусства и официальной Академии для того, чтобы собрать растерянные знания, связать порванные нити, не дать рассыпаться преемственной связи русского искусства с западными корнями, которую официальная Академия утратила в конце века.
У этой группы редких и замкнутых в своем искусстве художников, тесно спаянных и вкусами и задачами, оказался свой необычной широты организатор – Дягилев и свой теоретик-вдохновитель – Бенуа.
Бенуа – сердце «Мира искусства». Все качества таланта предназначили его для этой роли: и его свойство как художественного критика, который, не ограничиваясь ролью теоретика своего поколения, с самого начала имел намеренье стать архитектором «Всеобщей истории живописи», и эклектизм его художественных вкусов, и редкая терпимость к крайним течениям, которая, лучась из него, все поколение «Мира искусства» сделала исключением среди русских художественных нравов, и наконец, многообразие его знаний, и применение их не только в живописи, но и в театре, и в балете, и в архитектуре – энциклопедизм его ремесла.
Таким образом, как духовное средоточие «Мира искусства», Александр Бенуа представляется нам как действительное воплощение идеальной Академии современного русского искусства, а та особая неприязнь, которую питает к нему официальная Академия – с одной стороны, и «левые» – с другой, является молчаливым признанием этой его роли. <…>
Воспоминания
Вся наука человечества, все его знания должны стать субъективными – превратиться в воспоминания. Человек должен суметь развернуть свиток своих мозговых извилин, в которых записано все, и прочесть всю свою историю изнутри.
Область воспоминания – область тайная и интимная. Сюда нельзя вводить всякого…
Художник, идущий к моим воспоминаниям, ищет в них не пережитой действительности, а себя самого в настоящем, вне времени.
М. Волошин. « История моей души»Рассказ об И. Ф. Анненском
Я познакомился с Иннокентием Федоровичем очень поздно – в год его смерти, позднею весною{1}.
Когда я вспоминаю теперь его фигуру – у меня всегда возникает чувство какой-то обиды; вспоминаются слова Бальзака: «La gloire c'est le soleil des morts, nous mourrons tous inconnus»[59].
Как раз в 1909 г. возник вопрос об основании журнала «Аполлон», в котором и я также участвовал с первого года его издания, хотя и не любил этого журнала. Видеть же Иннокентия Федоровича в редакции «Аполлона» было тем более обидно и несправедливо, в особенности для последнего года его жизни. Это было какое-то полупризнание. Ему больше подобало уйти из жизни совсем непризнанным.
Приглашение Иннокентия Федоровича состоялось таким образом. Вставал вопрос – кого можно противопоставить Вячеславу Иванову и А. Л. Волынскому в качестве теоретика аполлинизма? Тут вспомнили об Анненском{2}. Ни я, ни С. К. Маковский не имели об Анненском ясного представления. О нем тогда часто говорили Н. С. Гумилев и А. А. Кондратьев{3} – его ученики по царскосельской гимназии. Но Гумилев был в то время начинающим поэтом, и его слова не могли иметь того авторитета, какой они имели впоследствии.
Сопровождать С. К. Маковского в Царское Село для приглашения Иннокентия Федоровича пришлось как раз мне. Как сейчас помню царскосельский адрес Иннокентия Федоровича: Захаржевская, дом Панпушко, № 6. Нас провели в высокую комнату, заставленную книжными шкафами с гипсами на них; среди этих гипсов был большой бюст Еврипида. Несколько чопорная мебель, чопорный хозяин… Помню его поджатый, образующий складки подбородок… В Иннокентии Федоровиче чувствовалась большая петербургская солидность.
Оказалось, что я многое знал об Анненском со стороны его различных литературных выступлений. В моем сознании соединилось много «Анненских», которых я раньше не соединял в одном лице. Тут был и участник странного журнала «Белый Камень» (редактировавшегося Анатолием Бурнакиным{4}) и других журналов того времени. А мы ехали к нему только как к переводчику Еврипида! Все соединялось в этом чопорном человеке, в котором чувствовался чиновник Министерства народного просвещения. До чего было в нем все раздергано на разные лоскуты!
Очень запомнилось первое чтение стихов. Я слышал их в первый раз; я не знал, что автор «Тихих песен» – он же. Выслушав нашу просьбу – прочесть стихи, Иннокентий Федорович прежде всего обратился к Валентину Иннокентиевичу{5} и велел ему принести кипарисовый ларец. «Кипарисовый ларец», как теперь все знают, действительно существует – это шкатулка, в которой Анненский хранил свои рукописи. Иннокентий Федорович достал большие листы бумаги, на которых были написаны его стихи. Затем он торжественно, очень чопорно поднялся с места (стихи он всегда читал стоя). При такой позе надо было бы читать скандируя и нараспев. Но манера чтения стихов оказалась неожиданно жизненной и реалистической. Иннокентий Федорович не пел стихи и не скандировал их. Он читал их очень логично, делая логические остановки даже иногда посредине строки, но делал иногда и неожиданные ударения (например, как-то по-особенному тянул союз «и»). Голос у Иннокентия Федоровича был густой и не очень гибкий, но громкий и всегда торжественный. При чтении сохранялась полная неподвижность шеи и всего стана. Чтение Иннокентия Федоровича приближалось к типу актерского чтения. Манера чтения была старинная и очень субъективная (говорил Иннокентий Федорович всегда как бы от своего имени); вместе с тем его чтение воспринималось в порядке и г р ы, но не в порядке отрешенного чтения, как у Блока. Чтение сохраняло бытовой характер; Иннокентий Федорович, например, всегда звукоподражал там, где это было нужно (крики торговцев в стихотворении «Шарики детские»). Окончив стихотворение, Иннокентий Федорович всякий раз выпускал листы из рук на воздух (не ронял, а именно выпускал), и они падали на пол у его ног, образуя целую кучу.
В стихах И. Ф. Анненского чувствовалась интимность в соединении со строгою классикой и с salto mortale á la Лафорг. Происхождение названия книги «Кипарисовый ларец» могло зависеть еще и от названия книги Шарля Кроса{6} «Le coffret de santal»[60] (1873). Иннокентий Федорович очень ценил этого поэта и даже считал себя его учеником, но он смешивал его с его сыном Гюи-Шарлем Кросом, цикл эротических стихотворений которого как раз был помещен в начальных номерах «Mercure de France» за 1909 г. Стихи эти были действительно очень хороши, и особенно И. Ф. Анненский восторгался местом, где говорится о «теле, которое горячее, чем под крылом у птицы».
С осени 1909 г. началось издание «Аполлона». Здесь было много уколов самолюбию Анненского. Иннокентий Федорович, кажется, придал большее значение предложению С. К. Маковского, чем оно того, может быть, заслуживало. В редакционной жизни «Аполлона» очень неприятно действовала ускользающая политика С. К. Маковского и эстетская интригующая обстановка. Создавался ряд недоразумений, на которые жалко было смотреть{7}.
Я не помню точно последнего свидания с Иннокентием Федоровичем, но кажется, последняя наша встреча относится к ноябрю 1909 г. Это было в Петербурге, в Мариинском театре, собственно на его чердаке, обнимавшем собою все место, которое занимает плафон Мариинского театра с местами. Там работал Головин над декорациями к «Орфею», готовившемуся тогда к постановке. У Головина в тот день собралось человек 8–10; шел «Фауст» с Шаляпиным. И тут произошло столкновение двух лиц, и одно из них нанесло оскорбление другому. Мне хорошо запомнилась фигура Иннокентия Федоровича, присутствовавшего при этом, и фраза, которую он произнес: «Да, я убедился в том, что Достоевский прав: звук пощечины, действительно, мокрый». Это была последняя фраза, которую я от него слышал.
Вскоре Иннокентий Федорович умер{8}. Известие о его смерти на Царскосельском вокзале я впервые прочел равнодушно, думая, что оно относится к Николаю Федоровичу Анненскому; точные сведения я получил только через некоторое время.
История Черубины
Я начну с того, с чего начинаю обычно, – с того, кто был Габриак. Габриак был морской черт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчин{1}. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.
Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами, вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле. Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.
Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах («Демонология» Бодена{2}) и, наконец, остановились на имени «Габриах». Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего черта.
Лиле в то время было девятнадцать лет{3}. Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом. Она была хромой от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве у всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: «Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки».
«Брат мой был очень странный и необыкновенный. Он рассказывал мне страшные истории из Эдгара По, и за это заставлял меня выпрыгивать из слухового окна. Это было очень высоко и страшно, но я все-таки прыгала. Сестра тоже рассказывала, но всякий раз, когда рассказывала, разбивала мне куклу, чтобы ничего не делалось даром.
Мы иногда приносили в жертву игрушки, бросая их в огонь. Однажды принесли в жертву щенка, но он завизжал, прибежали старшие и его освободили. Однажды мы бросили в воду мамин браслет, и потом сами с плачем рассказали о случившемся.
Сестра умела свистеть, но няня ей не позволяла и говорила, что когда девочки свистят, то Богородица с престола спрыгивает. Брату это нравилось. Он свистел и спрашивал: «Что, уже спрыгнула?» Учил меня, так как я была еще мала и свистеть не умела, и говорил: «Пусть попрыгает!»<…>
Когда мне было пять лет, брат задумал творить чудеса, но, чувствуя себя слишком грешным, обратился ко мне и потребовал, чтобы я поклялась, что не совершила ни одного преступления. Я поклялась. Тогда он взял воды и велел мне превратить ее в вино. Я приказала. «Попробуй!» Я попробовала – «совсем вино!». Но так как я вина до тех пор никогда не пробовала, то он призвал сестру. Она сказала, что вино должно быть красным. Тогда брат очень рассердился, вылил воду мне на голову и остался в уверенности, что я утаила какое-то свое преступление. <…>
Однажды он сказал мне очень таинственно: «Я узнал необыкновенную вещь, которой не знает еще никто. Взрослые об этом еще и не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в чулан. Теперь нам надо подумать о том, не стоит ли перейти на сторону Дьявола, так как всех тех, кто с Богом, будут мучить и убивать». Я была потрясена этим известием и несколько дней ходила сама не своя, а брат точно забыл обо всем этом. Наконец, я спросила его: «А как же с Богом?» – «Ах, с Богом… Ему удалось спастись. Он удрал через форточку». На меня это произвело такое сильное впечатление, что я с тех пор перестала молиться Богу.
Лет до пяти меня одевали как мальчика в брюки и курточку. Брат посылал меня на дорогу и заставлял просить милостыню, говоря: «Подайте дворянину!» Деньги потом отбирал, бросал в воду и говорил, что стыдно тратить милостыню на себя. <…>
Это – подробности детства Лили Дмитриевой, ставшей впоследствии автором Черубины де Габриак.
* * *
Летом 1909 года Лиля жила в Коктебеле. Она в те времена была студенткой университета, ученицей Александра Веселовского и изучала старофранцузскую и староиспанскую литературу{4}. Кроме того, она была преподавательницей в приготовительном классе одной из петербургских гимназий{5}. Ее ученицы однажды отличились. Какое-то начальство вошло в класс и спросило: «Скажите, девочки, кого из русских царей вы больше всего любите?» Класс хором ответил: «Конечно, Гришку Отрепьева!» К счастью, это никак не отразилось на преподавательнице.
Лиля писала в это лето милые, простые стихи, и тогда-то я ей и подарил черта Габриаха, которого мы в просторечье звали «Гаврюшкой».
В 1909 году создавалась редакция «Аполлона», первый номер которого вышел в октябре – ноябре{6}. Мы много думали летом о создании журнала, мне хотелось помещать там французских поэтов, стихи писались с расчетом на него, и стихи Лили казались подходящими. В то время не было в Петербурге молодого литературного журнала. Московские «Весы» и «Золотое руно» уже начинали угасать. В журналах того времени редактор обыкновенно был и издателем. Это не был капиталист, а лицо, умевшее соответствующим образом обработать какого-нибудь капиталиста. Редактору «Аполлона» С. К. Маковскому{7} удалось использовать Ушковых.
Маковский, «Papa Мако», как мы его называли, был чрезвычайно и аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мною – не вынести ли такого правила, чтоб сотрудники являлись в редакцию «Аполлона» не иначе, как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Papa Мако прочил балерин из петербургского кордебалета.
Лиля – скромная, не элегантная и хромая, удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты.
Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи с письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли на удачу черта Габриаха. Но для аристократичности Черт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу «де»: Ч. де Габриак.
Впоследствии Ч. было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на Ч, пока, наконец, Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины. Чтобы окончательно очаровать Papa Мако, для такой светской женщины необходим был герб. И гербу было посвящено стихотворение.
Наш герб{8} Червленый щит в моем гербе, И знака нет на светлом поле. Но вверен он моей судьбе, Последней – в роде дерзких волей. Есть необманный путь к тому, Кто спит в стенах Иерусалима, Кто верен роду моему, Кем я звана, кем я любима; И – путь безумья всех надежд, Неотвратимый путь гордыни, В нем – пламя огненных одежд И скорбь отвергнутой пустыни… Но что дано мне в щит вписать? Датуры тьмы иль розы храма? Тубала медную печать Или акацию Хирама?Письмо было написано на бумаге с траурным обрезом и запечатано черным сургучом. На печати был девиз: «Vae victis!».[61]
Все это случайно нашлось у подруги Лили – Л. Брюлловой{9}.
Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон.
Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А. Н. Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю, и не знал, как ему на них реагировать. Я только успел шепнуть ему: «Молчи. Уходи». Он не замедлил скрыться.
Маковский был в восхищении. «Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для «Аполлона» необходимы».
Черубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что она до сих пор писала. В тот же вечер мы с Лилей принялись за работу, и на другой день Маковский получил целую тетрадь стихов.
В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля.
Мы сделали Черубину страстной католичкой, так как эта тема еще не была использована в тогдашнем Петербурге.
Св. Игнатию Твои глаза – святой Грааль, В себя принявший скорби мира, И облекла твою печаль Марии белая порфира. Ты, обагрявший кровью меч, Склонил смиренно перья шлема Перед сияньем тонких свеч В дверях пещеры Вифлеема. И ты – хранишь ее один, Безумный вождь священных ратей, Заступник грез, святой Игнатий{10}, Пречистой Девы паладин! Ты для меня, средь дольных дымов. Любимый, младший брат Христа, Цветок небесных серафимов И Богоматери мечта. <…>* * *
Затем решили внести в стихи побольше Испании.
Ищу защиты в преддверья храма Пред Богоматерью всех Сокровищ, Пусть орифламма Твоя укроет от злых чудовищ. Я прибежала из улиц шумных, Где бьют во мраке слепые крылья, Где ждут безумных Соблазны мира и вся Севилья. Но я слагаю Тебе к подножью Кинжал и веер, цветы, камеи — Во славу Божью… О Mater Dei, memento mei![62]Кроме того, необходима была преступно-католическая любовь к Христу.
Твои руки Эти руки со мной неотступно Средь ночной тишины моих грез. Как отрадно, как сладко-преступно Обвивать их гирляндами роз. Я целую божественных линий На ладонях священный узор… (Запевает далеких Эриний В глубине угрожающий хор). Как люблю эти тонкие кисти И ногтей удлиненных эмаль, О, загар этих рук золотистей, Чем Ливанских полудней печаль. Эти руки, как гибкие грозди, Все сияют в камнях дорогих. Но оставили острые гвозди Чуть заметные знаки на них.Так начинались стихи Черубины.
На другой день Лиля позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не хотелось класть трубку, и он, вместо того, чтобы кончать разговор, сказал: «Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу вам все, что узнал по вашему?» И он рассказал, что отец Черубины – француз из Южной Франции, мать – русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и т. д. Лиле оставалось только изумляться, откуда он все это мог узнать, и таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались.
Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с Маковским лежала исключительно на мне. Papa Мако избрал меня своим наперсником. По вечерам он показывал мне мною же утром написанные письма и восхищался: «Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук».
Он прибегал к моей помощи и говорил: «Вы – мой Сирано»{11} , не подозревая, до какой степени он близок к истине, так как я был Сирано для обеих сторон. Papa Мако, например, говорил: «Графиня Черубина Георгиевна (он сам возвел ее в графское достоинство) прислала мне сонет «di risposta»[63], – и мы вместе с ним работали над сонетом.
Маковский был очарован Черубиной. «Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решился бы за ней ухаживать». А Лиля в это время жила на одиннадцать с полтиной в месяц, которые получала как преподавательница приготовительного класса.
Мы с Лилей мечтали о католическом семинаристе, который молча бы появлялся, подавал бы письмо на бумаге с траурным обрезом и исчезал. Но выполнить это было невозможно.
Переписка становилась все более и более оживленной, и это было все более и более сложно. Наконец, мы с Лилей решили перейти на язык цветов{12}. Со стихами вместо письма стали посылаться цветы. Мы выбирали самое скромное и самое дешевое из того, что можно было достать в цветочных магазинах, веточку какой-нибудь травы, которую употребляли при составлении букетов, но которая, присланная отдельно, приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, так как никто в редакции не знал языка цветов, включая Маковского, который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, и я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи.
Он требовал у Черубины свидания. Лиля выходила из положения очень просто. Она говорила по телефону: «Тогда-то я буду кататься на Островах. Конечно, сердце вам подскажет, и вы узнаете меня». Маковский ехал на Острова, узнавал ее и потом с торжеством рассказывал ей, что он ее видел, что она была так-то одета, в таком-то автомобиле…. Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобиле, а только на лошадях.
Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: «Я уверена, что вам понравилась такая-то». И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал, как «выбивания шпаги из рук».
Черубина по воскресеньям посещала костел. Она исповедовалась у отца Бенедикта{13}. Вот стихотворения, посвященные ему, и исповеди:
Его египетские губы Замкнули древние мечты. И повелительны, и грубы Лица жестокого черты. И цвета синих виноградин Огонь его тяжелых глаз; Он в темноте глубоких впадин Истлел, померк, но не погас. В нем правый гнев грохочет глухо, И жечь сердца ему дано: На нем клеймо Святого Духа — Тонзуры белое пятно… Мне сладко, силой силу меря. Заставить жить его уста И в беспощадном лике зверя Провидеть гневный лик Христа. Исповедь В быстро сдернутых перчатках Сохранился оттиск рук, Черный креп в негибких складках Очертил на плитах круг. Я смотрю игру мерцаний По чекану темных бронз И не слышу увещаний, Что мне шепчет старый ксендз. Поправляя гребень в косах, Я слежу мои мечты, — Все грехи в его вопросах Так наивны и просты. Ад теряет обаянье, Жизнь становится тиха, — Но так сладостно сознанье Первородного греха…* * *
Вот образцы стихов Черубины:
Красный плащ Кто-то мне сказал: твой милый Будет в огненном плаще… Камень, сжатый в чьей праще, Загремел с безумной силой?.. Чья кремнистая стрела У ключа в песок зарыта? Чье летучее копыто Отчеканила скала?.. Чье блестящее забрало Промелькнуло там, средь чащ? В небе вьется красный плащ… Я лица не увидала. Благовещание О, сколько раз, в часы бессонниц, Вставало ярче и живей Сиянье радужных оконниц Моих немыслимых церквей. Горя безгрешными свечами, Пылая Славой золотой, Там под узорными парчами Стоял дубовый аналой. И от свечей и от заката Алела киноварь страниц, И травной вязью было сжато Сплетенье слов и райских птиц. И, помню, книгу я открыла И увидала в письменах Безумный голос Гавриила: «Благословенна ты в женах!»Наряду с этим были такие:
Лишь раз один, как папоротник, я Цвету огнем весенней, пьяной ночью… Приди за мной к лесному средоточью, В заклятый круг, приди, сорви меня! Люби меня! Я всем тебе близка. О, уступи моей любовной порче, Я, как Миндаль, смертельна и горька, Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.Были портретные стихи:
С моею царственной мечтой Одна брожу по всей вселенной, С моим презреньем к жизни тленной, С моею горькой красотой. Царицей призрачного трона Меня поставила судьба… Венчает гордый выгиб лба Червонных кос моих корона. Но спят в угаснувших веках Все те, кто были бы любимы, Как я, печалию томимы, Как я, одни в своих мечтах. И я умру в степях чужбины, Не разомкну заклятый круг К чему так нежны кисти рук, Так тонко имя Черубины?Легенда о Черубине распространялась по Петербургу с молниеносной быстротой. Все поэты были в нее влюблены. Самым удобным было то, что вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Papa Мако. Правда, были подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского.
Нам удалось сделать необыкновенную вещь: создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призрак.
Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине на вымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюлловой, подруги Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, так как такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников «Аполлона», на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи «Цветы» и письмо.
Цветы Цветы живут в людских сердцах: Читаю тайно в их страницах О ненамеченных границах, О нерасцветших лепестках. Я знаю души, как лаванда, Я знаю девушек-мимоз, Я знаю, как из чайных раз В душе сплетается гирлянда. В ветвях лаврового куста Я вижу прорезь черных крылий, Я знаю чаши чистых лилий И их греховные уста. Люблю в наивных медуницах Немую скорбь умерших фей, И лик бесстыдных орхидей Я ненавижу в светских лицах. Акаций белые слова Даны ушедшим и забытым, А у меня, по старым плитам, В душе растет разрыв-трава.Когда я в это утро пришел к Papa Мако, я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком темя, как делают в трагических местах французские актеры, и говорил: «Я послал, не посоветовавшись с вами, цветы Черубине Георгиевне, и теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо!»
Письмо гласило, приблизительно, следующее:
«Дорогой Сергей Константинович!
(Переписка уже приняла довольно интимный характер.) Когда я получила ваш букет, я могла поставить его только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов». – «Но право же, я совсем не помню, сколько там было цветов, и не понимаю, в чем моя вина!» – восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано.
Перед Пасхой Черубина решила поехать на две недели в Париж, заказать себе шляпку, как она сказала Маковскому, но из намеков было ясно, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями, так как собирается идти в монастырь. Она как-то сказала, что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов Papa Мако заключил, что она будет Христовой невестой.
Уезжая, Черубина взяла слово с Маковского, что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, но стал умолять своих друзей пойти вместо него, чтобы увидеть Черубину, хотя бы чужими глазами. Просил Толстого, но тот с ужасом отказался, так как чувствовал какой-то подвох и боялся в него впутаться. Наконец, Маковский уговорил поехать Трубникова{14}. Трубников на вокзале был, Черубины ему увидеть не удалось, но она, очевидно, его видела, так как записала в путевой дневник, который обещала Маковскому вести, что она ожидала увидеть на вокзале переодетого Papa Мако с накладной бородой, но вместо него увидала присланного друга, которого она узнала по изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова. Маковский был восхищен. «Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, а она видела его всего раз на вокзале».
В Париже Черубина остановилась в специально-католическом квартале. Она прислала несколько описаний квартала, описала несколько встреч. Эта часть – ее дневники – выпадают, так как погибли при обыске. Остались только стихи.
В отсутствии Черубины Маковский так страдал, что И. Ф. Анненский говорил ему: «Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истратьте сто, ну двести рублей, оставьте редакцию на меня… Отыщите ее в Париже…»
Однако Сергей Константинович не поехал, что лишило историю Черубины небезынтересной страницы.
Для его излияний была оставлена родственница Черубины, княгиня Дарья Владимировна (Лида Брюллова). Она разговаривала с Маковским по телефону и приготовляла его к мысли о пострижении Черубины в монастырь.
Черубина вернулась. В тот же вечер к ней пришел ее исповедник, отец Бенедикт. Всю ночь она молилась. На следующее утро ее нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре, на каменном полу, возле своей комнаты. Она заболела воспалением легких.
Кризис болезни Черубины намеренно совпал с заседаниями Поэтической Академии в Обществе ревнителей русского стиха{15}, так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произведет на Маковского известие о смертельной опасности.
Ему ежедневно по телефону звонил старый дворецкий Черубины и сообщал о ее здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественной тишины, во время доклада Вячеслава Иванова, Маковского позвали к телефону. И. Ф. Анненский пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: «Она будет жить».
Все это происходило в двух шагах от Лили.
Как-то Лиля спросила меня: «Что, моя мать умерла или нет? Я совсем забыла и недавно, говоря с Маковским по телефону, сказала: «Моя покойная мать», – и боялась ошибиться…» А Маковский мне рассказывал: «Какая изумительная девушка! Я прекрасно знаю, что мать ее жива и живет в Петербурге, но она отвергла мать и считает ее умершей с тех пор, как та изменила когда-то мужу, и недавно так и сказала мне по телефону: «Моя покойная мать».
Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам много хлопот. Так, например, мы придумали на свое горе кузена Черубине, к которому Papa Мако страшно ревновал. Он был португалец, атташе при посольстве, и носил такое странное имя, что надо было быть таким влюбленным, как Маковский, чтобы не обратить внимания на его невозможность. Его звали дон Гарпия ди Мантилья. За этим доном Гарпией была однажды организована целая охота, и ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его вообще не существовало. В редакции была выставка женских портретов, и Черубина получила пригласительный билет{16}. Однако сама она не пошла, а послала кузена. Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить дона Гарпию. В прихожей были положены листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда «он» распишется. Однако каким-то образом дону Гарпии удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всем рассказал Черубине.
В высших сферах редакции была учреждена слежка за Черубиной. Маковский и Врангель{17} стали действовать подкупом. Они произвели опрос всех дач на Каменноостровском. В конце концов, Маковский мне сказал: «Знаете, мы нашли Черубину. Она – внучка графини Нирод. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволить себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь, у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей, и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая – Черубина. Только он ее назвал каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы его спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что, действительно, Черубиной».
Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе. Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа. Вот два стихотворения, которые тогда, конечно, не были поняты Маковским.
Лиля о Черубине В слепые ночи новолунья Глухой тревогою полна, Завороженная колдунья, Стою у темного окна. Стеклом удвоенные свечи И предо мною, и за мной, И облик комнаты иной Грозит возможностями встречи. В темно-зеленых зеркалах Обледенелых ветхих окон Не мой, а чей-то бледный локон Чуть отражен, и смутный страх Мне сердце злою нитью вяжет, Что, если дальняя гроза В стекле мне близкий лик покажет И отразит ее глаза? Что, если я сейчас увижу Углы опущенного рта И предо мною встанет та, Кого так сладко ненавижу? Но окон темная вода В своей безгласности застыла, И с той, что душу истомила, Не повстречаюсь никогда. Черубина о Лиле Двойник Есть на дне геральдических снов Перерывы сверкающей ткани; В глубине анфилад и дворцов На последней, таинственной грани Повторяется сон между снов. В нем все смутно, но с жизнию схоже… Вижу девушки бледной лицо, Как мое, но иное и то же, И мое на мизинце кольцо. Это – я, и все так не похоже. Никогда среди грязных дворов, Среди улиц глухого квартала, Переулков и пыльных садов — Никогда я еще не бывала В низких комнатах старых домов. Но Она от томительных будней, От слепых паутин вечеров — Хочет только заснуть непробудней, Чтоб уйти от неверных оков, Горьких грез и томительных будней Я так знаю черты ее рук, И, во время моих новолуний, Обнимающий сердце испуг, И походку крылатых вещуний, И речей ее вкрадчивый звук. И мое на устах ее имя, Обо мне ее скорбь и мечты, И с печальной каймою листы, Что она называет своими, Затаили мои же мечты… И мой дух ее мукой волнуем… Если б встретить ее наяву И сказать ей: «Мы обе тоскуем, Как и ты, я вне жизни живу» — И обжечь ей глаза поцелуем.С этого момента история Черубины начинает приближаться к концу. Прямое развитие темы делает крутой и неожиданный поворот. Мы с Лилей стали замечать, что кто-то другой, кроме нас, вмешивается в историю Черубины. Маковский начал получать от ее имени какие-то письма, писанные не нами. И мы решили оборвать.
Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я – автор Черубины, так как говорил мне: «Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это – мистификация, то это гениально». Он рассчитывал на то, что «ворона каркнет». Однако я не каркнул. А А. Н. Толстой давно говорил мне: «Брось, Макс, это добром не кончится».
Черубина написала Маковскому последнее стихотворение. В нем были строки:
Милый друг, вы приподняли Только край моей вуали…Когда Черубина разоблачила себя{18}, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже обо всем давно знал. «Я хотел дать вам возможность дописать до конца красивую поэму». Он подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью.
Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым{19}. Он знал Лилю давно и давно уже предлагал ей помочь напечатать ее стихи, однако о Черубине он не подозревал истины. За год до этого, в 1909 году, летом, будучи в Коктебеле вместе с Лилей, он делал ей предложение.
В то время, когда Лиля разоблачила себя, в редакционных кругах стали расти сплетни.
Лиля обычно бывала в редакции одна, так как жених ее, Воля Васильев{20}, бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру{21}, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле «очную ставку» с Гумилевым, которому она принуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на «ты» и, очевидно, на его стороне. Я почувствовал себя ответственным за все это, и, с разрешения Воли, после совета с Леманом, одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым.
Мы встретились с ним в мастерской Головина{22} в Мариинском театре во время представления «Фауста». Головин в это время писал портрет поэтов, сотрудников «Аполлона». В этот вечер я ему позировал. В мастерской было много народу, в том числе – Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно.
В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к «Орфею». Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел «Заклинание цветов». Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского, который говорил: «Достоевский прав. Звук пощечины – действительно мокрый»{23}. Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь». (Мы с ним не были на «ты».) Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: «Вы поняли?» (то есть: поняли за что?). Он ответил: «Понял»{24}. <…>
На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной Речки, если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то, во всяком случае, современной ему{25}. Была мокрая, грязная весна[64], и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались.
После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму за несколько месяцев до его смерти{26}. Нас представили друг другу, не зная, что мы знакомы; мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить.
Записи 1932 г.
Коктебель
[65]Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе зарождение Коктеб<еля>? Я помню вот такой рассказ, слышанный мной от старика Юнге{1}.
Это было в эпоху, когда он поселился здесь, в Коктеб<еле>, и собирался развернуть здесь большое хозяйство. Он рассказывал, как он попал в Коктеб<ель>, приехав верхом из Феодосии. В те годы, когда не существовало никаких дорог, тем более шоссе. Он приехал верхом по горам. И первое, что его поразило, – сходство Коктеб<еля> с Испанией. Аликанте. Для меня очень это было интересно, и, будучи через неск<олько> лет в Испании, я сам нарочно заехал в Аликанте, чтобы сравнить его с Коктебелем. Внешне, конечно, никакого сходства нет, но внутреннего параллелизма очень много. Главное – в Аликанте отсутствует то единство, которое отличает Коктебель от других стран земли, – Карадаг.
В Аликанте самое главное – это пустыня, которая здесь подходит к самому берегу. После первопланного испанск<ого> городка с разбегающимися линиями и полуразрушенн<ыми> стар<инными> мостами открывается далекая пологая равнина, на котор<ой>, среди стар<инных> крепостей, заменяющ<их> кулисы, синеет пальмовая роща – единственная роща пальм, свободно растущая на Европейск<ом> континенте. И эта близость подлинной пустыни, находящ<ейся> немедленно за чертой горизонта, устанавливает сходство между Коктебелем и Аликанте.
Местность эта его поразила, и он поручил проживающему здесь инженеру постепенно скупить у мурзаков{2} эту землю вдоль берега моря. Тогда тут было стремление многих интеллигентов приобретать в Крыму земли. В то время была приобретена Карадагская долина, Туманова балка, которая так называлась <по> фамилии своих владельцев Тумановых. У Тумановых ее купила Шевякова, котор<ая> построила там дом, а у нее купил проф<ессор> Вяземский{3} – основатель Карадагской станции, где до сих пор находится им собранная научная библиотека в 40 т<ысяч> томов.
Сам старик Юнге в это время возлагал большие надежды на осуществление здесь большого хозяйства. Он мечтал устроить в долине Еланчика большую запруду воды для орошения всей Коктебельск<ой> долины. Работы для осуществ<ления> этого были начаты и делались на его счет: он рассчитывал на помощь Министерства земледелия. Но министр земл<еделия> Ермолов{4} , будучи здесь специально для осмотра запрудных сооружений, к Юнге не заехал и т<аким> образом дал понять, что рассчитывать на помощь Минист<ерства> землед<елия> нечего. У Юнге же личных средств на продолжение работ не было – и дело было заброшено на половине.
Мне хочется рассказать тебе кое-что о Коктеб<ельском> пейзаже. Я все-таки совершенно серьезно думаю, что Коктеб<ельский> пейз<аж> – один из самых красивых земных пейзажей, котор<ые> я видел. Вообще, о пейзаже нужно не только очень много думать, но и много сравнивать. А я из всех своих обширных странствий в жизни больше всего сравнивал именно пейзаж. У пейзажа есть самый разнообраз<ный> возраст. Есть пейзаж<и> совсем молодые и есть – глубокой древности. П<отому> ч<то> пейзаж, как лицо страны, может быть так же разнообразен, как человеческ<ое> лицо. Все, что пережито землей, все отражено в пейзаже{5}.
Коктеб<ель> очень многими сторонами напоминает пейзаж Греции. Он очень пустынен и, в то же время, очень разнообразен. Нигде, ни в одной стране, я не видел такого разнообразия типов природы. Такого соединения морского и горного пейзажа, со всем разнообразием широких предгорий и степных далей. Положение его на границе морских заливов, степи и гор делает его редким и единственным в смысле местности. Ему <по> положению, может быть, <соответствует> расположение Неаполитанского залива.
Карадаг находится в таком же положении к Керченскому полуострову, с его увалами и сопками, как Везувий к Флегрейским полям. А его собственные зубцы и пики, видимые из глубины керченских степей, являются порталом какой-то неведомой фантастической страны, о котор<ой> можно составить представление по пейзажам Богаевского{6}.
Юнге
[66]Мне хочется еще продолжить воспоминания о старике Юнге. Я помню, как он при мне рассказывал о том, как он кончал медицинский факультет. Ему было очень досадно терять лишний год или два на этом факультете. И он решил ускорить государств<енные> экзамены. Формально это ему удалось довольно легко. Но он создал этим себе несколько смертельных врагов среди профессоров, котор<ые> не хотели ему простить его самоуверенности и дерзости. Среди них был один проф<ессор>, не помню какую читавший дисциплину, но очень отставший от хода своей науки. Юнге поставил условием, чтобы на его экзамене присутствовала целая комиссия, котор<ая> могла бы объективно ценить его ответы. Он основательно подготовился по курсам лекций, читанных во время учебн<ого> года. И на все задаваемые вопросы отвечал точно, почти наизусть, словами своего профессора, т<ак> ч<то> тому оставалось только подтверждать и говорить: «Да, да, совершенно верно, так». Т<ак> ч<то> Юнге, когда кончил свой блестящий ответ на все заданные вопросы, остановился и сказал: «Это все так было до такого-то года. А теперь современная наука смотрит на это так». И затем тут же блестяще прочел лекцию о современном состоянии науки по данному вопросу. Проф<ессор> был внутренне взбешен, но не мог не признать его ответ удовлетворительным. Т<аким> обр<азом>, он окончил медиц<инский> факультет не в 5, а в 3 года.
По специальности он был профессор по глазным болезням. Специализировался он по глазным бол<езням> в Германии, слушал там Вирхова, Гельмгольца, Грефе и др<угих>{7}. Фотографии их висели в комнатах стар<ого> коктебельского дома, котор<ый> на днях сгорел. Кроме них, там висело много фотографий Каира и Северной Африки – память о другом научном подвиге старика Юнге. Т<ак> к<ак>, по окончании немецкой пропедевтики, он, для собирания матерьяла докторской работы, отправился в классическую страну глазных болезней – Северную Африку. И прошел ее всю пешком, от Каира до Марокко, в одежде бедуина, под видом мусульманского целителя{8}. Не зная арабского языка, он был безгласен, но его сопровождал надежный переводчик-араб, а он осматривал тысячи больных с трахомой, катарактами и т. д. И чудесно целил их. С теми матерьялами, котор<ые> он собрал в Африке, он сразу занял выдающееся положение в Европе по глазным болезням.
[67]Ты хочешь, чтобы я продолжал о старом Юнге? Слушай.
Жена Э. А. Юнге, Екат<ерина> Ф<едоровна>, была человек не менее замечательный, чем он сам, хотя с другой совершенно стороны. Она была младшей дочерью Ф. П. Толстого – художника, скульптора, акварелиста, вице-президента Академии художеств{9}. С детства перед ее глазами в доме отца проходила вся русская общественность, вся русская литература – начиная с Пушкина и кончая Костомаровым, Меем, Майковым и т. д.{10} Сама она была человек очень разносторонний: прежде всего, художница – и очень недурная, судя по ее первым вещам, котор<ые> носят на себе отпечаток серьезного и строгого стиля ранней эпохи ее отца. История самого Федора Толстого рассказана в двух сериях воспоминаний. В воспоминаниях М. Ф. Каменской (старшей дочери Ф. Толстого от первого брака) рассказывается история их дома в царствование Николая I. А в воспоминаниях Екат<ерины> Ф<едоровны> Юнге рассказывается история либерального салона Ф. Толстого в царствование Александра II.{11}
Мемуары М. Ф. Каменской превосходят по своим литературным достоинствам и по передаваемым в них фактам книгу воспоминаний Ек. Ф. Юнге. Еще недавно, в начале революции, они неоднократно были использованы русской общественностью (указате<ль> места погребения 5 декабристов). Еще очень удачный, интересный и со временем прольющий свет рассказ одной из фрейлин императрицы Ек<атерине> Федор<овне>, которой довелось быть личной свидетельницей сожжения всей переписки Ел<изаветы> Федор<овны> с Николаем I.
Сама Ек. Ф. Юнге была до последних лет своей жизни человеком, страстно увлекающимся и увлекающим. Она хорошо помнила поэта Шевченко в эпоху его ссылки и была свидетельницей очень своеобразного исторического эпизода дружбы Шевченко с Ольдриджем{12}. Ольдридж делал по России первую гастрольную поездку. Когда он приехал в Петербург, то, конечно, познакомился с Ф. Толстым и часто бывал у них в доме. Шевченко выразил желание написать его портрет. За сеансами велись длинные разговоры: в судьбе обоих художников оказалось очень много общего. Ек. Фед. Юнге знала английск<ий> язык; через нее Ольдридж и Шевченко рассказывали свою историю. Шевченко родился крепостным, а Ольдридж родился негром-рабом. В то время на всех американских театрах была надпись: «Неграм и собакам вход воспрещается». Но сеансы портрета, результат котор<ых> висит сейчас в Третьяковск<ой> галерее, обычно кончались тем, что Шевченко пел малороссийские крестьянские песни, а Ольдридж танцевал джигу.
В ту эпоху, когда я приехал в Коктебель, Ек<атерины> Фед<оровны> там не было. Мне тогда было 16 л<ет>. Т<ак> ч<то> года два-три я слыхал только о ней разговоры и гл<авным> образом от младшего сына Сережи, моего сверстника, котор<ый> жил тогда в Коктебеле{13}.
В это время старики Юнге жили врозь, т. к. у Э<дуарда> Андр<еевича> здесь, в Коктебеле, было подобие новой семьи. Подруга Э<дуарда> Андр<еевича> Надежда Васильевна{14} была женщина простая, но практическая, умеющая вести хозяйство в суровой коктебельской обстановке, но ограниченная. Средства старого ученого (его генеральская пенсия). Для характеристики ее и коктебельск<их> нравов вспоминается такой факт. Один болгарский парень, забредя к ней, когда она одна была в доме, сказал: «А я вот подожгу дом!» – «Очень хорошо, что ты об этом говоришь. Вот когда сгорит дом, то мы и будем знать, кто его поджег».
С тех пор парень-пастух так боялся, чтобы, действительно, не произошло пожара, что караулил их дом, не отходя от него. Старик Юнге часто так говорил: «Конечно, живя здесь, я буду опускаться, но мне очень долго придется это делать, чтобы опуститься до уровня окружающего меня населения».
С Ек. Фед. Юнге я познакомился не в Коктебеле, а в Москве, куда я ездил на рождеств<енские> каникулы из 6 кл<асса> гимназии, и был приглашен ею, через ее сына Сережу, зайти к ней. Ей с первого разу очень понравились мои полудетские стихи. И уже много лет спустя, когда моя физиономия, как поэта и художника, определилась, – она укоризненно качала головой и говорила: «А какие вы писали хорошие стихи, когда были гимназистом»{15}.
[68]Ек. Фед. Ю<нге> жила в то время в Зачатьевском переулке, и окно ее выходило на задворки Румянцевского музея. Из окон большой светлой комнаты, служившей ей мастерской, был виден сзади силуэт прекрасного многострунного здания Пашкова дома. А кругом в ее комнате стояло много ее этюдов крымских роз, написанных в звонких и светлых тонах. Осенние крымские розы были любимые цветы Е. Ф. И когда осенью оказывалась возможность, она всегда уезжала в Ялту делать этюды роз. В те годы в ее живописи уже отсутствовал темноватый и строгий кондиционный рисунок, котор<ый> в те годы меня, уже пресыщенного импрессионизмом, пленял в ее ранних этюдах,
Ек. Фед. была для меня не первым знакомством художественной Москвы. Другим, более ранним знакомством была семья художника Досекина{16}. С Досекиным мы встретились перед отъездом в Коктебель. И непосредственно перед Коктебелем мне пришлось прожить с Досекиным месяца три на одной квартире. Срок нашего отъезда в Коктебель еще не был фиксирован, и моя мать должна была кому-нибудь передать нашу квартиру. В эти дни она случайно встретилась на улице с Мар<ией> Петр<овной> Досекиной, которую она знала с детских лет, как воспитанницу их киевских знакомых Андриевичей. Теперь она была замужем за харьков<ским> художником Досекиным, и наша квартира, в которой они поселились до нашего отъезда, была станцией во время перелетов художников осенью по дороге в Петербург, в Академию, и весной, обратно в Харьков.
Досекин в то время очень увлекался поэзией Фета, котор<ый> года полтора до этого умер{17}. Досекин был хорошо знаком с Вл<адимиром>> Соловьевым – и я у него встречал кой-кого из московских журналистов, близких «Москов<ским> ведомостям» и кругам Констант<ина> Леонтьева{18}. Т<ак>, напр<имер>, я вспоминаю фигуру небезызвестного в то время Говорухи-Отрока{19}. У Досекина в то время гостил его брат, очень талантливый художник, рано умерший{20}. По вечерам шли бесконечные разговоры и чтенье «Вечерних огней» Фета.
Для меня, выросшего исключительно в средних кругах либеральной интеллигенции, все эти разговоры и суждения художников были новостью и решительным сдвигом всего миросозерцания. Помню, как в мой рождественск<ий> приезд в Москву 1896 г., когда я познакомился с Ек. Ф. Ю<нге>, я встретился у Досекина с молодым человеком, с тонкими усиками и курчавой бородкой, котор<ый> рассказывал о своем путешествии на север России (Олонецкая губ<ерния>). И с увлечением и очень пластично рассказывал о готовящейся постановке оперы Римск<ого>-Корсаков<а> «Садко». И так хорошо рассказывал, что я был потрясен ее музыкой. Это был молодой Конст<антин> Коровин.
Тогда же, у Досекина, я встретился в первый раз с Анатол<ием> Кореневым, котор<ый> впоследствии, много лет спустя, познакомил меня в Париже со своим бофрером С. Ив. Щукиным{21}. Но об этой встрече буду говорить позже, когда буду говорить о Париже.
В те годы Е<катерина> Ф<едоровна> попадала в Коктеб<ель> довольно редко. В первый раз она приехала на более долгий срок во время смертельной болезни своего мужа. Это были годы, когда я уже жил в Париже, и все<го того>, о чем я буду рассказывать, я свидетелем не был. Вскоре после смерти Эд. Андр. Ю<нге> сюда приехал смертельно больной его старш<ий> сын Владимир, котор<ый> умирал долго и мучительно от саркомы{22}. Во время его похорон лошадь сбросила моего товарища-сверстника Сергея Юнге – и у него, очевидно, случилось сотрясение мозга, но из окружающих этого никто не заметил, п<отому> ч<то> он вообще в тот период говорил несвязно, благодаря алкоголизму. И его смерть через неделю после похорон брата была трагична для близких своей скоропостижностью.
[69]Московский период гимназии был для меня периодом глубокой душевной тоски. А последние годы (начало 90-х годов) он еще обострился тоскою по югу. Я Крым знал и помнил очень хорошо. Ранние годы детства – Севастополь, позже Ялта, куда мы с мамой иногда приезжали на осень. Но эти возможности окончились еще за несколько лет до гимназии. В гимназические времена я очень полюбил лесистые окрестности Москвы. Позже я находил даже сходство между окрест<ностями> Москвы и Иль де Франса под Парижем. Та же холмистая и лесная местность, прорезанная извилистыми долинами рек. В истории русской культуры Звенигородский уезд играл большую роль. Приблизительно такую же, как во французской культуре окрестности Парижа. Из разных лет детства мне памятно сельцо Захарьино, с маленьким ветхим домом, где прошло младенчество Пушкина, и Семенково (близ Дарьина), где проходило детство Лермонтова{23}. Отдельные места Звенигородского уезда связаны были с судьбою Чайковского, Якунчиковой и т. д. Я очень любил и чувствовал эти места, еще не зная их исторического значения. Но меня томила в то время тоска по югу, какое-то воспоминание о пустырях, сухих травах, плитах, камнях, – очевидно, память Севастополя начала 80-х годов, когда верхняя его часть, называемая Горной, еще не была отстроена после Севастопольской войны{24}. И когда Петропавловский собор, находясь в развалинах, напоминал античный храм. Эта мечта о сухих травах между развалин камней, на жгучем солнце, последнюю зиму еще увеличилась благодаря какой-то плохонькой панораме Константинополя, которая в ту зиму показывалась в Петровских линиях. Эта панорама была плохим стереоскоп<ом>, в котор<ый> нужно было смотреть в две дырочки. <Она> фокусировала мою мечту об юге на голых камнях и развалившихся плитах, поросших сухой и звонкой травой.
Моя жизнь в Москве в гимназические годы была тихой и совершенно установившейся – и поэтому, когда мне мама сообщила, что я в конце года оставлю гимназию и мы переедем в Феодосию, – для меня это было полной неожиданностью и исполнением моих заветнейших желаний. Те два или три месяца, что нам нужно было прожить в Москве, были для меня исключительно интересны, благодаря тому, что мы их проводили в одной квартире с семьей Досекиных. Это время раскрыло мне очень многое – т<ак>, напр<имер>, поэта Фета; кроме того, я перечитывал массу старых путеводителей по Крыму и очерки по Крыму Евгения Маркова{25}.
Сам железнодорожный путь из Москвы в Крым, хорошо знакомый мне по моим ранним детским поездкам в Крым, представлял для меня целый ряд упоительных впечатлений и воспоминаний. Мы приехали в Феодосию утром рано, еще до рассвета. Вокзала в городе еще не было, поезд останавливался на ст<анции> Сарыголь – это была конечная станция. Мы взяли извозчика: 4-мест<ную> коляску – и поехали в город в гостиницу. Это был май месяц – и весь воздух был напоен запахом цветущих акаций. А утром, выйдя из номера на балкон «Европейской» гостиницы, этот, по существу, убогий вид Феодосии, с низкими и пологими серыми холмами, показался мне грандиозным и блестящим. В Феодосии только что начиналась постройка порта{26}. И это были последние моменты, котор<ые>> доживала старая, действительно прекрасная Феодосия. Этот момент в истории Феодосии впоследствии <был> очень хорошо запечатлен в рассказе Горького «Коновалов». Очевидно, Горький, в то время еще чернорабочий, пришел в Феодосию в эту самую эпоху и, может, в этот месяц, для трудных земляных работ. Впоследствии, в 1917 г., живя у меня в Коктебеле, он вспоминал то время с большим неудовольствием и раздражением, как очень трудную пору своей жизни{27}.
[70]В этот же день <пришел> наш хорош<ий> московский знакомый П. П. Теш{28}, котор<ый> приехал в Коктебель раньше нас и указал моей матери на возможность здесь купить участок земли, котор<ую> Юнге в это время начал продавать. С ним мы пошли на базар и, столковавшись с одним из коктебельских крестьян-болгар, на тряской и очень неудобной телеге отправились в Коктебель. Впечатления дороги меня не пленили. Остановились мы у болгар, где спали, но жили мы и обедали в двух хатках, принадлежащих Юнге, окруженные всеми домашними животными, котор<ых> приобрел П. П. Теш, заводя здесь свое хозяйство. Приходили коровы и, отстранив нас ударом рогов, жевали хлеб со стола. Петухи и куры налетали на нас и выклевывали из рук куски. Лошади тянулись к солонкам, а поросенок так сжился с собакой, что принимал ее манеры и кидался на проходящих. Хозяйство Теша напоминало не то хозяйство дальнего Запада по романам Брет Гарта, не то хозяйство Ноя, только что вылезшего из ковчега на склонах Арарата после потопа. Не могу сказать, что Коктебель ослепил меня и произвел впечатление своей красотой и оригинальностью. Вернее сказать, я не видел здесь тех общих мест юга, о котор<ых> я грезил в Москве. Но значительно позже…
[71]Через много лет я понял истину, что при первом впечатлении бросаются в глаза заранее известные «общие места». Поэтому я искал в Коктебеле «общих мест» юга, а их тут необычайно мало. Первое лето я видел только скупость и скудость природы и красок. А их необыкновенная выразительность и элегантность для меня оставались недоступными. Понадобились долгие годы моей юности, посвященные искусству и странствиям, чтобы открыть оригинальность и красоту Коктебеля. Я привык за годы отрочества к лесистому и живописному пейзажу окрестностей Москвы. Мои мечты о юге были направлены по линии наименьшего сопротивления: к горным вершинам и широким горизонтам. Поэтому меня привлекли прежде всего «горные вершины» Карадага: Св<ятая> гора, Сюрю-Кая – и не заинтересовал совсем самый Карадаг; словом, все то, что было видно из деревни.
Только к концу первого лета, спускаясь с вершины Св<ятой> горы, я заметил в сторону моря, сквозь деревья, уединенную башню «Сфинкса», склоны Гяурбаха и скалистую волну хребта мыса Карадаг, ушедшую в море{29}. Я спустился туда, и это было для меня открытием нового, фантастического и романтического Коктебеля.
Для хождения и карабкания по горам у меня не было спутника. Местность же была слишком рискованная и опасная, чтобы рискнуть пускаться одному в неведомые прогулки. Единственным возможным для меня спутником, естественно, являлся Пав<ел> Павл<ович> Теш, но он был критик и не молод: соблазнить его было возможно только на отдаленные прогулки на несколько дней. Они были очень интересны, но не часты. О них позже.
Среди сверстников – деревенской молодежи – я не находил себе подходящих товарищей. Привыкнув к подмосковным крестьянам, я, естественно, тянулся к ним, не учитывая национальной разницы. Но быт, навыки, интересы болгар мне были слишком чужды, и, после нескольких неудачных попыток, эти опыты сближения прекратились. Ни прогулки в горах, ни совместное купанье, ни разговоры их не интересовали. Некоторые молодые крестьяне приходили к нам в гости, пили чай и вели бесконечные разговоры, как нужно сажать виноград, как его «напавать», «катавлажить», как «копать плантаж».
Но это меня мало интересовало – и я дальше усвоения предварительных виноградарских терминов из этих разговоров ничего себе не усвоил. Между тем как для Теша они, очевидно, представляли животрепещущий интерес. Эти же разговоры велись всегда со всеми людьми, попадавшими к нам в дом, сидевшими у нас. Маму они так же мало интересовали, как меня.
Вообще, в нашем доме всегда говорили и спорили много. Теш был человеком европейски образованный, мама была страстная спорщица.
Кража лошадей[72]
Наша жизнь походила на жизнь пионеров на Дальнем Западе. К могиле святого на Св<ятой> горе приходили богомольцы. Каждую ночь были видны огоньки и костры.
Кроме таких, официальных, молений, были и частные, по отдельным поводам. Так, под осень долгое время на Св<ятую> гору приходили цыгане. И молитва их подействовала: им удалось благополучно увести наших лошадей.
Конокрадство – старинное и неисправимое зло Крыма. Не осмыслить, с какой почтительной интонацией говорят в деревнях о каком-нибудь почтенном и уважаемом старике: «Хороший человек. Он в молодости конокрадом был». При этих отношениях проследить и уловить конокрадов трудно: их покрывает все население. Такой <ответ> дали Тешу в Уездном управлении – исправник. Через несколько дней у нас на горе появился «прохожий», который и дал записку, адресованную Тешу, в которой значилось: «Ваши лошади украдены вопреки распоряжению центр<ального> агентства по конокрадству. И в наст<оящее> время находятся в Карасубазаре, на постоялом дворе такого-то» – следовала армянская фамилия. Когда Теш показал этот документ в уездной полиции, ему сказали, что это, вероятно, точно. Это исходный пункт всех нитей крымского конокрадства. «Но будьте осторожны: это, быть может, ловушка».
Теш собрался ехать в Карасубазар. Я напросился его сопровождать. П<авел> П<авлович> поворчал, но взял меня. Мы поехали на телеге через Старый Крым, по старой почт<овой> дороге, которая шла не по направлению теперешнего шоссе, а севернее Агармыша, степью, по линии Индийского телеграфа. Так мне довелось побывать на старых почтовых станциях Крыма, сохранивших имена Мокрый Индол и Сухой Индол, значение имен которых мне объяснил лет 20 спустя п<рофессо>р Маркс. Дол – по-татарски «дорога», а Инд – Индия. Это были остановки на караванном пути в Индию, который проходил через эти места.
В Карасубазаре все прошло благополучно. Хозяин постоялого двора нас принял деловито и радушно и сказал про лошадников, что они погнали наших лошадей на Перекоп. (Это же говорил и исправник, т. к. Перекоп – единственное место, где можно лошадей вывести из Крыма. «Но едва ли Вам удастся там захватить их».)
Мы тогда же решили догонять лошадей и ехать из Карасубазара в Перекоп. Дорога на Перекоп была сложная. Мы проехали через Симферополь. Взяли жел<езную> дор<огу> и поехали от Джанкоя снова на лошадях в телеге на Перекоп. Это для меня была радость необычайная: неожиданное путешествие по северному Крыму, куда вообще было сложно и трудно попадать. Мы приехали не в Перекоп, а в Армянск, который был крошечным городком с развитой торговой жизнью, которую оттянул от совершенно заглохшего и пустынного Перекопа, который весь состоял из пустых и заброшенных амбаров старого Соляного Управления Крыма и совсем засох и захирел с его упразднением.
Обычно административным центром считался Перекоп, а не Армянск. И, повидавшись с исправником, мы поехали еще на 2 версты дальше. Цыгане, укравшие лошадей, были арестованы исправником. Указаний и сведений о том, что лошади, на которых они ехали, украдены, еще у них не было. Выяснилась административная фантасмагория. Он арестовал цыган с лошадьми, пока не придут доказательства того, что лошади действительно краденые, а сам пока ездил на них. Его интуиция подтвердилась приездом Теша со мной. И, т<аким> образом, Тешу удалось вернуть своих лошадей. Мне рисовалась приятная картина нашего возврата в Коктебель верхами по крымским, хотя и осенним уже степям, но все вышло иначе. Лошади были загнаны и хромали, и их пришлось везти по жел<езной> дороге.
Это для меня было тяжелое путешествие: ехали в товарном вагоне, было холодно, и я простудился{30}.
Гимназия
[73]Мои школьные годы – глубокое недоразумение всей моей жизни. Очень любознательный, способный, одаренный острой памятью мальчик учился из рук вон плохо и приводил в отчаяние всех педагогов. Когда я переходил в Феодосийскую гимназию{31}, у меня по всем предметам были годовые двойки, а по гречески – «1». Единств<енная> «3» была за поведение. Что по тогдашним гимназ<ическим> понятиям <было> самым низшим баллом, котор<ым> оценивался этот предмет. Причем этой оценкой я удостаивался отнюдь не за шалости, а за возражения и рассуждения. Я был преисполнен всяких интересов: культурно-исторических, лингвистических, литератур<ных>, математическ<их> и т. д. И все это сводилось для меня к неизбежной двойке за успехи.
Все это само по себе меня нисколько не пугало, я давно привык к мысли, что никакой зависимости между знаниями и их оценкой в гимназии нет и не может быть. Но то, что было для меня несомненно и само собой разумелось, – не было несомненно для моей матери, котор<ая> была натурой простой, прямолинейной и властной. Меня за двойки наказывали, и мне запрещалось по воскресеньям ходить в гости и встречаться с моими знакомыми, что было для меня самым страшным наказанием. Немудрено поэтому, что впоследствии мои взгляды на гимназическую учебу формулировались на таком афоризме: «Воспитание – это самозащита взрослых от детей»{32}. Это моя мысль, вынесенная из всего гимназического опыта.
Когда отзывы о моих московских успехах были моей матерью представлены в Феодосийскую гимназию, то директор, гуманный и престарелый Василий Ксенофонтович Виноградов{33}, развел руками и сказал: «Сударыня, мы, конечно, вашего сына примем, но должен вас предупредить, что идиотов мы исправить не можем».
Но когда я появился в гимназии лично, то впечатление было несколько иное. Мои стихи и моя начитанность произвели в педагогической среде такое впечатление, что ко мне стали педагоги относиться как к «будущему Пушкину». И моей матери пришлось ехать для объяснения с тем же директором по поводу моей малоуспешности, и она ему говорила: «Вы сами же довели его до такого состояния, что он ничего делать не хочет».
[74]Феодосийская гимназия, благодаря личности В. К. Виноградова, бывшего очень добрым и гуманным человеком, в Одесском округе пользовалась репутацией «убежища», что ее высоко ставило в глазах учеников и очень низко в глазах окружной администрации. В. К. Виноградов оставил о себе память у всех, его знавших, <как> прекрасного, гуманного человека и мудрого директора. У меня в классе он не преподавал, поэтому я не могу судить о нем, как о педагоге, но думаю, что общее мнение было справедливо, п<отому> ч<то> при нем никаких недоразумений с педагогами и затяжных историй не было. Но уже с начала учебн<ого> года он был болен, мы это знали. Болезнь его кончилась к весне смертью{34}. Его смерть была большим ударом для гимназии, и начался новый педагогический режим. Из Округа прислали нового директора, чеха, с поручением «подтянуть» гимназию. Что он неуклонно и сделал, со всем педантизмом и исполнительностью казенного преподавателя{35}. Состав преподавателей Феод<осийской> гим<назии> был очень разнообразный, и, наравне с серьезными и талантливыми педагогами, много было таких, котор<ые> давно наскучили своим мало интересным делом. Для гимназист<ов> педагоги рисуются, гл<авным> образ<ом>, с их карикатурной и шаржевой стороны, благодаря тому, что те стороны души, котор<ыми> они общаются с молодежью, костенеют и особенно резко бросаются в глаза. Когда я стал расспрашивать товарищей <из> других классов об их преподавателях, то многие из них мне указали на самого интересного и талантливого – учителя русс<кого> языка Галабутского{36}. Я взял тетрадку своих стихов и пошел ему показывать. Он жил в классическом месте Феодосии – на Карантинной горе, в доме Купидонова.
У меня осталось в памяти благообразное молодое лицо с мягкой украинской усмешкой, его ласковый прием. Через несколько дней я узнал его более подробный отзыв о моих стихах. Это было так. Первым товарищем, с котор<ым> я более подружился, был Владимир Калагеоргиев Алкалаев, сын богатых херсонских помещиков, баловень своих родителей. Он в эти дни заболел. Я был у него, когда к нему приехал доктор. Медицин<ский> состав, обслуживающий Феодосию, был невелик. Он сводился к двум врачам: Алексеев и Пружанский{37}. Первый был горбун маленького роста с очень блестящими и умными глазами. Поставивши больному градусник, он стал занимать пациента разговором. И спросил его, не знает ли он в гимназии ученика Кириенко? «А почему он вас интересует?» – спросил больной. «А мне Галабутский говорил, что недавно к нему пришел Кириенко и оставил тетрадь со стихами, стихи очень хорошие, настоящие, он очень их хвалил и говорил, что из него выйдет поэт «большого размера – будущий Пушкин».
Тут я не выдержал и закричал: «Ведь это я!» Д<окто>р Алексеев, чел<овек> умный, тактичный и злой, почувствовал, что он сделал непростительную педагогическ<ую> ошибку. Поспешил взять свои слова обратно. Но дело было уже сделано. Я ушел от Алкалаева сияющий и счастлив<ый>, торжествуя свое крещение. От Галабутского и пошла моя феодосийская слава. Меня признали и другие педагоги, а когда умер Виноградов, я почувствовал, что мне необходимо стать выразителем обществ<енного> мнения. Я написал небольшое ст<ихотворение>, котор<ое> прочел на его могиле. Это фактическ<и> было первое мое напечатанное стихотворение – в маленьком сборничке, составленном феодос<ийскими> преподавателями и посвященном памяти В. К. Виноградова. Это было весной 94 года.
[75]Когда начались занятия в гимназии, мне пришлось из Коктебеля переехать в Феодосию. Т. к. у меня не было никаких предварительных знаком<ств> в Феодосии, то мама меня поселила на общей гимназической квартире у гимназического надзирателя Чернобаева{38}. Чернобаев был мертвенно-бледный и худой человек с медленными движениями, как будто бы он пролежал в гробу не менее 3-х суток. Комнат было три, довольно просторных, и там жило человек 15 юношей разных классов. В жизни этих молодых людей не было решительно никакого единства. Мы встречались за обедом, за чаем, за ужином, котор<ые> отличались крайней простотой, скудостью и казенностью. Ни общих разговоров, ни интеллектуального общения не было. Эта жизнь и обстановка меня крайне тяготили. Большую часть дня я проводил в семье моего нового товарища Алкалаева. В первый раз в жизни я был предоставлен сам себе и вне родительского дома.
В первый раз я сам знакомился с людьми и «барышнями» и был на положении молодого человека. При этом я обнаружил у себя свойство, котор<ого> никогда не подозревал, – крайнюю застенчивость. Я не знал, что говорить, <куда> прятать руки и т. д. Семья Алкалаевых была небольшая, очень гостеприимная, хлебосольная. Его отец был крупный старик – седой, малоразговорчивый и крайне недалекий. Он выписывал громадное количество книг и журналов и целый день проводил в их разрезании. Я был в доме персона грата – ради сына: ему родители очень хотели сохранить мою дружбу, считая ее полезной и здоровой. В доме Алкалаевых бывало много педагогов, что тоже считалось полезным для сына. Вообще все интересы семьи сосредоточились на сыне. Иногда устраивались ужины и попойки для педагогов. Мне до сих пор памятна плотная корпулентная фигура нашего классного наставника – математика Лабанова{39}. Это было на первомайской гимназическ<ой> прогулке в окрестностях Феодосии. Когда все педагоги сильно подвыпили, Лабанов, оглядываясь и опираясь на плечи бородатых и усатых «дядей» (это был V кл<асс>), говорил: «Вот мой класс – молодцы!» И, показывая пальцем на молодого человека в соломенной шляпе и в ботинках кричащего вида, бессмысленно смерив его и веселящихся гимназистов, неожиданно сказал: «Зачем этот человек соломенную шляпу надел – бей его».
Молодцы оказались на высоте – повалили молодого субъекта, сняли с него ботинки и шляпу. Эта выходка очень подняла педагогический авторитет классного наставника среди его «молодцов», но, кажется, субъект в соломенной шляпе подал мировому судье. Чем дело кончилось, я не знаю.
[76]На ученической квартире Чернобаева я чувствовал себя крайне неуютно: и гимназические разговоры, и хозяева мне были крайне чужды. И, поддерживаемый Алкалаевыми (гл<авным> обр<азом> Любовью Ильиничной – матерью, которая была самый живой и симпатичный человек в семье), я «просил» у матери позволить мне переселиться в другую квартиру.
Любовь Ильинична подыскала мне комнату по соседству, у лютеранского пастора. Это было на верхних улица<х> Митридата{40}. Подъем туда был крутой и зимой крайне скользкий. Но это меня в те годы совсем не смущало. Комнатка была крошечная, с двумя большими окнами и двумя застекленными дверями. Так что обитаемая площадь была, главным образом, в очень широких подоконниках. Стены были очень толстые, домик очень старый и стоявший на отлете, доминируя над всем городом. Комната моя была угловая. Кровать стояла между двумя окнами, и, просыпаясь утром, я чувствовал себя висящим в пространстве. Внизу был город и порт с входящими туда пароходами. Обстановка была аккуратная и скучная. Мой хозяин сам вел свое хозяйство: загонял свою корову и часами проводил перед зеркалом, расчесывая свои бакены маленьким гребешком – направо-налево… направо-налево. Жизнь была скучная, однообразная, но зато уединенная. За это и за вид, раскрывавшийся из моего фонаря, я полюбил свою комнату и радовался тому, что не живу больше на ученической квартире с дылдами и усачами, какими были все мои феодосийские товарищи.
С самого начала я в Феодосии начал обращать на себя внимание разными особенностями костюма. У меня для Коктебеля была еще в Москве сшита мамой собственноручно парусиновая летняя фуражка с громадным козырьком и маленькой, довольно высокой и узкой тульей. Среди однообразных и единоформенных гимназических фуражек – некрасивых, неудобных и непрактичных, моя фуражка, несравненно более практичная и рациональная, и притом сшитая и изобретенная мамой, обращала на себя общее внимание. Кроме того, будучи в Феодосии очень одинок, я приобрел привычку читать про себя стихи, которых я знал наизусть в громадном количестве. Это мне заменяло книгу, и я, проходя по улице, беспрестанно бормотал что-то про себя и часто подчеркивал ритм и интонацию незаметными и плавными движениями руки. Я знал, что это на меня обращает внимание, но раз я никому не причинял зла, то что мне до этого? Мой «белый колпак», изобретенный мамой, и мое чтение стихов про себя сразу дало общий тон отношению ко мне феодосийцев. Это выделяло меня в глазах провинциальной публики, в то же время вызывало осуждение: «Оригинальничанье»… Но меня это не огорчало, потому что таково же было и общее отношение встречных к моей матери.
Я очень любил читать стихи вслух и декламировать. Это была моя страсть с детства. Я помню, очень смутно, правда, как декламировал стихи мой отец{41}. И потому в детстве, когда меня просили прочесть стихи, я сейчас же влезал на стул – инстинктивная жажда эстрады – и оттуда читал «Полтавский бой», «Коробейников» Некрасова или «Ветку Палестины». Значительно позже – «Конька-горбунка». Последняя вещь, со всеми особенностями моего детского произношения – с шепелявостью, недоговариванием букв – сохранилась, как в граммофоне, до сих пор в имитации Лины Вяземской, бывшей подругой и спутницей моего детства{42}.
В первый раз я выступил на эстраде со стихами в Москве, в год моего переезда в Феодосию, на ученическом вечере Первой гимназии. Я читал тогда пушкинское «Клеветникам России»{43}. Мне очень нравился ораторский склад всего стихотворения, а кроме того, я слышал, как его читал один из московских товарищей по 1-ой гимназии, Закалинский{44}, читавший очень хорошо и серьезно занимавшийся декламацией, с хорошо поставленным театральными специалистами голосом.
Поэтому, как только в Феодосии зашли разговоры о гимназическом вечере, я выставил свою кандидатуру на декламацию и имел шумный успех. Читал, помнится, балладу Алексея Толстого «Горе»{45}. С ростом моей известности как декламатора провинциальный город более или менее помирился с моим постоянным бормотаньем на улице. А когда через некоторое время возникла мысль об ученическом спектакле и решили ставить «Ревизора», то я был выдвинут кандидатом на исполнение <роли> городничего{46}. И десятки лет спустя мне доводилось встречать почтенных и апатичных феодосийцев – бывших любителей, когда-то пробовавших свои силы на сцене, – которые горько меня упрекали, что я не пошел на сцену: «Вы не по своей дороге пошли – в литературу. Ваш путь был совершенно ясен. Вам надо было, по окончании гимназии, поступать в театр».
[77]В тот же первый год моей Феодосийской гимназии я инстинктивно понял, что среди товарищей-одноклассников мне необходимо себе выбрать приятеля и сожителя по своему вкусу. Выбор мой, естественно, остановился на Пешковском{47}. Это был еврей маленького роста, с огромным лбом боклевского склада{48}, очень серьезный, очень рассеянный, очень преисполненный чувством долга. Он в то время очень мучился тем, что он не еврей, а христианин: когда он был ребенком, его с братом отец (первоначально бывший ортодоксальным евреем, но потом сошедший с ума и от еврейства отступивший) неожиданно, не спрашивая его мнения или согласия, перевел в христианство (сделал лютеранином).
И вот эта-то пугливость и настороженность совести мне в нем очень понравилась. Он тоже жил на неудачной квартире, куда его определила мать, привозившая его из Ялты: он год тому назад кончил Ялтинскую прогимназию и теперь перешел в Феодосийскую гимназию. Семья Пешковских предварительно жила в Томске – и Саша учился в тамошней гимназии. Потом его отец купил дачу в Ялте, переехал туда <со> всей семьей, скоро сошел с ума и умер, а сыновья – Александр и Артур, его старший брат, – учились в Ялтинской <про>гимназии. В одно из ближайших лет я ездил в Ялту и гостил у Пешковского{49}. От него я узнал о бесправном положении евреев в России. Впервые среди моих товарищей-гимназистов я узнал в Феодосии много евреев, и, так как они все были значительно образованнее, чем другие гимназисты из «восточных людей» – караимы, армяне, греки – довольно тупые, то они мне показались и симпатичными, и интересными. Неприязни же и юдофобства я совсем не знал по семейным взглядам и традициям. Моя мать и по типу, и по складу характера принадлежала к поколению русских женщин 70-х годов и до старости сохранила этот тип, трагический, красивый, всегда у последней черты, всегда переступающий запретные границы. Мы с Пешковским скоро облюбовали в Феодосии одну семью, в которой хотели бы поселиться. Это была семья Петровых. Семья настолько любопытная и сыгравшая настолько большую и направляющую роль в моей жизни и развитии и в гимназические годы, и после, что я должен остановиться на ней подробнее.
Глава ее был полковник Михаил Митрофанович Петров{50}. Он служил полковником пограничной стражи, был старожилом этих побережий восточного Крыма. Его высокую фигуру с толстовской или леонардовской бородой знали все. Он был мастер, очень разносторонний и талантливый. Он ставил любительские спектакли, превосходно играл, декламировал, был хорошим художником, в Феодосии не было ни одного старого дома, где бы не висело его акварельных видов на стенах, рядом с пейзажами Айвазовского, Лагорио{51} и др<угих> феодосийских художников. Кроме того, у него была слесарная мастерская, он изобретал летательный аппарат, строил крылья, сам изобрел велосипед. Тогда еще велосипеда не было{52}. Но изобретение, должно быть, было неудачно, потому что Алек. Алек. Полевой, славившийся в Феодосии своим остроумием, буду<чи> в то время его писарем, поместил велосипед, изобретенный им, в списки «недвижимого» имущества. Впоследствии, живя в доме Петровых, я видел сиденье от этого велосипеда. Это было кованое кресло такого калибра и тяжести, что сдвинуть его с места одной рукой было трудновато. Правда, проект Михаила Митрофановича осуществлял местный кузнец, и солидность конструкции представляет не столько желание и план старика Петрова, сколько добросовестность, преданность и личную признательность мастерового.
Одним словом, M. M. Петров был, соблюдая, разумеется, все пропорции и хронологические грани, маленьким феодосийским Леонардо да Винчи – и наружностью, и общественным положением, и широтой, и разнообразием интересов.
Остальная семья состояла из его жены Нины Александровны, мечтательной, фантастичной, уединенно<й> и невеселой стареющей женщины, жившей у себя в доме как гостья, всегда в уединенной и отдельной комнате. Ее матери – бабушки – Марии Леонардовны Рафанович. Очень красивой и представительной старухи, похожей величественным видом на Екатерину Великую на парадных портретах. Мар<ия> Леонард<овна> составляла пару для Мих<аила> Митр<офановича>. Она была спокойна как-то органически – и, когда сердилась, – волновалась, но не повышала голоса. Она по происхождению была не русская, но итальянка, и ее родной язык был итальянский и о<т>части немецкий. Она принадлежала к старой феодосийской семье Дуранте, сохранившей старые корни в Италии и отчасти в Генуе. Хотя это не была древняя связь Феодосии со своей метрополией, но основатель семьи Дуранте в Крыму был генуэзец, и выехал он со своей родины в Крым только в начале XIX века, во время наполеоновских войн.
[78]Еще в тот год, когда мы с Пешковским не жили у Петровых, мы привыкли встречать, подходя к гимназии, на Итальянской, барышню, всегда в один и тот же час, с очень серьезным, озабоченным и суровым лицом. Сразу было видно, что она спешит по делу к определенному сроку.
У нее был тип Афины-Паллады: опущенный вперед лоб, правильные черты продолговатого лица, на котором угадывался шлем, темные волосы, серьезные губы. Мы знали, что это Александра Михайловна Петрова, учительница Александровского училища, и что она спешит на свои уроки{53}. Наружность располагала и обещала серьезные и интересные беседы. И это было немалой приманкой для меня при выборе квартиры. Когда мы туда зашли и сговорились с бабушкой, Марией Леонардовной, то мы очень быстро договорились: и стол, и место тогда были недороги. Мы знали свой бюджет и потому согласились быстро: по 25 р. в месяц за человека: стол и комната. Комната была квадратная, окнами на двор. В ней всегда царила зеленоватая полумгла, а стены были завешаны маленькими – хорошо сделанными и окантованными – фотографиями античных статуй, симметрично висевшими по штукатуренным стенам южного дома.
Дом был маленький – 4–5 комнат, с двором, очень заросшим зеленью; с каменными плитами, с увитым<и> диким виноградом деревянными воротами. С несколькими айлантусами во дворе и с флигелем, составлявшим одно целое с домом и образовывавшим мощеный испанский дворик «patio». Флигель был двухэтажный, и лестница в него вела снаружи, крытая и тоже густо завитая виноградом. Во дворе был каменный колодец, что еще более подчеркивало его южный и провинциальный характер.
Все говорило здесь о южных странах: об Италии и об Испании. Думаю сейчас, что этот стиль юга Италии имел для меня самое серьезное значение. Вообще, в Феодосии тех лет <я> на кажд<ом> шагу сталкивался с разными пережитками староитальянского прошлого, и Феодосия как бы помнила о том, что Генуя – ее метрополия{54}. В семье Дуранте особенно живо хранились эти традиции. Многие из мальчиков Дуранте, с которыми я учился в гимназии, по окончании ее ехали кончать образование не в Москву, не в Харьков, не в Одессу, а в Геную, в коммерческую академию. Из Генуи сюда приезжали на практику молодыми матросами тамошние юноши, которые, как Гарибальди, плавали юнгами по Азовскому и Черному морям. В семье Петровых иногда появлялась старая немка из немецкой колонии, что была под Феодосией, – фрау Гарибальди, родн<ая> тетка Гарибальди. Как всюду на этих берегах, итальянский элемент сливался с немецким. В семье Дуранте все мужчины были итальянцами, их родной язык был итальянский, и они были католики, а женщины были лютеранками, и их родной язык был немецкий. Мария Леонардовна говорила и по-немецки и по-итальянски. В языке всей семьи Петровых постоянно путались и немецкие и итальянские выражения. Но это было характерно и для <всего> Крыма, который в своих традициях сохранил очень много от итало-германской эмиграции Александровск<ого> царствования.
Надо прибавить, что семья Дуранте, очень богатая семья негоциантов, сохранила в себе эти западные традиции тихой и зажиточной торговой семьи. Ей когда-то принадлежали широкие земли на Керченском полуострове – как раз в тех местах, где до сих пор еще хранятся крепостные остатки «Скифского вала», т. е. той стены, которая защищала в средневековье Пантикапею от набегов Дикого поля{55}. «Скифский вал» – это китайская стена Босфорского царства. В семье Дуранте вырос и воспитался, и после провел свои творческие годы Богаевский. Но об этом позже.
С Александрой Михайловной мы быстро познакомились и разговорились. Сперва разговоры были о книгах: в ту эпоху она жила исключительно естеств<енн>онаучными изданиями павленковского типа и астрономическими фантазиями Фламмариона{56}. Потом она оказалась моим очень верным спутником во всевозможных путях и перепутьях моих духовных исканий. Она прошла и спиритизм, и теософию, и истое православие, и христианскую мистику, и антропософию. Но вернее всего она была православию.
Эти первые встречи и разговоры совпали с ее тяжелою болезнью. Как раз вскоре после нашего переезда в дом Петровых она переболела брюшным тифом, от которого она вполне никогда не могла оправиться. Период ее выздоровления был особенно полон страстными разговорами и спорами между ею, Пешковским и мною. К тому времени относится довольно много моих шуточных стихотворений, где главные персонажи олицетворяются в виде «фиалочки», в которую влюблены 2 репейника. Разговоры наши носили всегда элемент шутки, который привносила всегда Ал<ександра> Мих<айловна>.
У меня от этого периода «выздоровления» осталось впечатление частого, искреннего, задушевного хохота, в котором главную роль играла «больная», которая много лет после жаловалась, что она потому никогда не оправилась вполне от тифа, что мы ее слишком смешили.
[79]От того первого года жизни в доме Петровых у меня больше всего остались в памяти весенние прогулки с Алекс<андрой> Мих<айловной> на горы: на мыс св. Ильи и в Кизильник. Горы феодосийские не высоки – холмы. Их очертания стерты, усталы. Балки переполнены щебнем.
По вершина<м> – са́женный лес. (Теперь, во время революции, вырубленный.) Это были жалкие насаждения из акаций, айлантов, ясени и других, неприхотливых на воду крымских кустарников. В этой области гор производились всякого рода опыты облесения феодосийских холмов, т. к. исчезновение воды в ключах и источниках, которыми Феодосия изобиловала в эпоху своего процветания, приписывалось, конечно, истреблению лесов в ее окрестностях{57}.
В те годы, когда я приехал, в Феодосии еще было цело 36 фонтанов – великолепных, мраморных, – но без воды. В 80-х годах они все еще били и журчали водой, но когда поручили их ремонт русским инженерам, они иссякли совершенно, и в ту эпоху пресную воду привозили на пароходах из Ялты.
Мыс св. Ильи тогда еще не был местом таких трагических воспоминаний, каким он стал теперь, после гражданской войны и феодосийских расстрелов. Но его опустошенный пейзаж уже и тогда носил в себе оттенок трагизма. И Алекс<андра> Мих<айловна>, очень любившая эти опустошенные холмы, уже тогда посвятила меня в трагический смысл Киммерийского пейзажа.
Выйдя за город мимо дачи Чураева, хорошо знакомой всем гимназистам – Чураев был в то время инспектором гимназии – там жили многие гимназисты на квартире{58}. После шла очень уединенная и опустошенная дача, которую мы называли «Порт-Артуром», дача Ребикова{59} – но смысл и значение она для меня получила лишь спустя много лет.
Мы ходили в горы за фиалками – это были единственные цветы суровой и скупой крымской весны. Собирая их, так же как цветы горного терна, мы переживали весенний восторг. В крымской весне очень мало внешнего и показного, но тем сильнее те весенние токи, которыми она проникнута. Тем больше опьянения в этих серых камнях, в этих тонких и скромных веточках и цветочках – точно скромное весеннее зарождение цветочного орнамента на серых камнях и стенах высокого средневековья, еще не знающего пышного и показного тонкого орнамента Ренессанса. Эти весенние феодосийские прогулки вместе с Алекс<андрой> Мих<айловной>, из которых мы приносили свою горную добычу, которая умещалась в блюдечке с водой, были истинным прологом к моему постепенному развитию в искусстве.
[80]Сейчас мне очень трудно из всех наших 20-летних отношений с Алекс<андрой> Мих<айловной> выделить отношения наших первых лет. Писем, соответствующих этому периоду, нет: мы тогда еще не переписывались, т. к. жили в одном доме. Мои отношения к ней были перепутаны с отношениями Пешковского, и она сама часто усугубляла эту путаницу, т. к. переносила на одного разные сложные психологические результаты, получавшиеся из разговоров с другим. Обижалась на Пешковского за мои парадоксы и мысли. Это было так сложно распутывать.
Помнится мне от тех времен очень яркое общее романтическое настроение. Шутка и поэзия. Бетховен, Гейне. В общем – то настроение, которое в литературе и искусстве сохранено и ярко отмечено в фантастических и романтических повестях Одоевского{60}. Последний квартет Бетховена, Себастиан Бах, Пиранези. Эти беседы, часто с восклицательными знаками, находили себе подтверждение в обстановке комнаты Алекс<андры> Мих<айловны> и в украшении ее стен, в котором я тоже принял горячее участие. Помню над ее письменн<ым> столом большое распятие, слабо светившееся по ночам (смазанное фосфором). Портреты Байрона, Бетховена, Гете; потом я ей прислал известную посмертную маску Бетховена из Германии.
[81]Надо сказать, что в эту эпоху для меня начиналась впервые самостоятельная жизнь вне родительского дома: я сам на свою ответственность знакомился с людьми, общался с людьми, поддерживал знакомства, подходил к барышням на улицах. Этот последний термин был важным актом в жизни гимназистов.
Феодосия была город глухой и маленький. В нем гимназисты играли роль, соответствующую в Москве – студентам, а в больших губернских городах – офицерам.
Роль культурных и образованных молодых людей: ими интересовались, их ценили, их уважали. Кроме домов семейств врачей, адвокатов, <все> остальное было серой и слепой массой мещанства, еврейства, а<р>мян, кар<а>имов и т. д.
[82]Я дошел в воспоминаниях до первого года моей жизни у Петровых и остановился: у меня нет никаких материальных останков от того года: ни дневников, ни писем. От последующих лет жизни, особенно после гимназии, сохранились толстые пачки писем, в которых Ал<ександра> Мих<айловна> сохранилась во всем разнообразии своей речи – в живой непосредственности своего языка и скачков наших бесед и споров, но от этих бесед и споров, когда все завязывалось и утверждалось «на всю жизнь», нет ничего. Одни воспоминания, ничем и никем не фиксированные. Могу подробно восстановить всю обстановку семьи – но ничего из наших разговоров. Ал<ександра> Мих<айловна> была старшей из детей. У нее было 5 братьев – младших: Адриан, Саша, Миша, Орес<т>, Петя. Все они были одного типа и одной судьбы. Все они более в отца, чем в мать. Все резкие, грубоватые, талантливые. Старший, Адриан, – офицер. Все они выгнаны из гимназии (<из> III, из IV клас<са>). Все более или менее удачные изобретатели, у всех та же родовая навязчивая идея – крылья. Все неудачники – все рано и по-разному погибшие.
В годы моей жизни дом был без души: Мих[аила] Митрофан[овича] не было. Он получил неожиданн<ый> перевод в Среднюю Азию, охранять 2000 верст тамошней границы. Оттуда он писал домой длинные и восторженные письма и присылал ковры. Позже я его видел в Сред<ней> Азии во время моей ссылки{61}. Но его дух и память хранились без него в его доме в тысячах воспоминаний о «дяде Петрове», которыми меня приветствовали все, узнавая, что я живу в его семье. Я помню Алекс<андру> Мих<айловну> в эту полосу жизни постоянно измученную судьбой своих братьев и их неудачами. У нее было место школьной учительницы в женском Александровском училище, где ее сослуживицей была Ящерева. Мать героини моего первого трагикомического романа прошлого года. Но ее я так и не узнал.
Все более или менее и сама Алек<сандра> Мих<айловна> занималась живописью, что в Феодосии было очень распространено, конечно, благодаря Айвазовскому. Ал<ександра> Мих<айловна> занималась больше прикладным искусством: делала копии татарских вышивок. А позже занялась специально собиранием татарского орнамента. И много лет пыталась (но безуспешно) пристроить свои ценные во всех отношениях работы в какой-нибудь музей. Но в те далекие годы интересы были сосредоточены не на этом и татарское кустарное искусство не вызывало к себе интереса{62}. <…>
<…>[83] Алекс<андра> Мих<айловна> любила очень музыку и играла Бетховена. Отсюда их бесконечные разговоры с Пешковским. Он часто по утрам ей играл в соседней комнате, в гостиной, чтобы разбудить ее звуками Бетховена. Иногда они играли в 4 руки. Но самым музыкальным домом для нас был дом Воллк-Ланевских, где мы проводили много времени в гимназич<еские> годы. В нашу обычную компанию входили Лера и Женя Воллк-Ланевские, Вера Нич (потом Гергилевич){63}. Лера была пианистка. Мать Воллк-Ланевских – Софья Наполеоновна, тоже пианистка, была самой музыкальной дамой в городе. Она в молодости была хороша, и говорили, что в нее был влюблен художн<ик> Семирадский{64}. Старик Вол<лк>-Ланевский, Альфонс Матвеевич, был адвокат. Очень умный и остроумный человек. Очень начитанный. У них в доме было много книг, что было для меня большой радостью.
Я привык его видеть всегда в маленькой далекой комнате, насквозь прокуренной, где он жил, не отходя от письменного стола. Его мнения я очень ценил и его беседами очень дорожил. Помню, кто-то его спросил при мне его мнение обо мне. Он ответил на это: «Великий знаток человеческого сердца – Сервантес – говорит в одном месте: толстый человек – следовательно, добрый человек (слова Санчо Пансы)».
Помню, что эти слова заставили меня с особым вниманием перечесть в следующий раз «Дон-Кихота», не заб<ыв>ая ни на минуту, что его автор «великий знаток человеческого сердца».
Лера В<оллк>-Ланевская прекрасно играла и всем сердцем любила Шопена. И обладала многими его талантами. Как известно, Шопен забавлялся в детстве рассказыванием сказок на рояле. Лера обладала даром импровизации и часто по вечерам в своей компании играла нам наши характеристики: всегда было очень метко и остроумно.
Для нее было очень грустным, что денежные средства отца не давали ей никакой возможности ехать доучиваться в консерваторию. Поэтому, когда мы одновременно окончили гимназию, я ей предложил из моих денег (это был капитал, на который происходило мое воспитание, и моя мать незадолго до окончания гимназии предупредила меня, что до сих пор о н а распоряжалась моими деньгами, а теперь я вскоре достигаю совершеннолетия и тогда сам становлюсь их полновластным хозяином) 500 р. на поездку в консерваторию, «а потом, когда у вас будут деньги, вы сможете мне отдать». И это было, к моей радости, решено, и я имел удовольствие студентом первого курса приветствовать Леру в Москве и устраивать ей комнату.
Это было мое первое совершеннолетнее распоряжение с в о и м и деньгами.
Так мы жили с Пешковским у Петровых, но вся наша светская жизнь проходила в доме Воллк-Ланевских. Пешковский уже тогда отличался феноменальной рассеянностью.
Помню, как он, подходя к самовару, наливал себе чай – что было обычаем у Петровых, – себе перекладывал в чашку весь сахар из стакана Алекс<андры> Мих<айловны> и наливал себе, а мы все, умолкнувши, внимательно и изумленно следили за его действиями. Он, когда открывал случай собственной рассеянности, всегда изумлялся в три приема: «А! АА! ААА!!!»
В то же время, как ученик, он поражал преподавателей редкой добросовестностью и исполнительностью, и основательным и образцовым проникновением в глубь предмета. Особенно это сказывалось в русских сочинениях, которые всегда поражали своею основательностью, мерой и тщательностью.
Мои же – литературным талантом – фельетонным даром, парадоксальностью. Преподавателем у нас в то время был Галабутский, который мог оценить подаваемые ему работы. Должен сознаться, что он от моих «сочинений» иногда приходил в отчаяние и возвращал мне тетрадку со словами: «Как фельетон это очень хорошо, но как гимназическое сочинение это настолько выпадает из всяких рамок, что нельзя это ценить никакой отметкой». Помню, какая история была у меня с сочинением на тему о «Памятнике» Пушкина. Пред этим сочинением я прочел статьи Писарева о Пушкине, и все это, конечно, отразилось в моей гимназической работе. К счастью, в Галабутском не было никакой «формальности» и никакого формального отношения к делу.
[84]Позже Лера В<оллк>-Л<аневская> мне рассказывала, что она в те годы была влюблена в Пешковского. Он казался ей необыкновенным персонажем из Теодора Гофмана – поэта, которого она обожала. П<ешков-ский> ей представлялся не имеющим никаких человеческих привычек, и, когда он однажды у них обедал, она была потрясена: о н е с т!
Живя всю жизнь в Москве, я не имел понятия, чем является «бульвар» в жизни глухого провинциального города. В Москве «бульвар» тоже существует, но имеет другой смысл, более обнаженный и циничный (близкий понятию «проституции»); в Феодосии же я застал бульвар невинный, детский. Он был истинным развлечением молодежи – гимназисток и гимназистов. Мне он очень понравился, и в мои гимназические годы я всегда ходил гулять на Итальянскую и на бульвар. В то время он был еще на берегу моря. Летом по вечерам здесь нередко играла музыка. Обычно я ходил с Пешковским или с кем-либо из товарищей. Задача была раскланяться со всеми знакомыми, не пропустив ни одной. Иногда завязывались разговоры с незнакомыми. «Поэт… Скажите какой-нибудь экспромт». – «Какие хорошие стихи у вас! В них даже смысл есть!»
[85]Холодная серая весна. Вчера собирал свои воспоминания о перв<ом> годе в Феод<осийской> гимн<азии> и о жизни в доме Петровых и записывал. Вечером читал Марусе[86] Анатоля Франса, статьи из «La vie litteraire»[87], о Вилье… Так ярко вспомнилась собственная статья, что принес с верха «Лики творчества» и прочел «Апофеоз мечты»{65}. Читая параллель с В<еликим> инквизитором, я вспомнил подробности, которые узнал от Эм. Мишле{66}. Это было в 1916 году – перед моим отъездом в Россию.
Я доживал тогда последние дни в Париже. Это было время острой дружбы с Цетлиными{67}. Кто-то (кажется, Osenfant{68}) мне предложил познакомить меня с Э. Мишле, книги которого, статьи и рассказы я знал. А заодно и с Жоржем Польти{69}. Он мне предложил пойти вечером в одно кафе около place d'Alma[88]. Там было много фр<анцузских> литераторов, среди которых Мишле выделялся возрастом и сединами. Польти был косой человек, худощавый и продолговатый. С Мишле я сейчас же разговорился о его замечательной статье о «святости Бодлера», в которой он поднимает вопрос чуть ли не о «канонизации» его.
Статья написана очень умно, парадоксально и с большим проникновением. Затем беседа перешла на «Великого инквизитора». «Братья Карамазовы» как роман еще не был переведен. Но «Великий инквизитор» в переложении (не знаю, чьем) появился в «Pevue Blanche». Вилье его прочел и говорил об этой теме. Ему не нравилась трактовка Достоевского – и он на эту тему импровизировал целый рассказ. Который тут же кем-то был записан с его слов и напечатан. Не помню, в каком из малых журналов, кот<орых> в ту эпоху много возникало и гибло{70}. В какой-то из старых записных книжек у меня должна сохраниться эта запись. Но где она – бог весть. Так что влияние «Вел<икого> инквизитора» на «Акселя» можно считать установленным. Но было бы интересно разыскать эти документы. Я это сделаю непременно, когда попаду в Париж.
В тог же вечер я познакомился с Жоржем Польти, которого знал давно, как автора книги «36 драматических положений» (мысли, приписываемые Гете, в разговорах с Эккерманом, – Карло Гоцци, но у Гоцци нигде не найденные){71}. Польти доказал, что это так. Он их нашел все и доказал, что других и быть не может. В этом есть нечто фантастическое, как во всей фигуре Карло Гоцци. Кроме того, я знал еще статью Польти в старых №№ «Меркюр»{72} – «demographia» – о гениальности евреев, – статью, которая когда-то, в одну из коктебельских зим, меня очень заинтересовала. В тот же вечер Польти мне подарил несколько оттисков своих статей: о робости Шекспира, о записи жестов и драматический опыт. Они и теперь у меня под руками и ждут своей очереди{73}.
[89]Воспоминания о перв<ом> годе в Феодосии. Яшерова Ольга Васильевна. Поэтесса. Обмен стихами. Городское событие. Обеспокоенность директора Виногр<адова> и начальниц Ж<енской> г<имназии>. <Слухи> о наших стихах и детск<ой> влюбленности стали сказкой всего города. Я ничего не имел против.
Оля, очевидно, тоже. Прежде всего, наши ничего переходящего запретные даже для гимназистов грани, у нас не было [так в тексте. – Сост.]. А, очевидно, гимназическ<ие> педагоги боялись именно и только э т о г о. Но я в то время слишком был далек от этого. У меня в те годы еще совсем не было чувственности. Помню, как года 3 позже – я был студентом – одна подруга моей кузины Лели Ляминой{74} говорила ей про меня: «Я нисколько не боюсь и не стыжусь его. Если понадобилось, я могла бы без всякого стыда пойти с ним в баню и позволить мне вымыть спину». И я сам очень гордился этим мнением о себе и всем хвастался.
Но, не будь я так защищен от всех соблазнов, это могла быть совсем иная история. Я помню, Ол<ьга> Вас<ильевна> зазвала меня к своей подруге, жившей рядом с В<оллк>-Ланевски<ми> – наискось немного выше их, на глухой Армянской улице. Мы там встречались вечерами – вход в эту комнату был непосредственно с улицы. Кроме меня, там же бывали молодые люди совершенно иного склада: франтоватый приказчик из галантерейного магазина Кашлю, который мне очень не нравился. Как человек совсем иного общества и стиля. Не очень давно у меня с Лерой В<оллк>-Ланевской был разговор, в котором мы вспоминали О. Яшерову. Лера говорила: «Мне Оля очень нравилась. Она была своеобразная и живая. Она после приезжала в Феодосию. Но в то время про нее много говорили плохо». <…>
[90]Я старался вспомнить О. В. как можно четче. Она была некрасива. У нее был тяжелый подбородок, как сношенный башмак. Вислый рот. Запах «парфюмерии». Почему-то вспоминаются ее чулки и башмаки. Помню, как она в одно «после обеда», взяв меня спутником, завела меня к себе, достала из кармана шоколад и жевала его с какими-то кристалликами (объяснив, что у них очень неприятный вкус). Потом она мне объяснила, что это был медный купорос. Но все это было как-то несерьезно, и я не поверил тому, что она отравилась. И не придал этому никакого значения. Но, вероятно, она наелась чего-то, потому что потом ее при мне два раза стошнило. Я так и не понял, зачем это было ей нужно. Но, рассказывая потом об этом дне, она говорила: «Когда я отравилась… Помните?» У меня так и осталось недоумение: что это, в сущности, было? Зачем она травилась при мне? К чему я ей был нужен – как свидетель? Для В<оллк>-Ланевских – т. к. именно у них она брала шоколад? И приходила в отчаяние, что у нее самоубийство не удалось, т. к. она без шоколада «такую гадость еще раз глотать ни за что не сможет». Это было едва ли не наше последнее свидание: после наступили летние каникулы, и О. В. не вернулась ни в гимназию, ни в Феодосию. Спустя несколько лет она возвращалась, по словам Леры. Но я ее не видел.
Помню еще несколько моих «романов» <в> те годы. Вдохновительницей их была, по-видимому, моя мать, которая мне неоднократно повторяла: «Какой же ты поэт, если ни разу не был влюблен?» Вкуса к любви безнадежной и неразделенной у меня не было. Потому, когда я узнавал, что кто-нибудь из моих сверстниц мною интересуется, то немедленно торопился ответить им равносильным чувством. Таки<х> ответных романов у меня было два: Кл<имент>ина Понсар и Кринкермахер. Первая была сестра жены Артура (брат) Пешковского, кот<орый> был женат на француженке, о кот<орой> сам П е ш к о в с к и й был невысокого мнения. Она была гимназисткой IV – V класса. Узнал я это от ее подруг: ее, очевидно, многие уже дразнили в гимназии.
Нас познакомили, но она так конфузилась меня, а я ее, что из этого знакомства ничего не вышло. Тем более что я и не знал, что собственно мне нужно от нее добиваться.
Помню, я ей написал стихотворение, которое заканчивалось стихами:
Вам, дома, и <вам>, долины, Так и хочется все мне Крикнуть имя Климентины В этой мертвой тишине.Стихи, конечно, были навеяны моей квартирой на Митридате у лютеранского кистера. Помню, они очень понравились одному серьезному гимназисту стар<шего> класс<а> Нефедову, которому я иногда читал мои стихи, а он подробно и логически разбирал их. Очевидно, подражая журнальным критикам того времени. Он находил последние строки очень картинными по иронии и по цинизму: очевидно, имя Климентины для него ассоциировалось с рядом мне чуждых бульварных ассоциаций.
Но я от элемента иронии не отрекался.
С Клинкермахер было приблизительно то же самое. Только она была еще более застенчивая и онемелая, чем К. Понсар. Наше знакомство состоялось в комнате ее сестры, где-то на татарском Форштадте и было так мучительно, что я более не повторял это<го> горестного опыта.
Последняя встреча с Гумилевым. Смерть А. М. Петровой
[91]Сегодня наверху, роясь в архиве Алекс<андры> Мих<айловны>, я наткнулся случайно на одно свое письмо – очевидно, самое последнее, написанное ей перед ее неожиданной смертью. Письмо написано осенью 1920 года, после моей большой болезни, которая мне не давала ни встать, ни сесть в течение 10 месяцев, которые я пролежал в полной покинутости в своей мастерской в Коктебеле{75}. Когда мама была уже так слаба, что не могла ко мне подняться по лестнице на следующий этаж, а я не мог спуститься, а в доме с нами не было никого из близких, кого можно было попросить ко мне подняться, никого, кто бы занялся мною. Это было лето, когда у нас работал Пшеславский с компанией художников{76}. У нас же жила жена Кедрова с девочками – Наташей и др<угими>{77}.
[92]Я все лето просидел в кресле. Сперва очень болели ноги и колени. До этого, за день, как мне слечь, я съездил в Феодосию – и там встретился случайно в Центросоюзе с Гумилевым. Я делал последние дела для приема Пшеславского и его группы художников, которые должны были, как было условлено, приехать в Коктебель лепить памятник «Освобождение Крыма» на месте екатерининского «Присоединения Крыма» в Симферополе. Памятник был хороший. Фигура Екатерины – Микешинская{78}. Кругом, на пьедестале, – деятели екатерининского царствования: Потемкин, Долгоруков.
В профиль у Потемкина в руке был свиток бумаги. Он торчал в том месте, где должен бы был быть фаллос in erectio[93]. Это была радость гимназистов. И меня в детстве водили туда товарищи показывать эту достопримечательность. Приехавши зимой 1920 года в Симферополь, я увидел памятник на месте еще не тронутым. Я был назначен в первомайскую комиссию, в которой принимал участие. В программе, составленной Крымским Исполкомом, был, м<ежду> пр<очим>, пункт: проект памятника «Освобождение Крыма» Фрунзе, которым можно было бы заменить на том же пьедестале памятник Екатерины.
В последний день заседания комиссии, на улице, ночью, т<овари>щ Бугайский – секретарь Исполкома – счел нужным поговорить со мной наедине: «Вы обратили внимание, т<овари>щ Волошин: никто не представил проекта памятника «Освобождения Крыма»? А у меня он есть. То есть, я придумал, что именно нужно изобразить и все надписи. Нет ли у вас знакомого художника, который мог бы мне это зарисовать? Важно только это зарисовать. Премия большая: 150 000. Мы ее получим – и я бы охотно с ним поделился. Конкурентов нет».
Мне тут же пришел <в> голову Пшеславский. Он был ловкий и вполне приличный рисовальщик. Он работал в Мюнхене с Рубо над Севастопольской панорамой{79} и вполне мог сделать проект памятника «Освобождения Крыма». Мое предложение ему понравилось. По проекту Бугайского центральной фигурой должна была быть фигура рабочего, сдирающего цепь с земного шара, с обложки немецкого журнала «International». A по краям расположены надписи из текста гимна. Проект был зарисован через 2 часа, а лепить его решили ехать на все лето в Коктебель, с группой художников, которых Пш<еславский> должен был привлечь для этой работы. Вот, ожидая П<шеславского> с компанией художников, я и отправился, накануне их прибытия, в Феодосию для того, чтобы взять в ГПУ разрешение на право работы с натуры на всех ожидаемых и для себя самого. Не помню уже, почему – мне понадобилось зайти в контору Центросоюза. И Коля Нич, котор<ый> там служил{80}, спросил меня: «А вы знаете поэта такого-то?» И подсунул мне карточку: «Николай Степанович Г у м и л е в». – «Постой, да вот он сам, кажется». И в том конце комнаты я увидал Гумилева, очень изменившегося, похудевшего и возмужавшего. «Да, с Николаем Степановичем <мы> давно знакомы», – сказал я.
Мы не видались с Гумилевым с момента нашей дуэли, когда я, после его двойного выстрела, когда секунданты объявили дуэль оконченной, тем не менее отказался подать ему руку. Я давно думал о том, что мне нужно будет сказать ему, если мы с ним встретимся. Поэтому я сказал: «Николай Степанович, со времени нашей дуэли прошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки». Он нечленораздельно пробормотал мне что-то в ответ, и мы пожали друг другу руки. Я почувствовал совершенно неуместную потребность договорить то, что не было сказано в момент оскорбления: «Если я счел тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому, что сомневался в правде ваших слов, но потому, что вы об этом сочли возможным говорить вообще».
«Но я не говорил. Вы поверили словам той сумасшедшей женщины… Впрочем… если вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда…»
Это были последние слова, сказанные между нами. В это время кто-то ворвался в комнату и крикнул ему: «Адмирал вас ждет, миноносец сейчас отваливает». Это был посланный Нар<к>омси (быв<шего> адмирала) Немица, с которым Гумилев в это лето делал прогулку вдоль берегов Крыма{81}.
Я на другой день уехал в Коктебель и там слег в постель: мне недомогалось уже давно, зимой, но время было слишком острое – я не позволял себе заболеть. Но, попав домой, решил себе разрешить поболеть 2–3 дня и слег; но, раз подогнув ноги, не мог уже встать 10 месяцев. А Гумилев вернулся в СПБ и осенью был расстрелян по обвинению в №№ заговоре{82}.
Когда я заболел, то сначала около меня была Валетка{83}, которая, ожидая разрешения выезда за границу, прожила все страшное время в Ялте (с графиней Кавур). Она делала мне массаж ноги и горячие ванны.
Затем она исчезла из Коктебеля, и ей, кажется, удалось-таки пробраться в Париж.
Ко мне каждое после-обеда поднималась Ольга Андреевна{84}. Приносила манной каши, кот<орую> готовила мама, и два кофейника с горячей водой и, кажется, отваром шалфея. При этом рассказывала мне всякие новости – гл<авным> образ<ом>, кто меня хочет расстрелять. Сперва были красные, потом, когда ждали со дня на день «перемены», < – белые>. (Дважды большевики давали приказ об эвакуации Крыма.)
Потом моею болезнью заинтересовались друзья и меня устроили в санаторий в Феодосию. Мое письмо относится к тому времени, когда И. В. Гончаров заехал за мной на своем автомобиле и перевез меня в санаторию{85}. Но я не сразу поселился там, а провел несколько дней на своей городской квартире (д<ом> Лампси{86}). В эти дни я, очевидно, и написал это письмо к Ал<ександре> Ми-х<айловне>:
«Дорогая Алек<сандра> Мих«<айловна>, получил Ваше апостольское послание. Мне досадно, что мы, будучи уже в одном городе, разделены и лишены возможности беседы. А болезни своей я радуюсь: подумайте, после трепки 10-ти месяцев – собраний, лекций, дел о приговоренных, быть кинутым судьбой в собственную комнату в полное уединение. Это – блаженство. Я наслаждался тишиной этого лета. Работал. Писал стихи. Одно – законченное – посылаю («Бойня»). Оно, кажется, полнее других передает феодосийский декабрь.
Современность доходит до меня в виде угроз: знакомые и друзья считают долгом осведомлять меня о разговорах, ведомых по моему адресу. По очереди все меня предупреждают: «Берегитесь Чека – оно очень настроено против вас и непременно вас арестует, как сочувствующего белым». А с другой стороны: «Ну, как только будет перемена, мы расправимся с В<олошиным> в первую голову. Он еще поплатится за свой большевизм». Deux pays![94] Приятно родиться поэтом в России, приятно чувствовать сочувствие и поддержку в безымянных массах своих сограждан. С каждым разом этот вопрос становится более и более остро: кто меня повесит раньше: красные – за то, что я белый, или белые – за то, что я красный?»
Эти сведения у меня были от Ольги Андреевны Юнге, которая, принося мне кипяток, считала нужным развлекать меня разговорами. Она же мне рассказывала, что меня в Коктебеле считают все очень влиятельным членом Чека: «Он что угодно может сделать. Может кого угодно спасти от расстрела. Только очень дорого берет за это. Вот братьев Юнге{87} арестовали – он их через несколько дней освободил. Только они раньше богатые были. А теперь – нищие. А Волошин – видите, какой богатый теперь: иначе, как на собственном автомобиле, никуда не ездит». О том же, что сама Ол<ьга> Андр<еевна> отвечала моим доброжелателям, она молчала.
Потом в письме я продолжаю:
«Не знаю, как Вы, Алекс<андра> Мих<айловна>, свою <болезнь>, а я свою благословляю: право, более умно и толково провести лето в такой год, чем его провел я, было невозможно. Все провиденциально. И я убежден, что способность владеть ногами я обрету именно тогда, когда они мне понадобятся во что бы то ни стало».
Здесь, в комнатке Лампси, я узнал последние вести с севера: смерть Блока и расстрел Гумилева. В эти дни, в этой комнатке, я написал стихи их памяти и стихотворение «Готовность». Сперва это было одно большое стихотворение. Оно так и было списано у меня кем-то – потом появилось в берлинском б<елогвардейс>ком журнале{88}. Но я уже разделил <его> на 2 стих<отворения> окончательно.
Скоро я нашел силы добраться до Алекс<андры> Мих<айловны>. Она жила как раз на противоположном конце города. Но я, опираясь на две палки, уже без костылей, добрался до Алек<сандры> Мих<айловны>. Болезнь А. М. в это время очень прогрессировала. За ней ухаживала Ж. Г. Богаевская{89}. Ей трудно было с диетой: я ей предложил мой паек, что мне давали в Институте, где был тогда Нар<одный> университет, куда я был приглашен читать курс по истории культуры. И объявил курс о людоедстве. Он начинался со свифтова «Скромного предложения» – проект боен для ирландских детей{90}.
Однажды утром, когда я не видел А. М. дня 2–3, ко мне в санаторию пришел К. Ф.[95]
По его лицу, особенно мрачному, я понял, что случилось что-то недоброе. «Ты знаешь, что Ал<ександра> Мих<айловна> сегодня умерла… Да… утром. Фина была у нее в это время. Она была взволнована вестями о Слащеве{91}. И много говорила о нем. Пред этим заходила утром Нина Алекс<андровна>{92}. Они беседовали с большим жаром. Потом Н. А. ушла и пришла Фина. А. М. заговорила о Людвиге и о его матери{93}. Она очень хотела, чтоб его мать на первое время переселилась к ней, чтоб присмотреть за детьми (племянниками). Она сидела на постели в своем углу – между пианино и камином, опустив голову, и говорила про себя: «Марфа Ивановна… Марфа Ивановна… прекрасный человек… Марфа Ивановна… я ей приготовила ту комнату, где жила бабушка». Тут Фина заметила, что ей нехорошо. У нее остановился взгляд. Она сжала рот и закусила губу. Вероятно, чтобы не крикнуть. И в тот момент, вероятно, вода прорвалась снизу в голову. Лицо было очень напряжено, глаза почти вылезли из орбит, она <на>прягла все силы воли. А потом вода, очевидно, спала – и опять ее лицо приняло обычный вид. Она была мертва»{94}.
Мы оба тотчас поняли, что нам надо идти устраивать похороны. Это при большевиках было сложно и трудно. Но у меня уже был опыт: я недавно, недели за 2 пред этим, устраивал похороны m<ada>me Маркс, Аглаиды Валерьевны…{95} Сложно было устроить гроб, перенос, могилу и т. д. Все это было очень сложно. Но в Горсовете меня знали, и это было сравнительно упрощено. Лес для гроба нашелся у Богаевского. К нему же пришел плотник.
Вечером мы сидели в комнате А. М. – в гостиной. Собрался целый ряд людей – большею частью ее подруги и дамы, которые ее знали с детства. По лютеранскому обычаю (семья Дуранте) все сидели в ее комнате и в ее присутствии (она уже лежала на столе) вполголоса говорили о ней. Вспоминали ее. На другой день я зашел утром. Она лежала в гробу. И К. Ф. мне шепотом сказал: «Гроб пришлось заколотить. Ты знаешь – странная вещь: она за одну ночь успела совсем разложиться».
Мы молча шли за гробом до самого кладбища, и было странное чувство: мы говорили об этом на ходу с К. Ф.: «Как странно – она была только что совсем живая. Говорила страстно до последнего мгновения. Смерть буквально перехватила горло. А вот сегодня ее уж нет. Совсем нет. Физически нет – она сбросила тело, как плащ, изношенный вконец. Кот<орый> так обветшал, что не мог сам держаться на плечах. Изжила жизнь до конца. В этой быстроте разложения плоти есть нечто знаменательное и прекрасное». С этим чувством мы оба выходили с кладбища.
О Н. А. Марксе
[96]Генерала Никандра Александровича Маркса я узнал очень давно, как нашего близкого соседа по имению: он жил в Отузах, соседней долине{1}. Узнал я его первоначально через семью Нич. Вера была подругой его падчерицы – Оли Фредерикс и долго гостила у них в Тифлисе и проводила часть лета в Отузах – в Отрадном{2}. Так называлась дача Оли, построенная на берегу моря, в отличие от старого дома в Нижних Отузах в стороне шоссе, где был старый дом и подвал.
Н. А. по крови является старым крымским обитателем, и виноградники, которыми он владел в Отузах, принадлежали его роду еще до Екатерининского завоевания. По матери он происходил из греческой семьи Цырули, которая за сочувствие русскому завоеванию получила в дар ряд виноградников в Отузах, имеет там на вершине одного из холмов при выходе из деревни – родовые усыпальницы. Судьба Маркса была нормальная судьба человека, с юности поставленного на рельсы военной службы. После корпуса он попал в военное училище, а после – на службу Кавказского наместника, где прослужил мирно и успешно лет 30. Постепенно, в свои сроки, ему шли чины. В 1906 году он был уже в генеральских чинах{3}. Но здесь произошло очень важное отступление. В России веял либеральный ветер. Он коснулся и Маркса. Он в это время прочел Льва Толстого. Его затронул его протест против войны. Он ездил с Олей в Ясную Поляну, познакомился с ним лично, беседовал и вскоре покинул военную службу, а позже (в генеральских чинах) поступил вольнослушателем в университет{4}. Окончил его, защищал диссертацию и был приглашен на кафедру палеографии в Археологический институт, где читал курс в течение нескольких лет по древнему Русскому праву. В эпоху Первой Государственной Думы он примкнул к народным социалистам и фракции трудовиков. В эти годы характер жизни Марксов – они живут в Малом Власьевском пер<еулке> – меняется и получает характер литературного салона.
Н. А. записывает «легенды Крыма» и издает их выпусками. Первые выпуски иллюстрированы К. К. Арцеуловым{5}.
Я знаю, что у него бывали многие начинающие поэты того поколения, например Вера Звягинцева, которая мне об этом рассказывала в Коктебеле, много позже{6}.
Хотя Маркс был давно в отставке, однако во время войны 1914 года, как сравнительно молодой (для генерала) по возрасту, он был призван на службу. Но т. к. он был в это время по чину уже полный генерал, то ему был поручен ответственный пост начальника Штаба Южной Армии. Таким образом, центром его деятельности стала Одесса.
Революция застала его начальником Одесского военного округа. Он, как человек умный и не чуждый политике, вел себя с большим тактом и был, кажется, единственным, не допустившим беспорядков в 1917 г. в непосредственном тылу армии, а также предотвратившим в Одессе заранее все назревавшие еврейские погромы. На Государственном совещании в Москве он выступил против Быховских генералов – т. е. Деникина, Корнилова и пр., образовавших после ядро Добровольческой армии.
Но в военной среде было тогда уже недовольство Марксом за его излишний, как тогда считали, «демократизм». Но этот демократизм был вполне естественным крымским обычаем. Маркс подавал руки нижним чинам и всякого, кто ни приходил в его дом, гостеприимно звал в гостиную и предлагал чашку кофе. Это, вполне естественное в Крыму, гостеприимство и отношение к гостю вне каких бы то ни было социальных различий рассматривали в военной и офицерской среде как непристойное популярничанье и заискивание перед демократией.
Большевики докатились до Одессы только в декабре. До декабря весь 1917 год Маркс вел в Одессе очень мудрую и осторожную политику: виделся с лидерами всех партий и поддерживал порядок. В декабре он передал власть в руки коммунистов и уехал в Отузы, где мирно и тихо провел 1918 год, обрабатывая свои виноградники и занимаясь виноделием. В 1918 году я был у него несколько раз в Отузах с Т<ати>дой{7} и снова или, вернее, по-новому подружился с ним.
[97]На следующую осень в 1918 году я надумал поехать в Одессу читать лекции, надеясь заработать.
Ко мне присоединилась Татида, которая ехала в Одессу искать место бактериолога.
У меня были в Одессе Цетлины, которые меня звали к себе. Я заехал в Ялту, а оттуда в Севастополь и Симферополь.
Это меня задержало, и в Одессу я попал только в 1919 году.
Одесса и ее поэты: кружок Зеленой Лампы, Олеша, Багрицкий, Гроссман, Вен. Бабаджан{8}. Я читал лекции и выступал на литературных чтениях, иногда с бурным успехом. (Устная газета, Тэффи.) Одесса была переполнена добровольцами. Потом пришли григорьевцы. Эвакуация. Передача Одессы большевикам. Вечер вступления григорьевцев.
С момента отъезда из Одессы начинается моя романтическая авантюра по Крыму. Я выехал на шаланде рыбацкой с тремя матросами, которым меня поручил Немиц. Прежде всего не им мне, а мне им пришлось оказать важную услугу: море сторожил французский флот, и против Тендровой косы стоял сторожевой крейсер, и все суда, идущие из Одессы, останавливались миноносцами. Мы были остановлены: к нам на борт сошел французский офицер и спросил переводчика. Я выступил в качестве такового и рекомендовался «буржуем», бегущим из Одессы от большевиков.
Очень быстро мы столковались. Общие знакомые в Париже и т. д. Нас пропустили.
«А здорово вы, т<овари>щ Волошин, буржуя представляете», – сказали мне после обрадованные матросы, которые вовсе не ждали, что все сойдет так быстро и легко. Их отношение ко мне сразу переменилось{9}.
Через два дня мы подошли к крымским берегам. Мы должны были высадиться в гавани Ак-Мечеть{10} в [пропущ. – Сост.] и очень удобный заливчик в степном нагорно-плоском берегу, где можно было оставить судно до возвращения.
Плавая по морю, мы совершенно не знали, что за нами и что делается на берегу. Слышался грохот орудий, скакала кавалерия, но кто с кем и против кого были эти действия, мы не знали. Не знали и фр<анцузы>, которых я расспрашивал. В Ак-Мечети оказался отряд тарановцев, партизанский отряд бывших каторжников, пользовавшихся в Крыму грозной славой. Не зная, как и что на берегу, мы подошли без флага. Нас встретили пулеметами. Я сидел, сложив ноги крестом, и переводил Анри де Ренье. Это была завлекательная работа, которую я не оставлял во время пути. Мои матросы, перепуганные слишком частым и неприятным огнем пулеметов, пули которых скакали по палубе, по волнам кругом и дырявили парус, ответили малым загибом Петра Великого. Я мог воочию убедиться, насколько живое слово может быть сильнее машины: пулемет сразу поперхнулся и остановился. Это факт не единичный: сколько я слышал рассказов о том, как людям, которых вели на расстрел, удавалось «отругаться» от матросов и спасти себе этим жизнь. Нас перестали обстреливать, дали поднять красн<ый> флаг и, узнав, что мы из Одессы, приняли с распростертыми объятиями. На берегу моря стоял дом Воронцовых с выбитыми рамами, с развороченными комнатами, сорванными гардинами.
Нас прежде всего покормили, а потом в сумерках подали нам великолепную коляску (до Евпатории было 120 верст) и помчали нас через евпаторийский плоский п<олуостро>в по белым дорогам мимо разграбленных и опустелых мест. Иногда останавливались менять лошадей – и тогда мы попадали в обстановку деревенского хозяйства на несколько минут. И снова начинался ровный и однообразный бег крепких лошадей по лунным степям.
На рассвете показались крыши, купола и минареты Евпатории, а на рейде мачты кораблей, не могущих выйти в открытое море. Мы въехали в город. Сперва явились в прифронтовую Чрез<вычайную> Комиссию, где нам дали ордера на комнаты в хан. Это был типичный крымский постоялый двор – четырехугольник, окруженный круговым балконом, по которому шли номера. В одном номере поместились 3 наших матроса, а в соседнем – мы с Татидой.
[98]У матросов, как только мы приехали, началось капуанское «растление нравов». На столе появилось вино, хлеб, сало, гитара, гармоника, две барышни. «Товарищ Волошин, пожалуйте к нам». Было ясно, что они решили отпраздновать «благополучное завершение» опасного перехода. Ночью все успокоилось. И среди тишины раздался громкий резкий начальственный стук в дверь. Ответило невнятное мычание. «Отворите, товарищи. Стучит Прифронтовая Чрезвычайная Комиссия. Разве вы, товарищи, не знаете последнего приказа: в Крыму по случаю осадного положения запрещено спать с бабами». В ответ послышалось дикое и непокорное рычание.
– Мы сами служащие Одесского ЧК, и никакого такого приказа мы в Одессе не знаем.
Тем не менее 3 барышни были из номеров матросов извлечены и переведены в комнату ЧК, что и требовалось доказать. Снова все успокоилось.
На следующий день я отправился в город. Город не имел никаких сношений с остальным Крымом: морем нельзя было выйти из порта – на рейде сторожил франц<узский> флот. Железная дорога бездействовала – паровозов не было. Мне захотелось есть, и я зашел в один из еще не закрытых ресторанов. Там рядом с нами за соседним столиком сидела семья. Ее глава, толстый господин в усах и каскетке, так пристально приглядывался ко мне, что я обратил на них внимание. Дама, пожилая, полная, была прилично одета. Дети – мальчик и девочка – были вполне «дети хорошей семьи», с ними сидела сухопарая девица, имевшая вид гувернантки. Его самого я определил по виду, как «недорезанного буржуя». Он подозвал мальчика, что-то прошептал ему, и мальчик направился ко мне и спросил: «Скажите, вы не Максимилиан Волошин? Папа послал узнать».
Я подошел к соседнему столику. «Вы меня знаете? Где мы встречались?» – «А я был у вас в Коктебеле несколько лет назад. Я к вам заезжал из Судака по рекомендации Герцык. Мы с вами полночи просидели, беседуя в вашей мастерской. Вы мне показывали ваши рисунки. Я был тогда еще в почтовой форме». Мы с ним дружески побеседовали, но я так и не вспомнил его. Он попросил меня зайти к нему. На следующий день, бродя по городу, я встретил барышню, которая имела вид гувернантки. Я спросил ее о вчерашних знакомцах. «Они сейчас у себя». – «А где они живут?» – «Их вагон стоит на путях, возле вокзала». – «Почему же он живет в вагоне?» – «Он всегда в собственном вагоне». – «А, в собственном вагоне? Почему же он в собственном вагоне? Разве он сейчас какая-нибудь важная птица?» – «Как же, они командующий 13 армией». – «А как же его фамилия?» – «NN»{11}. Я сейчас же отправился на вокзал. Спросил вагон NN и полчаса спустя снова сидел у NN. Он меня сперва расспросил о моей судьбе. Я ему рассказал подробно об Одессе, о нашем путешествии, о матросах, о нашем затруднении выехать дальше… Он сказал тотчас же: «Я сию минуту телеграфирую Дыбенке{12}, чтобы от них прислали нам паровоз. И завтра сам отвезу вас до Симферополя. Будьте здесь на вокзале с матросами завтра в 4 часа».
Вернувшись в хан, я сказал матросам, как нам повезло и что завтра в 4 часа я их повезу дальше. Таким образом, роли наши переменились. Раньше они меня везли, а теперь я их. Уважению их и преданности не было конца. Это сказалось в отношении к моему багажу. До сих пор я сам, с трудом и напряжением, тащил мои чемоданы – теперь матросы сами наперебой хватали их и даже подралисm из-за того, кто понесет.
Я всегда с недоверием читал рассказ Светония{13} о Цезаре в плену у Тевтонов. Теперь я убедился, что Светоний нисколько не преувеличивал.
[99]Для матросов был прицеплен вагон (теплушка). Тогда теплушками назывались пустые товарные вагоны без лавок внутри. Мы с Татидой были приглашены в вагон командарма. Сперва мы довольно долго сидели в купе у барышни-секретаря, потом я был приглашен к командарму. Сперва была большая пауза. Затем он почувствовал необходимость поговорить по душам. «Вот вы знаете, товарищ Волошин, что земля делает каждое мгновение, крутясь вокруг солнца, 22 движения – и ни в одной космографии, почему? А я понял… Помню раз, когда я в Сибири был на дальнем севере, туземцы костер развели: они у огня грелись. Я присмотрелся и вижу: у них правильные планетарные движения получаются: с одной стороны – огонь, а с другой стороны – ледяной ветер. Я подумал – ведь в солнечной системе как раз та же констелляция – здесь солнце, а с др<угой> стороны междузвездная стужа, – 270 градусов – представляете себе, какой сквозняк! Вот она и вертится, бока себе обогревает – то одним краем, то другим. А у ней еще «ось вывихнута», представляете себе, как ей трудно? По-моему, пора землю от влияния солнца освободить. Что ж это, право: точно она в крепостной зависимости от солнца! Вот я решил землю освободить. Сперва мы ей ось выправим: ведь климаты имеют причиной главным образом искривление земной оси. А когда мы ей ось выпрямим, тогда на всей земле один ровный климат будет».
«А как же вы ей ось выпрямлять будете?»
«А у меня для этого система механических весел придумана по экватору. Они и будут грести, то с одной стороны, то с другой. Обо что грести? Вот как начнем грести, тогда и узнаем, в чем земля плавает.
А потом путешествовать поедем по всемирному пространству. Довольно нам в крепостной зависимости от солнца, точно лошадь на корде, по одному и тому же кругу бегать».
Так, в поучительной и интересной беседе мы скоротали путь до Симферополя и не заметили, как поезд дошел до станции.
Так как было уже поздно, то с вокзала никого из приехавших не пускали и пришлось ночевать тут же, в общей зале, на холодном каменном полу.
Перед тем как проститься, командарм дал мне карточку, на которой написал несколько слов и сказал:
«Вот этого товарища вы найдете в ГПУ, фамилия его – такая-то. Он вам даст и пропуск до Феодосии. А вам пропуск понадобится. Теперь там, верно, военные действия – так не пропустят».
В Симферополе я устроил Татиду у Кедровых{14}, а самого меня пустили ночевать к Семенкович{15}, где я останавливался до Одессы. М<ада>м Семенкович была когда-то приятельницей Чехова – они были соседями по северному имению Ч<ехо>ва, и в переписке его опубликован ряд писем Ан<тона> Павл<овича> к Семенковичам.
Здесь же я узнал вести, для меня неблагоприятные. Мне рассказали, что в симферопольском Исполкоме на какой-то ответственной должности теперь находится подруга т. Новицкого{16} т. Лаура, которая, услыхав о моем приезде, говорила: «Ну, если Волошин опять станет свои эстетические лекции читать, то ему головы не сносить»{17}.
Но читать лекции в Симферополе я не собирался, а спешил в Феодосию.
Зашел на другой день по рекомендации командарма в ГПУ и спросил товарища Ахтырского{18}. Так, по-моему, была его фамилия. Он отнесся ко мне очень хорошо и знал мое имя. И спросил у меня прежде всего: «Не хотите ли, я вам дам бумаги о том, что вы наш сотрудник?» Я ничего не знал тогда о ГПУ и наивно, на свое счастье, спросил: «А это не поставит меня в какие-нибудь неудобные обязательства по отношению к воинской повинности?»
– Да, это возложит на вас некоторые обязательства во время призыва.
Я тогда поспешил от этого отказаться, и он мне тогда просто выдал бумагу о проезде в Феодосию.
Значение этой бумаги я оценил во время пути. В Симферополе я нашел спутника, какого-то юриста, командированного из Феодосии по каким-то надобностям. Мы благополучно доехали до Карасу-Базара{19}. Тут нам предстояла перемена лошадей. Заведующий этим был очень занят и сказал: «Лошадей нет… Можете подождать до завтра».
Я молча покорился судьбе. Но вспомнил о бумаге от ГПУ и неуверенно достал ее из кармана. Но она произвела неожиданный эффект. Коменданта, когда он увидел эту печать, прямо передернуло. Он схватил со стола телефонную трубку и начал сразу в нее кричать: «Эй там! Давайте сюда лошадей, да получше!» И не успели мы спуститься из II этажа – лошади нас уже ждали внизу, и через несколько часов, еще до вечера, мы поднимались по крутой дороге, ведущей петлями в Топловский монастырь, откуда те же лошади доставили нас на следующее утро в Старый Крым. Здесь нам предстояла новая смена лошадей.
Здесь на улице я увидел художника Котю Астафьева{20}. Он меня окликнул и попросил пока слезть с телеги. Он сказал, что заведует охраной искусства, но пока дела идут неважно – из Феодосии не высылают нужных полномочий. В Шах-Мамае{21} Исполком соседнего села завладел картинами Айвазовского и не отдает ему, несмотря на его просьбы и требования. Я ему сказал: «Я думаю, это просто устроить: я еду в Феодосию, чтобы принять Отдел искусства, вот у меня командировка из Одессы. У меня сейчас нет печати, но я думаю, это возможно будет устроить. Где в Старом Крыму местный Исполком?» Исполком был напротив. Мы с Астафьевым зашли туда. Я сказал председателю: «Товарищ, вот в чем дело. Я назначен из Одессы заведовать в Феодосии Отделом искусства. У меня нет печати, а у вас здесь я обнаружил беспорядки. Мне сейчас надо написать бумагу в Исполком села такого-то, относительно картин Айвазовского. Может, вы мне скрепите их печатью своей?»
Когда я написал бумагу, очень внушительную, и она была беспрекословно скреплена, К. Астафьев мне сказал: «Я вас хочу познакомить со своей женой, она здесь напротив принимает книги».
Мы перешли улицу, и в небольшой комнате, заставленной связками книг реквизированной библиотеки, я был представлен Ольге Васильевне{22}>. Затем мы с Татидой уже сели на свою повозку, когда Котя А. остановил меня: «Да, я забыл вам сказать, что ваша библиотека, кажется, на днях разгромлена». Я очень спокойно начал его разубеждать и говорить: «Я знаю, что этого не было». Татида была очень удивлена моей уверенностью и спокойствием. «Но я уверен, что дома очень все благополучно».
[100]В доме, как я и ожидал, все было благополучно. И Т<атида> только удивлялась моей уверенности: «Но откуда ты знал? Знаешь, ведь это удивительно. И ты нисколько не сомневался».
В момент моего приезда я застал у себя в доме обыск. Какой-то очень грубый комендант города, молодой, усатый, бравый, жандармского типа, по фамилии, кажется, Грудачев{23}. Он уже отобрал себе мой левоциклет, на который давно уже метили местные велосипедисты. Но левоциклет был изогнут. Он стоял внизу под лестницей, и на него обычно падали всем телом: раз жена Кед<рова>, раз кухарка… А в Феодосии его нельзя было исправить, т. к. редкость его конструкции была так любопытна, что каждый велосипедный мастер начинал его прежде всего разбирать, а потом не умел собрать его без моих указаний. А для меня лично возиться с велосипедом было нож вострый, так что я в этот момент не очень стоял за него. Поэтому я не очень стоял за него и своих бумаг поэтому не показал. Напротив, когда заметил, что Грудачев остановился на сложном гимнастическом аппарате Сандова, то я ему предложил его взять на память, расхваливая его действия. Эта тактика очень поразила Татиду и Пра.
Через несколько дней мы отправились с Татидой в Феодосию. В сущности, я совсем не собирался ее брать в город. Я хотел все сам сперва устроить, а потом ее вызвать. Но она обнаружила немалое упорство, и мы отправились вместе. Я остановился у Богаевских. Когда я сказал, что у меня нет в городе никакого угла, он ответил: «Да поселяйся у нас во дворе: Дурандовский дом совершенно пустой. Только не забудь, что по вечерам нельзя никакого света зажигать».
Мы с Татидой поселились в двух смежных комнатах и пребывали там по вечерам, поставив затененную лампу под стол, чтобы не сквозило в ставни ни одного скользящего луча. Вообще это запрещение зажигать свет в комнатах – английский флот стоял на виду, против Дал<ьних> Камышей – создавало в городе панику.
В дома, где замечали огонь, врывались ночью солдаты, производили скандалы, иногда избиения… Рассказывали, что Величко был избит в порту, когда зажег зажигалку, чтобы закурить.
На следующ<ий> день мы с К. Ф. пошли в Отдел искусства, которым заведовали Н. А. Маркс и Вересаев{24}. Заведовали очень хорошо. Во всем был порядок, субординация и нормальные формы парламентаризма. Помещение было в одном из домов Крыма на набережной, где потом была санатория. Большевики в этот (второй) свой приход в Крым держали себя по-военному, по-граждански очень корректно. Сравнительно с добровольцами, которые перед отходом расстреляли всех заключенных в тюрьмах без разбора.
Особенно в это время отличился сводно-гвардейский отряд. Советские же войска отличались выдержкой, лояльностью и на этот раз классовых врагов не истребляли. Правда, «контрибуция» шла, но это все было жестоко по бесправию.
Белые, отступая, остановились, укрепясь в Керчи, под защитой англ<ийского> флота.
В Керчи (об ней мы пока знали очень мало) шла своя история: усмирение восстания в каменоломнях. Тогда было повешено 3 тысячи человек на бульварах и на улицах. Но свидетелем этих зверств мне пришлось стать только месяц спустя.
Пока же я примкнул или, вернее, сделал попытку примкнуть к Отделу искусства. Но это мне не удалось. Выяснилось, что в Феодосии уже в Отделе иск<усств> работает Касторский{25} – певец, которого я давно знал по Парижу, как члена вокального квартета Кедровых. Я ему предложил полюбовно поделить между нами искусство: ему оставить театр, а мне взять изобразительные искусства. Но Касторский не был доволен этим разделением власти. Я получил как-то приглашение в Исполком. Он помещался в спальне Лампси. Я имел счастье познакомиться с Искандером и т. Ракком, которые были грозой тогдашних дней, как главные «реквизирующие»{26}.
Искандер начал разговор о моей статье – «Вся власть патриарху»{27}, которая ему как-то попалась в руки, и спросил меня, продолжаю ли я думать так же? Я почувствовал подвох и ответил: «Нет, тогда был такой момент, и я это думал в связи с господством белых на юге России и в связи с историческими традициями Древней Руси, на которые в то время было принято ссылаться. А статья в сущности была направлена против генералов, как Деникин и Колчак, которые очень настаивали на законности своих прав. Она и была в этом смысле в свое время понята моими читателями».
Через несколько дней Касторский, торжествующий, явился в Отдел искусства с телеграммой из Одессы: «Назначение Волошина рассматривать как недоразумение». Представляю, что про меня писалось и результатом каких сплетен явилась эта краткая формула.
Остальное время в Феодосии я провел в текущих делах и стал собираться в Коктебель, когда узнал, что туда проехал мой евпаторийский командарм – Кожевников. Но мы их уже не застали, а встретили на шоссе около Насыпкоя{28}, уезжающими. А мама рассказала, что они приехали нежданно-негаданно и очень ждали меня. Затем прошло еще несколько дней, пришел белый десант{29}. Помню, что накануне рассказывали, что к берегу подходил белый миноносец. Поймали какого-то молодого человека и передали ему письмо. Письмо для кого и откуда – никто не знал, потому что юношу сейчас же арестовали. Вечером я сидел у себя наверху в мастерской и услыхал внизу солдатские голоса, упрекающие маму, что она держит огонь открытым на море, и протестующий мамин голос: «Да вода была чистая. Я просто в темноте не видела, есть ли кто внизу».
Она кого-то облила, выливая помои с балкона. На следующий день я проснулся рано, потому что собирался в Юнг<овскую> экономию перевезти к себе книги, т. к. давно уже уговаривал Сашу{30} перевезти их ко мне, чтобы спасти от реквизиции.
Но прежде, чем я дождался лошадей, с моря раздался выстрел: белые пришли и обстреливали берег. Кроме добровольческого крейсера, было еще 2 малых англ<ийских> миноносца, которые обстреливали берег, и дощатая баржа с чеченцами. Баржа подошла к берегу за Павловыми. На холме за их домом силуэтились пушки и бегали люди.
Коктебель был никак не защищен, но 6 человек кордонной стражи из 6 винтовок обстреляли английский флот. Это было совсем бессмысленно и неожиданно. Крейсер сейчас же ответил тяжелыми снарядами… Они были направлены в домик Синопли, из-за которого стреляли. «Бубны» разлетелись в осколки{31}.
Осмотрев все кругом, я понял, что делать нечего, бежать некуда, прятаться негде. И будет привлекать внимание обстреливающих только какая-нибудь тревога в их поле зрения. Поэтому я попросил не делать никаких движений, видимых снаружи: не запирать ни дверей, ни ставень, ни окон. Кроме своих, т. е. меня, мамы и Татиды, в доме был только один пожилой инженер, друг семьи Н. И. Бутковской{32}, приехавший, чтобы дождаться прихода белых в Крыму. Словом, все кто был, ждали именно этого события. Я же, все устроив, сел за обычную литературную работу, продолжая переводить А. де Ренье, – перевод, которым я занимался весь путь из Одессы. Мне как раз надо было перевести стихотворение «Пленный принц». Меня опять пленял его размер, и у меня была идея, как передать его по-русски. Но стих все не давался, было трудно. А здесь (просто ли я был возбужден и взволнован?) мне он дался необычайно легко и быстро, так что у меня стихотворение было уже написано, когда мне сказали, что внизу меня спрашивают офицеры. Я их просил подняться ко мне наверх в кабинет.
– Ну как вам жилось при Советской власти? Неужели мы вас обстреляли?
– Вот, – я показал тетрадь с необсохшими еще чернилами, – вот моя работа во время бомбардировки. А жертва обстрела, кажется, только одна: пятидневный котенок, который убит, один из шести братьев, которые сосали мать во время обстрела.
Так, 12 пудов стали и свинца понадобилось, чтобы убить это малое существо.
[101]Через несколько времени я увидел группу деревенских большевиков и среди них Гаврилу Стамова{33}, вылезших робко из-за забора на пляж и размахивавших чем-то белым. Я подошел к Гавр<иле> и спросил: «Что вы делаете?»
– Да вот желательно с белыми в переговоры вступить.
– А что вы от них хотите?
– Да вот, чтобы дали рыбакам сети убрать. Да чтобы не стреляли по убирающим сено в горах. А то, как увидят скопление народа, сейчас же палят.
Я предложил свои услуги в качестве парламентера. Они обрадовались. Дали лодку. Я навязал на тросточку носовой платок – белый флаг и поехал на крейсер. Крейсер («Кагул») был мне хорошо знаком. Зимой на нем были пневматические машины и он накачивал воздух в «Марию» – дредноут, потопленный взрывом в самом начале гражданской войны, – по способу Санденснера{34}. Я был знаком с Санденснером и бывал у него на «Кагуле», так что был знаком со всей кают-компанией «Калуга», т. е. со всем офицерством. А старшего офицера с «Кагула», в то время сапожника, знал хорошо, т. к. давал ему ремонтировать мои башмаки в Севастополе.
Когда мы огибали «Кагул» (среди Коктебельского залива он вблизи был громадиной), нам дали знак, что сходня спущена с левого борта (так встречают почетных гостей). Взобравшись по крутой лестнице, я снял шляпу, вступая на палубу, и был сейчас же проведен, как парламентер, к командиру судна. Он принял меня с глазу на глаз в своем кабинете. И ответил кратко на все вопросы, что я ему задал – можно ли снимать сети? косить сено? – благоприятно и утвердительно. Потом сказал: «Вас офицеры ждут в кают-компании»… Я прошел туда и увидел массу знакомых лиц.
– Как поживаете? Что нового написали за это время?
Я отвечал на вопросы и читал новые стихи. Этим не кончилось, потому что меня потом повели в матросскую рубку, потом в госпиталь – везде были люди, меня хорошо знающие и очень заинтересованные моим появлением.
В Добровольческом флоте в то время команды были набраны почти сплошь из учащейся молодежи. Так что я увидел за полчаса большую часть моих слушателей из Симферопольского университета и многих участников моих бесед, когда мне задавали вопросы, а я отвечал. Это были очень интересные беседы. Очень интересные по составу слушателей и по парадоксальности моих ответов.
Мой знакомый башмачник оказался заведующим обстрелом Ст<арого> Крыма (он был старший офицер). Он пришел ко мне с картой Ст<арого> Крыма и, развернув ее, спросил: «А что здесь?» – показав на малый промежуток, отделяющий Болгарщину от Ст<арого> Крыма.
– Здесь? Не помню, что именно. Пустыри.
– Это место приказано обстреливать…
Много месяцев спустя, вернувшись из Екатеринодара в Феодосию и встретив Наташу В.{35}, я у нее спросил: «Какое было в Ст<аром> Крыму впечатление обстрела?».
– Совершенно поразительно<е>. Мы никак не могли понять, откуда в нас стреляют. Что из Коктебеля – узнали через несколько дней. Это ведь недалеко от нашей дачи. Сперва было непонятно, куда метят. Положивши ряд снарядов вокруг Штаба, последний снаряд положили в самый Штаб. Изумительная меткость!
Одна из форм современной войны. Надо еще принять в соображение, что между Коктебелем и Ст<арым> Крымом проходит довольно внушительный хребет – Арматлук.
Я спокойно сидел в Коктебеле, когда от Екатерины Владимировны Вигонд – жены Маркса{36} – пришла записка: «Милый Макс, приходите – Ваше присутствие необходимо. Ник<андр> Алекс<андрович> арестован, и ему грозит серьезная неприятность»{37}.
Я в тот же день пошел в Феодосию (через Двуякорную).
Придя, я узнал, что Маркс арестован на другой день после прихода белых. Он знал, что красные уйдут, но наивно считая, что им никаких преступлений в качестве заведующего Отделом Народного Образования не совершено, решил остаться. И военные власти не обратили сначала никакого внимания на его присутствие в городе. Но когда вернулись озлобленные буржуи из недалекой эмиграции (Керчь, Батум), начались доносы и запросы: «А почему генерал Маркс, служивший у большевиков, гуляет в городе по улицам на свободе?» Его арестовали. Сначала арест не имел серьезного характера. Но в течение нескольких дней клубок начал наматываться и запутываться. Сперва его посадили в один из [пропущено. – Сост.] произошел такой инцидент: к нему в номер ворвался офицер, служивший при красных, спасаясь от пьяного и разъяренного казацкого есаула. Когда Маркс инстинктивным жестом отстранил есаула, тот накинулся на него и схватил за грудь, очевидно ища оружия, ощутил что-то твердое. Это была икона – материнское благословение. С есаулом произошла мгновенная реакция. Он мгновенно стих и начал креститься и целовать икону.
Но вчера Екатерина Владимировна была случайно свидетельницей того, как комендант города приказывал отрядить 6 надежных солдат, чтобы отправить Маркса в Керчь. Это сразу делало дело серьезным и опасным. Нужно было ехать с Марксом, чтобы моим присутствием предотвратить возможный бессудный расстрел по дороге.
На следующее утро я был у начальника контрразведки. Был принят сейчас же.
– Скажите, кто это Вересаев? Его фамилия Смидович?
– Да, его литературное имя Вересаев, автор «Записок врача». Вы, верно, думаете – известный большевик Смидович{38}? Это его двоюродный брат и родной брат его жены. А больше никакого отношения к нему он не имеет.
– И вы можете мне поручиться, что этот Вересаев-Смидович – писатель?
– Конечно.
– Тогда передайте ему, пожалуйста, я вчера с него взял подписку, что он никуда из города не выедет, что он совершенно свободен. У него, кажется, здесь где-то под городом есть имение?
– Да, в Коктебеле. Он мой сосед.
Потом я в тот же день был у коменданта. Он был только что назначен, и до него добраться было мудрено: в коридоре «Астории» против его номера стояли в ожидании десятки людей. Легальным путем – через хвост, к нему не проникнуть. Со мной поздоровался один из солдат, стоявший у его кабинета. Оказалось – один из местных гимназистов, знавший меня. Я ему объяснил спешную необходимость видеть коменданта.
– Хорошо, я вас проведу в другую дверь.
* * *
– Маркс? Этот негодяй? Изменник?..
– Простите, полковник, я совсем иного мнения…
– Но теперь положение в России просто: есть красные, есть белые! Одно из двух, что он за белых или за красных? Середины быть не может.
– Сейчас идет война, и она еще не кончена. Это еще более важное в мире, чем наши русские междоусобные распри. Белые за Францию, большевики за Германию. И, в конце концов, сводится к тому, кто за Германию, кто за Францию.
– Да, у нас есть несомненные доказательства тому, что Германия доставляла амуницию красным.
– Вот видите, полковник, как это сложно. Кто же изменник – те, кто стоит за немцев, <или те> кто за французов?.. Но простите, мы уклонились от темы: могу ли я получить от вас двойной пропуск в Керчь для меня и дамы, Екатерины Влад<имировны> Вигонд – это жена Маркса?
– Эй, там… Напишите г-ну Волошину пропуск в Керчь. Но как вы туда попадете?
[102]Мне легко удалось устроить себе проезд в Керчь. Я встретил, выходя из «Астории», Алекс<андра> Алекс<андровича> Новинского{39}, моего приятеля – начальника порта, который только что вернулся из эмиграции и сам ехал куда-то назад на Кавказск<ое> побережье. От него я узнал, что завтра в полдень идет из Феодосии поезд, с которым повезут Маркса в Керчь. Мы с Екатериной Владимировной погрузились в поезд, в товарный вагон. Рядом с нами был такой же вагон (теплушка так называемая), в которой ехал Маркс с несколькими солдатами – стражею.
Поезд не отходил довольно долго. Кое-кто из города заходил к нам прощаться. Зашел Коля Нич. Я ему поручил поговорить с кем-нибудь из адвокатов, а его попросил собрать и свидетелей недавней деятельности Маркса, как начальника Отдела Нар<одного> Образования. Собрать письменные свидетельства о деятельности Маркса, заверить у нотариуса и послать заказным на мое имя в Екатеринодар, где был тогда Команд<ующий> Добров<ольческой> армией. Поезд двинулся с опозданием 5–6 часов и затем на всех полустанках керченского пути, которых было так много, останавливался по 6 часов, а во Владиславовке пробыл 12 часов. Это был п е р в ы й воинский поезд, который шел через линии только что взятых с бою позиций. Везде были следы бомбардировок и атак: воронки, разорванная проволока, выломленные двери.
Вся публика, что ехала с нами в теплушке, – это были солдаты, которые ехали принять участие в боях, которые еще шли на станциях в сторону Джанкоя, и среди них немного офицеров. Солдатская стража, которая была приставлена к Марксу, уже давно была на его стороне. А были опасны вмешательства со стороны: когда поезд часами стоял на полустанке, а скучающая и ожидающая публика бродила сонными мухами, то все рано или поздно останавливались против теплушки, где находился Маркс со своими стражами. И кто-нибудь спрашивал: «А кого это везут арестованным? А! Это генерал Маркс – большевистский главнокомандующий? Известный изменник! А ну-ка посторонись, братец (к солдату), я его сам пристрелю». И начинал расстегивать кобуру. Тогда наступала моя очередь. Я подходил к офицеру и начинал разговор. «Простите, г-н офицер. Вам в точности известно, в чем заключается дело генерала Маркса? И в чем он обвиняется? Видите, я Максимилиан Волошин – и еду вслед за ним, чтобы быть защитником на военном суде и чтобы не допустить по дороге расстрела без суда». Офицеры оказывались обычно сговорчивыми и говорили: «Ну, здесь на фронте вы его легко провезете. Здесь народ сговорчивый. А вот в Керчи – там всем заведует ротмистр Стеценко, это такой негодяй. Он Маркса не пропустит!» Имя ротмистра Стеценко повторилось несколько раз и врезалось в память, как самый опасный пункт дальнейшего плавания.
Между тем Марксу удалось написать несколько записок и передать их Ек<атерине> Владим<ировне> через преданных уже ему стражей. Сперва солдаты относились к нему с пренебрежением, как к человеку уже конченному. Один у него выпрашивал золотые часы: «Знаете – подарите их мне: ведь все равно вас часа через два расстреляют. На что же их вам?» Этот же самый солдат через два дня в Керчи, когда сменяли стражу, мне говорил взволнованным голосом: «Ну, если они такого человека расстреляют, то правды нет. Тогда только к большевикам переходить остается».
После 36 часов пути мы одолели 100 верст и под вечер приехали в Керчь.
Тут Маркса отделили от нас, посадили на линейку и увезли в город. Я же закинул на плечи чемоданчик Екатерины Влад<имировны> и пошел с ней в город.
У нас была одна мысль. Нам Маркс написал в первой же записке: «В Керчи идите прямо к Месаксуди»{40}. Месаксуди был один из керченских богачей, много помогавших Добровол<ьческой> армии. В германскую войну он, будучи в солдатах, встретился с Марксом. Маркс его определил в свою канцелярию. Устроил жить у себя в квартире. Месаксуди был ему обязан жизнью и всегда его звал в Керчь и говорил ему и Ек<атерине> Влад<имировне>: «Если попадете в Керчь, милости просим ко мне в дом». К нему мы и отправились прямо с вокзала.
Дом его был в самом шикарном месте – на Приморском бульваре, где только что на деревьях вешали большевиков, захваченных в каменоломнях. Все мои надежды были на Месаксуди. Я думал: «Ну вот, передам Маркса Месаксуди – он все сделает».
Месаксуди был дома – у него были гости-офицеры – он, возможно, слыхал, что Ек<атерина> Влад<имировна> едет, и нас не принял. Стилизованный и англизированный лакей нам объявил, что барин занят сейчас гостями и принять нас не может.
Ошеломленные, обескураженные, мы остались на улице перед крыльцом дома. Тут же я прочел объявление, что по случаю осадного положения движение по городу разрешается только до 10½ часов, а позже этого времени встреченные на улице без пропуска коменданта расстреливаются на месте.
Так как по часам было уже позже 10½, хотя только что начинались сумерки, я понял, что первое нам необходимо – это искать ночлега, прекрасно понимая, что сейчас в Керчи, где столпился весь бежавший Крым, это очень трудно.
Я попросил часового, стоявшего на часах рядом с подъездом, позволить с ним постоять Екатерине Владимировне, пока я не вернусь, и пошел в гостиницу, которую помнил здесь за углом, хотя надежды устроиться там у меня почти не было.
Но ясно помню ход моих мыслей в это мгновение: Месаксуди струсил – боится скомпрометировать себя об Маркса. Маркс остается всецело на моих руках. Значит, я его должен спасти без посторонней помощи. Но я ничего не знаю о военной дисциплине, о воинских порядках. Я даже не знаю, в чьих руках сейчас судьба Маркса и кого я должен прежде всего видеть и с кем говорить. Я не знаю, что я буду делать, что мне удастся сделать, но я прошу судьбу меня поставить лицом с тем, от кого зависит судьба Маркса, и даю себе слово, что только тогда вернусь домой в свой Коктебель, когда мне удастся провести его сквозь все опасности и освободить его.
[103]В этот момент меня окликнул часовой: «Ваш пропуск!»
– Я приезжий, я только что с вокзала.
– Вы арестованы. Идите за мной.
Мне было решительно все равно, каким путем идти навстречу судьбе. Мы вошли в соседнее здание – к коменданту города. В большой полутемной комнате сидело в разных углах несколько офицеров.
– А, г-н Волошин… Какими путями вы здесь? Что это за солдат с вами?
– Да я, по-видимому, арестован, это мой страж…
– Вы свободны. Иди себе. Его здесь все знают…
Это был полузнакомый офицер. Мы его звали летом «Муж развратницы». Это имя создалось оттого, что его жена, полная и нелепая блондинка, кому-то громко и несколько рисуясь говорила: «Ах, вы знаете, я такая развратница».
– Да, но я выйду на улицу – мне надо найти сейчас ночлег, – и меня следующий городовой на соседнем углу арестует…
– Хотите переночевать у меня? – предложил следующий офицер на костылях. – У меня есть как раз свободная комната.
– Спасибо. Но дело несколько сложнее: я с дамой. Она ждет меня на углу: я ее оставил у часового и просил его посторожить ее, пока я не вернусь и узнаю что-нибудь относительно ночлега.
– Так мы. вот что сделаем: даму мы положим в отдельную комнату, а сами мы переночуем вместе – у меня как раз в комнате канапе стоит… Погодите. Я возьму у коменданта два пропуска для вас, а сами вы идите с дамой ко мне. Я буду вас уже ждать. Вот мой адрес. Это далеко – на другом краю города! До свидания.
Я вернулся к Екатерине Влад<имировне> и нашел ее в том же месте против крыльца Месаксуди. Я рассказал ей в двух словах все, что со мной было, и мы пошли по ночным уже улицам Керчи.
Через ½ часа мы были уже у назначенного нам адреса. По дороге нас раз пять останавливали пикеты. Я показывал пропуска. Нас пропускали.
Раненый офицер был уже дома. Мы уложили Ек<атери>ну Влад<имировну> в отдельную маленькую комнату, очевидно, днем темную, т. к. окна там не было, но стояла большая кровать. Ек<атерина> Влад<имировна> как легла – в тот же миг заснула. Очевидно, 36 часов в теплушке на полу и без сна сказались. Я остался вдвоем с офицером. Помог ему лечь, перебинтовать ногу. Сам сел на канапе.
– Позвольте же мне вам рекомендоваться и узнать, чьим гостеприимством я имею честь пользоваться?
– Начальник местной контрразведки – ротмистр Стеценко… Ваше имя мне знакомо – вы поэт Волошин из Коктебеля?
– Да, но знаете ли вы, кто та дама, что спит под вашим кровом в соседней комнате?
– ?!!?
– Это жена генерала Маркса, обвиняющегося в государственной измене и сегодня препровожденного в ваше распоряжение. А я являюсь его защитником и сопровождаю его с целью не допустить до его бессудного расстрела и довезти его до Екатеринодара и там представить перед лицом военно-полевого суда…
– Да… Действительно… Но знаете, с подобными господами у нас расправа короткая: пуля в затылок, и кончено…
Он так резко и холодно это сказал, что я ничего не возразил ему, и кроме того уже знал, что в подобных случаях нет ничего более худшего, чем разговор, который сейчас же перейдет в спор, и собеседник в споре сейчас же найдет массу неопровержимых доводов в свою пользу, что, в сущности, ему и необходимо. Поэтому я и не стал ему возражать, но сейчас же сосредоточился в молитве за него. Это был мой старый, испытанный и безошибочный прием с большевиками.
Не нужно, чтобы оппонент знал, что молитва направлена за него: не все молитвы доходят потому только, что не всегда тот, кто молится, знает за что и о чем надо молиться. Молятся обычно за того, кому грозит расстрел. И это неверно: молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни. Потому что из двух персонажей – убийцы и жертвы – в наибольшей опасности (моральной) находится именно палач, а совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палачей – и в результатах молитвы можно не сомневаться.
Так было и теперь. Я предоставил ротмистру Стеценко говорить жестокие и кровожадные слова до тех пор, пока в нем самом под влиянием моей незримой, но очень напряженной молитвы не началась внутренняя реакция, и он сказал: «Если вы хотите его спасти, то прежде всего вы не должны допускать, чтобы он попал в мои руки. Сейчас он сидит у коменданта. И это счастье, потому что, если бы он попал ко мне, то мои молодцы с ним тотчас расправились бы, не дождавшись меня. А теперь у вас есть большой козырь: я сегодня получил тайное распоряжение от начальника судной части генерала Ронжина{41} о том, чтобы всех генералов и адмиралов, взятых в плен, над которыми тяготеет обвинение в том, что они служили у большевиков, немедленно препровождать на суд в ставку в Екатеринодар. Поэтому завтра с утра напомните мне, чтобы я протелефонировал к себе в контрразведку, а сами поезжайте к генералу такому-то, чтобы он переправил Маркса в Екатеринодар на основании приказа ген<ерала> Ронжина… Вот возьмите выписку об этом приказе – его еще не знают в городе».
Мы заснули… А на следующее утро все пошло как по маслу, как мне накануне продиктовал начальник контрразведки.
Через два дня у пристани в порту стоял транспорт «Мечта» – очень высокий (нагруженный), и на самом верху сходни стоял человек с высоким лбом, круглым подбородком, лицом военного типа и говоривший отрывочным резким голосом: «Ну, подобных господ надо расстреливать без суда, тут же на месте». Слова, несомненно, относились к ген. Марксу. «Кто это?» – спросил я. – «Это Пуришкевич – член Гос<ударственной> Думы{42}», – ответил спрошенный.
Так я взошел на военный транспорт. Вечером, когда транспорт был уже в пути, ко мне подошел офицер и рекомендовался пом<ощником> командира транспорта и сказал: «Г-н Волошин, не согласитесь ли вы принять участие в литературн<ом> вечере, который сегодня предполагается в кают-компании? У нас на борту находится редкий гость – Владимир Митрофанович Пуришкевич, он обещал сказать нам речь о положении в России в настоящую минуту».
– Но только познакомьте меня предварительно с Пуришкевичем.
Он нас сейчас же представил друг другу, и я попросил у Пуришкевича позволения читать стихи раньше его речи, на что он с большой готовностью согласился.
Палубу обтянули парусами и таким образом сделали защищенной – так, что для чтения и для речей было очень уютное и замкнутое пространство. Я прочел всю серию моих последних стихов о Революции. Среди них цикл «Личины» («Матрос», «Красногвардеец», «Русская Революция» и т. д.). Пуришкевич пришел в полный восторг и говорил: «Вы пишете такие стихи! И сидите где-то у себя в Коктебеле? И их никто не знает? Да эти стихи надо было бы в миллионах экземплярах по всей России распространить… Да знаете, вот эти добровольческие «Осваги» – их надо было бы все позакрывать. А вместо них издать книжку ваших стихов – вот наша сила».
Любопытно, что в это самое время на другом полюсе, в Москве, полярный Пуришкевичу человек [пропущено. – Сост.]{43} писал про эти же мои стихи: «Вот самые лучшие, несмотря на контрреволюционную форму, стихи о русской Революции». Этим совпадением мнений Пуришкевича и [пропущено. – Сост.] я горжусь больше всех достижений в русской поэзии: в момент высшего напряжения гражданской войны, когда вся Россия не могла столковаться ни в чем, найти такие слова, которые одинаково затрагивали и белых, и красных, и именно в определении сущности русской революции. Тогда становится совершенно понятным, каким образом в Одессе и белые и красные начинали свои первые прокламации к народу при занятии Одессы цитатами из моих стихов.
После чтения ко мне подошел командир транспорта.
После окончания чтения я чувствовал себя героем вечера. Ко мне подошел командир транспорта:
– Вы, наверное, не имеете у нас, где поспать. Я свою каюту уже уступил Влад<имиру> Митрофановичу. Но там есть еще кушетка. Если вы ничего не имеете против, то я буду очень рад предложить воспользоваться ею.
Я, конечно, только обрадовался, получив на эту ночь Пуришкевича в полное свое распоряжение. Мы с ним проговорили если не всю ночь, то по крайней мере полночи.
Меня очень интересовали его взгляды:
– Я знаю, Вл<адимир> Митр<офанович>, что вы были постоянно монархистом. Но теперь – в настоящую минуту – (июль 1919) неужели вы настаиваете на возвращении к власти династии Романовых?
– Нет, только не эта скверная немецкая династия, которая давно уже потеряла всякие права на престол.
– Но кто же тогда?
– В России сохранилось достаточно потомков Рюрика, которые сохранили моральную чистоту рода гораздо более, чем Романовы. Хотя бы Шереметьевы!
Он не назвал только, кого из Шереметьевых он имел в виду.
На след<ующее> утро мы были в Новороссийске. Вся гавань была полная французскими и английскими военными судами, сплошь покрытыми флагами, – флот праздновал заключение мира с Германией. Я так далеко за эти годы отошел от военных настроений, что понял, но не почувствовал этого события, которое для меня столько лет было целью всех мечтаний и ожиданий, но я был в наст<оящую> минуту слишком занят текущим…
Я шел вдоль главной улицы Новороссийска по Серебряковской, и мне кто-то сказал: «А как же вы доберетесь до Екатеринодара? Туда ведь с большим трудом впускают и официальная процедура очень длинна и канительна?»
В это время я поднял глаза и взгляд мой упал на дощечку: «Комендант города». Я прекрасно понимал, что разрешение въезда в Екатеринодар зависит вовсе не от этого коменданта – а от железнодорожного. И чтобы увидеть его, надо ехать на вокзал, отстоящий от города версты три. Но у меня за эти дни создалась привычка объяснения с комендантами. Поэтому я завернул в комендатуру и вызвал адъютанта. Я был уже настолько опытен, что знал эти приемы. Ко мне вышел молодой офицер и сказал: «Час приема уже кончился. Комендант занят и сегодня никого ни по каким делам не принимает».
– Я прошу вас только доложить ему мое имя; скажите, что с ним хочет говорить поэт Максимилиан Волошин.
Через несколько минут офицер вернулся торопливым шагом: «Г-н комендант просит вас к себе». По его лицу и интонации я понял, что коменданту почему-то очень важно видеть меня. Может быть, гораздо важнее, чем мне его. В полутемной комнате я увидел пожилого полковника, который сделал несколько шагов мне навстречу. Лицо его было мне совершенно незнакомо.
– Вы поэт Волошин? Вы меня совсем не знаете. Но три месяца назад мы жили на одной улице. Вы жили тогда на Нежинской улице, дом номер 36. Я уехал из Одессы с эвакуацией французов. А семья осталась. Ради Бога – расскажите, что там творилось после. Я знаю, что вы оставались в Одессе после отхода добровольцев.
Я ему рассказал вкратце об одесских событиях, потом, что на Нежинской все было сравнительно тихо. Квартир не реквизировали, арестов не было…
Затем я изложил ему мою просьбу о двойном пропуске в Екатеринодар. И он был тут же написан.
Так мы путешествовали с Ек<атериной> Влад<имировной>, не отставая от арестованного Маркса. До сих пор моя задача заключалась только в этом: в способах доставать пропуск для нас обоих. Казалось часто, что события так сгрудились, что дальше нам прохода нет. Но я был настойчив и часто каким-то сновидением угадывал, куда ведет наша дорога. Все наше путешествие было рядом непрерывных счастливых случайностей. И я всегда угадывал нужные события верно.
В Екатеринодаре все пошло по-иному. До сих пор это было путешествие через неостывшие поля сражений.
Екатеринодар была маленькая казацкая станица, по случайностям гражданской войны принявшая в себя весь старый Петербург с его департаментами, чиновниками, генералитетом и т. д.
Все жили и толпились тесно и торопливо. Каждую минуту встречались люди самых разнообразных сфер и областей жизни.
Прежде всего я начал обход всех добровольческих генералов. Мой общий вид, в котором я попал в эти странствия, – длинная белая рубашка, волосы, перевязанные ремешком, сандалии на деревянной подошве, как тогда все носили у добровольцев, – все это среди чинных и единообразных рядов армии и канцелярий производило впечатление ошеломляющее. И это не было мне невыгодно: меня не заставляли безнадежно ожидать в генеральских приемных. Я обошел всех деникинских генералов, начиная с Лукомского, Драгомирова, Романовского{44} и кончая Ронжиным. С ним я виделся не однажды, а довольно часто и регулярно. Он был начальником Судной части, и дело Маркса шло через его руки.
Мой день проходил в Екатеринодаре обычно – все утро в присутственных местах, канцеляриях и по генералам.
Из своих старых друзей я нашел здесь Лилю (Черубину) и Лемана{45}. Леман меня познакомил с геор<гиевским> генералом Верховским{46}, который и приютил меня в своей комнате, в каком-то военном общежитии, где жило много военных. Генерал был немного потерянный, одинокий, без присмотра, любивший выпить и для этого державший на солнце на подоконниках целые серии крепких и слабых настоек на горных и южных кавказских травах. Из более поздних екатеринодарских знакомых мне помнится министр гражданской юстиции – не помню его фамилии.
Не удалось мне совсем познакомиться с генералом Деникиным. Одну ночь мы провели в очень увлекательной беседе с м<исте>ром Гарольдом Вильямсом – мужем А. Н. Тырковой{47}, моим старым знакомым по Петербургу и по писательским кругам. Он говорил с увлечением и иронией о современных событиях в Европе и о гражданской войне в России. В разговоре с ним мы пили и выпили неумеренно несколько бутылок кавказского вина. У меня оно разразилось сильнейшим расстройством желудка, так что мне пришлось много раз бегать в туалет. Но все прошло так же быстро, как и началось.
Чтобы повидаться и получить аудиенцию у Деникина, я рассчитывал на Шульгина{48}. Но его в Екатеринодаре не было – он куда-то уехал с морской экспедицией. Проф<ессора> Новгородцева{49}, на которого я тоже рассчитывал, тоже не было на месте. Так что все мои лестницы для подъема к вершине власти оказались отсутствующими.
Судьба Маркса была такова: в первый вечер прибытия в Екатеринодар его поместили в какой-то, в обычное время, прекрасной гостинице, теперь отведенной под арестованных. Она была переполнена, и ему пришлось поместиться в каком-то коридоре. У него был припадок грудной жабы, и потому его на следующий день перевезли за город в тюремную больницу. Это было прекрасно.
[104]Тюремная больница была за городом. Это был широкий деревянный барак, окруженный дерев<янной> тюремной оградой, внутри которой было неск<олько> старых деревьев, которых вообще много в окрестностях Екатеринодара. Больные-заключенные проводили большую часть дня в этом саду. Екатерине Владимировне никто не препятствовал часами сидеть с мужем. Для Маркса открывалась широкая возможность человеческих наблюдений среди соарестованных – военных различных чинов, возрастов и судеб.
– Вот обратите внимание на этого Черномазова, – показывал он мне. – Это человек, пользующийся большим вниманием женщин: с ним вместе живет в тюрьме эта цыганка. Ее несколько раз силой выселяли отсюда. Но она перелезает через забор и снова здесь. Очень настойчива. И страстно его любит. И притом заметьте, у него очень страшная рана: пуля проникла ему в половые органы и совершенно лишила его мужских способностей. И вот, несмотря на это, такая неотвязная привязанность. Они все здесь ждут над собою суда и удивляются, почему мое дело идет так быстро.
Но, на мой взгляд, дело Маркса вовсе не шло быстро. Военно-полевой суд было очень трудно составить. Для того чтобы судить полного генерала, необходимо было, чтобы председательствовал в комиссии тоже полный генерал. Между тем в Добровольческой армии, при отсутствии чинопроизводства, полных генералов совсем не было. Генерал-майорами, генерал-лейтенантами хоть пруд пруди – а полных генералов – ни одного. Наконец наметили одного – старенького генерала Экка{50} (у нас с мамой когда-то жили летом его жена и дочь). Но его не было в Екатеринодаре.
Перед самым судом, не помню кто, мне посоветовал повидаться со священником – отцом Шабельским{51}, бывш<им> протопресвитером армии и флота. Я его навестил в той самой гостинице, где Маркс сидел сейчас же по прибытии в Екатеринодар. Мне удалось его заинтересовать судьбой и личностью Маркса. И он сейчас же поехал навестить Маркса в тюрьму. И потом по несколько раз подолгу видался с Екатериной Владимировной. Его очень поразила глубокая религиозность Маркса, и он обещал поговорить о его деле с Деникиным.
Незадолго до конца дела Маркса и моего пребывания в Екатеринодаре я устроил свой вечер (публичный) чтения моих стихов о Революции.
У меня уже давно были приготовлены статьи с описанием обстоятельств, которые вызвали написание всех моих стихотворений о Революции, так что я предварительно рассказывал, а потом читал стихи. Так же я выезжал в Ростов на три дня для того же. Останавливался у Кедровых, видел Т…кова{52}. Перешел с ним на «ты». Помню, как в Ростове я вспомнил и записал, сидя на скамеечке против городского сада, всего «Протопопа Аввакума».
Текста его со мной не было, а читать его было необходимо. Я дал его переписать по записанному мною – и русский текст оказался умопомрачительным. Барышня-машинистка вложила в свою работу всю свою добросовестность. Но мой почерк, карандаш и старинный звук XVII века дали эффекты невероятные. Через три дня меня вызвали обратной телеграммой в Екатеринодар. Сообщали, что суд над Марксом будет через несколько дней и что мое присутствие необходимо{53}.
Оказалось, что ставка переносится на днях в Таганрог, но это сопряжено с переселением всех судебных учреждений. Старика Экка – полного генерала – нашли и поторопились назначить суд до отъезда из Екатеринодара.
Деникина самого я так и не успел повидать, но меня познакомили с одним из его адъютантов – с франц<узской> фамилией, которую забыл, который взял передать мое письмо к генералу Деникину. На него можно было положиться без сомнений – человек был вполне честный и не русский{54}.
Но на суд ни мне, ни Екатерине Владимировне не удалось попасть. В этот день я пришел в отчаяние от задержек, собрался ехать восвояси. И я «отпросился» у Екатерины Владимировны вернуться в Коктебель. День отъезда был назначен. Но утром этого дня меня нашел посланный Ек<атериной> Владимировной, которая только что сама узнала о том, что суд будет сегодня. Об этом Марксу сообщили только что. И мы встретились в здании суда. Суд уже заседал, и мы расположились в коридоре у выходных дверей. И это было… незаконно.
[105]Я написал Деникину приблизительно такое письмо, которое было передано ему одновременно с приговором военно-полевого суда:
«Ваше Превосходительство, Вы получите это письмо одновременно с приговором военно-полевого суда, осуждающего генерала и профессора Н. А. Маркса, признанного судом, как работавшего вместе с большевиками, к 4 годам каторжных работ, что в его возрасте и при его состоянии здоровья равносильно смертному приговору. Так как дело это очень сложное и приговор в этом деле в некоторой степени является и приговором судящих над самими собою, принимая в соображение «приговор Истории», то считаю своим долгом сказать Вам несколько слов, т. к. я являлся свидетелем всего дела Маркса – и его работы у большевиков, и последующих его мытарств в пределах Доброволь<ческой> армии.
Я сам – поэт и человек абсолютно не военный, и потому никак не могу разбираться в чисто военной морали, но Маркс, кроме генерала, и профессор, и в качестве такового я знаю и понимаю всю его литературную и научную ценность. И в качестве такового он поступил на моих глазах так, как мог честный человек в его положении поступить – так, как, будучи в его положении, поступили бы (я думаю) Вы сами. Т. е. не отступал брать на свою ответственность трудную задачу управлений делами, например, просвещения, как раз в острый момент гражданской войны.
Вам, Ваше Превосх<одительство>, предстоит сейчас очень трудная и сложная задача: наказать, может быть, виновного генерала, в то же время не затронув и не отнимая у русской жизни очень талантливого и нужного ей профессора и ученого».
Деникин разрешил эту Соломонову задачу блестяще и мудро: он написал на приговоре: «Приговор утверждаю (т. е. лишение всех прав и разжалование). Подсудимого освободить немедленно»{55}.
[106]Маркс выехал позже меня в Ф<еодос>ию. Я его встретил уже там. Мы обедали вместе у Матвея Павловича Нич. Из этого обеда добровольцы, благодаря добровольному списку, сделали позже целую общественную демонстрацию. Рассказывали, что известного большого деятеля красного генерала Маркса жители Феодосии встретили с почетом, устроили ему банкет, где произносили речи в честь государственного изменника, помилованного Деникиным; а между тем, фактически, из гостей на обеде присутствовал только я. У меня был разговор с Екатериной Владимировной: «Когда мы выехали из Екатеринодара, весь поезд был переполнен офицерами. Сперва мы сидели тихо в тени. На нас не обращали внимание. Потом один из офицеров сказал громко на весь вагон: «Господа, с нами в одном вагоне едет известный изменник – ген<ерал> Маркс. Где он? Хотелось бы знать».
Тогда я подняла голос и сказала: «Да, он находится здесь. Это старый больной человек, измученный грудной жабой и военно-полевым судом, через который он только что прошел и который не осудил его. Что Вам до него?» От этих слов все успокоились, и любопытство к нам прекратилось».
На др<угой> день Маркс приехал к себе в Отузы и поселился в своем доме на берегу. Но отряды офицеров приезжали в дер<евню> Отузы и спрашивали: «А где у вас тут живет Маркс?» Кто-нибудь из верных татар вызывался проводить к его дому. Но пока они шли, заходя по дороге в винные подвалы, их мстительное настроение ослабевало, и когда они заплетающимися ногами доплетались до берега, то ни у кого не хватало темперамента самому «докончить изменника».
На меня это тоже распространялось: я не мог ни публично выступать, ни показываться на улице, на меня показывали пальцем и говорили: «Вот только благодаря Волошину нам не удалось расстрелять этого изменника Маркса».
В эти тяжелые и опасные времена единств<енные> люди, кот<орые> пришли ко мне на помощь, – это были феодосийск<ие> евреи. В то время Феодосия была убежищем для ряда еврейск<их> писателей, как молодежи, так и для пожилых и маститых, как Онеихи{56}, автора талантливых и разнообразных рассказов из хасидского быта. «Ребин» – это имя одного из хасидских ребби. Книга проникнута ясным духом хасидской мудрости. У евреев был собственный литературный кружок, который назывался «Унзер Винкль». Ко мне пришли представители этого кружка и сказали: «У вас, верно, сейчас очень трудные дни, вы, наверное, сидите без денег. Хотите, мы устроим для вас литературный вечер?»
Я, конечно, с радостью согласился. Это было для меня честью, потому что не евреи в «Унзер Винкль» не допускались. Чтения там бывали на древнееврейском языке или на жаргоне. И когда я начал серию своих стихов «Видение Иезекииля», то публика вся поднялась с места и пропела мне в ответ хором торжеств<енную> и унылую песнь на древнееврейском языке. А когда я спросил о значении этой песни, то мне объяснили, что этой песней обычно приветствуют только раввинов, а в моих стихах аудитория услыхала подлинный голос древнего иудейского пророка и потому приветствовала как равви.
Любопытно, мне рассказала Ася Цветаева, бывшая в толпе, что когда я пришел в залу вместе с Майей, то об нас томная еврейка, сидевшая за ее спиной, объясняла своей соседке: «А это наш известный поэт М. Волошин. И вы знаете – он женат на княгине Кудашевой…»{57}
Так я был почтен еврейской национальной гордостью и мои стихи о России, запрещенные при добровольцах так же, как позже они были запрещены при большевиках, впервые читались с эстрады в еврейском обществе «Унзер Винкль».
[107]Чтобы закончить историю Н. А. Маркса, мне остается написать несколько строк: я видел Никандра Александровича в Отузах – он сидел на пороге своей приморской дачи и стриг овцу.
Доходили угрожающие слухи об офицерск<их> отрядах, которые поклялись рассчитаться с ним собственноручно, раз нет правды в судах. Екатерина Владимировна волновалась, Маркс был спокоен внешне. Потом он получил приказ от тогдашнего Начальника Одесского и Таврического Округа Шнейдера{58} покинуть пределы его округа и в тот же день покинул Отузы и выехал на лошадях в Керчь, а оттуда переправился на лодке на ту сторону и поселился в Тамани. Там он прожил мирно до осени, когда туда прорвался красный кавалерийский отряд. Отряд в полном военном порядке подъехал к дому и предложил от имени Сов<етской> власти принять начальствование всеми частями Красн<ой> Армии, расположенными на Кубани. Он отказался, ссылаясь на то, что он по летам уже имеет право на отставку и войной больше не занимается принципиально. Но отряд на другой же день должен был отступить из Тамани, и Марксу пришлось уехать вместе с ним, т. к. от белых после этого предложения ему было невозможно ждать пощады. Месяцев пять ему, вместе с Екатериной Владимировной, пришлось скитаться, скрываясь по разным станицам, пока он снова не приехал в Екатеринодар. Первую зиму он давал уроки. А затем вокруг него сгруппировалась местная интеллигенция, и он был выбран ректором Екатеринодарского университета. На следующую зиму он умер от полученного воспаления легких и был с большим почетом похоронен в том самом сквере, куда выходило окнами здание того суда, где его с позором судили при белых. Это был 1921 год{59}. Я встретил Екатерину Владимировну в Феодосии во времена террора. Мы с чувством вспоминали недавнее прошлое и наше тревожное и горестное странствие в Екатеринодаре, и она мне рассказывала о его последних минутах. Потом в том же году она выехала к дочери за границу. Сперва в Вену, а потом в Латвию.
[108]В день приезда Маркса из Екатеринодара в Феодосию я был у Новинского весь день. У него тогда жила певица Анна Степовая, которая прекрасно пела популярную в те времена песенку: «Ботиночки». Под эту песенку, сделанную с большим вкусом, сдавались красным одни за другим все южные города: Харьков, Ростов, Одесса. В Степовую был влюблен одесский главнокомандующий ген<ерал> Шнейдер{60}. Меня Новинский уговорил остаться у него, чтобы познакомиться со Шнейдером, который хотел узнать мои стихи о России, которые уже были в те времена известны, но он еще их не читал. А вечером я должен был читать стихи на вечере в Яхт-Клубе, который устраивали местные офицеры в честь Шнейдера.
Так что мы пробыли с генералом все [время] после обеда. Это было после обеда с Марксом, о котором после распространили такие чудовищные слухи, как о антипатриотической демонстрации. И мы вечером отправились вместе с Шнейдером в Яхт-Клуб. Ко мне там сейчас же подошел Княжевич{61} и посоветовал дружески не читать стихов и удалиться, т. к. мое присутствие может вызвать враждебные демонстрации в связи с делом Маркса{62}.
Я ушел, не говоря ни слова и не упомянув, что только что пришел сюда с генералом Шнейдером, который пришел сюда именно слушать меня. Мне очень понравилось, что меня-то и удаляют с вечера, чтобы не вызвать его негодования на мое присутствие, – в то время, как он пришел именно, чтобы слушать меня. Не могу сейчас припомнить, как звали ту девушку, что была в то время прислугой Новинского и подругой Анны Алек. Степовой. Она готовилась тогда в сестры милосердия. Помню, как-то А. А. Нов<инский> привез ее в Коктебель и сказал: «Макс, мне бы хотелось, чтобы ты сделал с нею опыт ясновидения». Я отнекивался сначала. Потом согласился. Надо было в полночь удалиться в пустую комнату (это был мой кабинет в мастерской), и она смотрит в стакане, налитом водой, в обручальное кольцо, лежащее на дне. Я мысленно задал вопрос, что со мною будет через ½ года? Это, значит, был вопрос о декабре 1920 года. Она недолго посмотрела в стакан и сказала: «Вот, посмотрите сами – страшно ясно видно. Вы живете на берегу какой-то большой воды – моря или реки. Против вас на стене зелен<ь>. Жел<езная> дор<ога> проходит – видите, как паровоз бежит и сквозь дым вода блестит. Около Вас молодая женщина и с ней ребенок. На Вас похож – верно, ваш сын».
В тот момент я отнесся к этому ясновидению совершенно отрицательно. В то время – в декабре 1920 г<ода> – было страшное время. Шли сплошные расстрелы: вся жизнь была в пароксизме террора. Но спустя несколько месяцев, когда террор уже ослабел, а начинался голод, я встретил на улице ту девушку – сестру милосердия, которая показывала тогда сеанс ясновидения, и только тут сообразил, что, в сущности, все так и было, как она видела. Но толкование было неверно. Дом был домом Айвазовского. Молодая женщина – Майя. «Мой сын» – Дудука, действительно, несколько похож на меня{63}. Зелень – против моего окна была стена, густо увитая плющом. Жел<езная> дор<ога>, действительно, ходила мимо окон, и блестело море, и проч.
Но все это имело другой смысл, чем представлялось и мне, и ясновидящей. Эта точность меня так заинтересовала, что я спросил сестру милосердия: «А вы не могли бы посмотреть, что будет в городе через 3 месяца». Все в то время ждали в Феодосии «перемен». Одни ждали, что белые вернутся. Одни ждали прихода англичан, другие – французов. Словом, никто не ожидал, что серия ужасов, начавшаяся террором и продолжающаяся голодом, все растущим, потом будет продолжаться и развиваться. Через несколько дней я снова столкнулся с сестр<ой> мил<осердия>.
«Я смотрела, – прошептала она таинственно. – Перемена будет. На рейде – флот стоит: все иностранные корабли. В городе чужеземные войска в незнакомой форме. Много публики гуляет по Итальянской. Расстрелы [неразб. – Сост.]. Но сражения нет».
И опять повторилась та же история: никакой перемены не было, но все элементы картины увиденной было налицо. На рейде стояли многочисленные транспорты из Америки, привозившие кормовое зерно – кукурузу [неразб. – Сост.] для Поволжья{64}. Иностранная форма войск – была новой униформой милиции, которая была наряжена в новую форму с английскими погонами, для регулировки уличного движения, кот<орое> у нас заключалось в нескольких клячах, оставшихся на весь город и развозивших по оцепенелым улицам большие цинковые ящики с мертвецами, умершими от тифа, холеры, голода, которых свозили на кладбище, чтобы закопать в могилы.
О Мандельштаме, Эренбурге и других. Мое последнее пребывание в Париже
[109]Возвращаясь мысленно к той осени 1919 г<ода>, я вспоминаю, что у нас зимовали Мандельштам, Эренбург и Майя. Майя была с матерью. Мать – трогательная маленькая старушка-француженка. Среди зимы Майя узнала, что ее муж – Сережа Кудашев умер в армии на Кавказе от тифа{1}. Она за этими сведениями ездила в Феодосию, вернулась в многодневных слезах. С этой же эпохи нашла себе в городе урок у полковника Ревы – очень распространенная фамилия, но кот<орая> в Крыму произносится иначе: с ударением на первый слог: Рева. Такие были в Судаке в год [переполненных] подвалов{2}. Хотя этот урок относился скорее к весенним месяцам 1920 года.
Осенью 1919 года приезжала в Коктебель большая компания из Бусалака{3}. Среди которой была Маруся Заболоцкая{4}. Она была маленькая, стриженная после тифа, только что перенесенного, и производила впечатление больной «вертуном» овцы. Ее Котя Астафьев внес в дом на руках. Когда я спросил Асю Цветаеву{5}: «А кто это?» – она мне ответила полунебрежно: «Так – акушерка какая-то – подруга Ольги Васильевны».
По странной случайности, устраивая ночлег для гостей, я проводил ее и Ольгу Васильевну прямо в свой кабинет над мастерской.
Позже, при разговоре, когда я ее спрашивал о первом ее впечатлении Коктебеля и меня, она мне призналась, что видела меня таким, как обо мне говорили – без штанов – в длинном хитоне и венке из цветов. Впервые она услыхала обо мне, когда меня ругали при белых, как защитника Маркса. Но не отнеслась к этим осуждениям с доверием.
Майя всю осень 1919 года была бурно влюблена в Эренбурга, топилась, травилась и т. д. Весь ритуал майиной влюбленности. Она ездила в конце лета в Бусалак и со всеми уже там перезнакомилась. Увлеклась Валькой (Паничем){6}. И говорила мне со страстью: «Сперва все шло нормально – ее до 4-х лет одевали в мужской костюм, но после, когда ее одели в женское платье, – для нее началась трагедия. Как у Крафт-Эбинга в истории венгерск<их> евреев врачей»{7}.
Это была моя первая встреча с Марусей. После я с ней встретился опять, уже будучи больным, в санатории, в 1921 году – я помню, спускался по лестнице, очень высокой и длинной, на костылях, а она в то время проходила по набережной: шла из Камышей{8}.
После я ее встретил опять на той же набережной, всю в слезах – оказывается, в этот день убили ее любимую собаку Марсика. И, очевидно, съели. Она только что узнала об этом… Она мне тогда же говорила об Зелинских. Об Иосифе Викторовиче – отце Валька, который в те дни лежал больной в Феодосии в доме Экк, и просила навестить его.
[110]Вспоминаю зиму 1919-20 гг.
Воспомин<ания> о Мандельштаме{9}. Я не был в России, когда он приехал в Коктебель. Я был в Париже и помню мамино письмо: «Сейчас в твоей комнате живет молодой поэт Мандельштам. Ты его когда-то встречал в Петербурге»{10}. Помню эту встречу – это было у сестры Зинаид<ы> Венгеровой – Изабеллы Афанасьевны (певицы){11}. Там было нечто вроде именин<ного> приема – торты, пироги, люди в жакетах и смокингах. Сопровождая свою мать – толстую немолодую еврейку, там был мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке частной гимназии – вроде Поливановской – кажется, Тенишевской{12}.
Он держал себя очень независимо. В его независимости чувствовалось много застенчивости. «Вот растет будущий Брюсов», – формулировал я кому-то (Лиле?) свое впечатление. Он читал тогда свои стихи.
Он в том же мамином письме прислал в Париж свои cтихи{13}. Стихи были своеобразны, но мне не очень понравились, и я ему ничего не ответил.
После, в России, Иос<иф> Мандельштам <снова> появился на моем горизонте. У мамы к нему была необъяснимая сердечная слабость. Она его всегда дразнила, называла M<ademoise>lle Fifi{14}.
М<андельшта>м был часто невыразимо комичен: у мамы оставался курьезный умывальник в стиле эсмарховой кружки с короткой резиночкой и заворачивающимся краником. Прислуга его конфузилась. Помню, Домна (молодая болгарка), на вопрос мамы: «Что ты?» – закрывая рот платком, ответила: «…точно маленький мальчик». М<андельштам> приблизительно так же реагировал на этот умывальник, который стоял в его комнате, и просил не раз у мамы позволения обменять этот аптечный умывальник. Над ним после сжалилась Оля Оболенская{15}, отдала ему свой, а сама взяла его. А когда М<андельшта>м приходил в гости, то всегда втыкал в кран цветок, изображавший фиговый листок.
В ту зиму М<андельшта>м был влюблен в Майю. Однажды он просидел у нее в комнате довольно долго за полночь. Был настойчив. Не хотел уходить. Майя мне говорила: «Ты знаешь, он ужасно смешной и неожиданный. Когда я ему сказала, что я хочу спать и буду сейчас ложиться, он заявил, что теперь он не уйдет: «Вы меня скомпрометировали. Теперь за полночь. Я у Вас просидел подряд 8 часов. Все думают про нас… Я рискую потерять репутацию мужчины».
Крым в эту зиму был под властью белых.
Однажды М<андельшта>м вошел ко мне очень взволнованный.
«Макс Алекс<андрович>, сейчас за мной пришел какой-то казацкий есаул и хочет меня арестовать. Пойдемте со мной. Я боюсь исчезнуть неизвестно куда. Вы знаете, как белые относятся к евреям».
Мы с ним пошли на дачу Харламова, где он занимал комнату вместе с братом. У них сидел, действительно, пьяный казацкий есаул в страшной кавказской папахе и, поводя мутными глазами, говорил: «Так что, я нахожу, что у Вас бумаги не в порядке – и я Вас арестую». Этот есаул откуда-то свалился в деревню Коктебель и пил безвыходно несколько дней, а потом, спохватившись, нашелся: «Есть ли у Вас в Коктебеле жи́ды?» Крестьяне очень предупредительно ответили: «Как же – двое есть – у моря живут всю зиму – братья Мандельштамы».
Есаула тотчас же отправился к ним делать обыск. Он сидел посреди комнаты, икал во все стороны и рассматривал книги, случайно попавшие ему в руки.
«А это Е в а н г е л и е, моя любимая книга – я никогда с ним не расстаюсь», – говорил Мандельштам взволнованным голосом и вдруг вспомнил о моем присутствии и поспешил меня представить есаулу: «А это Волошин – местный дачевладелец. Знаете что? Арестуйте лучше его, чем меня». Это он говорил в полном забвении чувств.
На есаула это подействовало, и он сказал: «Хорошо. Я Вас арестую, если М<андельшта>м завтра не явится в Феодосию в 10 ч<асов> утра».
Учреждение, куда должны были явиться братья Мандельштам (не помню, как оно называлось), было учреждение, которым заведовал полк<овник> Цыгальский{16} – поэт и поклонник М<андельшта>ма.
Сам Осип Эм<ильевич> находился в таком забвении чувств, что, вернувшись к нам в дом, обнаружил у себя в руке ключ от Майиной комнаты, который бессознательно зажал у себя в руке.
Он уезжал вместе с Эренбургом в Батум. Ему эту поездку устраивал милейший Александр Алексан<дро>вич, порт<овый> начальник.
В конце лета О<сип> Э<мильевич> обратился ко мне с просьбой:
«Мак<с> Алек<сандрович>, наверно у Вас в библиотеке найдется итальянский текст Данта. Одолжите мне, пожалуйста».
Я пошел наверх, в кабинет, искать. А он, между тем, говорил Наташе Верховецкой{17}: «Ну, не удивлюсь, если Макс Ал<ександрович> будет теперь долго искать своего Данта – я сам его года три назад завез в Петербург и там позабыл». – «Но как же вы его теперь просите?» – «Но ведь хорошая библиотека не может быть без Divina Comedia в оригинале – я думаю, что М. А. за эти годы успел себе выписать новый экземпляр».
Я спустился из кабинета и сказал: «Осип Эмильевич, я думаю, что не Вам у меня, а мне у Вас надо просить Данта, Вам я дал свой экземпляр – года 3 назад».
У Мандельштама была с собою его книжка «Камень» в единственном экземпляре – в то время к<ак>[111] ему было необходимо много экземпляров, чтобы расплачиваться за ночлег, обеды и всякие любезности.
У меня стоял в библиотеке один экземпляр «Камня», подаренный им маме с нежной дружеской надписью.
Я боялся за его судьбу и как-то заметил, что его на полке больше нет. Обыскал соседние полки, убедился в том, что он похищен. Тогда я призвал на допрос Майю – и она созналась, что Мандельштам, взяв со стола у нее экз<емпляр> «Камня», объявил ей, что он его ей больше не вернет. Я тогда написал письмо Новинскому, где его просил не выпускать М<андельшта>ма из Феодосии, пока он не вернет мне экземпляра «Камня», похищенного из моей библиотеки. Случилось, что Новинский получил это письмо за завтраком и М<андельшта>м, завтракавший с ним вместе, прочел его. Искренно возмутился и был по-своему прав: похитил со стола у Майи книжку не он, а Эренбург.
А он, увидевши, что я принимаю энергичные меры, написал мне ругательное письмо. Письмо было пересыпано самой отборной руганью, и, чего он ожидал еще меньше, я, на первом же чтении стихов, что я устраивал в мастерской, сказал слушателям:
«А вот если кто у Вас потеряет или иначе утратит какую-нибудь книжку, взятую из моей библиотеки, то рекомендую Вам вместо того, чтобы извиниться, писать мне ругательное письмо». И, как образец стиля, прочел им письмо М<андельшта>ма{18}.
Через несколько дней М<андельшта>м, в момент о<т>хода парохода, был арестован и посажен в тюрьму.
Он обезумел от ужаса, как тогда, при инциденте с есаулом, и, будучи введенным в тюрьму, робким шепотом спросил у офицера: «А что, у Вас невинных иногда отпускают?»
[112]Тогда все друзья М<андельш>тама стали меня уговаривать, что я должен за него заступиться. Раньше я мог делать или не делать. Это было в моей воле. А теперь (после того, как он мне написал ругательное письмо), я о б я з а н ему помочь. Напрасно я им доказывал, что сейчас я не могу ехать в Феодосию, т. к. у меня болит рука и я никого из влиятельных лиц в Добр<овольческой> армии не знаю.
В конце концов было решено: я напишу под диктовку письмо начальнику контрразведки, которого я в глаза не видел («но он твое имя знает…»), и только подпишусь. Я продиктовал такое письмо:
«М<илостивый> Г<осударь>! До слуха моего дошло, что на днях арестован подведомственными Вам чинами – поэт Иос<иф> Мандельштам. Т<ак> к<ак> Вы, по должности, Вами занимаемой, не обязаны знать русской поэзии и вовсе не слыхали имени поэта Мандельштама и его заслуг в области русской лирики, то считаю своим долгом предупредить Вас, что он занимает <в> русской поэзии очень к<р>упное и славное место{19}. Кроме того, он человек крайне панический и, в случае, если под влиянием перепуга, способен на всякие безумства. И, в конце концов, если что-нибудь с ним случится, – Вы перед русской читающей публикой будете ответственны за его судьбу. Сколько верны дошедшие до меня слухи – я не знаю. Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу Вас успокоить вполне: Мандельш<там> ни к какой службе вообще не способен, а также <и к> политическим убеждениям: этим он никогда в жизни не страдал».
Нач<альник> к<онтр>разведки, получив карточку: «княгиня Кудашева», принял Майю очень любезно, прочитал письмо про себя, восклицая: «А кто же такое Волошин? Почему же он мне так пишет?» – «Поэт… Он со всеми так разговаривает…» – отвечала Майя высоким и наивным голоском. Письмо нарочно было написано в таком духе: оно было корректно, но на самом лезвии. Оно звучало как личное оскорбление, и поэтому запоминалось. Это был обычный тон моих отношений с Д<оброволь>ческой армией. Нач<альник> к<онтр>разведки очень недовольным жестом сложил бумагу и сунул в боковой карман. И на другой день велел отпустить Мандельштама.
М<андельш>там и Эр<ен>бург уехали одновременно. Вскоре я получил от одного поэта и издателя – Абрамова несколько номеров художественного журнала «Творчество»{20}. Он просил ему написать свое впечатление от журнала. Там была большая статья Осипа Эмильевича «Vulgata». «Вульгатой», как известно, называется латинский перевод Библии, сделанный св<ятым> Иеронимом и принятый в католической церкви. Я долго вчитывался в статью М<андельш>тама и не мог понять ее заглавия, как оно понималось ему, пока не прочел заключительных слов статьи: «Довольно нам библии на латинском языке, дайте нам, наконец, Вульгату». Он, как философ, просто перевел заглавие, а как историк никогда не встречался с этим термином и не подозревал о том легком «искривлении» смысла, кот<орое> лежит в этом имени. Я написал Абрамову: «Нельзя Вам, как редактору, допускать такие вопиющие ошибки; нельзя, чтобы наши невежественные поэты помещали у Вас заглавием статей такие имена, смысл которых им самим неясен. За это ответственны Вы, как редактор». Случилось, что с М<андельш>тамом я встретился только в 1924 г<оду> в Москве, когда я ездил в Москву и был у редактора «Красной нови» Воронского{21}. Мы встретились не в кабинете, а в коридоре.
М<андельш>там встретил меня радостно и, видимо, «все простил» из того, что между нами было: и зачитанного у меня Данта, и спасение из-под ареста. Он это все мне высказал, но прибавил: «Но нельзя же, Максимилиан Александрович, так нарушать интересы корпорации. Ведь все-таки наши интересы – поэтов, равнодейственны, а редакторы – наши враги. Нельзя же было Абрамову выдавать меня в случае «Vulgata». Ведь эти подробности только Вы знаете. А публика и не заметит».
[113]Здесь уместно вспомнить кое-что об Эренбурге.
Наше первое знакомство началось при второй встрече в Париже. Первая встреча была неудачна во всех отношениях. Я не помню, в каком году это было: мне швейцар подал завернутую в бумагу книгу стихов{22}. Принесла сестра автора. Я развернул и обратил внимание на то, что обложка книги была напечатана вверх ногами. Это была случайность, но я принял за оригинальничанье и соответственно этому осудил. Курьезно, что это отразилось и с обратной стороны. Сестра писала (или рассказывала) поэту, считая меня со своей стороны кривляющимся, что, когда я вышел к ней, то у меня в руках была книга Ильи, и когда я цитировал его стихи, – то нарочито читал книгу вверх ногами. Я ей ничего не сказал об этой особенности, но она не подозревала об особенности этого экземпляра. Это в обоих нас возбудило взаимную антипатию. У меня это сказалось в отношении моем к стихам. Я дал о книжке довольно резко отрицательный отзыв. А этот отзыв был одинокий: русская критика встретила первую книгу Эр<енбурга> благосклонно, <что> сперва вызвало его обиду на меня и враждебность при первой встрече, а потом, при второй, послужило поводом к дружбе, т. к. он сам стал относиться к своей книге очень отрицательно и мой отзыв о ней стал для него образцом критического прозрения.
Когда я впервые пришел к Эр<енбургу> на Rue Campagne l, 8, в этот хорошо знакомый дом, теперь превращенный в гараж, – он там занимал мастерскую. Меня встретили 2 дамы. Одна была Катя (Ек<атерина> Оттовна) – его жена{23}, другая – Мар<ия> Мих<айловна> – в то время жена его кузена, тоже Эренбурга, Ильи Лазаревича, потом расстрелянного белыми в гражд<анскую> войну. Меня поразило своеобразие их лиц и показались схожи: обе брюнетки <c> восточными чертами, черными глазами, острота в лице. Катю я очень запомнил тогда на костюмированном вечере. Она была в мужском – маркизом. Эренб<ург> был неряшлив – с длинными прямыми патлами. «Человек, которым только что вымыли очень грязную мастерскую», – я так формулировал тогда свое впечатление{24}. А обе женщины, с которыми он был, были хорошенькие, острые и очень чистенькие.
Помню, мне тогда же очень понравилась книжка стихов, посвящ<енная> Кате, «Детское». Илья же только что выпустил книгу «Я живу»{25}, которая обладала недостатками первой книги и мне не понравилась. У меня был период очень большой строгости и стремления к простоте.
Илья был накануне большого упрощения в своей поэзии. Он был под влиянием Жамма и переводил его{26}. Был на волосок от перехода в христианство. А в его стихах мне больше всего не нравился эстетизм, котор<ый> я считал гумилевщиной (и ошибался), и была некая литературная религиозность.
[114]Второй раз мы встретились с Ильей Эр<енбургом> во время войны. В январе 1915 года я приехал в Париж прямо из Базеля. Антропософ<ская> нейтральность мне казалась тягостной и скучной{27}, и я с радостью окунулся в партийную и одностороннюю несправедливость Парижа, страстно, без разбора и без справедливости ненавидевшего немцев, кот<орых> тогда называли не иначе, как «бошами» – полупрезрительная траншейная кличка, которую, кажется, во всей Франции только в траншеях и не употребляли.
Поэтому большой радостью для меня были беседы с Алек<сандрой> Василь<евной> Гольстейн{28}. Которая, как всегда, оставалась страстно партийной и говорила: «Если бы Христос или Будда (она была буддистка) позволили себе при мне проповедовать свои н е й т р а л ь н ы е идеи, я им, к о н е ч н о, не подала бы руки». В первый же вечер я пошел искать Илью Эр<енбурга> в «Ротонду» – но его там не было: он изменил привычкам – я нашел его в Cafe du Dôme. Мы много говорили и в разговоре о войне очень друг друга понимали. Началось наше сближение. Я тогда остановился у Бальмонта: Passy, 60, Rue de Tour[115]. Это было хорошее время: по утрам длинные разговоры с Б<альмонтом>. Потом работа в Национальной библиотеке. Иногда с утра оба садились за стихи на темы, которые сами себе задавали. И работа над стихами длилась часто изо дня в день неделями, не иссякая. В этих состязаниях мы ободряли, поддерживали друг друга. Часто получались неожиданные эффекты: я как будто задавался задачей – разрешить ее так, как ее должен был разрешить Б<альмоyт>, а Б<альмонт> разрешал ее в моем стиле. И все это совершенно бессознательно. В разговорах же я старался всегда сообщить Б<альмонту> что-нибудь ему совершенно неизвестное. Это, при громадной и разносторонней начитанности Б<альмонта>, было трудно, но почти всегда удавалось. И он сам говорил: «Я люблю разговаривать с Максом, потому что в разговоре с ним всегда что-нибудь да узнаешь совершенно новое». Дамами нашими и судьями стихов были всегда Нюша и Ел. Ю. Григорович{29}. Нюша – молчаливая, тихая, музыкальная, Е. Григорович – страстная, порывистая, угловатая.
На втором плане нашей жизни стояла Елена Цветковская{30}. Тоже молчаливая, тоже всегда танцующая перед зеркалом, тоже: «таких барышен<ь> в Древней Греции называли свинксами».
Потом на моем горизонте появляется Борис Савинков{31}. Сначала мне он резко не понравился. Но стоило нам с ним раз побеседовать – и это чувство сразу сменилось резко противуположным: я к нему почувствовал неудержимую симпатию. Помню, это было, когда он пригласил нас с Бальмонтом вместе с ним пообедать. Это было чуть в стороне <от> Больших Бульваров, в ресторане, где обедали журналисты. Он рассказывал нам из своей жизни. Рассказывал он превосходно: у него была манера одной интонацией, звуками голоса передавать человека. Это придавало редкую живость всем его повестям и давало его рассказам ту прелесть, живость, юмор, которых совсем нет в записанных его «воспоминаниях». Помню, в то время, как мы входили в ресторан, мы заметили на вечернем небе, в стороне, военный аэроплан и даже говорили о том: не немецкий ли он. А Приехавши в Passy – узнали, что только что было нападение немецких мах-ов именно на Пасси. И что большая бомба упала по ту сторону реки в Гренелль, в сквере, где всегда играет масса детей. Но бомбы иногда культурнее и гуманнее, чем люди: бомба упала среди играющих, никого не задела и не разорвалась. Я тогда это очень запомнил. Как первое знакомство с Савинковым. Потом мы виделись с ним часто уже без Бальмонта – всю следующую зиму.
Илья Эр<енбу>рг в то время переживал тяжелую эпоху: он расходился с женой Катей, которую очень любил. Он мне ничего не рассказывал, но я постепенно понял это de visu. Он, зная наше взаимное дружелюбие, повел меня в отель к больному еще Тихону С<орокину>{32}. Это и была причина ухода Кати от него. Тихон пошел добровольцем на войну и заболел там тифом. Он был в «иностранном легионе», т<ак> к<ак> иностранцы не могли, по тогдашним правилам, поступить просто во франц<узскую> армию и все, шедшие «добровольцами» защищать Францию (было такое движение в начале войны), попадали автоматически в иностр<анный> легион, т. е. на каторгу. И это прекрасное (в латинских условиях жизни) учреждение стало, рядом трагических обстоятельств, местом каторги для русских эмигрантов.
[116]У Эренбурга – целый ряд анекдотов в отношении к приличиям и костюму. Он это сам знает и не может исправить. Когда он писал изысканные пьесы в стихах из жизни маркиз (стиль XVIII века), его пригласили к богатым русским эмигрантам{33}, где он, в обстановке своей пьесы (будуар хозяйки), должен был прочесть свою пьесу. Назначено было чтение в воскресенье. В последнюю минуту он вспомнил, что не успел побриться. В воскресенье в Париже все парикмахерские закрыты. Илья в последний момент вспомнил, что у Веры Равич{34}, как у танцовщицы, есть poudre epilatoire для сведения волос – под мышками и на ногах. Он заглянул к ней в мастерскую, напудрился. Затем смочил щеки водой и стал ждать эффекта. Эффект обнаружился, не замедлив: у него страшно защипала кожа, и без того раздраженная частым и небрежным бритьем. Он стал наскоро снимать порошок и в это время (дело было в темноте) облил куртку. Электричество в его мастерской было выключено за невзнос платы.
Посмотревши на себя в кусок зеркальца при светильнике, он обнаружил на лице воспаленные пятна. И резкий, ничем не скрываемый запах сероводорода. Время было позднее – ему грозило опоздание: он смело пошел. В маленьком и тесном будуаре было много народу и жарко. По мере того, как он читал, запах все усиливался и становился все нестерпимее. Заметив несколько судорожных заглядываний хозяйки и гостей под столы и диваны в поисках с о б а к и, Илья внезапно оборвал чтение, выбежал через ряд комнат в переднюю и там, взяв за руку своего друга, последовавшего за ним, сказал ему шепотом: «Пойди к ним и расскажи все, как было с poudre epilaloirе». И только после того, как из будуара донесся громкий и общий взрыв хохота, он вернулся в будуар и спросил хозяйку: «Что, очень явственно был слышен запах?»
Хозяйка потупилась и ответила: «Очень…»
У Ильи к органическим особенностям туалета относилась еще его постоянная история со штанами. Штаны у него, как он сам выражался, «держались на честном слове». Когда мы в первый раз были у Ц<етли>ных, они жили в шикарном immeuble[117] на Avenue Henri-Martin. В то время, как мы спускались с V этажа по роскошной лестнице, – штаны не соблюли «честного слова» и разъединились – он дошел до консьержа, только прикрываясь длинной парижской пелериной. Другая трагическая история произошла в том же роскошном вестибюле, перегороженном прекрасной зеркальной, прозрачной и чистой, как воздух, перегородкой, с Андреем Соболем{35}, который, второпях и испугавшись, прорвался сквозь эту стеклянную перегородку. Она с шумом и грохотом рухнула. Соболь успел удрать, взял автомобиль – их много на Henri-Martin – и уехал. Кровавый след – он был ранен, – показал его следы.
Эти герои-комические анекдоты пестрили нашу парижскую жизнь в 1916 году в самые трагические моменты Европейской войны между двумя Марнами{36}.
[118]Илья Э<ренбург> в это время стал писать в новой манере – очень малопонятно. Это были образы и м ы с л и без пути к ним, часть логического домысла сознательно опускалась. Так написана «Книга о канунах»{37}. Это давало большую свободу в распоряжении образами, в их чередовании и нагромождении. Вместе с новыми сочетаниями отдаленных рифм-ас<с> онансов составляло большую расчлененность стихам его смысла, что, в общем, было приятно и ново, и мало похоже на все прежнее. Евангельская простота, наивность и искренность Жамма остались далеко позади.
Невыразимые отношения складывались в эту эпоху с Ц<етли>ными, которые в том круге занимали место снобов, буржуев, богатой аристократии. Материальное положение Ильи Э<ренбурга> было ужасно. Он ходил, чтобы подработать, ночным носильщиком на gare Montparnasse и возил вагонетки до рассвета.
При его слабосильности и болезненности – меня это приводило в ужас: я уговорил Цетлина М. С. издать его «Книгу о канунах» в том маленьком издательстве, которое они затевали в Москве, «Зерна». Где должна была выйти книга самого Миши Ц<етлина> и моя <книга> стихов о войне, которую я в те годы писал, и еще <книги> Эренбурга – переводы из Ф. Вийона и Шарля Пеги{38}.
На лето 1915 г<ода> я получил приглашение от Ц<етли>ных поехать на их виллу в Биарриц. Это была, по местоположению, роскошная вилла. На самом берегу, рядом <с> виллой Нап<олеона> III (теперь Hôtel du Palais), с другой стороны с нею состояли <в соседстве> виллы разных знаменитостей – Ростана, вел<икого> кн<язя> Алекс<андра> Мих<айловича> и т. д.
Я просил разрешения взять туда Маревну{39}.
С Маревной меня познакомил Илья: в Париже, в странном военном вертепе – мастерской русской художницы NN{40}. Не помню ее фамилии; у нее висели какие-то кустарные полинезийские ковры, на которых были наляпаны узоры, очень декоративные и смелые, какими-то темно-бурыми, точно запекшимися, лепешками (человеческой кровью – шепотом сообщали завсегдатаи этого места, посещавшегося охотно обычными посетителями «Ротонды» и др<угих> кафе – теперь закрытых по вечерам по случаю военного положения){41}. Кроме русских, здесь бывали англичане и другие нации. Давали вино, сидели за столиками, танцевали. Была полная замена кафе. Маревна была когда-то принята, любима и обласкана в семье Горького на Капри. Она была родом с Кавказа. Росла у отчима. У нее была трагическая история. Была душой «Ротонды». Туда она приходила в затруднительных обстоятельствах – и «Ротонда» ей помогала – устраивала в ее пользу «голый бал», где все скандинавы плясали обнаженные в ее честь. И выручали ее. «Маревной» ее прозвал Горький – <именем> из русской сказки «Марья Маревна».
Мое последнее пребывание в Париже (1915–1918)
[119]Во время войны. Я выехал из Коктебеля 19 6/VII 14 ст<арого> ст<иля>, т. е. приблизительно за неделю до объявления войны. Война в нашем летнем уединении никак не предчувствовалась. Только в человеческих отношениях творилось нечто невообразимое{42}. Расторгались необычайно крепкие связи и браки, незыблемые по 20–30 лет. Да Алехан (Толстой) рассказывал: «Когда я ехал сюда, то в вагоне студент говорил, что этим летом война неизбежно будет». Но этому никто не доверял и не было на европейском горизонте никаких признаков надвигающейся войны. Я с самого начала лета собирался ехать за границу: меня звала Маргарита{43} в Дорнах – принять участие в постройке Johannes-Baú{44}.
Кроме того, у меня был другой предлог: я собирался работать над «Духом готики» для М. В. Сабашниковой и хотел объехать готические городки южной Германии{45}.
Должен был выехать через Одессу – Рени – Будапешт – Вену – Мюнхен – Мазель – Дорнах. Война и связанные с нею перевороты никак не входили в мои планы.
Я собирался с начала лета, но в течение всего лета откладывал мой отъезд со дня на день. При создавшейся с каждым днем сложности человеческих отношений, я откладывал свой отъезд много раз. Дело было в том, что все гостившие в то лето в Коктебеле постепенно друг с другом ссорились, отказывались от своих комнат, комнаты сдавались и все по очереди переселялись ко мне в мастерскую (Кандауровы, Толстые, Рогозинские{46}). Я никак не мог всю эту кашу, в которой я принимал ближайшее участие, оставить без себя.
Наконец, я почувствовал, что медлить дольше нельзя. Собрался и уехал. Пароход из Феодосии в Одессу уходил переполненный. Я не нашел места, сел на поезд и нагнал тот же пароход в Севастополе и там нашел место в каюте. В Одессе у меня не было никого знакомых: мне было необходимо повидать румынского консула (об австрийском я и не подумал) и в день приезда выехал по какой-то проселочной ж<елезной> д<ороге> в городок Рени на Дунае. В день, когда я переезжал Дунай и<з> Рени в Галацниц, был подан австр<ийский> ультиматум Сербии – но это знание было результатом позднейших рассказов{47}. Тогда же я ничего не знал: я провел длинный день до вечера в городке Галац, который меня очаровал провинциальным затишьем и культурным уютом. На следующий день я прибыл к австрийской границе в Карпатах – к Передсалю. Там я оставил вещи в поезде, а сам перешел границу пешком по живописной дороге, вместе с прочими пассажирами. Это дало мне возможность перейти русско-австрийскую границу в этот момент без визы.
В тот же вечер буммель-цуг{48} меня мчал (очень медленно) по направлению к Буда-Пешту. Я провел целый день в живописном городке в последних отрогах Карпат Кропстадте (Брассо){49}. Я вышел с утра в горы, покрытые вековыми каштановыми лесами. Вечером бродил по городу и провел ночь в поезде. Налево, на шафраново-зеленом небе был четко врезан турецкий молодой полумесяц. На всех полустанках навстречу нашему поезду шли товарные поезда с массой молодых солдат <в> национальных костюмах, на полустанках шли блестящие факель-цуги. Всюду была жизнь и необычайное оживление.
Это была мобилизация и войска направлялись к русской границе. Но я этого не знал и наблюдал зрелище взором любопытствующего туриста.
[120]В Буда-Пешт мы приехали перед вечером.
Это было очень странное переживание: на вокзале была масса людей, очевидно, очень заинтересованных совершающимся событием. Событие – я узнал это много позже – был арест на вокзале сербского воеводы Ген<ерала> Путника{50}. Я забросил мой чемодан в гостиницу и побежал смотреть город. Я был в Б<уда>-Пеште во второй раз в жизни. В сущности, в первый, потому что был раньше там, когда мы ехали с Маргаритой из Парижа в Коктебель в 1906 году. Мы в Б<уда>-П<ешт> поехали пароход<ом>. Было это глубокой ночью, после полуночи. У меня остались в памяти только колоссальные лестницы, спускающиеся к реке, да ночные безлюдные улицы с вывесками на неизвестном языке.
Сейчас я увидал те же безлюдные улицы, но не ночные, а за час перед закатом. В глазах остался фасад монументального иммебля с яркими оранжевыми занавесками. В странствиях это безлюдие становилось странно. Я шел к центру города, как мне казалось. И это полное отсутствие людей казалось необычайно. Только когда смерклось, закишело народом. В этом кишенье было нечто лихорадочно возбужденное, что подчеркивалось лихорадочным нетерпением, с которым расхватывались новые издания газет, выходивших часто в этот июльский вечер 1914 года. Что же это? Муниципальные выборы? Празднество? Гос<ударственный> переворот? Война? Из всех этих возможностей я останавливался охотнее всего на последней. Было так, точно я кинут в неизвестный мне город, в неизвестные времена, город несомненно европейский (после завоевания Европы монголами), в разгар каких-то военных событий – об них мне говорили бурные овации солдатам, маршировавшим по улицам. Я об этом писал год спустя, в годовщину войны, и, кажется, мой фельетон нигде не был напечатан, хотя он был написан тщательно (или, может быть, именно поэтому?){51}. Чувство самосохранения не позволило мне ни к кому из встречных обратиться с вопросом: что же здесь, в сущности, происходит? И это меня и спасло от возможных осложнений. Если бы толпа в этом момент признала во мне русского, то едва ли мое странствие прошло <бы> так просто.
Но оно прошло без единого приключения. Я продолжал его и на следующий день выехал из Б<уда>-П<ешта> в Вену.
Там я сообразил, что я делал массу неосторожностей. Но моя судьба не зацепилась ни за одну: в Б<уда>-Пеште я ходил рисовать остатки старой крепости над Дунаем. В Вене, остановившись в специальном отеле для военных, <я> пошел менять русские деньги. Напрасно стучался в «Альбертин<у>» – где хотел работать для «Духа готики»{52}. Но мне непостижимо везло: отсутствие гульденов заставляло меня быстро покинуть Австрию. Всюду <я> попадал на последний поезд, последний пароход: было чувство, что все двери за моей спиной с шумом захлопываются и что назад возврата нет.
В Мюнхене никого из знакомых не было в городе. Но я целый день провел в осмотре выставок, которых в городе, по случаю летнего сезона, было открыто десятки. Вечером был <в> каком-то немецком «варьете» – и на другой день рано утром (в 7 час<ов>) выехал в Базель. Меня спросили <в> кассе: <как>ой билет мне надо – по швейцарскому или баденскому берегу. Я сказал: мне все равно, и мне дали по швейцарскому, что меня обезопасило, потому что в полдень были закрыты границы Германии и война началась. От Мюнхена поезд шел пустой: со мной в вагоне была только немецкая fräulein[121], ехавшая на дачу. А после, между Романсхорном и Lindaú, на пароходике томилось много англичан. В швейцарском вагоне рядом сидела семья сербов. С которыми я договорился до общих знакомых (таковым оказался принц Гика){53}. Только в Базеле, на Zentral-Banshoff[122] я увидел картину европейской вокзальной паники этих дней. Но я уже был у цели. Я взял ж<елезно>-д<орожный> билет до Дорнаха. И час спустя был в горной глуши, где мне предстояло прожить полгода.
Все из русских, кто в этот день пытался выехать в Россию, – все вернулись обратно. Поэтому Шт<ейне>р встретил меня словами: «Вам все-таки удалось доехать. Но выехать – неизвестно когда Вам удастся».
Первый день моего пребывания в Дорнахе был первым днем войны. Мне помнится, когда мы пришли утром в кантину (ресторан), перепуганная фигура А. Белого{54}, который сообщил: «Знаете… Жореса убили в Париже. Я ведь его хорошо знал… Да, в ресторане. Неизвестно кто»{55}.
Марг<арита> мне сказала: «Я тебя не ждала. Мы все думали, что ты уже не приедешь. Все наши, уезжавшие сегодня утром, вернулись. Пути в Россию закрыты. Тебя ждала комната О. Н. Анненковой{56}. Сейчас она свободна. Поселяйся там…»
Через несколько дней приехала Леля Анненкова. Я ей сказал: «Я без вас занял вашу комнату. Хотите ее? Я вам ее очищу».
Комната была крошечная и холодная, с огромной двуспальной кроватью. Кажется, Марг<арита> была не очень довольна моей галантностью: меня вновь надо было устраивать. В конце концов, она предложила мне поселиться в одной комнате с Сизовым{57}, в том же доме, где жила она…
Дорнах был типичная швейцарская деревня, соседняя с Арлесгеймом. Отдельные швейцарские домики, разбросанные среди лугов и рощ, по которым проходили сельские дороги. Внизу, по долине, проходила ж<елезная> д<орога>, здесь, наверху, шел трамв<ай> в Базель. Центром всех антр<опософов> было «капище», где встречались за едой все представители воюющих стран Европы. Вообще, Дорнах, очевидно, был в эти месяцы единственным местом, где не чувствовалась война: немцы, французы, англичане, австрийцы, русские сидели за одним столом, обменивались новостями и блюдами и не пылали друг к другу ненавистью. Были недоразумения – немцы поздравляли русских со своими победами и извинялись: «Простите, я забыл (или забыла), что вы не немец».
[123]Обижался на эти вещи один Белый и громко протестовал. Я же держался противуположной тактики: когда однажды был сбор в пользу немецких раненых, я беспрекословно достал 3 марки и сказал: «Если бедный Вильгельм обращается к о м н е за милостыней в пользу немецких раненых – разве у меня хватит духу ему в этом отказать?» А Белый мне ответил: «Если ты т а к ставишь вопрос, то это иное дело». Шт<ейнер> читал интереснейший курс лекций по национальной характеристике народов. Лекции были захватывающе интересны, но интерес стал слишком остер и рождал между слушателями слишк<ом> страстные споры. Шт<ейнер> их прекратил. Помню последнюю лекцию, в которой Шт<ейнер> любезно, легко, тоном светского человека характеризовал двух дам-сплетниц (антропософских теток): каждая из них в глубине торжествовала и победительницей глядела на свою соперницу. А после с торжеством обе говорили о том, как Д<окто>р «отделал» их противницу, и каждая в наивности не предполагала, что эти слова относимы также и к ней лично. Это было трогательно, смешно и жалко до отчаяния.
В этот, первый период в Дорнахе, я часто бывал у А. Белого. Он мне подробно рассказывал о тех циклах, которые я не слыхал. Это был период, когда между нами опять вспыхнула горячая словесная дружба и мы разговаривали часами и с неослабевающим упоением.
Часто я уезжал на целый день в Базель и просиживал часами в кино. Здесь были военные фильмы. Вообще, город после той особой, очищенно-бесстрастной атмосферы, что царила в Дорнахе, пронизывал острым<и> и убийственным<и> впечатлениями, как обстрелом пулемета. Но бесстрастная и святая атмосфера вокруг Johannes-Baú – утомляла. Слишком тяжело было все время соблюдать справедливость и равновесие, когда то и другое в мире были совершенно нарушены. Я начинал мечтать о Париже. И написал Нюше и Б<альмон>ту, что жажду их видеть. Получил от них призыв{58}. И в январе 1915 года расстался с Дорнахом. До Берна меня сопровождал художник Кемпер{59}.
[124]Вернее было бы сказать: «Я сопровождал художника Кемпера». У Кемпера была история простая, но весьма сложная по тому времени: ему нужно было засвидетельствовать подпись. Он бы русский и харьковчанин по рождению. У него были дела по наследству в Харькове со своим братом, офицером русской службы. Нужна была его подпись, официально заверенная. Но ни в одном русском учреждении даже и говорить <с ним> не хотели, как с немецким подданным. Я этим был глубоко возмущен и пошел с ним ходатайствовать. Сперва мы пошли к испанскому консулу, т. к. все дела германских подданных были во время войны переданы испанск<ому> консулу. Но там ничего не вышло. Испанский консул вежливо перед нами извинился и нас спровадил, посоветовав нам обратиться к американскому консулу. Мы прошли в конс<ульство> Соед<иненных> штатов, несравненно более чопорное и торжественное. Но результат оказался тот же. Потом мы посетили (нет, раньше) русское консульство. После американского – еще несколько, потом Кемпер передо мной извинился и решил с этим сложным вопросом покончить.
На эти хождения по консульствам ушел весь день. Наконец, я остался один. На вокзале оказалось, <что> еще мне оставалось ждать в Берн<е> поезда часа три. Я пошел в синема скоротать время и смотрел до поезда фильмы. В поезде я заметил только внимание, которое привлекала к себе эльзасская девушка (судя по головному убору с черными лентами), рассказывавшая о своем путешествии с мытарствами через Германию. Да после переезда через франц<узскую> границу – настороженное внимание ко всему, что хотя бы отдаленно напоминало Германию: начиналась полоса шпиономании. В Париж мы приехали на гар де Лион. Помню путь на извозчике в Passy – он все время шел по утренним пустынным набережным. Я смотрел широко раскрытыми новыми глазами на новый – военный Париж. Почти, в сущности, не изменившийся. Б<альмонтов>скую квартиру на Rue de la Tour[125] я тоже нашел неизменной и знакомой. Нюша меня отвела наверх в мою комнату. Это была полутемная комнатка, очень малых размеров. «А после вы сможете перейти сюда, в Нинину комнату», – сказала она, распахивая дверь в солнечную и более просторную комнату ребен<ка>.
[126]Я питался у Б<альмонта>. После ходил работать в Нац<иональной> библиотеке.
Нюша мне давала с собой в библиот<еку> сандвич. Я немного конфузился принимать его и съедать тайком под столом в биб<лиотеке>. Я помню свои мысли, подходя к Нац<иональной> биб<лиотеке>, сквер Лувра с голыми деревьями, сквозь которые сквозил новый отель… (не помню его названия). По вечерам я ходил рисовать на крови (5-минутная поза) в Atelièr Colarossi{60}. Там были вечно те же американки и англичанки со своими папками. Работа была торопливая и лихорадочная, и, если сначала в рисунок закрадывалась какая-нибудь ошибка, – то она повторялась во всей серии рисунков этого дня. Это, конечно, происходило от лихорадочной поспешности рисунка и некоторой механичности, которая оставалась вопреки настороженной лихорадочности. Мою художеств<енную> жизнь отчасти разделяла Е. Ю. Григорович, кот<орая> была немного художницей. С ней мы говорили об ее приятеле – художнике Гуревич<е>{61}, кот<орый> жил в Англии и недавно там женился. У него была в живописи одна «идея», котор<ую> я случайно, к большому удивлению Григ<оро>вич, угадал. «Идея» была в том, что композиция картины была подчинена психологической перспективе. Т. е. главные персонажи были нарисованы в большем масштабе, чем второстепенные. Темы были: «Распятие» – громадная фигура распятого Христа на пригорке и разбегающиеся с Голгофы маленькие фигурки римских воинов. Как идея, это было недурно, но пропорции не были найдены, и в законченных вещах была утрировка и шарж. Вообще, в художнике Г<уреви>че чувствовался оригинальный домысел, но не было талантливости, вкуса и убедительности. По вечерам мы всегда встречались с Эренбургом и иногда просиживали в маленьком кафе у gare Montparnasse[127] до рассвета, читая стихи. И я возвращался в Пасси пешком вдоль линии Метро.
[128]В этот период Илья писал книгу о «Канунах»{62}. Это был ряд набросков и настроений первого года войны, со всею чудовищностью и ложью, которая тогда уже начинала кристаллизоваться в атмосфере и личностях. Отсюда тот ряд странных образов, которыми обновили стихи модернисты франц<узские> поэты – Аполлинер, Макс Жакоб и др<угие>{63}. К ним непосредственно примыкал и Илья Эренбург. Как-то раз, проходя около Трокадеро, я стал думать об этих приемах и у меня сложилась пародия на Эренбурга «Серенький денек», к которой эпиграфом могли бы служить знаменитые строчки:
День прошел весьма обыкновенно, Облака сидели на диванах…Стихи были проникнуты «урбанизмом» и начинались так:
Грязную тучу тошнило над городом. Скользили калоши, чмокали шины. Шоферы ругались, переезжая прохожих. Сгнивший покойник во фраке С соседнего кладбища Насиловал девочку… Плакала девочка. Старый слепой паровоз Кормил чугунного грудью Младенца Бога. В яслях лежала блудница и плакала. А в райской гостиной, где пахло духами И дамской плотью{64}, А святая привратница Туалетного места варила для Ангелов суп из старых газет. Цып-цып-цып, херувимчики. Цып, цып, цып, серафимчики. Брысь ты, архангел проклятый, Ишь, отдавил Серафиму хвостик копытищем…Стихи были встречены хохотом. Одна Маревна была в серьезном восторге и сказала: «Как хорошо, Макс, что ты начал писать, наконец, тоже серьезные, настоящие стихи. Очень хорошо».
[129]Илья ее осадил каким-то саркастическим замечанием, заметив ей, что это не серьезные стихи, а пародия на его стихи, так что она не продолжала своих восторгов. Война и ее постоянный аккомпанемент в газетах начинали действовать удручающе на психику. Из французов я очень часто виделся в эту зиму с Озанфаном. У него была хорошая мастерская с квартирой в Passy, громадный вид на Булонский лес и на высоты Севра и Медона. Оз<анфан> меня вытаскивал с собою к разным своим приятелям-французам. Так я был с ним у Рене Менара, у Коттэ…{65} Он издавал журнал «Elan»[130]. Я ему много помогал в этом. Писал рекоменд<ательные> письма в Россию. И он, как вполне честный и совестливый француз, платил за это сторицей – парижскими знакомствами и связями. «Deux mots du bont d'une carte de visite»[131] – вот обычная обменная парижская монета, и любопытно, что здесь нет ни фальшивых монет, не бывает никогда обмана. Это одно из ценнейших и удобнейших произведений парижской жизни. Это большое достижение городской культурной жизни, где учитывается каждый любезный жест, каждый «счет» в кафе, каждая малейшая услуга. И это дает возможность в Париже, при достаточном количестве верных, хотя бы и поверхностных друзей, чувствовать себя как дома во всех слоях и углах Парижа, а также устроить и пристроить своих друзей, попавших в Париж впервые.
В Париже таких признаков очень старой (вековой) культурной жизни – больше, чем в любом из больших городов Европы.
Горькая ирония О. Мирбо, когда он говорит о том, что надо <многое>, чтоб гарантировать исполнение обязанности, когда дело идет о сделке между двумя честными людьми (нотариус, протокол, договор, контракт) и как эти дела просто разрешаются между двумя ворами, котор<ые> никогда не нарушают своего слова, вполне опровергается инсти<нк>том «Deux mots…».
[132]В один из последних дней моего пребывания в Париже Ал<ександра> Вас<ильевна> Гольштейн (Баулер) позвала меня в свой крошечный кабинет, с мал<еньким> письменным> столом, где происходили все гениальные беседы, и начала длинный разговор, из которого я с трудом понял, что она считает, что у нас с Мар<ией> Сам<ойловной> Цетлин роман, и <что она> советует мне от него отказаться. Это было так далеко от истины и так далеко от ее соображений, что я ее не мог разубедить.
Она ее не находила достаточно умной для моей дружбы и поэтому совсем не находила данных, по которым можно было объяснить мое частное посещение Ц<етли>ных.
Помню очень отчетливо наши встречи в эту эпоху с М<арией> С<амойловной>. Она хотела мне подарить чемодан для путешествий и несессер для туалета. Мы с ней ездили по большим магазинам, и она с трогательным вниманием выбирала мне роскошные, но не очень нужные вещи. Иногда с грустью говорила: «Мне очень грустно себе представить, что вы с этим чемоданом уедете скоро в Индию». Последние дни, когда уже мой билет в Россию был взят и день отъезда назначен, мы вместе ходили по Парижу, я ее знакомил с разными моими любимыми местами, музеями и людьми. Она меня попросила познакомить ее до моего отъезда с Верхарном{66}. Я стал узнавать, где он живет. И узнал, что его постоянный адрес – St. Clound.
Я написал ему, но оказалось, что в означенный день он дома не будет. В тот день, когда было назначено не имеющее состояться свидание, я повел М<арию> С<амойловну> в Musée Guimée, чтобы показать ей мумию Левканойи{67} (в зеркальной витрине с черными цветами) – и здесь мы увидели Верхарна. Он был в одной из зал музея Гимэ, пред статуей «Дхармы» – <п>оследний облик, который у меня остался в глазах от великого поэта{68}.
[133]Вспоминая последние недели, проведенные в Париже, я замечаю, что у меня вовсе не было тоски расставания с Парижем. Хотя я должен был предвидеть, что еду в совершенно неизвестное, но не предвидел Революции и того, что на много лет, вне своей воли, застряну в России, – а это-то именно и случилось со мной. Мой отъезд был решен маминым зовом, кот<орая> писала, что, если я теперь не приеду, то она совсем не знает, когда и как мы увидимся. И я выехал, несмотря на усилившуюся подводную войну, несмотря на то, что момент для возвращения был самый неблагоприятный. Но я совершенно не верил, что со мной что-нибудь может случиться катастрофическое. Но, вместе с тем, я никогда ближе не стоял к возможной катастрофе, как во время этого морского перехода. Последний пароход перед нашим переходом через Ламанш был потоплен со всеми пассажирами. Это был «Sussex». Так же был потоплен пароход «Ирида», вышедший за нами из Нью-Кестля{69}. Потом я узнал, что подводные лодки готовились напасть именно на нас, т. к. я ехал с Генеральным штабом Сербской армии, тайно пробиравшимся в Россию. Это мне сказали в Лондоне в русск<ом> посольстве (я ехал дипл<оматическим> курьером с депешами к Сазонову){70}. Эти «депеши», представлявшие фактически мои собствен<ные> тетради со стихами, и были дипломатической визой, держась за которую я преодолевал с легкостью все международные военные рогатки, расставленные в то время в изобилии. На этом окольном пути из Парижа в Россию, через Хапарандо – Торнео{71}.
Комментарии
Автобиографическая проза
В первый раздел книги Волошина «Путник по вселенным» – «Автобиографическая проза» – включены очерки и статьи, в которых зафиксированы события, непосредственно происходившие с М. А. Волошиным. То, чему свидетелем он был сам.
Большая часть статей печатается по первым прижизненным публикациям в различных (и ныне малодоступных) периодических изданиях дореволюционной России (газетах: «Русский Туркестан», «Русь», «Московская весть», «Биржевые ведомости», «Речь», «Дело», «Одесский листок»; журнале «Аполлон»).
Впервые на русском языке в этом сборнике публикуется статья Волошина «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге», напечатанная в 1905 г. в одном из французских периодических изданий.
Статьи М. Волошина «Андорра», «По глухим местам Испании. Вальдемоза» и «Искусство в Феодосии» печатаются впервые по рукописям, хранящимся в Институте русской литературы АН СССР (ИРЛИ) в Ленинграде (ф. 562).
Статьи в сборнике расположены в хронологическом порядке по времени их написания с 1900 по 1930 г.
В Обер-Аммергау
Опубликовано в газете «Русский Туркестан» (1900. – № 1. – 1 окт.– С. 1–3). Печатается по тексту этого издания.
{1} Обер-Аммергау – селение в верхней Баварии, на реке Аммер; в конце XIX в. – около 1500 жителей. Всеевропейски-известные представления («мистерии») возникли здесь после чумы 1634 года.
Волошин прибыл в Обер-Аммергау 16(3) июня 1900 г., во время своего путешествия по Европе с тремя студентами: В. П. Ишеевым, Л. В. Кандауровым и А. В. Смирновым.
{2} Имеется в виду Людовик II (Отто-Фридрих-Вильгельм, 1845–1886) – король баварский, страстный любитель музыки и архитектуры. Страдая психическим расстройством, бросился 13 июня 1886 года в Штарнбергское озеро.
{3} Людовик I (Карл-Август, 1786–1868) – баварский король. Выступал как поэт, покровительствовал писателям и художникам. В 1848 г. отказался от короны в пользу сына, Максимилиана II. Г. Гейне высмеял его в «Хвалебных песнях королю Людвигу» (1843).
{4} «Новые Афины» – Мюнхен, столица Баварии, где в XIX в. (особенно при Людовике I) был возведен ряд зданий в античном и классическом стиле.
{5} «Потонувший колокол» – стихотворная драма-сказка Г. Гауптмана (1896).
{6} Каиафа – иудейский первосвященник. Высокомерный саддукей, противник христианства (Евангелие от Иоанна XI, 49–50).
{7} Синедрион – высшее государственное учреждение и судилище в древней Иудее (до 425 г.).
{8} «Прекрасная Елена» – оперетта Жака Оффенбаха (1864).
{9} Фрагмент из стихотворения Г. Гейне, которым начинается «Путешествие по Гарцу» (1826).
Листки из Записной книжки
Опубликовано в газете «Русский Туркестан» (1901. – № 13. – 28 янв.– С. 1–2; № 18. – 9 февр.– С. 1–2; № 26. – 2 марта.– С. 1–2 и № 34. – 18 марта.– С. 1–2). Печатается по тексту этих изданий.
В серии путевых очерков, помещенных в этой газете, Волошин описывает впечатления от путешествия по Европе с тремя спутниками в 1900 году (с 26 мая по 28 июля). В архиве Волошина сохранился «Журнал путешествия», который Волошин, Кандауров и Ишеев вели по очереди. (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 438). «Записная книжка» Волошина хранится в ИРЛИ (ф. 562, оп. 1, ед. хр. 437).
{1} Ортлер – гора в Западных Альпах, 3905 м над уровнем моря.
{2} Вилла императора Адриана в Тиволи под Римом.
{3} Могила Шелли в Риме. Театр Диониса в Афинах. Упомянут в стихотворении Волошина «Акрополь» (1903). Вилла д'Эсте в Тиволи.
{4} Стихотворение написано 11 января 1901 года в Ташкенте.
{5} Собор св. Стефана в Вене строился с 1137 по 1454 г., сначала в романском, затем в готическом стиле. Увлечение Волошина готикой сохранилось на многие годы; в 1913–1914 гг. он работал над книгой «Дух готики» (осталась незаконченной). См. публикацию А. В. Лаврова «Дух готики» – неосуществленный замысел М. А. Волошина» в кн. Русская литература и зарубежное искусство (Л., 1986.– С. 317–346).
{6} Часовня Сент-Шапель (1243–1248), церкви Сен-Жермен-л'Оксер-pya (XIII – XV вв.) и Сен-Жермен-де-Пре (XI – XVII вв.) – памятники средневековой архитектуры.
{7} Ассизи – город в Умбрии, сохранил облик средневековых укрепленных городов. Святой Франциск Ассизский (1182–1226) – христианский подвижник, основатель монашеского ордена францисканцев.
{8} Джотто ди Бондоне (1226–1337) – итальянский художник.
{9} Палестрина (Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, ок. 1525–1594) – итальянский композитор и органист.
{10} Стихотворение написано 13 июня 1900 г.
{11} Дерулед Поль (1846–1914) – французский политический деятель, литератор, лидер шовинистической «Лиги патриотов». 23 февраля 1899 г. пытался, с помощью реакционной военщины, совершить антиреспубликанский переворот, за что и был судим.
{12} Фрагмент из поэмы Г. Гейне «Германия» (1844) в переводе Волошина. В Линц Волошин и его спутники прибыли вечером 13 июня.
{13} Макарт Ганс (1840–1884) – немецкий художник, автор внешне эффектных композиций, пользовавшихся шумным успехом.
{14} Статуя «Бавария» установлена в 1850 г.; высота ее 20,5 м, пьедестал – 9,5 м. В поднятой левой руке – венок из дубовых листьев.
{15} Художественное объединение «Сецессион» было учреждено в Мюнхене в 1892 г., в противовес академическому направлению в искусстве. На выставках «Сецессиона» экспонировались произведения современных художников Германии и других стран.
{16} Луитпольд Карл-Иосиф-Вильгельм (1821–1912) – принц-регент Баварии.
{17} Новая Пинакотека (основана в 1853 г.) экспонирует искусство XIX – XX вв. Сегантини Джованни (1858–1899) – итальянский живописец, использовал технику дивизионизма. Макс Габриэль Корнелиус (1840–1915) – немецкий художник.
{18} Рескин Джон (1819–1900) – английский писатель, искусствовед, историк, публицист. Тернер, Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) – английский живописец-маринист, увлекался разработкой световых эффектов.
{19} Имеется в виду картина Сегантини «Пахота в Энгадине» (1890).
{20} Эмерих Анна-Катарина (1774–1824) – немецкая католическая монахиня.
{21} «Вы, греки, еще совсем дети!» – слова древнеегипетского жреца Солону, приведенные Платоном в диалоге «Тимей».
{22} Статуя царского писца Каи (известняк) и статуя вельможи Каапера «Сельский старшина» (дерево) – скульптуры середины III тысячелетия до н. э. (Лувр и Египетский музей в Каире).
{23} «Семя еще не умрет…» – слова Христа (Евангелие от Иоанна, XII, 24).
{24} Фламинин Тит Квинкций (ок. 229–174 до н. э.) – римский полководец, завоеватель Греции.
{25} Тит Флавий Веспасиан (39–81) – римский император в 79–81 гг. Завоевал и разрушил в 70 г. Иерусалим.
{26} Маццини (Мадзини) Джузеппе (1805–1872) – итальянский революционер, один из вождей итальянского национально-освободительного движения.
{27} Пизакане Карло (1818–1857) – итальянский революционер, утопический социалист.
{28} Рисорджименто – национально-освободительное движение итальянского народа против австрийского гнета, за объединение раздробленной на мелкие государства Италии в единое государство (конец XVIII в.). Медичи, Орсини, Марнара, Саффи – деятели этого движения.
{29} Триен – ныне Тренто.
{30} «Итальянское путешествие» Гете опубликовано в 1816–1829 гг.; записки об итальянском путешествии Г. Гейне вошли в его «Путевые картины» (печатались в 1826–1930 гг.).
{31} Эрвальд – долина. В «Журнале путешествия» Волошин писал: 19 июня 1900 г.: «Через час мы были в хорошеньком местечке Wildsputze, обладающем прекрасной каштановой аллеей и красивой готической часовней под тенью прекрасного старого дерева…»
{32} Вильдшпиц – вершина в Эцтальских Альпах, 3776 м над уровнем моря.
{33} Гох-Йох – перевал через водораздел рек Инн и Эц, высота его 2943 м.
{34} Бормио – город в итальянской провинции Сондрио на севере Ломбардии. В конце XIX в. – 1800 жителей.
Андорра
Печатается по рукописи (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 167), без последних четырнадцати листов, содержащих, в основном, библиографию и выписки из печатных источников.
В путешествие по Испании и на Мальорку Волошин выехал из Парижа 25(7) мая 1901 г., вместе с художниками Елизаветой Сергеевной Кругликовой (1865–1941), Елизаветой Николаевной Давиденко (1867–?) и Александром Алексеевичем Киселевым (1855–1911).
{1} Смирновский Петр Владимирович (1846–?) – был автором учебников по русскому языку и литературе (и Волошин, по-видимому, пользовался ими). Автором же «Учебника географии» был В. В. Смяровский (Спб., 1869. – 2-е изд. – 1871) – и в этом учебнике действительно есть заметка об Андорре.
{2} Согласно «Энциклопедическому словарю» Брокгауза – Ефрона (1890), площадь Андорры составляла в то время 495 кв. км, а население – 12 000 жителей.
{3} По-видимому, Гастон II, виконт Беарнский, по кличке «Феб» (1331–1391).
{4} Израэльс (Исраэлс) Йосеф (1824–1911) – голландский живописец. Его картины раннего периода (1890–1900) отличаются темным колоритом и светотеневыми контрастами.
По глухим местам Испании (Вальдемоза)
Печатается по рукописи (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 166).
На остров Майорку Волошин и его спутники отплыли из Барселоны вечером 17 (4) июня 1901 г. В Пальму прибыли в 7 ч. утра.
{1} Рамбла – цепочка бульваров, пересекающая Барселону с севера на юг на протяжении более километра.
{2} Крепость Монтхуан, иначе Монгуих, – форт, расположенный на скалистой горе, на высоте 191 м.
{3} Монтсеррат – монастырь, основанный в 880 г.: принадлежал бенедектинцам с 976 г. В 1901 г. – в развалинах.
{4} В письме от 15 ноября 1838 года Фредерик Шопен так описывал Пальму: «Я в Пальме, среди пальм, кедров, кактусов, оливковых деревьев, апельсинов, лимонов, алоэ, фиг, гранатов и т. п. Небо как бирюза, море как лазурь, горы как изумруд, воздух как на небе. Днем солнце, все ходят по-летнему, и жарко: ночью гитары и песни целыми часами. Балконы огромные, с виноградом над головой; мавританские стены…» (Бэлза И. Шопен. – М., 1968.– С. 265). В 1901 году город Пальма насчитывал более 60 000 жителей. Готический собор строился с 1231 по 1601 г. Замок Бельвер – XIII в.
{5} Жорж Занд жила в Вальдемозе с Ф. Шопеном зимой 1838/39 г. Приехав 8 ноября 1838 г. в Пальму, путешественники поселились в «Доме ветров». Но уже 15 ноября Шопен писал другу юности Юлиану Фонтане: «Жить буду, наверное, в чудеснейшем монастыре, прекраснейшем месте в мире: море, горы, пальмы, кладбище, храм крестоносцев, развалины мечетей, старые, тысячелетние оливковые деревья…» В конце декабря Шопен писал уже из Вальдемозы – «громадного заброшенного монастыря картезианцев между скалами и морем, из кельи, имевшей форму высокого гроба с огромными сводами» (Бэлза И. Шопен. – М., 1968.– С. 265). По словам композитора, в Вальдемозе он испытал «подъем поэтического вдохновения, который точно излучается всеми окружающими предметами» (Розова Т. Фридерик Шопен: 1810–1849. – Л., 1960.– С. 66). Здесь, в частности, были закончены два полонеза (ля-мажор и до-минор), написана мазурка ми-минор. Однако начавшиеся дожди и сырость старых построек вскоре стали плохо действовать на здоровье Шопена – и 13 февраля 1839 года он, вместе с Ж. Санд и ее двумя детьми, покинул Майорку.
{6} Мирамар – имение австрийского эрцгерцога Людвига-Сальватора (1847–1915).
{7} Имеется в виду герцог Сен-Симон Луи де Рувруа (1675–1755) – писатель и государственный деятель. Его «Мемуары» в 21-м томе впервые были изданы в 1829–1830 гг.
{8} Синьяк Поль (1863–1935) – французский художник-постимпрессионист.
{9} Беклин Арнольд (1827–1901) – немецкий живописец-символист.
{10} Готфрид Бульонский (ок. 1060–1100) – герцог Нижней Лотарингии, один из предводителей 1-го крестового похода (1096–1099), первый король Иерусалима.
{11} Имеется в виду «Die Balearen» Людвига-Сальватора. Было издано в Лейпциге в 1869–1891 гг. в семи томах.
{12} Люлль, или Луллий Раймонд (1235–1315) – испанский философ и богослов, один из основателей европейской арабистики, основоположник каталонской литературы.
{13} Хакмес I, правильнее Хайме I (1208–1276) – король Арагона (1213–1276), покорил Валенсию и Балеары.
{14} Хакмес II, правильнее Хайме II, Справедливый (ок. 1260–1327) – король Арагона (с 1291) и Сицилии (1286–1295).
{15} Поэма А. К. Толстого (1817–1875) «Алхимик» вошла в 1-й том его «Полного собрания стихотворений» (Спб., 1898.– С. 176–183). В примечании приводится вариант легенды, по которому «донна Элеонора» обещала полюбить дона Раймунда, «если он достанет ей жизненный эликсир», почему он и «сделался алхимиком».
{16} «Бланкерна» – философская повесть Р. Луллия.
Бой быков
Опубликовано в газете «Русский Туркестан» (1901. – № 156. – 19 авг.– С. 1–3). Печатается по тексту этого издания.
Впервые Волошин видел бой быков в Барселоне 15(2) июня 1901 г.; в Севилье он находился 12–14 июля – и в его записной книжке снова появились зарисовки корриды.
Весенний праздник тела и пляски
Опубликовано в газете «Русь» (1904. – № 129. – 22 апр.– С. 3). Печатается по тексту этого издания.
О «Бале четырех искусств» Волошин писал также в «Письме из Парижа» (Весы. – 1904. – № 5.– С. 39). Мысль о том, что «нагота присуща танцу», Волошин высказывал в беседе с В. И. Ивановым (16 августа 1904 г. в Женеве). Впоследствии он изложил свои мысли об этом в статье «Лицо, маска и нагота» (рукопись – ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 296).
{1} Сюлли-Прюдом Арман (1839–1907) – французский поэт-парнасец.
{2} Карл V (1500–1558) – испанский король (1516–1556) из династии Габсбургов, в 1519–1516 – император Священной Римской империи. Имеется в виду картина Г. Маккарта «Въезд Карла V в Антверпен» выставлявшаяся на Парижской Всемирной выставке 1878 г.
{3} Мария-Полина Бонапарт, принцесса Боргези (1780–1825) – младшая сестра Наполеона I Бонапарта. В 1801 г. вышла замуж за генерала Леклерка (вскоре убитого), а в 1803 г. – за итальянского принца Камилла Боргезе. Итальянский скульптор Антонио Канова (1757–1822) создал идеализированный портрет «Паолина Боргезе в виде Венеры» в 1805–1807 гг.
{4} Беранже Рене (1830–1915) – французский политический деятель, сенатор.
{5} Жером Куаньяр – герой романов Анатоля Франса «Харчевня королевы Гусиные лапы» (1892) и «Суждения господина Жерома Куаньяра» (1893). Приведенная Волошиным цитата взята из последнего (гл. XVII).
{6} «…перейдя воду…» – т. е. переправившись на левый берег Сены.
{7} Массье (фр.) – староста художественной мастерской или класса.
{8} Сарабанда – старинный испанский народный танец.
{9} Сотрудничество Альфонса Муха (1860–1939) с театром «Ренессанс» Сары Бернар продолжалось с 1895 по 1901 г., эпизодически и позднее. «Феодора» (1884) – пьеса французского драматурга Викторьена Сарду (1831–1908).
{10} Адан Поль (1862–1920) – французский писатель.
{11} Ломбар Жан (1854–1891) – французский писатель. Его роман «Византия» (1891) посвящен событиям VIII века.
{12} Айа-София – храм в Константинополе (532–537). Представляет собой базилику длиной 77 м, увенчанную куполом диаметром 31,4 м.
{13} Саломея (библ.) – жена Ирода Антипы, дочь Иродиады, своей пляской вызвавшая восторг у Ирода и его гостей и попросившая в награду голову Иоанна Крестителя.
Кровавая неделя в Санкт-Петербурге
Опубликовано в «L'Européen Courrier internationale Rebdomadaire»[134] (1905. – № 167. – 11 февр.– С. 14–16, на французском языке). Печатается по тексту этого издания.
Впечатления Кровавого воскресенья нашли отражения также в дневнике Волошина «История моей души» и в стихотворении «Предвестия» (20 июня 1905).
{1} Утром 22 января по новому стилю.
{2} Редакция газеты «Русь» А. А. Суворина находилась на набережной Мойки, дом 32. Малая Морская – ныне улица Гоголя. Полицейский мост – через Мойку – ныне Народный.
{3} Гороховая улица – ныне ул. Дзержинского.
{4} Будучи наследником, Николай II совершил путешествие на Дальний Восток, где 23 апреля 1891 г. в городе Отсу некий фанатик ударил его саблей по голове.
{5} 18 мая 1896 г. во время коронационных торжеств на Ходынском поле под Москвой погибло в давке до полутора тысяч человек.
{6} Имеются в виду Жозеф-Франсуа Фуллон (1715–1789) – королевский интендант, казненный после взятия Бастилии, и Иван Александрович Фуллон (1884–?) – генерал-лейтенант, петербургский градоначальник в 1905–1906 гг.
Вернисаж Салона Независимых
Опубликовано в газете «Русь» (1905. – № 69. – 18 марта.– С. 3) Печатается по тексту этого издания.
{1} Салон Независимых – общество независимых художников, основанное весной 1884 г. На первой выставке (декабрь 1884 г.) были предcтавлены не принятые в Салон картины четырехсот художников. Затем выставки устраивались ежегодно. Первый председатель Салона Независимых – Одилон Редон. При активном участии Ж. Сера, П. Синьяка (председатель Салона с 1908 по 1936 г.) был выработан устав, отличительной чертой которого было отсутствие жюри и наград.
{2} Мирбо Октав (1848–1917) – французский писатель. Волошин заинтересовался его творчеством еще в 1901 г. Личное знакомство состоялось в январе 1904 г.
{3} Метерлинк Морис (1862–1949) – французский поэт, прозаик и драматург. Волошин познакомился с ним, по-видимому, летом 1904 г.
{4} Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – критик и историк искусства, организатор художественных выставок и «сезонов» русского балета и оперы в Париже и Лондоне.
{5} Роден Огюст (1840–1917) – французский скульптор. «Моисей» был создан Микеланджело Буонарроти в 1515–1516 гг. Впоследствии украсил гробницу папы Юлия II в римской церкви Сан-Пьетро ин Винколи.
{6} Редон Одилон (1840–1916) – французский художник-символист. Волошин познакомился с ним весной 1901 г. и всячески пропагандировал его творчество в России. Ему посвящено стихотворение «Я шел сквозь ночь. И бледной смерти пламя…» (1914).
{7} Вюийяр (Вюйар, Вюиллар) Жан Эдуар (1868–1940) – французский художник. Серюзье Поль (1863–1927) – французский художник, друг Гогена. Дени Морис (1870–1943) – французский художник. Лакост Шарль (1870–1959) – французский художник, участник группы «Десять».
{8} Ренье Анри Франсуа Жозеф де (1864–1936) – французский поэт и прозаик. Волошин переводил его стихи и рассказы, став одним из первых пропагандистов его творчества в России.
{9} Фор Поль (1872–1960) – французский поэт и театральный деятель.
{10} Англада-Камараза Эрменхильдо (1872–1959) – испанский художник.
Письмо из Парижа
Опубликовано в газете «Русь» (1905. – № 186. – 12 авг.– С. 3). Печатается по тексту этого издания.
{1} Безант Анни (1847–1933) – общественная деятельница Индии, председатель Теософского общества (с 1893 г.). Англичанка по национальности. Волошин слушал ее лекцию 18(5) июня 1905 г.
{2} «Русская школа…» – Высшая школа общественных наук, созданная в Париже в ноябре 1901 г. рядом русских либеральных профессоров, находившихся в оппозиции к царскому самодержавию (M. M. Ковалевский, А. М. Амфитеатров, Е. В. Аничков, И. 3. Лорис-Меликов и др.).
{3} Трачевский Александр Семенович (1838–1906) – историк, бывший профессор Одесского университета.
Литературные банкеты «La Plume»
Опубликовано в газете «Русь» (1905. – № 187. – 13 авг.– С. 3). Печатается по тексту этого издания.
{1} «La Plume» («Перо») – журнал символистской ориентации, выходил в 1889–1913 гг. под редакцией Леона Дешана.
{2} Дешан Леон (1863–1899) – французский литератор, основатель «La Plume».
{3} Ропс Фелисьен (1833–1898) – бельгийский график и живописец.
{4} Люс Максимилиан (1858–1941) – французский художник-неоимпрессионист.
{5} Десбутен Марселин-Жильбер (1823–1902) – французский литератор и художник.
{6} Верлен Поль (1844–1896) – французский поэт-символист.
{7} Бодлер Шарль (1821–1876) – французский поэт. Надгробный памятник на его могиле был выполнен скульптором Жозе де Шармуа в 1902 г.
{8} Гелиогабал Марк Аврелий Антоний – римский император (в 218–222 гг.), прославившийся своей распущенностью.
{9} Нордау Макс (1849–1925) – немецкий критик и публицист.
{10} Пюви де Шаван Пьер (1824–1898) – французский художник.
{11} Леконт де Лиль Шарль (1818–1894) – французский поэт.
{12} Малларме Стефан (1842–1898) – французский поэт.
{13} Эредиа Хосе Мария (1842–1905) – французский поэт.
{14} Кларти Жюль (1840–1913) – французский прозаик и драматург.
{15} Бэнар Альбер Поль (1849–1934) – французский художник-монументалист.
{16} Бурж Элемир (1852–1925) – французский писатель.
{17} Канудо Риччиото (1879–1923) – французский писатель и критик.
{18} Тротро Альбер – французский музыкальный критик.
{19} Лафонтен Жан (1621–1695) – французский поэт, баснописец.
{20} Карьер Эжен (1849–1906) – французский художник.
{21} Северин Н. – псевдоним писательницы Надежды Ивановны Мердер (урожд. Свечиной, 1839–1906).
{22} Боэс Карл – французский журналист.
{23} Майар Леон – французский журналист.
{24} Таулоу Фриц (Иохан Фредерик, 1847–1906) – норвежский художник.
Национальный праздник 14 июля в Париже
Печатается впервые по рукописи, хранящейся в ИРЛИ, ф. 562.
{1} Лоншан (Longchamp) – поле к западу от Парижа, место проведения скачек.
{2} Павильон Флоры – часть дворца Тюильри на набережной Сены.
{3} Фуллер Мария-Луи (1862–1928) – американская танцовщица, учительница Айседоры Дункан.
{4} Лубе Эмиль Франсуа (1838–1929) – французский государственный деятель, президент Франции в 1899–1906 гг.
{5} …сен-сирцы идут… – курсанты военной академии Сен-Сир.
{6} Андре Луи (1838–1913) – французский генерал, военный министр (1901–1904).
{7} Страсбург – главный город французской провинции Эльзас. С 1871 г. (после франко-прусской войны) – в составе Германии, что и служило поводом для антигерманских настроений и демонстраций.
{8} Сен-Северен – церковь (XIII – XVI вв.).
{9} Сен-Жюльен-ле-Повр – церковь (XII – XVII вв.).
{10} Монтион Антуан-Оже (1733–1820) – барон, филантроп.
{11} Hotel de Ville – городская ратуша на набережной Сены.
{12} Сен-Мерри – церковь (1515–1552) «пламенеющей готики».
{13} Мариво Пьер Карле де Шамбленде (1688–1763) – французский писатель.
{14} Горн Антуан-Жозеф, граф де (1698–1720).
{15} Макро (разг. фр.) – сводник, сутенер.
{16} Апаш – деклассированный элемент.
{17} Жиголетка – проститутка (от фр. gigolette – «девка»).
{18} Кекуок – бальный и эстрадный танец, возникший в США, получивший распространение в Европе в 1890-х гг. На эстраде варьете и кафе-шантанов приобрел характер, близкий к канкану.
{19} Сен-Жак – башня в 57 м высотой, часть разрушенной в конце XVIII в. церкви Сен-Жак. Построена в 1508–1522 гг.
{20} Наполеон Бонапарт, окончив Бриеннское военное училище (в восточной Франции), в конце октября 1784 г. поступил в Парижскую военную школу. Окончил ее 30 октября 1785 г.
{21} Отель Монне (1771–1777) построен в стиле классицизма.
{22} Ролан де ла Платьер Манон Жанна Мари (урожд. Флипон, 1754–1793) – французская мемуаристка, деятельница Великой французской революции.
{23} Абсент – напиток, настоенный на полыни.
{24} Буль-Миш – разговорное название бульвара Сен-Мишель (главная улица Латинского квартала).
{25} Бал Бюлье – старинный публичный бал, сборный пункт студенчества.
{26} «Книга Монеллы» – сборник рассказов французского писателя Марселя Швоба (1867–1905), вышедший в 1896 г. Размышляя о своей любви к проститутке Луизе, автор дает ряд образов ее «сестер» по профессии.
{27} Де Квинси Томас (1785–1859) – английский писатель-романтик, автор известной книги «Исповедь англичанина-опиумомана» (1822).
{28} Нелли – героиня романа Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные».
{29} Соня Мармеладова – героиня романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866).
{30} Поэт-Пьеро – так Волошин называл французского поэта-символиста Жюля Лафорга (1860–1887).
Все мы будем раздавлены автомобилями
Опубликовано в газете «Московская весть» (1911. – № 7. – 3 окт.– С. 3). Печатается по тексту этого издания.
{1} Кюри Пьер (1859–1906) – французский физик.
{2} Волошин приехал в Париж, в качестве корреспондента «Москов^ ской газеты», в сентябре 1911 г. Последнее перед этим пребывание в Париже закончилось в январе 1909 г.
Константин Богаевский (Отрывок)
Статья Волошина «Константин Богаевский» впервые была опубликована в журнале «Аполлон» (1912. – № 6.– С. 5–21). Печатается с сокращениями по тексту этого издания.
{1} Босфор Киммерийский – древнегреческое название Керченского пролива.
{2} Текст восходит к «Одиссее» (X, 509–510). Ср. перевод В. А. Жуковского:
…достигнешь Низкого брега, где дико растет Персефонин широкий Лес из ракит, свой теряющий плод, и из тополей черных…{3} Флегрейские поля – древнее название равнины римской Кампаньи по берегу Тирренского моря от Кум до Капуи.
{4} Кенегез – село в степной части восточного Крыма, ныне Красногорка.
{5} Иосафатова долина – место близ Иерусалима, упоминаемое в Библии, где будет происходить при конце мира Страшный суд.
{6} Карадаг – вулканический массив близ Коктебеля.
{7} Херубу – херувим; подразумевается причудливая форма скал Карадага. Ср. в стихотворении Волошина «Карадаг»:
И бред распятых шестикрылий Окаменелых Керубу… (Стихотворения. – Л., 1977, – С. 172){8} Шах-Мамай – имение Н. Лампси, внука Айвазовского, под Старым Крымом.
Репинская история
Текст по книге: Волошин М. О Репине. – М., 1913.
{1} А. Балашов изрезал картину 16 января 1913 г. Статья Волошина «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина» напечатана в газете «Утро России» 19 января 1913 г.
{2} Благожелательные отзывы о художниках «Бубнового валета» содержались в статьях Волошина: «Московская хроника» (Русская художественная летопись. – 1911. – № 1.– С. 10–12) и «Художественные итоги зимы 1910–1911 гг. (Москва)» (Русская мысль. – 1911. – № 5.– С. 30–32). Затем 12 и 25 февраля 1912 г. Волошин выступал на диспутах «Бубнового валета» в Москве. Поэт-футурист Бенедикт Лившиц впоследствии объяснял, что Волошин был приглашен «Бубновым валетом» «в качестве референта», как художественный критик, «отличавшийся известной широтой взглядов» и чуждый «групповой политике Грабарей и Бенуа». (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. – Л., 1933.– С. 84).
{3} Бурлюк Давид Давидович (1882–1967) – художник и поэт-футурист.
{4} Топорков А. К. (1882–?) – философ, критик и журналист.
{5} Щербиновский Дмитрий Анфимович (1867–1926) – художник.
{6} Мильман Адольф Израилевич (1886–1930) – художник.
{7} Сам Бурлюк вспоминал: «Вечер открылся речью Макса Волошина, который читал свое слово по тетрадке.
Толстый, красный – с огненными волосами, бурей стоявшими над лбом, он был какой-то чересчур уж в своем буржуазном успевании не подходяще спокойный, стоя на эстраде среди всеобщего возбуждения тысячной молодой толпы.
На экране по изложении истории с картиной появилось само произведение, цапнутое торопливой нервной рукой больного Балашова.
Высоко в последних рядах аудитории, через два сиденья от меня, поднялась небольшая, в застегнутом сюртуке, фигурка. Лицо, изборожденное сетями морщин, коричневатое: фигурка говорила глухим голосом, сразу ставшим близким и знакомым всем.
Это был Илья Ефимович Репин.
«Я испытывал тревогу, приближаясь по залам к моему холсту… Да… в содеянном виноваты новые… бурлюки…»
Был дан свет: картина с черными полосами балашовской вивисекции исчезла с экрана.
В окружающей толпе царила напряженная тишина: все ждали скандала… событий.
И. Е. Репина стали упрашивать перейти на эстраду, но он вдруг, видимо потеряв спокойствие, с которым начал речь свою, речь ректора академии, которого привыкли подчиненно слушаться, продолжал уже с тоном раздражения и обиды:
«…Я не хочу… Я сейчас уйду… мне только хотелось послушать, что скажут такой многочисленной аудитории… о несправедливо содеянном…»
Проговорив это, устремился меж сиденьями вверх, а далее, по боковому проходу, в гардеробную» (Бурлюк Д. Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста: Машинопись. – Рук. отд. ГПБ, ф. 552, ед. хр. 1, с. 20–22).
{8} Рецензент журнала «Русская художественная летопись» (1913. – № 3) так оценил выступление Волошина: «Насколько можно вывести из газетных сообщений, доклад этот был едва ли своевременен. Как бы ни относиться к знаменитой картине, нельзя же отрицать, что она яркое выражение художества своего времени, и потому, конечно, ей место не в паноптикуме, как утверждал Волошин. Но, думается, совсем бестактно было, если не самое присутствие Репина, то его «взволнованное» выступление и особенно – вторичное обвинение новейших художественных настроений, как почвы для художественного вандализма». Еще определеннее поддержал Волошина критик Я. А. Тугенхольд (Бурлюк Д. Д.– С. 56): «Правильный (как бы ни смотрели на его своевременность) отпор, данный М. Волошиным Репину, трижды обвинившему молодежь в подкупе Балашова, вызвал со стороны московской прессы преувеличенно яростные нападки против «Бубнового валета», под флагом которого выступил Волошин… Я говорю – правильный, потому что дело шло не только о протесте против обилия крови в репинской картине <…>, но и о протесте против тех «кулачных приговоров» <…>, которыми Репин всегда расправлялся с инакомыслящими художниками». На 2-м диспуте в прениях выступил также В. В. Маяковский (см. «Русское слово» от 26 февраля). По свидетельству «Русских ведомостей» (28 февраля) Маяковский заявил, что «Бубновый валет» «даже скандала не сумел устроить». «М. Волошина оратор обозвал лакеем «Бубнового валета» за то, что он, не восприняв в поэзии принципа новой живописи («цвет, линия и форма должны быть самовладеющей величиной»), высказал себя солидарным с «Бубновым валетом» в оценке картины Репина».
Год назад
Опубликована в газете «Биржевые ведомости» (1915. – № 14 953. – 9(22) июля.– С. 3). Печатается по тексту этого издания.
{1} Выехав из Коктебеля около 6 июля 1914 г., Волошин отплыл из Севастополя на Одессу, а далее ехал поездом до г. Рени, пароходом по Дунаю до Галаца, поездом до г. Брассо в отрогах Карпат и, наконец, к вечеру 26 (13) июля приехал в Будапешт.
{2} Вспоминая эти дни в 1932 году, Волошин отмечал: «Если бы толпа в тот момент признала во мне русского, то едва ли мое странствие прошло так просто».
{3} Ошибка памяти Волошина (см. примеч. 1).
Поколение 1914 г.
Опубликовано в газете «Биржевые ведомости» (1915. – № 14 843. – 15(28) мая. – Утр. вып.– С. 3). Печатается по тексту этого издания.
{1} Жорес Жан (1859–1914) – деятель французского и международного социалистического движения, историк. Был убит 31 июля 1914 года французским шовинистом.
{2} Леметр Жюль (1853–1914) – французский поэт, драматург и критик.
{3} Пий X – папа римский с 1903 г. В миру Джузеппе Мелькиорс Сарто (1835–1914). Умер 20 августа.
{4} Мен Альбер де (1841–1914) – французский политический деятель.
{5} Король Карл – румынский король Карл I ( 1839–1914).
{6} Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – русский государственный деятель, премьер-министр в 1905–1906 гг. Умер 28 февраля 1915 г.
{7} Ренан Эрнест Жозеф (1823–1892) – французский писатель и философ.
{8} Тэн Ипполит Адольф (1828–1893) – французский философ и искусствовед.
{9} Баррес Морис (1862–1923) – французский писатель.
{10} Моррас Шарль (1868–1952) – французский поэт и критик.
{11} Пеги Шарль (1873–1914) – французский поэт и публицист.
{12} Клодель Поль (1868–1955) – французский поэт и драматург. Волошин перевел с французского его поэму «Музы» и драму «Отдых седьмого дня».
{13} Сюарес Андре (1868–1948) – французский поэт и литературовед.
{14} Летом 1911 года германское правительство направило в порт Агадир, на побережье Французского Марокко, канонерскую лодку «Пантера», что привело к конфликту между Францией и Германией, приведя их на грань войны.
{15} Нормальная школа – высшее учебное заведение в Париже, готовившая кадры преподавателей.
{16} Брюнетьер Фердинанд (1849–1906) – французский критик, историк и теоретик литературы; приверженец монархии и католицизма.
{17} Гюисманс Жорес-Карл (1848–1907) – французский писатель (голландец по происхождению).
{13} Блуа Леон (1846–1917) – французский писатель и критик, рьяный католик.
{19} Шарлеруа – городок в Бельгии.
{20} Жоффр Жозеф Жак Сезер (1852–1931) – маршал Франции, в 1914–1916 гг. – главнокомандующий французской армией, победитель в сражении при Марне (1914 г.).
Последний смотр
Опубликовано в газете «Биржевые ведомости» (1916. – № 15 360. – 2 февр. – Утр. вып.– С. 5). Печатается по тексту этого издания.
{1} Гитри Саша (1885–1957) – французский актер, режиссер и драматург.
{2} Антуан Андре (1857–1943) – французский актер и режиссер, директор театра.
{3} Куртелен Жорж (наст, фамилия Муано, 1858–1929) – французский драматург.
{4} Гитри Люсьен Жермен (1860–1925) – французский актер и драматург.
{5} Бернар Сара (1844–1923) – французская актриса.
{6} Анатолю Франсу было в начале 1916 г. – 71 год, Октаву Мирбо – 68 лет, Огюсту Ренуару – без малого 75, Эдгару Дега – 81 год, Огюсту Родену – 75 лет, Клоду Моне – 76 лет.
{7} Панаш (фр. panache) – султан, плюмаж; также – верх.
{8} Музей Гимэ – музей восточных культур в Париже, основанный лионским коллекционером Эмилем Гимэ (1836–1918).
{9} Эрвье Поль (1857–1915) – французский прозаик и критик.
{10} Фабр Жан-Анри (1823–1915) – французский орнитолог и писатель.
{11} Мерриль Стюарт (1863–1915) – французский поэт, уроженец США.
{12} Рашильд (наст. имя Маргарита Эймери, по мужу Валлет, 1862–1953) – французский драматург и литературный критик.
Цеппелины над Парижем
Опубликовано в газете «Биржевые ведомости» (1916. – № 15 418. – 3(16) марта.– С. 4). Печатается по тексту этого издания.
{1} Цеппелин – дирижабль жесткого типа, названный по имени своего изобретателя, немецкого конструктора, графа Фердинанда Цеппелина (1838–1917). Налет цеппелинов на Париж в ночь на 21 марта (с субботы на воскресенье) был описан также А. В. Луначарским в газете «День» (Первые цеппелины над Парижем. – 1915. – 5 апр.) Он также отмечал, что настроение парижан наутро было «бодрым, веселым, ироническим»: доминировало чувство, «что Париж, так сказать, выдержал экзамен» (Цит. по: Луначарский А. В. Европа в пляске смерти. – М., 1967.– С. 98–99).
Волошин запечатлел свои наблюдения также в стихотворении «Цеппелины над Парижем», написанном 18 апреля 1915 г. 15 июня оно было напечатано (в переводе на французский, сделанном Рене Гилем и А. В. Гольдштейн, и по-русски, в виде факсимиле) в журнале «Elan» (порыв — фр.) вместе с рисунком Волошина на эту же тему.
{2} Мильеран Александр (1859–1943) – французский политический деятель. Был министром торговли и промышленности, министром общественных работ, военным министром.
Судьба Верхарна
Опубликовано в газете «Речь» (1917. – № 1. – 1 янв.– С. 4) Печатается по тексту этого издания.
{1} Книга Верхарна «Видения на моих путях» вышла в 1891 г.
{2} Книги Верхарна «Вечера» (1887), «Разгромы» (1888), «Черные факелы» (1890).
{3} Книги Верхарна «Призрачные деревни» (1895), «Галлюцинирующие поля» (1893), «Города-спруты» (1895), «Буйные силы» (1902).
{4} Иезекииль и Исайя – ветхозаветные пророки.
{5} «Окровавленная Бельгия» – книга статей Верхарна, вышла в 1915 г.
{6} Леблон Мариус-Ари – псевдоним двух французских писателей: Жоржа Атена (1877–1955) и Айме Мерло (1880–1958).
{7} Книги Верхарна «Вся Фландрия» (1911), «Волнующиеся нивы» (1912).
{8} Книга Верхарна «Красные крылья войны» вышла в свет в 1916 г.
Молитва о городе
Опубликовано в газете «Дело» (Одесса) (1919. – № 1. – 23(10) марта.– С. 2.). Печатается по тексту этого издания.
Волошин поехал из Коктебеля в Феодосию 1 марта 1918 г. «на два дня» – и пробыл там до 10 или 11 апреля. «Все, что довелось увидать, было действительно интересно», – писал Волошин 15 апреля Ю. Л. Оболенской, далее описывая, сходным образом с приводимой статьей, увиденное столпотворение: «Не Феодосия, а Карфаген времен мятежа наемников…» Л. И Ремпель свидетельствует: «Феодосия – «проходной двор», через который протекали в центральные области России демобилизуемые и в большинстве случаев деморализованные части войск кавказского фронта. <…> К 24 января в Феодосию прибыли транспорты «Херсон», «Афон» и «Владимир», доставившие до 12 000 солдат 5-го кавказского корпуса. На другой день прибыл румынский крейсер «Принцесса Мария», доставивший в Феодосию новые эшелоны кавказских войск» (Красная гвардия в Крыму: 1917–1918. – Симферополь, 1931.– С. 72–73).
{1} Имеется в виду занятие Одессы австро-немецкими войсками 14 марта 1918 г. Л. И. Ремпель пишет: «На транспортах прибыл в Феодосию весь Совнарком Одессы в полном составе (180 человек), Румчерод, организация одесских анархистов (60 чел.), штабы одесской Красной гвардии». Количество транспортов, скопившихся в порту к 22(9) марта 1918 г., указывается в разных источниках от 22 до 80.
{2} Трапезундские солдаты – русские солдаты из состава Кавказской армии, воевавшие с турками. В конце 1917 г. они эвакуировались в Крым. 17 января 1918 г. Волошин сообщал А. К. Герцык, что в Феодосии «10 000 солдат из Трапезунда».
{3} Барэов (Барсов) Михаил Федорович – грузчик феодосийского порта, красногвардеец, первый советский комендант Феодосии. Расстрелян белыми 28 марта 1919 г. Его памяти посвящено стихотворение Волошина «Большевик» (29 августа 1919). (См.: Юность. – 1988. – № 10).
{4} Газета «Вольный Юг» (Севастополь) сообщала 24.1.1918: «Между пр., солдатами привезены сюда с Кавказа турчанки, отставшие после ухода турок и вошедшие в постоянную связь с русскими солдатами… Многим из них нет 15 лет». Л. И. Ремпель в книге «Красная гвардия в Крыму…» подтверждает: «Прибывшие солдаты везли с собой на пароходах разнообразную «добычу» – до молодых турчанок включительно, превращая феодосийский порт в ярмарку».
{5} Эпизод с турецким посольством и анархистами подтверждается в письме Волошина к Ю. Л. Оболенской от 15 апреля 1918 г. Позднее Феодосия весны 1918 г. была запечатлена Волошиным в стихотворении «Феодосия» (24 августа 1919) (См.: Радуга (Таллинн). – 1988. – № 9).
Первое впечатление Одессы
Опубликовано в газете «Одесский листок» (1919. – № 57. – 3 марта.– С. 2). Печатается по тексту этого издания.
{1} Приезд Волошина в Одессу (из Севастополя) состоялся 21 января 1919 г. Остановился поэт у своих парижских друзей Цетлиных, на Нежинской улице, дом 36. Одесса в это время была занята Добровольческой армией и войсками Антанты (французы, греки, поляки, сербы и т. д.). Обстановка в городе обрисована в докладной записке деникинского полковника Николаева (Красный архив. – 1931. – № 45): «После падения гетмана и распространения петлюровщины на всю Украину, Одесса сделалась главнейшим политическим центром на юге России. <…> Сюда съехались видные представители всех русских политических партий и организаций, различные общественные деятели, промышленники, финансисты, торговцы, землевладельцы, целые тучи всевозможных спекулянтов, множество видных чиновников старого режима и гетманских… Этот громадный наплыв большей частью богатых и совершенно свободных людей создавал крайне нездоровую атмосферу всевозможных толков, слухов и панических настроений и, безусловно, ухудшал и без того нелегкое положение». Но все это не мешало активной культурной жизни Одессы: выходило более 20 газет, с десяток журналов, работали театры, кабаре, постоянно устраивались литературные вечера. Из литераторов в Одессе в это время находились: Иван Бунин, Эдуард Багрицкий, Алексей Толстой, Леонид Гроссман, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Тэффи, Е. Ю. Кузьмина-Караваева и многие другие.
{2} В черновом наброске указана фамилия генерала: Кузнецов.
Искусство в Феодосии
Печатается впервые по рукописи (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 337). Статью можно датировать концом 1919 – началом 1920 г.
{1} В своем отчете заведующий секцией Охриса г. Феодосии художник Г. А. Магула в феврале 1921 г. свидетельствовал: «Большинство покинутых домов эмигрантов отличается на редкость антихудожественным убранством – дешевые картины в широких золоченых рамах, копии Айвазовского и рыночная мебель – вот приблизительно обстановка покинутых квартир» (Дом-музей М. А. Волошина, А. 1989).
{2} Имеются в виду периоды с 2 января по 29 апреля (Республика Таврида) и с 21 апреля по 19 июня 1919 г. – когда Феодосия была советской.
{3} Памятник Александру III был установлен в Феодосии в 1896 г. по модели скульптора Р. Р. Баха (1859–1933). «После революции, – как сообщали «Одесские новости», – у памятника стали происходить частые эксцессы. Сначала группа студентов наклеила плакат с надписью «Позор Феодосии». <…> 20 июня вечером у памятника вновь был созван митинг, организованный матросами пришедших транспортов и находившимися в порту преображенцами» (1917. – № 10 453. – 28 июня). 22 июня 1917 г. памятник был сдернут с пьедестала матросами-анархистами и отправлен в переплавку.
{4} Феодосийский карантин располагался в стенах средневековой генуэзской крепости, по соседству с портом.
{5} К киммерийской школе живописи Волошин причислял И. К. Айвазовского (1817–1900), А. И. Куинджи (1841–1910), Л. Ф. Лагорио К. Ф. Богаевского (1872–1943), М. П. Латри (1875–1935), А. К. Шервашидзе (1867–1968), А. И. Фесслера (1826–1885), А. В. Ганзена (1876–1937) – уроженцев или «приемышей» восточного Крыма. Относил он к этой «школе» художников-киммерийцев и себя.
{6} Петров Михаил Митрофанович (1841–1903) – полковник пограничной стражи, художник и изобретатель. Отец А. М. Петровой, многолетнего друга Волошина.
{7} Гинцбург Илья Яковлевич (1859–1939) – скульптор, академик живописи. 19 мая 1925 г. Волошин писал С. А. Толстой (Есениной): «Гинсбурга я знаю и с удовольствием приму. Но должен тебя предупредить, что считаю его, как скульптора, крайне бездарным. Сейчас он хлопочет, чтобы в Феодосии поставили памятник Айвазовского его работы – памятник очень неудачный». Памятник был установлен перед галереей Айвазовского лишь в 1930 г.
{8} Феодосийский литературно-артистический кружок – сокращенно ФЛАК, возник осенью 1919 г. Первый номер альманаха «К искусству!» пока обнаружить не удалось; второй номер был выпущен 10 ноября 1919 г. (редакторы Ардатов, Гейман, Плоткин).
{9} Буэлье Сент-Жорж де (1876–1947) – французский драматург поэт, вождь «натюристов».
{10} Подвал ФЛАКа находился на углу улиц Земской и Новой (ныне улицы Карла Либкнехта и Кирова, здание не сохранилось).
{11} Цибис сделал портрет Волошина, который в 1921 г. был выставлен в Константинополе (Зарницы (София). – № 25.– С. 27).
Автобиография
Написана Волошиным в связи с 30-летием его литературной деятельности (от времени первой публикации в печати, в 1895 г.) Оригинал – ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 1.
{1} Кириенко-Волошины: отец – Александр Максимович (1838–1881) – коллежский советник; дед – Максим Яковлевич (? – умер ок. 1890). Мать – Елена Оттобальдовна, урожденная Глазер (1850–1923); ее отец, Оттобальд Андреевич (1809–1873) – инженер-подполковник. В недатированном письме к М. В. Сабашниковой (по контексту – 13 марта 1906 г.) Волошин писал: «Отец мой никогда предводителем дворянства не был. А был сперва мировым посредником, а потом членом суда в Киеве. У деда было большое имение в Киевск<ой> губерн<ии>, а кто он был, не знаю и вообще родствен<ников> моего отца совсем не знаю. <…> Дед по матери был инженером и начальником телеграф<ного> округа (что-то важное. Его отец был синдик (не знаю, что это значит) в каком-то остзейском городе – не то <в> Риге, не то <в> Либаве. А отец бабушки делал Итальянск<ий> поход с Суворовым, а его отец был чьим-то лейб-медиком – не то Елизав<еты> Петр<овны>, не то Ан<ны> Иоан<новны> (мама перепутала)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 111).
В «Формулярном списке о службе и достоинстве Житомирского телеграфного отделения инженер-подполковника Глазера» (1862 г.) указано, что он – «сын ратсгера и синдика г<орода> Валка, уроженец Лифляндской губернии» (ДМВ, архив). Синдик – должностное лицо, ведущее судебные дела какого-нибудь учреждения или города. Впоследствии Волошин писал определеннее: «Прапрадед – Зоммер, лейб-медик, приехал в Россию при Анне Иоанновне» (Письмо к Ю. А. Галабутскому от 30 апреля 1925 г. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 30).
{2} Имеется в виду Крымская война 1855–1856 гг., когда Севастополь был сильно разрушен. Пиранези Джованни Баттиста (1720–1778) – итальянский архитектор и гравер.
{3} Начало работы над «Боярыней Морозовой» относится к 1881 г. Суриков жил в это время на Долгоруковской улице, в доме Збук.
{4} 1 марта 1881 г. народовольцами был убит Александр II.
{5} Туркин Никандр Васильевич (1863–1919) – журналист.
{6} Частная гимназия Л. И. Поливанова (1838–1899) находилась на Пречистенке (дом Пегова) – ныне ул. Кропоткинская, 32. В этой гимназии учились В. Я. Брюсов, Б. Н. Бугаев (Андрей Белый). Впоследствии Волошин вспоминал: «В Поливановской гимназии (в Москве) читал товарищам свои стихи, очень ими одобряемые». (Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей/ Собрал Ф. Ф. Фидлер. – М., 1911.– С. 166).
{7} Первая казенная гимназия находилась на углу Волхонки и Пречистенского бульвара, в собственном доме (ныне – № 8, Институт русского языка АН СССР).
{8} Коктебель – деревня в восточном Крыму, между Феодосией и Судаком, населенная в то время в основном болгарами. Близ нее в конце 80-х гг. XIX в. возник, на берегу моря, курортный поселок того же названия (см.: Планерское-Коктебель / Сост. В. Купченко. – Симф., 1975). Переезду Волошина с матерью в Коктебель способствовал московский врач П. П. фон Теш, также переселившийся туда.
{9} Киммерия – так Волошин называет восточный Крым – по киммерийцам, некогда (2000 лет до нашей эры) здесь жившим. Мысли об «историческом пейзаже» изложены Волошиным в статье «Константин Богаевский» (Аполлон. – 1912. – № 6).
{10} Сохранился «Журнал путешествий» 1900 г., который вели Волошин и его спутники (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 438).
{11} Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ и поэт. В Ташкенте Волошин прочел работу Ницше «По ту сторону добра и зла» (1886) и, по его словам, «был совсем ошеломлен». В письме к своему другу А. М. Пешковскому (от 11–12 января 1901 г.) он особенно рекомендовал ему главы «Народы и цивилизация» и «К происхождению морали» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 99).
{12} Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ, поэт. В одном из вариантов автобиографии, составлявшейся в 20-е гг., Волошин писал: «Доживался последний год постылого XX века: 1900 год был годом «Трех разговоров» Владимира Соловьева и его «письма о конце Всемирной Истории», годом Боксерского восстания в Китае, годом, когда явственно стали прорастать побеги новой культурной эпохи, когда в разных концах России несколько русских мальчиков, ставших потом поэтами и носителями ее духа, явственно и конкретно переживали сдвиги времен. То же, что Блок в Шахматовских болотах, а Белый у стен Новодевичьего монастыря, я по-своему переживал в те же дни в степях и пустынях Туркестана, где водил караваны верблюдов» (ИРЛИ, ф. 562).
{13} Парис Гастон (1839–1903) – французский филолог-медиевист.
{14} Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ. Вопрос о влиянии Бергсона на мировоззрение Волошина впервые рассматривается в монографии С. Wallraten. Mahsimilian Voloschin als Kunstler und Criticuer. – München. 1982.
{15} В пятом номере «Русской мысли» за 1900 г. была напечатана статья Волошина «В защиту Гауптмана. По поводу переводов г. Бальмонта» (Отдел II, с. 193–200).
{16} Штейнер Рудольф (1861–1925) – немецкий религиозный философ, основатель Антропософского общества.
{17} Впечатления от 9 января 1905 г. нашли отражение в статье Волошина «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге», появившейся на французском языке (L'Européen courrièr[135]. – 1905. – № 167. – 11 февр.).
{18} Первая книга стихов Волошина («Стихотворения». 1900–1910) вышла 27 февраля 1910 г. в издательстве С. А. Соколова «Гриф».
{19} Гетеанум (иначе – Иоганнес-Бау) – своего рода храм антропософов (со сценой для постановки мистерий).
{20} «Anno Mundi Ardentis» вышли из печати весной 1916 г. в издательстве М. О. Цетлина «Зерна» в Москве.
{21} В 1919 г. в лекции «Россия распятая» Волошин так рассказывает об этом: «Февраль 1917 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали «бескровную революцию», как было принято выражаться в те дни. <…> На Красной площади был назначен революционный парад в честь Торжества Революции. Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под Кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова «Без аннексий и контрибуций». Благодаря отсутствию полиции, в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной Книге и об Алексее Человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня <…> эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливались современность и революция и оставались только Кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагренных кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли, нового Смутного времени» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 343).
{22} Книга «Демоны глухонемые» издана в Харькове в начале 1919 г.; поэма «Протопоп Аввакум» вошла в эту книгу.
{23} См.: Книжное обозрение. – 1986. – № 52.–26 дек.– С. 8.
{24} Цикл «Путями Каина» был частично опубликован в сборниках «Недра» (М., 1923. – Кн. 2 и 1924. – Кн. 5). В 1925 году там же (кн. 6) были напечатаны фрагменты из поэмы «Россия».
{25} На выставке «Мир искусства» Волошин участвовал в 1916 г., на выставке общества художников «Жар-цвет» – в 1924 г.
{26} ЦЕКУБУ – Центральная комиссия по улучшению быта ученых, учреждена в 1921 г.
{27} Кошелев Николай Андреевич (1840–1918) – живописец. Местонахождение портрета неизвестно.
{28} Сливинский Владислав (1854–1918) – польский живописец. Портрет Волошина написан в 1904 г.
{29} Якимченко Александр Георгиевич (1887–1928) – художник.
{30} Харт Вайолет – художница, англичанка. Сохранился также портрет Волошина маслом (не закончен) ее работы (1907 г.).
{31} Виттиг Эдвард (1879–1941) – польский скульптор. Бюст Волошина его работы установлен в сквере на бульваре Эксельман в Париже. Слепок с бюста экспонируется в Доме-музее М. А. Волошина в Коктебеле.
{32} Зак Евгений Савельевич (1884–1926) – художник. Местонахождение портрета неизвестно.
{33} Ривера Диего (1886–1957) – испанский художник.
{34} Баруздина Варвара Матвеевна (1862–1941) – художница.
{35} Бобрицкий Владимир Васильевич (1898–?). Существует еще один портрет Волошина его работы (бумага, тушь).
{35} Мане-Кац (Мане Лазаревич Кац, 1894–1962) – художник. Портрет выполнен пастелью.
{37} Хрустачев Николай Иванович (1883–1962) – художник.
{38} Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871–1955) – художница.
{39} Костенко Константин Евтихиевич (1879–1956) – художник, выполнил не менее четырех портретов Волошина.
{40} Верейский Георгий Семенович (1886–1962) – художник. Известны три портрета Волошина его работы (все – 1924 г.).
{41} Сборник Волошина «Лики творчества» (том I) выпущен в 1914 г.
О самом себе
Написано в 1930 г. для каталога выставки акварелей Волошина (не осуществленной). Впервые опубликовано: Пейзажи Максимилиана Волошина. – Л., 1970 (с купюрами).
{1} В Средней Азии Волошин был с середины сентября 1900 г. по 22 февраля 1901 г., то есть пять месяцев с небольшим.
{2} Академия Коларосси – общедоступная студия, основанная художником Филиппо Коларосси в 90-х гг. XIX в. в Париже.
{3} Форен Жан-Луи (1851–1932) – французский художник и гравер.
{4} Стейнлейн Теофиль (1859–1923) – французский художник.
{5} «Теория цветов» И.-В. Гете – видимо, «Очерк учения о цветах» (1810). См.: Гете. Избранные сочинения по естествознанию. – М; Л., 1957. «Теорию цветов» Волошин, по всей вероятности, усвоил через книгу Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М., 1913).
{6} 28 ноября 1878 г. Эдмон Гонкур записал: «Сегодня у Бюрт наблюдал весьма любопытный и поучительный сеанс. Японский художник Ватанобе-Сеи рисовал у него на дому, притом не набросок, создаваемый легким прикосновением кисти, нет, большое акварельное панно, настоящее какемоно. В Японии рисунок особенно ценится в том случае, если он выполнен весь за один прием, безо всяких поправок и последующих переделок. Там придается известное значение даже быстроте выполнения, и подручный художника заметил по часам время начала работы» (Гонкуры Э. и Ж. Дневник. – Т. II. – М., 1964.– С. 265).
{7} По-видимому, Теодор Дюре (1838–1927) – французский журналист, пропагандист импрессионизма.
{8} Лоррен Клод (1600–1682) – французский живописец.
{9} Бэкон Фрэнсис (1561–1626) – английский философ; по определению Маркса – «настоящий родоначальник <…> всей современной экспериментирующей науки».
{10} Публикация «Полдня» в журнале виноградарства пока не обнаружена.
Портреты современников
В раздел «Портреты современников» включены отрывки из статей, содержащие непосредственные впечатления автора от личности героев.
Статьи расположены в хронологическом порядке по времени их написания с 1906 по 1916 г.
Сергей Городецкий
Отрывок из статьи Волошина «Лики творчества. «Ярь». Стихотворения Сергея Городецкого» печатается по первой публикации: Русь. – 1906, – № 80. – 19 дек.– С. 4.
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт и художник. Волошин познакомился с ним осенью 1906 г. на «Башне» Вяч. Иванова. 22 сентября он писал жене о большом впечатлении, которое произвели на него стихи Городецкого и Кузмина. Книга С. Городецкого «Ярь. Стихи лирические и лиро-эпические» вышла в конце ноября 1906 г.
{1} «Когда я фавном молодым…» – первые строки стихотворения «Великая мать».
{2} Тот, Джехути – в египетской мифологии бог мудрости, счета и письма. Священным животным Тота был ибис.
{3} «Пан» – картина М. А. Врубеля (1899).
{4} «Ярь непочатая…» – из стихотворения Городецкого «В гулкой пещерности», открывающего книгу.
Михаил Кузмин
Отрывок из статьи Волошина «Лики творчества. II. «Александрийские песни» Кузмина. «Весы», июль 1906 г.» печатается по первой публикации: Русь. – 1906, – № 83. – 22 дек.– С. 3.
Волошин познакомился с Михаилом Александровичем Кузминым (1872–1936) в сентябре 1906 г. на «Башне» Вяч. Иванова и постоянно общался с ним во время своей жизни в Петербурге. По-видимому, Кузмин предоставил Волошину для работы над статьей полную рукопись «Александрийских песен». 7 декабря 1906 г. Волошин писал жене: «Я целый день работал и закончил статью о Кузмине. Сейчас пойду ее прочесть ему» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 112).
{1} «Как песня матери…» – первая строфа первой песни, опубликованной в «Весах».
{2} Александрия – город в западной части дельты Нила, основанный Александром Македонским в 332–331 до н. э. При Птоломеях (305–30 до н. э.) – столица Египта и центр эллинистической культуры.
{3} Фаюмские портреты (древнеегипетские заупокойные портреты, образцы живописи I–III вв.) были впервые найдены в оазисе Фаюм в 1887 г.
{4} Диомед (греч. миф.) – герой «Илиады», один из женихов Елены Прекрасной, участвовавший в осаде Трои.
{5} Прозаический перевод из поэмы Леона Дьеркса (1838–1912) «Лазарь».
{6} Таис, св. Таисия (ум. около 340), бывшая блудница, обращенная монахом Пафнутием, стала героиней одноименного романа Анатоля Франса (1889). «Искушение святого Антония» – драматическая поэма Гюстава Флобера, представляющая аллегорическую интерпретацию жития фиваидского отшельника IV в.
{7} «Песни Билитис» Пьера Луиса (1894) – сборник стилизованных песен, выданных автором за перевод произведений вымышленной древнегреческой куртизанки-поэтессы.
{8} Мелеагр (конец II – начала I в. до н. э.) – крупнейший представитель поздней эллинистической эпиграммы.
{9} Никомедия (Никомидия, ныне Измит) – порт в восточной части Мраморного моря, названный в честь вифинского царя Никомеда I (281–246 до н. э.).
{10} Адриан Публий Элий (76–138) – римский император из династии Антонинов.
{1} Антиной (? – 130) – греческий юноша, любимец Адриана.
{12} Петроний Арбитр Гай (умер 66) – римский писатель. Покончил с собой, опутанный долгами.
{13} Апулей (II в.) – древнеримский писатель.
Алексей Ремизов
Отрывок из статьи Волошина «Лики творчества. VI. Алексей Ремизов. «Посолонь». Изд. «Золотого руна». 1907 г. Печатается по первой публикации этой статьи: Русь. – 1907. – № 95. – 5 апр.– С. 3.
С Алексеем Михайловичем Ремизовым (1877–1957) Волошин познакомился осенью 1906 г. на «средах» Вяч. Иванова. Отношения их и переписка длились вплоть до начала 1910*х гг.
{1} Посолонь – по солнцу, от востока на запад.
{2} Готье Теофиль (1811–1872) – французский поэт.
{3} Цитата из заметки Пушкина «Опровержение на критики» (1830): «… не худо нам иногда прислушаться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком».
{4} Парафраз заглавия статьи Л. Н. Толстого «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?».
{5} «Человек, который смеется» – роман Виктора Гюго (1869), герой которого был в детстве подвергнут пластической операции, превратившей его лицо в улыбающуюся маску.
{6} «Пруд» – первый большой роман Ремизова, публиковавшийся в журнале «Вопросы жизни» (1905. – № 5–11).
{7} Рассказ Ремизова «Серебряные ложки» был напечатан в альманахе «Факелы» (Кн. I. – Спб., 1906.– С. 167–177).
{8} Спиноза Бенедикт (Барух, 1632–1677) – нидерландский философ, одно время жил в деревне, вынужденный зарабатывать на жизнь шлифовкой линз.
{9} Самэн Альбер Виктор (1858–1900) – французский поэт, автор сборника «В саду инфанты» (1893).
{10} Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790–1869) – французский поэт-романтик, историк, политический деятель. Был министром иностранных дел во Временном правительстве 1848 г., на президентских выборах потерпел поражение.
{11} Лев Николаевич Мышкин – герой романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1868), страстный каллиграф.
{12} Дочь Ремизова Наталья Алексеевна (1904–1943) жила в детстве у родственников своей матери. Медведя ей подарил Волошин.
{13} Эту мысль Волошин впервые высказал в рецензии на сборник рассказов Анатоля Франса (Русь. – 1904. – 25 мая): «Боги лесов, полей, оград, мостов, ручьев – тысячи богов, населявших землю, стали, как рассказал Реми де Гурмон, католическими святыми». В письме к М. В. Сабашниковой от 4 ноября 1905 г. Волошин назвал другие источники «истории греческих богов после Христа»: Г. Гейне («Боги в изгнании»), М. Метерлинка, Э. Парни («Битва старых и новых богов»). В ноябре 1906 г. он собирался написать лекцию «Судьба богов».
Александр Блок. Константин Бальмонт. Вячеслав Иванов. Валерий Брюсов. Андрей Белый
Отрывок из статьи Волошина «Лики творчества. Александр Блок. «Нечаянная радость». Второй сборник стихов. Изд. Скорпион. 1907». Печатается по первой публикации этой статьи: Русь. – 1907, № 101. – 11 апр.– С. 3.
Волошин и Блок познакомились в Петербурге в январе 1903 г. и затем неоднократно встречались.
С Константином Дмитриевичем Бальмонтом (1867–1942) Волошина связывала дружба, начавшаяся с их знакомства в 1902 г. Именно Бальмонт, будучи уже известным поэтом, снабдил Волошина рекомендациями к Валерию Брюсову, Н. М. Минскому и другим поэтам-символистам.
Знакомство с Вячеславом Ивановичем Ивановым (1866–1949) произошло в Женеве, в августе 1904 г. Осенью 1906 г. отношения поэтов переросли в дружбу, но затем осложнились из-за внезапной страсти Иванова к М. В. Сабашниковой, жене Волошина.
Отношения с В. Я. Брюсовым Волошин поддерживал – с перерывами – с 1903 по 1924 г. Был парижским корреспондентом брюсовского журнала «Весы», «поставляя» ему французских сотрудников. Одно время Волошин активно переписывался с Брюсовым.
Так же развивались отношения Волошина с Андреем Белым, проходя периоды духовной близости и отчуждения и завершившись, уже в советское время, новой «встречей» былых соратников (приезды Белого в Коктебель в 1924 и 1930 гг.).
{1} Пракситель (ок. 390 – ок. 330 до и. э.) – древнегреческий скульптор. Статуя «Гермес с младенцем Дионисом» его работы (мрамор) датируется примерно 340 г. до н. э. (Олимпия, музей).
Реми де Гурмон
Отрывок из статьи Волошина «Лики творчества. Реми де Гурмон. «Ночь в Люксембургском саду». Издат. «Меркюр де Франс» (фр.) печатается по первой публикации этой статьи: Русь. – 1907. – № 168. – 30 июня. – С. 2.
Реми де Гурмон (1858–1915) – французский поэт, прозаик, авторитетнейший критик символизма. Один из основателей журнала «Меркюр де Франс» (с 1889 г.). Волошин отозвался на выход его книги «Литературные прогулки» (Весы. – 1904. – № 11.– С. 55–58), редактировал перевод «Книги масок» (Спб., 1912).
{1} Р. де Гурмон болел волчанкой.
{2} Гоморра (библ.) – город, испепеленный – вместе с Содомом – посланным с неба огнем.
{3} По-видимому, журнал «Весы» № 8 за 1904 г., где была помещена статья о Гурмоне, подписанная сокращением Ch (С. 30–32).
{4} Одеон – театр, построен в неоклассическом стиле в 1779–1782 гг.
Иннокентий Анненский
Отрывок из статьи Волошина «Лики творчества. И. Ф. Анненский-лирик» печатается по первой публикации этой статьи: Аполлон. – 1910. – № 4. – Хроника.– С. 11–16.
Иннокентий Федорович Анненский (1855–1909) – поэт, драматург, критик, переводчик. Волошин познакомился с ним в марте 1909 г. и встречался вплоть до его скоропостижной смерти.
{1} Ср. в «Рассказе об И. Ф. Анненском» на с. 211.
{2} Неточность Волошина: «Книга отражений» Анненского со статьей «Бальмонт-лирик» вышла в начале 1906 г., а журнал «Весы» начал выходить с 1904 г.
{3} «Никто» – имя, которым Одиссей назвался циклопу Полифему (Одиссея, IX, 364–367).
{4} Это сопоставление сделал В. Брюсов в рецензии, помещенной в 4-м номере журнала «Весы» за 1904 г. Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930) – поэт, близкий к символизму.
{5} Речь идет о «Даре мудрых пчел» – драме, которую Ф. Сологуб написал в 1906 г. на тот же античный сюжет, что и «Лаодамия» Анненского (1902), не зная, что эта работа уже опубликована. См. письмо Сологуба к Анненскому от 22 декабря 1906 г. – Памятники культуры: Новые открытия. – Л., 1983.– С. 120.
{6} Имеется в виду книга «Театр Еврипида. <…> с двумя введениями, статьями <…> И. Ф. Анненского» (Спб., 1906).
{7} Волошин писал Анненскому в марте 1909 г.: «Вы существовали для меня до самого последнего времени не как один, а как много писателей. Я знал переводчика Еврипида, но вовсе не соединял его с тем, кто писал о ритмах Бальмонта и Брюсова…» (ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 307).
{8} Анненскому ко времени знакомства с Волошиным было 53 года.
{9} Контаминация цитат из писем Анненского Волошину от 6 и 13 августа 1909 г. См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год, с. 247–250.
Василий Суриков
Отрывок из работы Волошина о Сурикове печатается по: Волошин Максимилиан. Суриков. – Л., 1985.– С. 200–209.
В январе 1913 г. Волошин начал работу над монографией о Василии Ивановиче Сурикове (1848–1916), заказанной ему художником и искусствоведом Игорем Эммануиловичем Грабарем (1871–1960) для серии «Русские художники. Собрание иллюстрированных монографий». В основу монографии легли впечатления Волошина от встреч и бесед с Суриковым, продолжавшихся в течение января 1913 г. Летом 1914 г. работа над рукописью, в связи с отъездом Волошина за границу, была прервана и закончена лишь в сентябре 1916 г. Опубликованные в журнале «Аполлон» (1916. – № 6–7.– С. 40–63), записи бесед с Суриковым получили высокую оценку специалистов. Так, художник Михаил Васильевич Нестеров считал, что работа Волошина о Сурикове «быть может, лучшее, что когда-либо было написано о рус<ских> художниках». Сам Волошин говорил о своей работе как «одной из лучших и неожиданных…».
{1} Сурикова Прасковья Федоровна (1818–1895) – мать художника.
{2} Пикассо Пабло (1881–1973) – французский художник.
{3} Иванов Александр Андреевич (1806–1858) – художник.
{4} Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) – искусствовед и литературный критик.
{5} Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927) – художник.
{6} Александр III (1845–1894) – российский император (1881–1894).
{7} Боголюбов Алексей Петрович (1824–1896) – пейзажист.
{8} Ныне не существующий памятник Александру III в Москве работы скульптора Александра Михайловича Опекушина (1838–1923) был открыт у храма Христа Спасителя в 1912 г.
{9} Софья Андреевна – С. А. Толстая (урожд. Берс, 1844–1919), жена Л. Н. Толстого.
{10} И. Э. Грабарь вспоминал: «Когда В. И. Суриков пришел в галерею после новой повески, он, весело балагуря в присутствии собравшихся старейших служащих, отвесил мне земной поклон и со слезами на глазах обратился к нам со словами: «Ведь вот в первый раз вижу свою картину: в квартире, где ее писал, не видал – в двух комнатах через дверь стояла, на выставке не видал – так скверно повесили, – и в галерее раньше не видал, без отхода». (Моя жизнь: Автомонография. – М.; Л., 1937.– С. 26).
Илья Эренбург
Отрывок из статьи Волошина «Илья Эренбург – поэт» печатается по публикации этой статьи в газете «Речь» (1916. – № 300. – 31 окт.– С. 2).
В первую военную зиму Волошин приехал в Париж из Дорнаха 16 (3) января 1915 г. В январе же произошло личное знакомство с И. Г. Эренбургом, первую книгу которого «Стихи» (Париж, 1910) Волошин раскритиковал в 1911 году (Утро России. – № 34. – 12 февр.– С. 6). «Вначале я относился к Волошину почтительно, как ученик к опытному мастеру, – вспоминал Эренбург позднее. – Потом я охладел к его поэзии; его статьи об эстетике мне начали казаться цирковыми фокусами: я искал правду, а он играл в детские игры»… (Люди, годы, жизнь. – М., 1961.– С. 184).
{1} По-видимому, Модильяни Амедео (1884–1920). «Одно время он увлекался пророчествами французского медика, жившего в XVI веке, – Нострадамуса», – вспоминал Эренбург (Люди, годы, жизнь. – М., 1961.– С. 229). См. также портрет Модильяни в стихотворении Эренбурга «Ты сидел на низенькой лестнице…» (Стихотворения. – Л., 1977.– С. 68).
{2} «Стихи о канунах» (М., 1916), «Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей» (1916, литографированное издание в 100 экз.), Ф. Вийон. Отрывки из «Большого завещания», баллады и разные стихотворения. Переводы и биогр. очерк И. Эренбурга (М., 1916).
{3} Эренбург приехал в Париж в декабре 1908 г., семнадцати лет.
{4} «Я живу» (Спб., 1911), «Одуванчики» (Париж, 1912), «Будни» (Париж, 1913).
{5} Жамм Франсис (1868–1939) – французский поэт-католик. Эренбург был у него в Отрезе, «около испанской границы» и затем посвятил ему сборник стихов в прозе «Детское» (Париж, 1914). Книга «Ф. Жамм. Стихи и проза. Переводы И. Эренбурга и Е. Шмидт» вышла в Москве в 1913 г. Антология «Поэты Франции. 1870–1913» в переводах Эренбурга – в Париже, в 1914 г. Антология «Поэты французского Возрождения» вышла уже в 1938 г. в Ленинграде.
{6} «Плач Иеремии» – одна из книг Ветхого Завета: сборник плачевных песен пророка над развалинами Иерусалима, разрушенного вавилонянами.
Александр Бенуа
Печатается по машинописи (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 371) в сокращении.
Написано Волошиным для сборника статей об Александре Николаевиче Бенуа (1870–1960) – художнике, критике и историке искусств, для издательства «Свободное искусство».
19 октября 1916 г. Волошин писал А. Н. Бенуа: «Я окончил статью о Вас и посылаю ее Лукомскому…» Проспект сборника статей (под редакцией Г. К. Лукомского) был выпущен в 1917 г. – сам же сборник напечатан не был.
{1} Шарден Жан Батист Симеон (1699–1779) – французский живописец. «Автопортрет с зеленым козырьком» написан в 1775 г.
{2} Портрет Бенуа работы А. К. Шервашидзе воспроизведен в журнале «Золотое руно» № 10 за 1906 год, перед статьей Шервашидзе о творчестве Бенуа.
{3} Близ Судака, в Капсельской долине, находилось имение генерала Д. Л. Хорвата (1859–?), мужа двоюродной сестры художника Камиллы Альбертовны. А. Н. Бенуа гостил там в 1915 и 1916 гг., посвятив Судаку статью «После Крыма» (Речь. – 1916. – 16 сент.– С. 2).
{4} Боннар Пьер (1867–1947) – французский художник.
Воспоминания
В третий раздел книги М. А. Волошина – «Воспоминания» – входят: 1. Рассказ об И. Ф. Анненском (рассказ Волошина записан поэтом Л. В. Горнунгом в 1924 г.). 2. История Черубины (текст был записан москвичкой Т. Б. Шанько в 1930 г.). 3. Записи 1932 года.
В свою очередь, «Записи 1932 года» делятся на три части.
В первой части, содержащей в себе записи Волошина от 2 до 30 марта 1932 г., рассказывается, в основном, о гимназических годах. Эта часть воспоминаний публикуется впервые (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 445, 446).
Вторая часть, названная Волошиным «О Н. А. Марксе» (записи от 2 до 14 апреля 1932 г.), посвящена судьбе царского генерала, профессора археологии, а затем первого ректора Кубанского университета Н. А. Маркса (1860–1921). В самые жестокие годы гражданской войны он, как и Волошин, верил, что «исторические судьбы» России «должны вывести нас на более широкую арену мировой истории». И именно Максимилиан Волошин разделил с Марксом его «хождение по мукам» в 1919 г.: этот эпизод стал для поэта одним из самых ярких событий его жизни. Полностью эта часть воспоминаний Волошина публикуется впервые.
Третья часть воспоминаний Волошина содержит записи от 19 апреля до 5 мая. На этом записи прерываются, а 11 августа 1932 г. поэта не стало.
К сожалению, автор не успел еще раз пройтись по своим записям: исправление явных ошибок и описок взяли на себя составители.
Рассказ об И. Ф. Анненском
Текст рассказа Волошина записан 27 марта 1924 г. Львом Владимировичем Горнунгом – поэтом и литератором (род. 1902) и литературоведом Дмитрием Сергеевичем Усовым (1896–1943). Печатается по: Памятники культуры: Новые открытия. – Л., 1983.– С. 69–71. Фактические сведения взяты из комментариев А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика в этом издании.
{1} Неточность: знакомство состоялось в марте 1909 г.
{2} В письме к Вяч. Иванову от 2 февраля 1910 г. Сергей Маковский писал: «…Я начал с привлечения вас, Анненского, Брюсова, Бальмонта, Бенуа и, наконец, Волынского, которого ведь тоже нельзя причислить к «молодежи». Именами этих вождей начался «Аполлон»…». (ГБЛ, ф. 109).
{3} Кондратьев Александр Алексеевич (1876–1967) – поэт, прозаик, историк русской поэзии.
{4} Бурнакин Анатолий Андреевич (ум. в 1932 г.) – поэт, критик.
{5} Анненский Валентин Иннокентьевич (псевдоним: Валентин Кривич. 1880–1936) – поэт, прозаик, сын И. Ф. Анненского.
{6} Кроc Шарль (1842–1888) – французский поэт.
{7} См.: История Черубины.– С. 214–229.
{8} Волошин присутствовал на похоронах И. Ф. Анненского 4 декабря 1909 г.
История Черубины
Рассказ Волошина о Черубине де Габриак был записан в Коктебеле москвичкой Т. Б. Шанько летом 1930 г. Текст – по машинописи из архива поэта: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 364.
Черубина де Габриак – Елизавета Ивановна Дмитриева (по мужу Васильева, 1887–1928) – поэт, прозаик, переводчик.
{1} Мальчин («место выпаса скота» – татарcк.) – мыс, замыкающий Коктебельскую бухту с юго-запада. Габриаками старожилы Коктебеля и теперь называют причудливые виноградные корни.
{2} Боден Жан (1530–1596) – французский юрист, автор политических трактатов. «Демономания» (1580) посвящена доказательствам существования колдунов.
{3} Неточно: в 1909 году Дмитриевой был 21 год.
{4} В статье о Е. И Васильевой (фамилия Дмитриевой по мужу) в справочнике «Писатели современной эпохи» (М.,– 1928) указано, что она занималась испанистикой в Петербургском университете у профессора Д. К. Петрова – ученика А. Н. Веселовского.
{5} Согласно справочнику «Весь Петербург» на 1909 год, Дмитриева была учительницей Петровской женской гимназии (Петроградская сторона, ул. Плуталова, 24).
{6} Первый номер «Аполлона» вышел из печати 24 октября 1909 г
{7} Маковский Сергей Константинович (1878–1962) – поэт, художественный критик. Волошин посвятил ему стихотворение «Дэлос» (1909). Маковский значился редактором и издателем журнала (наряду с Михаилом Константиновичем Ушковым).
{8} «Наш герб» было опубликовано в составе подборки стихов Дмитриевой – во втором номере «Аполлона» (вышел 15 ноября 1909 г.) Тубал – мифический основатель металлургии, иначе Тувал-Каин («отец кузнецов»). Хирам-Авив – легендарный финикийский литейщик («тезка» тирского царя), участвовавший в строительстве храма Иеговы, возведенного царем Соломоном в Иерусалиме. На могилу Хирама, убитого алчными подмастерьями, были возложены ветви акации – символ вечности духа и добрых дел.
{9} Брюллова Лидия Павловна (1886–1954, в замужестве Владимирова) – дочь художника П. А. Брюллова, внучатая племянница К. П. Брюллова, поэт.
{10} Святой Игнатий – Игнатий Лойола (1491–1556) – основатель ордена иезуитов.
{11} Имеется в виду герой пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак» (1897), где главный герой пишет письма красавице Роксане от имени влюбленного в нее Кристиана, одновременно любя ее сам.
{12} Посылать в письме цветок, лист или травинку было обыкновением Дмитриевой и в переписке с Волошиным, до мистификации. «Язык цветов» – условный способ выражать различные понятия и чувства посредством разных растений, ведущий свое происхождение с Востока. В средние века был в употреблении и в Западной Европе.
{13} В рукописи носит название «Савонарола» – по имени Джироламо Савонаролы (1452–1498) – флорентийского религиозно-политического деятеля и поэта.
{14} Трубников Александр Александрович (1883–1966) – искусствовед, сотрудник Эрмитажа, автор книги «Моя Италия» (Спб., 1908).
{15} Имеется в виду «Общество ревнителей художественного слова». Было создано при редакции «Аполлона» ранней осенью 1909 г. заседания проходили в редакции журнала.
{16} Выставка женских портретов была открыта в редакции «Аполлона» с 17 января по 7 февраля 1910 г.
{17} Врангель Николай Николаевич (1880–1915) – искусствовед.
{18} Черубину «разоблачил» Маковскому Михаил Кузмин (запись в его дневнике от 17 ноября 1909 г. – ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 53). По воспоминаниям самого Маковского, Дмитриева сама нанесла ему визит, горько сожалея о причиненной ему боли. (Маковский С. Портреты современников. – Нью-Йорк, 1955.– С. 349–352).
{19} Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – поэт, переводчик и критик.
{20} Васильев Всеволод Николаевич (1883–?) – инженер-гидролог.
{21} Гюнтер Иоганн фон (1886–1973) – немецкий поэт и переводчик (с русского на немецкий). В своих воспоминаниях «En Leben in Osturind»[136] (München, 1969) дает свою интерпретацию событий.
{22} Головин Александр Яковлевич (1863–1930) – художник-декоратор Мариинского театра. В своих воспоминаниях (Головин А. Встречи и впечатления. – Л; М., 1960.– С. 100) рассказывает об этом сеансе. Согласно письму А. Блока к матери, инцидент произошел 19 ноября 1909 г. (Блок А. Письма к родным. – Т. 1. – Л., 1927.– С. 286).
{23} Имеется в виду эпизод из «Бесов»: оскорбление, нанесенное Шатовым Ставрогину.
{24} Вопрос Волошина Гумилеву и ответ того зафиксированы в заметке «Эпидемия дуэлей», напечатанной 24 ноября 1909 г. в московском «Русском слове»: «Гумилев резко и несправедливо отозвался об одной девушке, знакомой Волошина. Волошин подошел к нему, дал ему пощечину и спросил: «Вы поняли?» – «Да», – ответил тот».
{25} Согласно газетным отчетам, дуэль состоялась 22 ноября 1909 г. Секундантами были: со стороны Волошина – Алексей Николаевич Толстой и художник Александр Константинович Шервашидзе (Чачба, 1867–1968); со стороны Гумилева – Михаил Кузмин и секретарь «Аполлона» Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884–1954). Известны воспоминания первых трех из них. Вот они:
А. Н. Толстой: «Весь следующий день между секундантами шли отчаянные переговоры. Грант (так Толстой называет Гумилева. – Сост.) предъявил требования – стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи – не было иного выхода, кроме смерти.
С большим трудом, под утро, в ресторане Альберта, секундантами В<олошина> – князю Шервашидзе и мне – удалось уговорить секундантов Гранта – Зноско-Боровского и Кузмина – стреляться на пятнадцати шагах. Но надо было уломать Гранта. На это был потрачен еще один день. Наконец, на рассвете третьего дня, наш автомобиль выехал за город, по направлению к Новой Деревне.
Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявших в снегу. Мы позвали дворников с лопатами и все, общими усилиями, вытащили машину из сугроба. Грант, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоял в стороне.
Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Грант, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил 15 шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось. Я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гранту я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным и черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, – взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядел на В<олошина>, стоявшего, расставив ноги, без шапки.
Передав второй пистолет В<олошину>, я, по правилам, в последний раз предложил мириться. Но Грант перебил меня, сказав глухо и зло: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: «Раз, два… (Кузмин, не в силах долее стоять, сел на снег и заслонился хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов). …Три!» – крикнул я. У Гранта блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела, не последовало. Тогда Грант крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял!» В<олошин> проговорил в волнении: «У меня была осечка». – «Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Грант, – я требую этого!» В<олошин> поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Грант продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела», – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Грант поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям». (Фигаро. – Тифлис – 1922. – 6 февр.).
А. К. Шервашидзе: «…Все, что произошло в ателье Головина в тот вечер – Вы знаете, т. к. были там с Вашей супругой. Я поднялся туда в момент удара – Волошин, оч<ень> красный, подбежал ко мне, – я едва успел поздороваться с В<ашей> супругой, и сказал: «Прошу тебя быть моим секундантом». Тут же мы условились о встрече с Зноско-Боровским, Кузминым и Ал. Толстым.
Зноско-Боровский и Кузмин – секунданты Гумилева. Я и Алеша тоже – Волошина. На другой день утром я был у Макса, взял указания. Днем того же дня в ресторане «Albert» собрались секунданты. Пишу Вам оч<ень> откровенно: я был очень напуган, и в моем воображении один из двух обязательно должен был быть убит.
Тут же у меня явилась детская мысль: заменить пули бутафорскими. Я имел наивность предложить это моим приятелям! Они, разумеется, возмущенно отказались.
Я поехал к барону Мейендорфу и взял у него пистолеты.
Результатом наших заседаний было: дуэль на пистолетах, на 25 шагах, стреляют по команде сразу. Командующий был Алексей Толстой.
Рано утром выехали мы с Максом на такси – Толстой и я. Ехать нужно было в Новую Деревню. По дороге нагнали такси противников, они вдруг застряли в грязи, пришлось нам двум (не Максу) и шоферу помогать вытянуть машину и продолжать путь. Приехали на какую-то поляну в роще: полянка покрыта кочками, место болотистое.
А. Толстой начал отмеривать наибольшими шагами 25 шагов, прыгая с кочки на кочку.
Расставили противников. Алеша сдал каждому в руки оружие. Кузмин спрятался (стоя) за дерево. Я тоже перепугался и отошел подальше в сторону. Команда – раз, два, три. Выстрел – один. Волошин – «у меня осечка». Гумилев стоит недвижим, бледный, но явно спокойный. Толстой подбежал к Максу взять у него пистолет, я думаю, что он считал, что дуэль окончена. Но не помню как, Гумилев или его секунданты предложили продолжать.
Макс взвел курок и вдруг сказал, глядя на Гумилева: «Вы отказываетесь от Ваших слов?»
Гумилев – «нет». Макс поднял руку с пистолетом и стал целиться, мне показалось, довольно долго. Мы услышали падение курка, выстрела не последовало. Я вскрикнул: «Алеша, хватай скорей пистолеты», – Толстой бросился к Максу и выхватил из его руки пистолет, тотчас же взвел курок и дал выстрел в землю.
«Кончено, кончено», – я и еще кто-то вскрикнули и направились к нашим машинам. Мы с Толстым довезли Макса до его дома и вернулись каждый к себе. На следующее утро ко мне явился квартальный и спросил имена участников. Я сообщил все имена. Затем был суд – пустяшная процедура, и мы заплатили по 10 руб. штрафа. Был ли с нами доктор? Не помню, думаю, что никому из нас не были известны правила дуэли. Конечно, вопросы Волошина, вне всякого сомнения, недопустимы, а также и ясный ответ Гумилева». (Недатированное письмо, по-видимому, к художнику Борису Васильевичу Анрепу (1883–1969) – по копии, снятой Р. А. Шервашидзе-Зайцевой, дочерью художника, 1 декабря 1982 г.)
А вот как описал эти события в своем дневнике поэт, драматург и музыкант Михаил Кузмин: «21 (суббота). Зноско заехал рано. Макс все вилял, вел себя очень подозрительно и противно. Заехал завтракать к Альберту, потом в «Аполлон», заказывали таксо-мотор. <…> Отправились за Старую Деревню с приключениями <…> В «Аполлоне» был уже граф. <…> С Шервашидзе вчетвером обедали и выработали условия. Долго спорили. Я с кн<язем> отправился к Бор<ису> Суворину добывать пистолеты, было занятно. Под дверями лежала девятка пик. Но пистол<етов> не достали, и князь поехал дальше к Мейендорфу и т. п. добывать. У нас сидел уже окруженный трагической нежностью «Башни» Коля. Он спокоен и трогателен. Пришел Сережа (Сергей Абрамович Ауслендер (1886–1943) – писатель, племянник М. Кузмина. – Сост.) и ненужный Гюнтер, объявивший, что он всецело на Колиной стороне. Но мы их скоро спровадили. Насилу через Сережу добыли доктора. Решили не ложиться. Я переоделся, надел высокие сапоги, старое платье. Коля спал немного. Встал спокойно, молился. Ели. Наконец, приехал Женя, не знаю, достали ли пистолеты.
22 (воскресенье).
Было тесно, болтали весело и просто. Наконец чуть не наскочили на первый автомобиль, застрявший в снегу. Не дойдя до выбранного места, расположились на болоте, проваливаясь в воду выше колен. Граф распоряжался на славу, противники стали живописно с длинными пистолетами в вытянутых руках. Когда грянул выстрел, они стояли целы; у Макса – осечка. Еще выстрел, еще осечка. Дуэль прекратили. Покатили назад. Бежа с револьверным ящиком, я упал и отшиб себе грудь. Застряли в сугробе. Кажется, записали наш номер. Назад ехали веселее, потом Коля загрустил о безрезультатности дуэли. Дома не спали, волнуясь. Беседовали» (ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 53, с. 269–272)
{26} Встреча Волошина и Гумилева состоялась летом 1921 г. в Феодосии.
Записи 1932 г.
Коктебель. Гимназия. Последняя встреча с Гумилевым. Смерть А. М. Петровой
{1} Юнге Эдуард Андреевич (1833–1898) – врач-окулист, пионер курортного Коктебеля.
{2} Мурзаки – низшие дворяне у татар.
{3} Вяземский Терентий Иванович (1857–1914) – московский врач.
{4} Ермолов Алексей Сергеевич (1847–1917) – министр земледелия с 1848 до 1905 г.
{6} Мысли об «историческом пейзаже» изложены Волошиным также в его статье «Константин Богаевский» (Аполлон. – 1912. – № 6).
{6} См.: «Южная страна» (1908), «Классический пейзаж» (1910)
{7} Вирхов Рудольф (1821–1902) – немецкий ученый, основатель современной патологической анатомии. Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894) – немецкий физик, математик, физиолог и психолог. Грефе Альбрехт (1828–1870) – основатель современной офтальмологии.
{8} Юнге был командирован в Египет в 1861 г.
{9} Толстой Федор Петрович (1783–1873) – медальер, скульптор, живописец и график.
{10} Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – украинский и русский историк, этнограф, писатель. Мей Лев Александрович (1822–1862) и Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) – поэты.
{11} «Воспоминания» Марии Федоровны Каменской (1817–1898) печатались в «Историческом вестнике» (1894 г.). «Воспоминания (1843–1860)» Е. Ф. Юнге (1843–1913) были изданы в Москве в 1914 г.
{12} Олдридж Айра Фредерик (ок. 1805–1867) – американский актер.
{13} Юнге Сергей Эдуардович (1879–1902).
{14} Миловская Надежда Васильевна (1847–1906).
{15} Волошин подарил Е. Ф. Юнге свои «Стихотворения. 1900–1910» 7 июня 1910 г., так надписав книгу: «Первой благосклонной слушательнице моих детских стихотворений с глубокой любовью».
{16} Досекин Николай Васильевич (1863–1935) – пейзажист.
{17} А. А. Фет умер 21 ноября 1892 г.
{18} Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – писатель.
{19} Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1850-е – 1896) – журналист и критик.
{20} Досекин Сергей Васильевич (1868 – ок. 1916).
{21} Коренев Анатолий Григорьевич (? – 1943) – художник, директор Ялтинского художественного музея (1921–1927) и Севастопольской картинной галереи (1927–1939). Щукин Сергей Иванович (1854–1937) – собиратель живописи.
{22} Юнге Владимир Эдуардович (1864–1902) – технолог. Умер в сентябре 1902 г.
{23} М. Ю. Лермонтов бывал подростком в имении Столыпиных – Середникове.
{24} Имеется в виду Крымская война 1854–1855 гг.
{25} «Очерки Крыма» Евгения Львовича Маркова (1835–1903) впервые были изданы в 1872 г., второе издание – в 1884 г.
{26} Постройка феодосийского порта шла в 1891–1895 гг.
{27} М. Горький находился на отдыхе в Коктебеле с середины августа до 12 сентября 1917 г. Жил на даче Манасеиных.
{28} Теш Павел Павлович (1842–1908) – врач, близкий знакомый Е. О. Волошиной.
{29} По-видимому, имеется в виду хребет Карагач.
{30} Путешествие в поисках лошадей Волошин описал в письме к своей двоюродной сестре Елене Ляминой 20 августа 1893 г.
{31} Отъезд Волошиных из Москвы в Крым состоялся 3 июня 1893 г
{32} Волошин писал о воспитании, в частности, в статье «Откровения детских игр» (Золотое руно. – 1907. – № 11–12).
{33} Виноградов Василий Ксенофонтович (1843–1894)
{34} Виноградов скончался 18 сентября.
{35} Новым директором стал Василий Федорович Гролих.
{36} Галабутский Юрий Андреевич (1863–1928).
{37} Алексеев Фома Константинович и Пружанский Иосиф Харитонович – феодосийские врачи.
{38} Чернобаев Григорий Евменьевич, в 1894 г. – помощник классного наставника.
{39} Правильно – Кабанов Александр Ефимович.
{40} Митридат – холм на окраине Феодосии.
{41} Об отце Волошина см. примеч. 1 на стр. 340.
{42} Вяземская Валентина Орестовна (1871–?, в замужестве Селезнева) Автор воспоминаний о Волошине.
{43} Этот вечер состоялся 31 января 1893 г.
{44} Закалинский Алексей Григорьевич, впоследствии помощник присяжного поверенного.
{45} Балладу А. К. Толстого «Чужое горе» Волошин читал на гимназическом вечере 5 декабря 1893 г.
{46} Представление «Ревизора» состоялось 2 февраля 1896 г.
{47} Пешковский Александр Матвеевич (1878–1933) – впоследствии известный лингвист.
{48} Бокль Генри Томас (1821–1862) – английский социолог.
{49} Волошин был в Ялте с Пешковским в мае – июне 1896 г.
{50} Петров Михаил Митрофанович (1841–1903).
{51} Лагорио Лев Феликсович (1827–1905) – художник.
{52} Не совсем верно: первые двухколесные велосипеды появились в начале XIX в. Однако велосипед «безопасный», близкий по конструкции к современному, сделан в 1893 г.
{53} Петрова Александра Михайловна (1871–1921).
{54} См. также статью Волошина «Культура, искусство, памятники Крыма» (Крым: Путеводитель. – М., 1925).
{55} Дикое поле – историческое название территории между Доном, верхней Окой и левыми притоками Десны и Днепра, отделявшими Русское государство от Крымского ханства.
{56} Фламмарион Камиль (1842–1925) – французский астроном. Большой популярностью пользовались его «астрономические» романы «Люмен» (1872) и «Урания» (1889).
{57} Попытки облесения феодосийских холмов предпринимались с 1876 г.: однако успешными оказались лишь посадки лесничего Ф И. Зибольда (с 1900 г.).
{58} Чураев Степан Артемович – латинист.
{59} Ребиков Владимир Иванович (1866–1920) – композитор. Знакомство Волошина с ним произошло в 1909 г.
{60} Имеются в виду произведения Владимира Федоровича Одоевского (1803–1869) «Русские ночи», «Косморама», «Саламандра», «Беснующиеся».
{61} Волошин находился в Средней Азии с 17 сентября 1900 г. по 22 февраля 1901 г
{62} Материалы коллекции А. М. Петровой были частично опубликованы в «Известиях общества обследования и изучения Азербайджана» (в. 3. Баку, 1926).
{63} Воллк-Ланевские: Валерия Альфонсовна (1875–1943, в замужестве Гауфлер), Евгения Альфонсовна (1872–1959). Нич Вера Матвеевна (ум. 1918).
{64} Семирадский Генрих Ипполитович (1843–1902) – польский и русский живописец.
{65} «Апофеоз мечты» – статья Волошина о французском писателе Вилье де Лиль-Адане (1838–1889), вошедшая в сборник Волошина «Лики творчества» (Спб., 1914).
{66} Мишле Виктор-Эмиль (1862–1938) – французский историк и литератор.
{67} Цетлины: Мария Самойловна (урожд. Тумаркина, 1882–1976) и Михаил Осипович (1882–1946) – меценаты, любители поэзии.
{68} Osenfant (фр.) – Озанфан Амеде (1886–1966) – французский художник.
{69} Польти Жорж (1868–?) – французский литератор.
{70} Импровизация Вилье де Лиль-Адана была напечатана А. Ла Люберном в журнале «La jeune France» в сентябре 1886 г.
{71} Названная книга Ж. Польти вышла из печати в Париже в 1895 г.
{72} Журнал «Mercure de France» выходил с 1890 г.
{73} Эти три статьи, с дарственными надписями Ж. Польти, сохранились в мемориальной библиотеке Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле.
{74} Лямина Елена Сергеевна (1870–1952) – двоюродная сестра Волошина.
{75} Упомянутая болезнь Волошина относится к июлю – декабрю 1921 г.
{76} Пшеславский (Пржецлавский) Александр Александрович (1875–?) – художник.
{77} Кедрова Евгения Дмитриевна (1886–1967) с дочерьми Натальей, Ольгой и Татьяной.
{78} Микешин Михаил Осипович (1835–1896) – скульптор.
{79} Рубо Франц Алексеевич (1856–1928) – художник-баталист. Над панорамой «Оборона Севастополя» работал в 1902–1904 гг.
{80} Нич Николай Матвеевич (1884–1942) – феодосийский знакомый Волошина.
{81} Немитц Александр Васильевич (1879–1967) – контр-адмирал, с февраля 1920 по декабрь 1921 г. – командующий морскими силами республики.
{62} Гумилев был расстрелян 24 августа 1921 г. по обвинению в участии в заговоре Таганцева.
{83} Валетка – Валентина Владимировна Успенская.
{84} Юнге Ольга Андреевна (урожд. Фрам) – жена инженера Ф. Э. Юнге. В начале 20-х гг. жила в доме Волошина.
{85} Гончаров Иван Васильевич (1885 – ок. 1940) – председатель Феодосийского ревкома в 1921 г. В санаторий в Феодосию Волошин приехал из Коктебеля 16 октября 1921 г.
{86} Лампси Петр Николаевич – городской судья, внук И. К. Айвазовского. В 1920 г. уехал в Грецию, поэтому его квартира в доме художника пустовала.
{87} Братья Юнге: Федор Эдуардович (1866–1928) – инженер и Александр Эдуардович (1872–1921) – ботаник.
{88} Первый вариант стихотворения «Готовность» (из которого Волошин затем выделил стихотворение «На дне преисподней») был опубликован в журнале «Новая русская книга» (Берлин, 1923. – № 2).
{89} Богаевская Жозефина Густавовна (1877–1969) – жена художника К. Ф. Богаевского.
{90} «Скромное предложение» – памфлет Д. Свифта (1729).
{91} Слащев Яков Александрович (1885–1929) – генерал-лейтенант. Руководил обороной белых Крыма с севера.
{92} Айвазовская Нина Александровна (? – 1944).
{93} Квятковский Людвиг Лукич (1894–1977) – художник из бедной семьи. А. М. Петрова опекала его с малых лет.
{94} А. М. Петрова скончалась 11 декабря 1921 г. В архиве Волошина сохранился набросок статьи «Киммерийская сивилла» (памяти А. М. Петровой). Волошин писал: «В основе каждого таланта лежит избыток жизненности, которому природа дает чем-нибудь возможность вылиться в жизни. Лежит ли эта природа в обстоятельствах, в среде, в физическом дефекте, недостатке или в особенностях характера, она всегда обуславливает п р е с у щ е с т в л е н и е сущностей – физических – в душевные. Если у данного лица есть способность воплощения – он становится художником, если ее нет, то он живет жизнью своеобразной, глубокой и, действуя на окружающих как заряженная лейденская банка, оставляет глубокий след в их жизни и психике. Влияние таких талантов, лишенных дара личного воплощения, бывает очень глубоко и плодотворно. Но, к сожалению, редко отмечается и фиксируется, так как у нас не ведется записей нашей культурной жизни.
К таким людям, оплодотворившим многие десятки людей, с ней соприкасавшихся, принадлежала Алекс<андра> Мих<айловна> Петрова, имя которой не угасло сразу только потому, что ее труд по собиранию и исследованию татарских вышивок был закончен по ее завещанию Е. Ю. Спасской (чего она сама, конечно, не сделала бы) и недавно опубликован. Но личность А. М. далеко превышала ее труд, и хочется, чтобы она была увековечена. В развитии моего поэтического творчества, равно как и в развитии живописи творчества К. Ф. Богаевского А. М. сыграла важную и глубокую роль. Она послужила не только связью между нами, но и определила своим влиянием наши пути в искусстве. <…>»
{95} Маркс Аделаида Валерьевна (урожд. Чарыкова, в первом браке Фридерикс, 1857–1921).
О Н. А. Марксе
{1} Маркс Никандр Александрович (1860–1921) – генерал-лейтенант, профессор археологии, крымовед и фольклорист. Отузы – татарская деревня в восьми верстах от Коктебеля (в сторону Судака), ныне Щебетовка.
{2} Нич Вера Матвеевна (? – 1918, по мужу Гергилевич), феодосийка, директрисса частной гимназии. Фридерикс Ольга Владимировна (1877 – ок. 1900) – дочь А. В. Маркс от первого брака.
{3} Чин генерал-майора был присвоен Марксу в декабре 1900 г.
{4} В университете Маркс не учился. Он закончил (в 1910 г.) Московский археологический институт.
{5} Арцеулов Константин Константинович (1891–1980) – внук И. К. Айвазовского, летчик и художник. «Легенды Крыма» были изданы в Москве (1-й выпуск в 1913 г., 2-й – в 1914 г.) и в Одессе (3-й выпуск в 1917 г.).
{6} Звягинцева Вера Клавдиевна (1894–1972) – поэтесса.
{7} Татида – псевдоним Татьяны Давыдовны Цемах (1890 – ок. 1943) – поэтессы, бактериолога. Ей посвящено стихотворение Волошина «Плаванье» (1919).
{8} Бабаджан Вениамин Симович (1894–1920) – поэт и художник, руководитель издательства «Омфалос» в Одессе. Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) – поэт и литературовед. Автор многих книг о Пушкине и Достоевском. Гроссман неоднократно бывал в Коктебеле у Волошина, переписывался с ним. Жизнь в Доме Поэта подробно описана Л. Гроссманом в очерке «Последний отдых Брюсова», вошедшем в его книгу «Борьба за стиль» (Москва, 1927).
{9} Перипетии путешествия из Одессы в Крым Волошин описал в стихотворениях «Плаванье» и «Бегство» (см.: Новый мир. – 1988. – № 2).
«Бегство», написанное в июне 1919 г., посвящалось (в рукописи), «товарищам по шхуне «Казак» Малишевскому, Врублевскому и Борисову, Парфену и Григорию» (первые трое – матросы-чекисты, остальные – команда дубка).
{10} Ак-Мечеть – ныне Черноморское.
{11} Кожевников Иннокентий Серафимович (1879–1931) – в марте – мае 1919 г. был командующим группы войск Донецкого направления (до этого – командующий 13-й советской армией).
{12} Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938) – военачальник, с начала апреля 1919 г. – нарком по военным делам Крымской республики.
{13} Светоний Гай Транквилл (ок. 70 – ок. 140) – римский историк.
{14} Имеется в виду Константин Николаевич Кедров (1876–1932) – певец и декламатор. В Симферополе квартировал на Екатерининской улице.
{15} Семенкович Евгения Михайловна (? – 1920) – жена инженера В. Н. Семенковича, жила на Александро-Невской улице.
{16} Новицкий Павел Иванович (1888–1971) – заведовал Крымским отделом народного образования. Впоследствии – театровед, член Союза писателей.
{17} Лаура – Багатурьянц Евгения Романовна (1889–1960) – председатель Симферопольского ревкома в 1919 г.
{18} Ахтырский (Мартьянов) Аким (? – 1926) – в июне 1919 г. политком штаба Красной Армии. В 1920 г. перешел к белым, выдав многих подпольщиков. Расстрелян.
{19} Карасу-Базар – ныне Белогорск.
{20} Астафьев Константин Николаевич (ок. 1890–1975) – художник, псевдоним Астори.
{21} Шах-Мамай – бывшее имение Айвазовского, ныне – Айвазовское Старо-Крымского района.
{22} Астафьева Ольга Васильевна (урожд. Трофимова, 1886–1974) – подруга М. С. Заболоцкой, второй жены Волошина, по Петербургу.
{23} Грудачев Петр Александрович (1893–1978) – матрос, в 1919 г. – комендант Феодосии.
{24} Вересаев Викентий Викентьевич (наст. фамилия – Смидович, 1867–1945) – врач, писатель. Оставил воспоминания о Волошине.
{25} Касторский Владимир Иванович (1871–1948) – певец, бас.
{26} Искандер А. – член президиума Феодосийского ревкома. Убит в июле 1919 г. Ракк (Закаминский) Евгений Наумович – председатель Феодосийского ревкома.
{27} Статья Волошина «Вся власть патриарху» была напечатана в газете «Таврический голос» (Симферополь) 22 декабря 1918 г. Волошин писал: «В жизни народов есть смутная эпоха, когда они погружаются в периоды государственности сна и хаоса и выходят из них, повторяя вкратце основные творческие моменты своей прошлой историй. Так было в эпоху «Смутного времени», таково же положение России и теперь.
Мы проходим сквозь все разрушительные стихии русской истории – Разиновщину, Пугачевщину, к которым мы сами присоединили, как новый знак, «Азефовщину». А в ближайшем будущем нам предстоит еще пройти сквозь «Самозванщину» <…>
{28} Насыпкой – ныне Насыпное (между Феодосией и Симферополем)
{29} Белый десант был высажен 18 июня.
{30} Саша – Александр Эдуардович Юнге (см. примеч. 87 на с. 361)
{31} Синопли Александр Георгиевич – грек, владелец кафе «Бубны».
{32} Бутковская Наталья Ильинична (1878–1948) – петербургская издательница, вторая жена художника А. К. Шервашидзе.
{33} Стамов Гаврила Дмитриевич (1884–1923) – уроженец Коктебеля.
{34} Правильно – Сиденснер Григорий Николаевич – корабельный инженер. Броненосец «Императрица Мария» был взорван немецкой разведкой 7 октября 1916 г. вблизи Севастополя. Поднят со дна 28 февраля 1919 г.
{35} Вержховецкая Наталья Александровна – поэтесса, жительница Старого Крыма.
{36} Вигонд Екатерина Владимировна (ок. 1877–?) – вторая жена Маркса. В 1921 г. выехала с дочерью в Латвию.
{37} Маркс был арестован 22 июня 1919 г. По воспоминаниям В. В. Вересаева содержался в гостинице «Астория».
{38} Смидович Петр Гермогенович (1874–1935) – революционер, в 1918 г. – председатель Моссовета.
{39} Новинский Александр Александрович – начальник феодосийского торгового порта. Описан Осипом Мандельштамом в очерке «Начальник порта».
{40} Месаксуди Владимир Константинович – табачный фабрикант, английский представитель в Керчи.
{41} Ронжин Иван Алексеевич (1867–1927) – генерал-лейтенант военно-судебного ведомства.
{42} Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – политический деятель, монархист.
{43} По-видимому, Троцкий Лев Давидович. В письме Волошина к Цетлиным от 5 апреля 1929 г. сказано: «Мне передавали несколько месяцев тому назад, что в «Правде» была статья Троцкого (слово зачеркнуто, но можно угадать. – Сост.) обо мне, где он назвал меня самым крупным из современных поэтов».
{44} Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939) – генерал-лейтенант, помощник главнокомандующего. Драгомиров Андрей Михайлович (1868–?) – генерал от кавалерии, помощник главнокомандующего. Романовский Иван Павлович (1877–1920) – генерал, начальник штаба Добровольческой армии.
{45} Леман Борис Алексеевич, литературный псевдоним Дикс (1880–1945) – поэт, переводчик.
{46} Верховский Петр Владимирович – по другим данным, контрадмирал.
{47} Вильямс Гарольд (1876–1928) – журналист и лингвист. Тыркова Ариадна Владимировна (1869–1962) – писательница, общественная деятельница, один из лидеров кадетской партии.
{48} Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) – политический деятель, писатель.
{49} Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) – юрист, философ, публицист.
{50} Экк Эдуард Владимирович (1851–?) – генерал от инфантерии.
{51} Шабельский Георгий (1872–1951) – священник, протопресвитер армии и флота.
{52} Толузаков Сергей Александрович – офицер. Волошин ему посвятил стихотворение «Молитва о городе» (1918).
{53} Суд над Марксом состоялся 15 июня 1919 г.
{54} В записной книжке Волошина записано – Шаперон де ля Рэ, адъютант Деникина. По-видимому, это прозвище – chaperon, спутник, охранитель (фр.).
{55} Копия приказа Деникина сохранилась в архиве Маркса. Вот этот текст: «Приговором военно-полевого суда от 15-го сего июля <…> генерал-лейтенант Маркс за преступление, предусмотренное 108 <ст>атьей Угол<овного> Улож<ения> <…> присужден, по лишении всех прав состояния, к каторжным работам сроком 4 года. При конфирмации приговор мною утвержден, с освобождением осужденного от фактического отбытия наказания за старостью лет» (Дом-музей М. А. Волошина в Коктебеле).
{56} Онеихи (наст. фамилия Аронсон) Залман Ицхак (1876–1947) – еврейский писатель.
{57} Кювилье Мария Павловна (1895–1985), в первом браке – Кудашева, во втором – Роллан. Волошиным посвящены ей два стихотворения.
{58} Ошибка. Главнокомандующим Таврии был генерал Н. Н. Шиллинг (1870–1940-е). Разрешение на выезд в Тамань было получено Марксом 14 сентября 1919 г.
{59} Ректором Кубанского университета Маркс был избран 19 декабря 1920 г. Скончался он 29 марта 1921 г.
{60} См. примеч. 58. 5 августа 1919 г. генерал Шиллинг Н. Н. был назначен главнокомандующим Таврической губернии. 13 августа он прибыл из Феодосии в Керчь.
{61} Княжевич Владимир Антонинович – предводитель дворянства Феодосийского уезда, камергер.
{62} Волошин писал об этом эпизоде 20 августа 1919 г. Л. А. Недоброво: «На днях с одного концерта, где я должен был читать свои стихи о России, меня попросили уйти, т. к. мои стихи и мое присутствие – оскорбление для Добровольческой армии. Это мне доставило громадн<ое> удовольствие».
{63} Дудука – прозвище Сергея Кудашева (1917–1940-е) – сына М. П. Кудашевой.
{64} О приходе в Феодосию американских пароходов с мукой для Поволжья Волошин писал матери (в Коктебель) 2 марта 1922 г. 25 марта он подтверждал: «Американцы провозят кукурузу через Крым и еще ни одного пуда официально здесь не оставили».
О Мандельштаме, Эренбурге и других. Мое последнее пребывание в Париже
{1} 9 сентября 1920 г. Волошин писал А. Н. Ивановой: «Сережа Кудашев умер от тифа во время отступления». А 7 июня 1920 г. феодосийская газета «Крымская мысль» извещала о смерти капитана «князя Кудашева» (без инициалов) «в бою 29 мая», в составе «кубанской артиллерии».
{2} Видимо, надо читать «переполненных». Об этом периоде существуют воспоминания поэтессы Аделаиды Казимировны Герцык (1874–1925) «Подвальные очерки».
{3} Бусалак (также Босолак, Бузалак: от татарского «буз» – лед) – имение Зелинских в Феодосийском уезде, близ Ислам-Терека.
{4} Заболоцкая Мария Степановна (1887–1976) – вторая жена Волошина. В 1923 г. Волошин посвящает М. С. Заболоцкой стихотворение «Русь гулящая» (см.: Волошин М. Избранные стихи – М., 1988).
{5} Ася – Анастасия Ивановна Цветаева (р. 1895 г.) – писательница, автор воспоминаний о Волошине.
{6} Панич – Валентина Иосифовна Зелинская (1892–1928) – дочь Иосифа Викторовича Зелинского (1857–1928), народовольца.
{7} Крафт-Эбинг Рихард (1840–1902) – австрийский психиатр.
{8} В селе Дальние Камыши под Феодосией (ныне Приморское) М. С. Заболоцкая служила в амбулатории. Волошин находился на лечении в Феодосии с 17 октября 1921 г. Первое упоминание Заболоцкой находим в его письме к матери от 20 февраля 1922 г.: «Только что у меня была одна знакомая фельдшерица из Бол. Камышей, Мария Степановна Заболоцкая» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 64).
{9} Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938).
{10} 1 июля 1925 г., сообщая о совместных ужинах с Алексеем Николаевичем Толстым (1883–1945), Е. О. Волошина писала сыну: «А со вчерашнего дня к нам присоединился поселившийся у нас поэт Мандельштам» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5).
{11} Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941) – историк литературы, критик, переводчица.
{12} О. Э. Мандельштам окончил Тенишевское коммерческое училище в мае 1907 г. Волошин жил в Петербурге с октября 1906 по март 1907 г. К этому периоду и следует отнести их встречу.
{13} Мандельштам послал Волошину пять стихотворений: «В холодных переливах лир…», «Твоя веселая нежность…», «Не говори мне о вечности…», «На влажный камень возведенный…» и «В безветрии моих садов…» Подробнее см.: Вопросы литературы. – 1987. – № 7.– С. 187–188.
{14} 14 июля 1915 г. Е. О. Волошина писала сыну о Мандельштаме: «Мы прозвали его Melle Зизи, и он Христом Богом молит не называть его так…» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5).
{15} Оболенская Юлия Леонидовна (1889–1945) – художница. Волошин посвятил ей стихотворение «Dmetrius – Imperator» (1917).
{16} Цыгальский Александр Викторович (1880–?) – военный инженер, поэт.
{17} Правильно – Вержховецкая.
{18} 20 июля 1920 г. Волошин писал Новинскому: «Александр Мандельштам[137], по поручению своего брата, украл у Майи экземпляр «Камня» (книга стихов Ос. Эмил.), причем нагло сказал об этом самой Майе: «Если хотите, расскажите: брат не хочет, чтобы его стихи находились у М. А., т. к. он с ним поссорился». Кстати же, эта книга не моя, а Пра. Я узнал об этом, к сожалению, слишком поздно – он уехал к Осипу, и они едут в Батум. Окажи мне дружескую услугу: без твоего содействия они в Батум уехать не могут, поэтому поставим им ультиматум: верните книгу, а потом уезжайте, не иначе. Мою библиотеку Мандельштам уже давно обкрадывал, в чем сознался: так как в свое время он украл у меня итальянского и французского Данта. Я это выяснил только в этом году. Но «Камень» я очень люблю, и он еще находится здесь, в сфере досягаемости».
25 июля Мандельштам написал Волошину: «Милостивый государь! Я с удовольствием убедился в том, что вы <под> толстым слоем духовного жира, п<р>остодушно принимаемом многими за утонченную эстетическую культуру, – скрываете непроходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина. Вы позволяете себе в письмах к общим знакомым утверждать, что я «давно уже» обкрадываю вашу библиотеку и, между прочим, «украл» у вас Данта, в чем «сам сознался», и выкрал у вас через брата свою книгу. Весьма сожалею, что вы вне пределов досягаемости и я не имею случая лично назвать вас мерзавцем и клеветником. Нужно быть идиотом, чтобы предположить, что меня интересует вопрос, обладаете ли вы моей книгой. Только сегодня я вспомнил, что она у вас была. Из всего вашего гнусного маниакального бреда верно только то, что благодаря мне вы лишились Данта: я имел несчастие потерять 3 года назад одну вашу книгу. Но еще большее несчастье вообще быть с вами знакомым. О. Мандельштам» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 818).
{19} Здесь перефраз письма В. А. Жуковского, который писал А. X. Бенкендорфу о Пушкине: «Ведь вы не имеете времени заниматься русскою литературою и должны в этом случае полагаться на мнение других?» (указано В. Г. Перельмутером).
{20} Абрамов Соломон Абрамович (1884–1957) – владелец издательства «Творчество». Статья Мандельштама «Vulgata» была напечатана в журнале «Русское искусство», издававшемся Абрамовым (№ 2-3 за 1923 г.). 3 декабря 1923 г. Волошин в письме к Абрамову протестовал против ляпсуса, допущенного Мандельштамом.
{21} Воронский Александр Константинович (1884–1943) – писатель, редактор журнала «Красная новь» в 1921–1927 гг.
{22} Речь идет о первой книге стихов И. Г. Эренбурга «Стихи» (Париж, 1910). Этот эпизод описан также в статье Г. А. Шенгели «Киммерийские Афины» (Парус (Харьков). – 1919. – № 1). Отзыв Волошина о книге появился в газете «Утро России» 12 февраля 1911 г.: «Позы и трафареты. (Стихи Э. И. Штейна и И. Эренбурга)».
{23} Екатерина Оттовна Шмидт (1889–1977), во втором браке – Сорокина.
{24} В статье «Илья Эренбург – поэт» (Речь. – 1916. – № 300. – 31 окт.) Волошин писал: «С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелелыми семитическими губами, с очень длинными и очень прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, «которым только что вымыли пол», Эренбург настолько «левобережен» и «монпарнасен», что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих».
{25} Сборник «Я живу» вышел в 1911 г. в Петербурге, «Детское» – в 1914 г. в Париже.
{26} Франсис Жамм – французский поэт. Его «Стихи и проза» в переводе Эренбурга вышли в Москве в 1913 г.
{27} 23 января 1915 г. Волошин писал Ю. Л. Оболенской из Парижа: «Только тут я понял, как тяжело было сидеть на той точке, на которую опирается коромысло двух чашек весов, и как невозможно найти равно-весящую справедливость в своей душе для двух враждующих рас, которые вовсе не хотят ее (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 83). Однако впоследствии он гордился тем, что
В годы, когда расточала Европа Золото внуков и кровь сыновей… Я и германского дуба не предал, Кельтской омеле не изменил. («Четверть Века», 1927 г.){28} Гольштейн Александра Васильевна (1850–1937) – участница народовольческих кружков, политэмигрантка, переводчица и писательница (псевдоним Баулер). Имела большое влияние на Волошина, познакомила его с многими деятелями французской культуры. Волошин посвятил Гольштейн стихотворение «Старые письма» (1904), цикл стихов «Алтари в пустыне» (1909) и стихотворение 1915 г. «Весна».
{29} Григорович Елена Юстиниановна (? – 1967). Нюша – Анна Николаевна Иванова (1877–1939) – кузина М. В. Сабашниковой, племянница Е. А. Бальмонт.
{30} Цветковская Елена Константиновна (1880–1943) – третья жена К. Д. Бальмонта.
{31} Савинков Борис Викторович (1879–1925) – политический деятель, один из лидеров партии эсеров, писатель (псевдоним В. Ропшин). В 1915 г. Волошиным написано стихотворение «Ропшин».
{32} Сорокин Тихон Иванович (1879–1959) – искусствовед, второй муж Е. О. Шмидт. Прообраз Алексея Тишина в романе И. Эренбурга «Похождения Хулио Хуренито».
{33} Имеются в виду М. О. и М. С. Цетлины, жившие в Париже на улице Анри-Мартен, 91.
{34} Равич Вера Михайловна – танцовщица, жена П. Я. Эфрона.
{35} Соболь Андрей – псевдоним писателя Юлия Михайловича Соболя (1888–1926).
{36} Сражение на Марне между англо-французскими и германскими войсками произошло в сентябре 1914 г. «Вторая Марна» – сражение там же в июле 1918 г.
{37} «Стихи о канунах» Ильи Эренбурга вышли в Москве в 1916 г. В них была помещена поэма, посвященная Волошину, «Повесть о странствиях блудной души», помеченная февралем 1915 г.
{38} Книга переводов стихов Франсуа Вийона, сделанная Эренбургом, вышла в 1916 г. в издательстве «Зерна». Переводы Шарля Пеги опубликованы не были.
{39} Маревна – Мария Брониславовна Воробьева-Стебельская (1892–?) – художница. Волошин познакомился с ней в начале 1915 г. в Париже.
{40} 24 сентября 1915 г. Волошин писал М. С. Цетлин: «Это очень чистая, правдивая по природе девушка, но страшно изломанная и измученная и детством, и обстоятельствами жизни, беспризорная, нервная, больная» (Собрание А. Ф. Маркова. Москва). В год знакомства Волошин посвятил М. Стебельской стихотворение «Усталость»). (См.: Волошин М. Избранные стихи. М., 1988).
{41} «Ротонда» – кафе на углу бульваров Монпарнас и Распай, излюбленное место многонациональной парижской богемы.
{42} Ср. описание предвоенного дачного сезона в Крыму, сделанного на материалах Коктебеля Алексеем Толстым в романе «Сестры».
{43} Маргарита – Сабашникова Маргарита Васильевна (1882–1973) – художница, первая жена Волошина. Автор воспоминаний о Волошине. Волошин посвятил Сабашниковой цикл стихов «Amori amara sacrum» и стихотворение «Под знаком Льва» (1914).
{44} Иоганнес-бау или Гетеанум – центр Атропософского общества, с театральным залом для представления мистерий. Строился с сентября 1913 по апрель 1915 г. Сгорел в декабре 1922 г.
{45} Книга «Дух готики» не была закончена Волошиным. Материалы и наброски к ней опубликованы А. В. Лавровым в сборнике «Русская литература и зарубежное искусство» (Л., 1986).
{46} Кандауровы – Константин Васильевич (1865–1930) – художник-декоратор, Анна Владимировна (ум. 1962) – его жена и Маргарита Павловна (род. 1895) – его племянница, балерина. Рогозинский Владимир Александрович (1882–1951) – архитектор.
{47} Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум 10(23) июля 1914 г. По пути из Рени в Галец дорога пересекает реку Прут, а Дунай остается слева, к югу.
{48} Буммель-цуг – поезд малой скорости (нем.).
{49} Кропштадт (по-венгерски Брассо, ныне Брашов) – город у подножья Трансильванских Альп.
{50} Путник Радомир (1847–1917) – начальник Генштаба сербской армии.
{51} Статья Волошина «Год назад» была напечатана в «Биржевых ведомостях» 9(22) июля 1915 г. См. стр. 128–131.
{52} «Альбертина» – одно из богатейших собраний графики, возникло в 1776 г. как коллекция герцога Альберта.
{53} Гика Дмитрий Жан (1875–1960-е) – валахский князь.
{54} Андрей Белый – псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880–1934) – поэта и критика. Оставил воспоминания о Волошине. Волошин посвятил Белому стихи «В цирке» (1903) и написанное в 1915 г. стихотворение «Пролог» (см.: Волошин М. Избранные стихи. – М., 1988).
{55} Жорес Жан – французский социалист. Был убит 31 июля.
{56} Анненкова Ольга Николаевна – филолог, переводчица.
{57} Сизов Михаил Иванович (1884–1956) – критик, переводчик.
{58} 13 ноября 1914 г. Бальмонт писал Волошину: «Милый Макс, приезжай к нам, как только сможешь выехать. И я, и Нюша, мы оба тебе сердечно рады. Поселим тебя в большой комнате Ниники, в ней светло и уютно.
Я жажду бесед с тобой и быстрых прогулок, которые и ты любишь» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 231).
{59} Кемпер Карл (1881–1957) – художник и скульптор.
{60} Ателье Коларосси – известная художническая мастерская в Париже, основанная в 80-х гг. XIX в.
{61} Гуревич Себастьян Абрамович – художник.
{62} «Стихи о канунах», см. примеч. 37 на стр. 372.
{63} Аполлинер Гийом (1880–1918) и Жакоб Макс (1876–1944) – французские поэты.
{64} Здесь пропуск стихов.
{65} Менар Рене (1862–1930) и Котте Шарль (1863–1925) – французские художники.
{66} Верхарн Эмиль (1855–1916) – бельгийский поэт.
{67} Левканойя – александрийская куртизанка, адресат одной из од Горация.
{68} О своей последней встрече с Э. Верхарном в зале буддийского искусства музея Гимэ Волошин рассказал в статье «Судьба Верхарна» «Дхарма» – здесь скульптура, символически изображающая высший духовный долг человека.
{69} Волошин отплыл из Ньюкасла в Норвегию 11 апреля 1916 г
{70} Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) – министр иностранных дел России с 1910 по июль 1916 г.
{71} Хапарандо – порт в Швеции, в северной части Ботнического залива. Торнео (ныне Торнио) – финский город на границе с Швецией. Волошин прибыл туда 17(4) апреля 1916 г.
Фотографии
Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина с Максом. 1878 г. Киев
Александр Максимович Кириенко-Волошин, отец М. Волошина.
М. А. Волошин. 1900 г.
М. Волошин с друзьями Л. В. Кандауровым и В. П. Ишеевым. Рим, 1900 г.
Вид Парижа
Удостоверение Волошина, корреспондента газеты «Русь». 1904 г.
М. А. Волошин. Париж, 1905 г.
Ателье Волошина на Эдгар Кинэ, 16 в Париже. Фото М. Волошина
Интерьер ателье. Фото М. Волошина
М. В. Сабашникова, Версаль, 1905 г. Фото М. Волошина
М. Волошин и М. Сабашникова в день свадьбы, 12 апреля 1906 г. Москва
М. Волошин в своем доме в Коктебеле. 1906 г.
Дом Волошина в Коктебеле. Зима, между 1908—1912 гг. Фото М. Волошина
К. Ф. Богаевский. Рисунок М. Волошина
Мартирос Сарьян. 1910-е гг.
Эмиль Верхарн. Рис. Ю. Анненкова
Илья Репин. Фрагмент его картины, изрезанной А. Балашовым (фото внизу). 1913 г.
М. Волошин в Одессе. 1919 г.
Вид Феодосии
М. Волошин в летнем кабинете своего дома
Силуэты Е. Кругликовой
М. Волошин, М. Кузмин, К. Бальмонт, А. Блок
И. Эренбург, A. Белый, B. Брюсов, Вяч. Иванов
С. М. Городецкий в роли Юного поэта в постановке «Ночных плясок» Ф. Сологуба. 1909 г.
Н. Гумилев
A. Ремизов
B. Суриков
И. Анненский
Е. Дмитриева
А. Бенуа
С. К. Маковский. 1909 г.
Э. Берндт. Вид Коктебеля. 1860-е гг.
Е. И. Дмитриева. Коктебель, 1909 г. Фото М. Волошина
Стихи Черубины де Габриак в журн. «Аполлон», 1910, № 10
Е. И. Васильева (Дмитриева). 1920-е гг.
Мужская гимназия в Феодосии
Вид Коктебеля
М. А. Волошин. Феодосия, 1896 г.
Е. О. Волошина и М. В. Сабашникова. Коктебель, 1906 г.
Н. А. Маркс со своей дочерью
Генерал Н. А. Маркс. Одесса, 1919 г.
М. А. Волошин и А. М. Петрова
А. М. Пешковский
Николай Гумилев. Силуэт Е. Кругликовой
Илья Эренбург. 1910-е гг.
Осип Мандельштам. Силуэт Е. Кругликовой
В Париже. Фото 1874 г.
М. Волошин в парижском кафе. Рисунок И. Эренбурга. 1915 – 1916 гг.
Обложка книги М. Волошина «Anno mundi ardentis». 1916 г.
Книжный знак М. Волошина работы Диего Риверы.
Борис Савинков
М. А. Волошин и М. С. Волошина. Коктебель, 1920-е гг.
М. А. Волошин. Герм работы Э. Виттига на бульваре Эксельман в Париже
Интерьер Дома Поэта
Дом Поэта
М. С. Волошина на могиле М. Волошина. 1930-е гг.
М. А. Волошин. Фото 1930 г.
Примечания
1
Штаны из кожи (нем.).
(обратно)2
Верю, потому что нелепо! (лат.)
(обратно)3
Basil de Farceur et Notre Dame d'Ivre – Василий Шут и Богоматерь Хмельная (фр.), как называют французы московские святыни, сами искренно удивляясь при этом таким странным святым (Примеч. Волошина).
(обратно)4
Голубой Дунай (нем.).
(обратно)5
К словам «bonjour» и «adieu» необходимо прибавить «monsier» и «madame», иначе же это считается грубостью. В большинстве же случаев «bonjour» и «adieu» совсем опускаются (Примеч. Волошина)
(обратно)6
Долой попов (фр.).
(обратно)7
Долой штаны (фр.).
(обратно)8
Это наш король (нем.)
(обратно)9
Это была прекрасная сцена! (нем.)
(обратно)10
Позволяю себе привести следующий рассказ Рескина {18}: «Когда Тернер был молод, он иногда бывал добродушен и показывал другим то, что делал. Однажды он рисовал вид Плимутской гавани, за милю или за две стояли два корабля, освещенные сзади. Тернер показал рисунок морскому офицеру, и морской офицер с удивлением и вполне основательным негодованием заметил, что у кораблей не было пушечных портов. «Да, – сказал Тернер, – конечно, их тут нет. Если вы взойдете на Моунт Эджекомб и увидите корабли на фоне заката, вы не различите пушечных портов». – «Но все-таки, – продолжал кипятиться морской офицер, – вы ведь знаете, что они там есть». – «Да, – отвечал Тернер, – я это прекрасно знаю, но я рисую то, что вижу, а не то, что знаю».
«Это закон всякой хорошей художественной работы, даже более того – для художника в конце концов вредно и нежелательно знать то, что он видит перед собою», – прибавляет Рескин.
(обратно)11
Это что-то съедобное? (фр.)
(обратно)12
Это потрясающе! (фр. )
(обратно)13
Но не в Тараскон Доде, а в Тараскон в Арьеже.
– Тараскон на Роне?
– Нет же: Тараскон в департаменте Арьеж (фр.).
(обратно)14
Уникальное по местонахождению и красоте (исп.).
(обратно)15
Она танцует… Тот же самый танец, Что дочь Ирода когда-то Танцевала перед иудейским царем Иродом. Ее глаза излучают смерть. Она танцует неистово – я становлюсь безумным Говори, женщина, что должен я тебе подарить? Ты улыбаешься? Смеешься? Ликторы, живее! Казнить пророков в Иудее! (обратно)16
Народная песня. Перевод В. И. Немировича-Данченко.
Примеч<ание> для редакции: Стихотворение это было напечатано по-русски в «Испанских рассказах» Немировича-Данченко.
(обратно)17
Свежая вода (исп.)
(обратно)18
Колесницы (фр).
(обратно)19
Школа изящных искусств (фр.).
(обратно)20
Здесь – белье (фр.).
(обратно)21
Здесь – нагишом (разг.).
(обратно)22
Сорт дерева (фр.).
(обратно)23
Бакалейщииы (epiciéres, фр.).
(обратно)24
Освистать Беранже! (фр.)
(обратно)25
Большой хоровод (фр.).
(обратно)26
Ни жюри, ни наград (фр.).
(обратно)27
«Перо» (фр.)
(обратно)28
Заставить петь (фр.)
(обратно)29
Здесь танцуют (фр.).
(обратно)30
Королевский мост (фр.).
(обратно)31
В [ ] скобках текст, зачеркнутый М. Волошиным в гранках.
(обратно)32
Такая красота только утром? (фр.)
(обратно)33
Сена может позволить себе такие маленькие развлечения! (фр.)
(обратно)34
Площадь Согласия (фр).
(обратно)35
Двор чудес (фр.).
(обратно)36
«Отверженные» (фр.).
(обратно)37
Улица Венеции (фр.).
(обратно)38
«Шпага леса» (фр).
(обратно)39
по-собачьи (фр.).
(обратно)40
золотой шлем (фр.)
(обратно)41
Новый мост (фр.).
(обратно)42
Набережная Конти (фр.).
(обратно)43
«Прекрасная садовница» (фр.).
(обратно)44
по-дневному (ит.).
(обратно)45
маленькие женщины (фр).
(обратно)46
студенты (фр.).
(обратно)47
Маленькие блудницы.
(обратно)48
Там танцуют. Там танцуют, Без конца… Там танцуют В хороводе… (фр). (обратно)49
Киммерией я называю восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского{1} (Керченского пролива), в отличие от Тавриды, западной его части (южного берега и Херсонеса Таврического). Филологически имя Крым обычно производят от татарского Кермен (крепость). Но вероятнее, что Крым есть искаженное татарами имя Киммерии. Греки называли теперешний город Старый Крым – Κυμεριον. . Самое имя Киммерии происходит от древнееврейского корня KMR, обозначающего «мрак», употребляемого в библии во множественной форме «Kimeriri» (затмение); Гомеровская «Ночь Киммерийская» – в сущности, тавтология.
(обратно)50
«Современная молодежь» (фр).
(обратно)51
Выступление (фр.).
(обратно)52
«Те из нас» (фр.).
(обратно)53
Держитесь! Остерегайтесь! (фр.)
(обратно)54
Выражение презрения.
(обратно)55
«Вы немец?» – «О, да, да – мы друзья» (нем.).
(обратно)56
«Кавалер цветов» (фр.).
(обратно)57
брошюрами (фр.)
(обратно)58
этюды (фр.).
(обратно)59
Слава – солнце мертвых, все мы умираем неизвестными (фр.).
(обратно)60
«Сандаловый ларец» (фр.).
(обратно)61
Горе побежденным! (лат.)
(обратно)62
О Матерь Божья, помяни меня (лат.).
(обратно)63
«В ответ» (ит.).
(обратно)64
Ошибка памяти М. Волошина.
(обратно)65
Запись от 2/III–1932 г.
(обратно)66
Запись от 3/III–1932 г.
(обратно)67
Запись от 4/III–1932 г.
(обратно)68
Запись от 5/III–1932 г.
(обратно)69
Запись от 6/III–1932 г.
(обратно)70
Запись от 7/III–1932 г.
(обратно)71
Запись от 8/III–1932 г.
(обратно)72
Запись от 8/III–1932 г.
(обратно)73
Запись от 7/III–1932 г.
(обратно)74
Запись от 10/III–1932 г.
(обратно)75
Запись от 11/III–1932 г.
(обратно)76
Запись от 12/III–1932 г.
(обратно)77
Запись от 13/III–1932 г.
(обратно)78
Запись от 18/III–1932 г.
(обратно)79
Запись от 19/III–1932 г.
(обратно)80
Запись от 20/III–1932 г.
(обратно)81
Запись от 21/III–1932 г.
(обратно)82
Запись от 22/III–1932 г.
(обратно)83
Запись от 25/III–1932 г.
(обратно)84
Запись от 26/III–1932 г.
(обратно)85
Запись от 27/III–1932 г.
(обратно)86
М. С. Волошина.
(обратно)87
«Литературная жизнь» (фр.).
(обратно)88
Площадь Альма (фр).
(обратно)89
Запись от 28/III–1932 г.
(обратно)90
Запись от 29/III–1932 г.
(обратно)91
Запись от 29/III–1932 г.
(обратно)92
Запись от 30/III–1932 г.
(обратно)93
в возбужденном состоянии (фр.).
(обратно)94
Два отечества! (фр)
(обратно)95
Константин Федорович Богаевский.
(обратно)96
Запись от 1/IV–1932 г.
(обратно)97
Запись от 2/IV–1932 г.
(обратно)98
Запись от 3/IV–1932 г.
(обратно)99
Запись от 4/IV–1932 г.
(обратно)100
Запись от 5/IV–1932 г.
(обратно)101
Запись от 6/IV–1932 г.
(обратно)102
Запись от 7/IV–1932 г.
(обратно)103
Запись от 8/IV–1932 г.
(обратно)104
Запись от 10/IV–1932 г.
(обратно)105
Запись от 11/IV–1932 г.
(обратно)106
Запись от 13/IV–1932 г.
(обратно)107
Запись от 14/IV–1932 г.
(обратно)108
Запись от 15/IV–1932 г.
(обратно)109
Запись от 16/IV–1932 г.
(обратно)110
Запись от 18/IV–1932 г.
(обратно)111
В оригинале – т. к. (Сост.)
(обратно)112
Запись от 19/IV–1932 г.
(обратно)113
Запись от 20/IV–1932 г.
(обратно)114
Запись от 21/IV–1932 г.
(обратно)115
В оригинале: Passy.
(обратно)116
Запись от 22/IV–1932 г.
(обратно)117
меблированные комнаты (фр.).
(обратно)118
Запись от 23/IV–1932 г.
(обратно)119
Запись от 24/IV–1932 г.
(обратно)120
Запись от 25/IV–1932 г.
(обратно)121
барышня (нем).
(обратно)122
Центральный вокзал (нем.).
(обратно)123
Запись от 26/IV–1932 г.
(обратно)124
Запись от 27/IV–1932 г.
(обратно)125
Улица Башни (фр.).
(обратно)126
Запись от 28/IV–1932 г.
(обратно)127
Вокзал Монпарнас (фр.).
(обратно)128
Запись от 29/IV–1932 г.
(обратно)129
Запись от 30/IV–1932 г.
(обратно)130
Порыв, стремление (фр.).
(обратно)131
Два слова на визитной карточке (фр.).
(обратно)132
Запись от 2/V–1932 г.
(обратно)133
Запись от 5/V–1932 г.
(обратно)134
«Европейский международный еженедельный курьер» (фр.).
(обратно)135
«Европейский курьер» (фр.)
(обратно)136
«Жизнь под восточным ветром» (нем.)
(обратно)137
Мандельштам Александр Эмильевич (1892–1942) – библиограф.
(обратно)

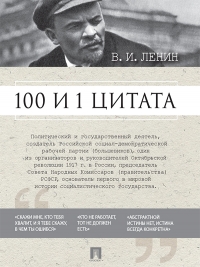
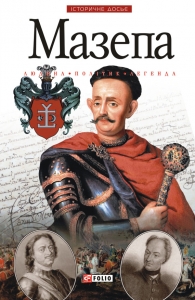
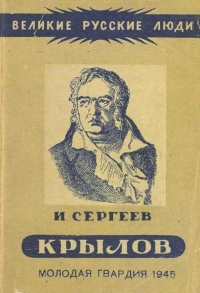
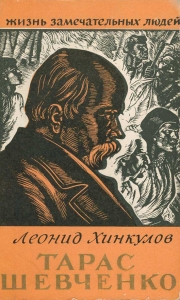

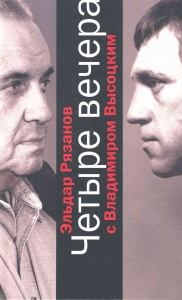

Комментарии к книге «Путник по вселенным», Максимилиан Александрович Волошин
Всего 0 комментариев