Каринэ Фолиянц Закулисные страсти. Как любили театральные примадонны
Неравный брак. Прасковья Ковалева-Жемчугова и граф Николай Шереметев
В истории государства Российского графский род Шереметевых, один из самых знатных и богатых, известен со времен весьма отдаленных. Правда, графский титул Шереметевы получили лишь в 1706 году. Им был удостоен фельдмаршал Борис Петрович Шереметев за усмирение стрелецкого бунта в Астрахани. Надо особо отметить, что Борис Петрович был первым русским графом, так как прежде в России не было такого титула – до этого момента графским титулом наших аристократов жаловали иностранные государи.
Но не только ратными делами славились Шереметевы. Они были меценатами и оказывали помощь «сирым и убогим», на их средства возводили церкви и храмы, а еще Шереметевы покровительствовали искусству. Самый известный крепостной театр принадлежал этому роду, и знаменит он был не только великолепными актерами, но и продуманной планировкой, потрясающими декорациями и изумительной акустикой. Современники отмечали, что шереметевский театр в Кусково ни в чем не уступал дворцовому театру в Эрмитаже.
Именно с историей этого театра связана история любви и неравного брака графа Николая Петровича Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой, выступавшей под псевдонимом Жемчугова.
Родилась Прасковья в деревне Березники Юхотской волости Ярославской губернии 31 июля 1768 года. Ее отец, Иван Степанович Ковалев, был кузнецом у Шереметевых и слыл великим мастером и великим пьяницей.
Все графские крепостные знали о пристрастии своих хозяев к талантливым людям, знали и о том, что Шереметевы готовят актеров для своего театра с самого детства. А потому никто и не удивился, когда голосистую Парашу Ковалеву забрали в подмосковное имение Шереметевых – Кусково и отдали на воспитание одной из графских родственниц, княгине Марфе Михайловне Долгорукой. Параше было тогда восемь лет.
Когда Шереметевы давали оперу в своем театре в Кусково, они старались не увлекаться декорациями. Не любили они и всяческие театральные эффекты. И Петр Борисович, и Николай Петрович главными в театре почитали актеров.
Здесь нам хотелось бы сделать небольшое отступление и напомнить, что судьба актрис крепостного театра была достаточно тяжелой. Талантливые и трудолюбивые «тансерки», которые могли бы стать украшением любого знаменитого театра, зачастую оказывались самым вульгарным гаремом для барина. Прекрасные актрисы, отыграв спектакль, отправлялись услаждать пресыщенных гостей своего хозяина. Особо этим славился известный «театрал» той поры, директор императорских театров, Эрмитажа, владелец усадьбы Архангельское князь Николай Борисович Юсупов. Довольно часто во время спектакля танцовщицы его домашнего театра по знаку князя сбрасывали с себя одежды и танцевали нагими.
Шереметевы относились к своим актерам и актрисам совершенно по-другому. Здесь уважали, и даже почитали талант. За свои труды актеры получали жалованье. Кормили их при усадьбе (то есть ели они то же, что и хозяева), за здоровьем их присматривали лучшие доктора. Граф Шереметев не продавал и не покупал крепостных артистов и всегда обращался к своим актерам по имени и отчеству: так, например, Парашу не кликали Парашкой, а величали Прасковьей Ивановной. И сценические фамилии младший граф придумывал для них по названиям драгоценных камней: Гранатова, Алмазова, Жемчугова…
Никаких «шалостей и вольностей» в театре старший Шереметев не позволял не только себе, но и всем остальным. Мало того, за девушками, игравшими на сцене, велось особо «крепкое смотрение», «чтобы все было тихо и смирно». Однако на их свободу никто не посягал – актрисам разрешали «свободно гулять».
Естественно, столь же уважительно относились и к Параше Ковалевой. А псевдоним ей дали в знак маленькой жемчужины, которую однажды нашли в пруду усадьбы.
«Взращиванием» актеров у Шереметевых занимались специально приглашенные мастера. У этих первоклассных наставников крестьянская девочка быстро освоила музыкальную грамоту, вокал, игру на клавесине и арфе, выучила французский и итальянский языки. Параше еще не было и одиннадцати лет, когда она впервые вышла на сцену. Она пела в опере Андре Гретри «Опыт дружбы». И уже в столь юном возрасте ей предсказывали большое будущее. Особенно восторгался успехом юной крепостной певицы хозяин театра, вернее, «младший хозяин» – сын графа Петра Борисовича Шереметева, Николай Петрович, недавно прибывший из Европы.
Худенькая, с огромными глазами девочка сильно волновалась перед спектаклем и испуганно шептала: «Только бы не потерять от волнения голос! Только бы понравиться его сиятельству!»
Но едва она ступила на сцену, как волнение прошло. И вся она преобразилась. Угловатая крестьяночка стала воплощением грации и изящества.
Юная актриса и ее несомненный талант произвели на молодого графа большое впечатление. Он так уверился в Прасковье, что поручил ей главную партию в следующей постановке. Это была партия Луизы в опере Пьера Александра Монсиньи «Дезертир» (или «Беглый солдат»). Прасковья не обманула его надежд – ее выступление было поистине блестящим. Публика рукоплескала после каждого выхода Луизы-Параши, а когда она исполнила главную арию, зал буквально взорвался аплодисментами и восторженными криками, и на сцену полетели кошельки – так знатные зрители выражали свои бьющие через край чувства.
Затем последовала опера итальянского композитора Антонио Саккини «Колония, или Новое селение», и снова Шереметев поручил ей главную роль. Более опытные актеры восприняли новость с удивлением – они не были уверены, что эта девочка, пусть и талантливая, справится с ролью любящей и страдающей женщины, героини «Колонии». Многие ждали, что через день-два граф назначит другую актрису, однако Николай Петрович вел репетиции и своего решения менять не собирался. Было в этой девочке-подростке что-то такое, что буквально пленяло графа…
И вновь Прасковья не подвела. Ее исполнение влюбленной Белинды потрясло всех, в том числе и сомневающихся прежде актеров.
Неудивительно, что к талантливой девушке отношение было несколько особое – с ней больше занимались, о ней больше заботились, но все это внимание до поры до времени было исключительно опекой одаренной актрисы, в которой отец и сын Шереметевы видели будущую славу своего театра. Молодой граф, с отцовского согласия, перевел ее на положение первой актрисы театра.
Он даже возил Парашу в Москву – посмотреть город и, конечно же, спектакли в других театрах. Вообще обучение Прасковьи Ивановны доставляло Николаю Петровичу особенное удовольствие. У юной актрисы была замечательная память, и все трудности учебы давались ей легко. Она старалась не только повысить свое актерское мастерство, но и каждую свободную минуту читала, проводя много времени в графской библиотеке. А молодой граф любил играть с ней на клавесине в четыре руки и разучивать арии из разных опер.
Постепенно любовь к музыке и совместные занятия сблизили графа и крепостную актрису…
Николай Шереметев родился в 1751 году. Получив блестящее образование в России, он решил продолжить учение за границей. Николай Петрович много путешествовал по Европе, слушал лекции в Лейденском университете, изучал постановку театрального дела, повышал музыкальное образование, общался с выдающимися деятелями европейской культуры. Существуют свидетельства, что он встречался с Георгом Фридрихом Генделем (в бумагах графа был найден автограф знаменитого немецкого композитора), а также знал великого Моцарта и даже поддерживал его деньгами.
В Европе граф Николай Петрович не только «повысил образование», но и «набрался» свободолюбивых идей – что весьма способствовало его уважительному отношению к простым людям. Отцовское воспитание вкупе с европейским внушило ему, что истинный аристократ просто обязан нести в народ просвещение и культуру. Иначе им неоткуда будет взяться. И еще он осознал евангельскую истину, что все люди равны перед Богом. Правда, в те времена эта истина многими воспринималась почти революционным призывом к равенству.
И вот с таким образованием и таким настроем граф Николай Петрович вернулся в Россию. Первым делом он решил устроить по-новому всю жизнь в Кусково. В том числе и в театре. Вот тогда он и увидел впервые Прасковью…
Занимался молодой граф не только с Парашей, свои музыкальные и театральные знания, приобретенные в Европе, он старался передать всем актерам отцовского театра. Говорят, не все уроки проходили гладко – характер у него был непростой, вспыльчивый, и если кто вдруг оказывался нерадивым учеником, граф страшно сердился и, от греха подальше, вскакивал на коня и мчался во весь опор, чтобы «растрясти» свой гнев. (Недаром на гербе один из шереметевских львов был украшен надписью: «Не ярится, но неукротим!») Однако такое случалось редко, обычно молодой граф был заботлив и очень корректен в обращении с людьми.
А тем временем слухи об удивительной, талантливой актрисе передавались из уст в уста. И вот слава Прасковьи Жемчуговой дошла до самой императрицы Екатерины Второй.
Тридцатого июня 1787 года в поместье Шереметевых на открытие нового, перестроенного театра (еще одна затея молодого графа) прибыли царственные гости – императрица со своим двором. Изумительный голос Прасковьи и ее игра произвели на императрицу такое сильное впечатление, что Екатерина подарила крепостной актрисе бриллиантовый перстень… С этого мгновения Прасковья Жемчугова стала настоящей и признанной актрисой, причем одной из самых известных.
Граф Николай Петрович выбирал оперы специально для нее, учитывая особенности ее голоса, ее темперамент и талант. Среди прочих Прасковья пела партию Лоретты из одноименной оперы. Героиня, дочь солдата, прекрасная и чистая девушка, становится женой графа… Вряд ли Параша думала, что в ее жизни случится ровно то же самое.
По желанию Николая Петровича она пела партию Розетты в сентиментальной комедии «Добрая девка», партию Анюты в опере «Тщетная предосторожность»; партию Инфанты в опере «Инфанта Замеры». Такие разные образы, и так блистательно исполненные великолепной Жемчуговой!
Верные поклонники, от всей души восторгавшиеся изумительным талантом Прасковьи, называли ее «Жемчужиной кусковской сцены».
А Николай Петрович продолжал ставить на сцене своего прославленного на всю страну театра истории о том, как знатный и богатый вельможа влюбляется в простую, но прекрасную селянку. На репетициях он подыгрывал Прасковье, подавал реплики… Возможно, так он говорил с ней о своей любви. И любовь эта была высокой и верной – совсем как в тех историях, что он выбирал.
Тридцатого октября 1788 года умер Петр Борисович Шереметев, оставив все свои богатства, восемьсот с лишним тысяч десятин земли и более двухсот тысяч крепостных душ сыну. Николай Петрович очень тяжело переживал смерть отца. Он ударился в пьяный загул, стараясь забыться, – и забыл обо всем. И о своем театре тоже. Но Прасковья, которая стала молодому графу близким другом, сумела утешить Николая Петровича, и он прекратил пьянствовать.
Совместные переживания помогли графу открыться любимой девушке. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Он никогда не был аскетом, но любовь к Прасковье была особенной, самой сильной за все тридцать семь прожитых им лет.
Конечно, его чувства были небезответны, Параша сама давно любила графа Николая Петровича. Да только ей ли – крепостной актрисе – было мечтать об одном из самых завидных женихов всей Российской империи.
Как бы то ни было, они полюбили друг друга и стали жить вместе – граф открыто поселил любимую женщину в своем доме. Николай Петрович оставил все холостяцкие развлечения и с упоением посвятил всего себя Прасковье и, конечно же, театру, ведь театр был делом жизни и Прасковьи Жемчуговой, и графа Шереметева.
Вместе со всем наследством Николаю Петровичу досталось и имение Останкино, бывшее частью приданого его матушки, урожденной княжны Варвары Алексеевны Черкасской. Именно здесь, в Останкино, он решил построить новый театр – своеобразный подарок любимой Параше. Этот дар любви был действительно прекрасен.
Строительство в Останкино длилось шесть лет и было окончательно завершено в 1798 году. Начинали строительство крепостные архитекторы Алексей Миронов и Григорий Дикушин, но затем понадобились советы и консультации более профессиональных зодчих, и граф обратился за помощью к Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Ивану Старову и Елизвою Назарову. Завершал работы в Останкино сын крепостного художника Ивана Петровича Аргунова, архитектор Павел Аргунов. Он же занимался убранством и декорированием интерьеров Останкинского дворца.
Однако театр был построен на три года раньше, весной 1795 года. И как только новый театр был готов, граф с Прасковьей Ивановной и, конечно же, со всей театральной труппой перебрались в Останкинскую усадьбу, в так называемые «старые хоромы». Здесь влюбленным жилось намного спокойнее и лучше, чем в Кусково, где постоянно толклись всяческие родственники, недовольные связью вельможного графа с «крепостной девкой». Здесь же они дожидались окончания строительства дворца.
Пока велись строительные работы, граф, естественно, рассказывал о них Параше, и она имела некоторое представление о том, какими будут Останкинский театр и Останкинский дворец, но то, что она увидела, превзошло все ее ожидания. Вот как об этом рассказывается в одной статье: «В залах первого и второго этажа, украшенных статуями и вазами, все блестело золотом. Так было и в Кускове. Но здесь, в Останкине, роскошное убранство производило впечатление благородной простоты, изысканного вкуса и изящества. Начиная с искусно набранных из различных пород дерева паркетных полов и кончая великолепными расписными потолками – все являло собой искусство и служило искусству. Это был театр-дворец. Парадные залы, гостиные, комнаты, обставленные резной золоченой мебелью, предназначались для торжественного приема гостей, приглашаемых в театр. Для жилья отводились так называемые „старые хоромы“, расположенные близ церкви. У Прасковьи Ивановны была здесь уютная комната с большим венецианским окном. Окно выходило на балкон, внизу виднелись кусты белой и лиловой сирени. В комнате ничего лишнего: ниша с распашными завесами, где стояла кровать, туалетный столик, накрытый скатертью, зеркало в станке из красного дерева, а на полу темный ковер, затканный желтыми и белыми цветами. С одной стороны комната соединялась с покоями графа, а с другой примыкала к комнатам актрис, где жили Таня Шлыкова и другие близкие подруги Жемчуговой».
Более всего поражал новый театр. Свыше пяти лет, начиная с 1792 года, продолжались поиски наиболее совершенной формы зрительного зала. Сначала соорудили полукруглый зал с амфитеатром, генеральной ложей в центре бельэтажа и балконами по сторонам. Вскоре граф пожелал, чтобы, в случае необходимости, зал, после небольших перестановок, мог превращаться в «воксал», то есть служить местом для танцев и банкетов. С этой целью залу была придана овальная форма, планшет сцены поднялся вровень с несколько сниженным полом бельэтажа. Настил, закрывавший амфитеатр, делал из театрального помещения «воксал». Бельэтаж превратили в открытые ложи, установив вместо двух рядов лавок «ольховые, выкрашенные под красное дерево стулья». Генеральная ложа стала разборной, в бельэтаже появились колонны и резные балясины. Вместо боковых балконов соорудили верхнюю галерею – парадиз.
Не меньшее внимание уделялось и сцене. По своим размерам – 16 метров в ширину и 23 метра в глубину – она не уступала крупнейшим театрам. Перед ней находилась еще бо2льшая авансцена. Здесь, согласно театральной традиции, должны были появляться первые персонажи.
Трюм, верхнее машинное отделение, подъемники, блоки для подачи декораций, сложнейшие театральные машины – великолепное оборудование, в создание которого немало труда вложил талантливейший крепостной механик Федор Иванович Пряхин, позволяло осуществлять на останкинской сцене любые представления.
Открытие Останкинского театра почтил уже новый властитель России – Павел Первый, с которым Николай Петрович был дружен с юных лет. Императора приветствовали пением торжественной кантаты, что весьма польстило Павлу, ибо немногие вельможи искренне радовались при его появлении.
Граф Шереметев устроил своему императору и другу юности настолько потрясающий прием, что разговоры о нем еще долго ходили по Москве. Дошли они и до польского короля. Рассказы звучали так заманчиво и невероятно, что король Станислав сам попросил графа «пригласить его в гости». В Останкино он самолично убедился, что все слухи были совершенно правдивы…
Столь резкая перемена в жизни и такие «важные» гости не изменили Прасковью Ивановну. Она не зазналась и была по-прежнему простой и доброй девушкой, всем сердцем преданной театру. И по-прежнему она играла на сцене, и, как всегда, была восхитительна в каждой роли.
Николай Петрович не решался обвенчаться с Парашей, но все знали, что отношения у них самые серьезные и что эта актриса не очередная блажь вельможного барина. Она была хозяйкой в его доме, и с этим приходилось мириться всем желающим побывать на торжествах в Останкино. А однажды Николай Петрович привез Прасковью на любительский спектакль, который представляли сами господа – это была опера «Нина, или Сумасшедшая от любви».
Впервые Жемчугова сидела в зрительном зале среди особ высшего света, а на сцене играла княгиня Долгорукова и другие столь же знатные «актеры». Понятно, что Шереметев привез Прасковью не для того, чтобы она «перенимала опыт», – он хотел внушить своей любимой, что она достойна уважения и любви.
Прасковье нелегко дался этот визит, но она справилась и с этой ролью. Однако общество было шокировано. Особенно возмущались дамы – как, они, знатные и сиятельные, играли перед крепостной девкой!..
Правда, дальше возмущений (исключительно за спиной графа) дело не пошло. Все знали о вспыльчивости и обидчивости Николая Петровича, а также о том, что оскорблений он не прощает никому. Короче, повозмущавшись, общество ясно осознало, что граф Шереметев сделал свой выбор обдуманно и серьезно.
Однако слухов и сплетен меньше не стало. Чуть ли не на всех приемах и во всех гостиных Москвы, Санкт-Петербурга и окрестных усадеб на все лады обсуждали «неприличную» связь крепостной актрисы и графа Николая Петровича.
Граф относился ко всему этому абсолютно спокойно, пересуды нисколько его не тревожили, а вот Прасковья страдала. Она считала, что это по ее вине любимый человек стал предметом недоброжелательных разговоров и осуждения. И связь свою с Николаем Петровичем она считала греховной. Но сцену она, естественно, не оставляла.
В новом, Останкинском театре с невероятным успехом прошла героическая опера «Взятие Измаила». Либретто к опере написал один из участников штурма Измаила, а музыку – композитор Осип Антонович Козловский. Премьера состоялась 22 июля 1795 года. В этой романтической трагедии Жемчугова исполняла партию турчанки Зельмиры, влюбленной в российского офицера. С невероятной искренностью пела Прасковья арию плененной турчанки:
Оставить мне отца несносно, но, любя, Все в свете позабыть хочу я для тебя. Различность веры? Нет, и то не помешает, Что бог один у всех, то разум мне вещает…Все чувства, все слова своей героини Прасковья знала не понаслышке. И зрители понимали, что творится в душе актрисы, когда она пела:
Любовник, друг, и муж, и просветитель мой, Жизнь новую приму, соединясь с тобой…По окончании спектакля Жемчуговой устроили настоящую овацию и осыпали цветами. Как актриса Прасковья Ивановна восхищала всех, многие знатные господа преклонялись перед ее талантом. Но как невенчанная жена графа она вызывала ропот и недовольство. Больше всех, понятно, беспокоились родственники графа – их чрезвычайно волновала судьба огромного наследства, на которое после его смерти они так надеялись. Их беспокоили, а порой и возмущали непомерные траты Николая Петровича. Приезжая на очередной прием, господа родственники пытались сосчитать, сколько граф потратил на свой сказочный дворец, сколько на все эти спектакли-оперы и, главное, сколько на подарки своей «крепостной выскочке». Графские деньги не давали покоя, между прочим, не только бедным родственникам, но и весьма состоятельным, таким, например, как Разумовские.
В результате граф отстранил от себя почти всю родню. И это вызвало новый шквал осуждения и возмущения. Лишь в одном сходились Прасковья Ивановна и многочисленные графские родственники – и она, и они считали именно ее виновницей поведения графа.
В ответ на все это граф дал своей лучшей крепостной актрисе вольную. Это случилось 1 декабря 1798 года. Общество пребывало в недоумении – как можно разбрасываться такими ценностями? Или неугомонный граф еще что-то задумал?..
А театр, между тем, действовал. И Жемчугова продолжала с огромным успехом выступать в спектаклях. Возможности новой сцены словно придали свежих сил артистам шереметевского театра. Был восстановлен почти весь прежний репертуар и поставлено несколько новых спектаклей. Останкино стало одним из центров художественной жизни Москвы. Театр графа Шереметева по своему профессионализму превзошел почти все крепостные труппы. Лишь один театр мог сравниться с ним – театр графа Александра Романовича Воронцова.
Еще три года светились огни рампы и дворцовых окон, три года съезжались к Останкинскому дворцу золоченые кареты, целых три года блистал шереметевский театр – всего лишь три года, а потом…
Графа призвали в Санкт-Петербург – Павел Первый пожаловал своему доброму приятелю звание обергофмаршала императорского двора, что, естественно, требовало непременного присутствия при дворе. По дороге в северную столицу Николай Петрович с Прасковьей Ивановной остановились в Москве, где тайно венчались утром 6 ноября 1801 года. Разрешение на столь скандальный брак дал графу сам император. Венчание проходило в церкви Симеона Столпника на Арбате, и приглашены на него были лишь самые близкие и доверенные люди, в том числе давняя и верная подруга Параши – Татьяна Шлыкова, блистательная танцовщица шереметевского театра.
Семнадцать лет любви наконец завершились венчанием. Пятидесятилетний граф Шереметев мечтал о наследнике – законном наследнике, и родить его должна была любимая женщина. Однако долгожданное венчание, несмотря на дозволение императора Павла, сохранили в тайне, и официального объявления не последовало.
Из Москвы граф с молодой женой и «свитой» прибыли в Санкт-Петербург. Впервые Жемчугова вошла во дворец Шереметева как жена. Только радости ей это не принесло. В сыром климате северной столицы у Прасковьи открылась чахотка. Врачи запретили ей не только петь, но и вовсе выходить из дома. Привыкшая к вольной жизни в усадьбах, Жемчугова оказалась запертой в петербургском Фонтанном доме Николая Петровича. Она мучилась, оставшись без любимого дела, страдала от болезни и от того, что, как ей казалось, она стала обузой любимому мужу.
А граф был вынужден часто бывать в Зимнем дворце, присутствовать на балах и приемах, куда не мог привезти свою больную жену. Иногда он пытался избежать этих неприятных для него обязанностей и остаться дома с Прасковьей Ивановной, но Павел Первый скучал без своего приятеля и, случалось, сам являлся к графу – узнать, что же мешает Шереметеву прибыть в Зимний…
Надежд на выздоровление Прасковьи Ивановны с каждым днем становилось все меньше. Болезнь прогрессировала, но в эти последние годы жизни Бог отметил семью графа Шереметева рождением сына.
Прасковья Ивановна трудно носила ребенка, болезнь брала свое, но она была счастлива – беременность стала для нее знаком, что Господь простил ее жизнь во грехе, а главное, теперь и она могла осчастливить мечтающего о наследнике Николая Петровича.
Граф приказал своему крепостному художнику Ивану Аргунову написать портрет Прасковьи Ивановны. Это был не первый портрет Жемчуговой, который заказывал Шереметев, но беременной ее писал только Аргунов. Измученная туберкулезом, болезненно худая, с большим животом – и такой ее любил и хотел помнить граф Николай Петрович.
Рождение сына отняло у Параши последние силы. Мальчик, нареченный Дмитрием, появился на свет 3 февраля 1803 года, а через двадцать дней, 28 февраля, Прасковья Ивановна умерла. За эти двадцать последних дней ей не позволили даже взглянуть на ребенка – врачи опасались, что младенец может заразиться смертельной болезнью.
В день рождения Дмитрия граф Шереметев наконец объявил всему свету, что Прасковья Ивановна является его венчанной женой перед Богом и людьми.
Однако Прасковью это уже не интересовало, а общество… общество не пожелало признать крепостную девку графиней Шереметевой.
Похоронили Прасковью Ивановну в Петербурге, в Александро-Невской лавре, в фамильной усыпальнице графов Шереметевых. Провожали ее в последний путь друзья-актеры и вся челядь графа, уважавшие и любившие свою графиню-крестьянку. И, конечно же, сам убитый горем Шереметев с крошечным сыном на руках.
На могильной плите Прасковьи Ивановны Жемчуговой, в замужестве графини Шереметевой, выбиты стихи:
Не пышный мрамор сей, бесчувственный и бренный, Супруги, матери, скрывает прах бесценный. Храм добродетели душа ее была: Мир благочестья, вера в ней жила.Граф мучительно переживал смерть любимой. До конца своих дней он чтил память своей графини и, желая воспитать в сыне такое же отношение к матери, написал для него два важных документа: «Завещательное письмо» и «Жизнь и погребение графини Прасковьи Ивановны Шереметевой». Всю свою любовь, все свое восхищение, все свое уважение к этой чудесной женщине граф излил в этих произведениях. Он называет ее только по имени и отчеству и всегда именует графиней…
«Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные… наблюдал я украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сии качества… заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою… Постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чистосердечная, нежная, коею навеки я обязан покойной моей супруге…»
Граф пережил «возлюбленную супругу» на шесть лет, которые посвятил воспитанию сына и исполнению последней воли Прасковьи Ивановны. А завещала она все свои личные средства и драгоценности отдать сиротам и бедным невестам-бесприданницам. Занятия благотворительностью помогали графу хоть как-то утешиться в его горе. Николай Петрович, продолжая дело жены, которая всегда помогала нищим, сиротам и больным, построил в Москве Странноприимный дом и знаменитую Шереметевскую больницу. Сейчас в этом здании располагается Институт скорой помощи имени Склифосовского.
Воспитанием сына Прасковьи Ивановны помимо самого графа занималась и лучшая подруга Параши – Татьяна Васильевна Шлыкова. Она тоже хранила память о Прасковье и старалась воспитать в Дмитрии Николаевиче любовь и уважение к умершей матери.
Это почтительное отношение передавалось из поколения в поколение. Вот что пишет в своих воспоминаниях Ксения Александровна Сабурова, дочь расстрелянного в 1918 году бывшего губернатора Петербурга А. А. Сабурова и Анны Сергеевны Шереметевой, праправнучка Прасковьи Ивановны: «Все в нашей семье относились к Прасковье Ивановне с величайшим почтением. Дед не разрешал называть ее Парашей. Я помню, что в Фонтанном доме стоял складень на аналое: изображение Прасковьи Ивановны в гробу, а в центре два ее портрета – один в чепце, с миниатюрой на груди, другой, последний, перед родами, в полосатом платье, с такой горькой складкой возле губ. Копии с картин Аргунова сделаны по приказу прапрадеда. Раскрывали складень лишь по великим праздникам и детей проводили мимо. А кто из младшего поколения проказил – лишался этой чести, и обычно „грешник“ горько плакал».
Память о Прасковье Ивановне хранят не только потомки, но и… работники музея в Останкино. Это один из удивительных московских музеев. «Украсив село мое Останкино, – писал граф Николай Петрович в завещании сыну Дмитрию, – и представив оное зрителям в виде очаровательном, думал я, что, совершив величайшее, достойное удивления и принятое с восхищением публикою дело, в коем видны мое знание и вкус, буду всегда наслаждаться покойно своим произведением». Теперь этим «делом» можем насладиться и мы – походить по музею-усадьбе, увидеть оставшиеся от знаменитого шереметевского театра предметы реквизита, ноты с пометками крепостных исполнителей, коллекцию инструментов. И в том числе – арфу, на которой играла Прасковья Жемчугова.
Она перебирала эти струны и пела… Звуки арфы и чудного голоса Параши отдавались в сердцах слушателей… И, конечно же, в любящем сердце Николая Петровича Шереметева.
Роман Катерины. Любовь Никулина-Косицкая и Александр Островский
В своей «Записке об авторских правах» Александр Николаевич Островский писал, что «без пьесы, как бы ни были талантливы актеры, играть им нечего», однако при этом он признавал, что и драматургу без актера трудновато. «Все лучшие произведения мои писаны мною для какого-нибудь сильного таланта и под влиянием этого таланта», – заметил он в другой своей статье.
Одним из таких талантов, и даже первой среди них, Островский назвал Любовь Павловну Косицкую (после замужества Никулину-Косицкую), выдающуюся русскую актрису, которая двадцать лет играла на сцене Малого театра.
«У ней действует сама природа, она говорит, как чувствует», – писал современный критик о Любови Павловне, покорившей своей игрой всю театральную Москву. Вся жизнь Косицкой, с самого рождения, давала пищу ее замечательному таланту.
Родилась будущая актриса в 1829 году в селе Ждановка, расположенном на берегу Волги. «Мы были дворовые крепостные люди одного господина, которого народ звал собакою, – вспоминала Любовь Павловна в своих „Записках“. – Мы, бывши детьми, боялись даже его имени, а он сам был воплощенный страх. Я родилась в доме этого барина на земле, облитой кровью и слезами бедных крестьян».
Со временем этот барин перебрался в Нижний Новгород и перевез с собой многих крепостных. В городе семье Любы удалось выкупиться на волю. Ей тогда было уже четырнадцать лет, и она пошла на службу горничной к нижегородской купчихе Долгановой, большой любительнице домашнего театра. Люба скоро приобщилась к увлечениям хозяйки и стала с удовольствием принимать участие во всех домашних постановках. Это занятие приносило ей столько радости, что Люба отправилась в Нижегородский театр – посмотреть игру профессиональных актеров.
Посещение театра произвело на девушку огромное впечатление. Поразмыслив, она приняла судьбоносное решение и, вопреки родительским запретам, в апреле 1844 года поступила на сцену Нижегородского театра. Здесь главным образом использовали ее вокальные данные – у Любы был чудесный голос. Косицкая пела главные партии в операх Карла Вебера и Алексея Верстовского.
Карьера певицы складывалась так удачно, что Люба отправилась в Москву, чтобы поступить в Большой театр. Но после прослушивания она получила неожиданное предложение – поступить в театральную школу, а не в музыкальное училище. К счастью, Люба согласилась, и с успехом отучилась у прекрасных педагогов. В 1847 году, после окончания театральной школы, восемнадцатилетнюю выпускницу пригласили в Малый театр.
Дебют Косицкой состоялся в том же году: 16 сентября Люба впервые вышла на сцену знаменитого театра в роли Луизы в драме немецкого драматурга Иоганна Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Она прекрасно справилась с ролью, что отметили не только благодарные зрители, но и коллеги по театру. А труппа в Малом театре была потрясающей – ее составляли величайшие мастера: Павел Степанович Мочалов, Михаил Семенович Щепкин, Иван Васильевич Самарин и другие столь же именитые актеры и актрисы. Общение с ними и совместная работа стали для Любы Косицкой серьезнейшей и, пожалуй, главной школой.
Косицкая легко вписалась в жизнь театра, и сразу же ей стали давать одну роль за другой. Уже в первый свой театральный сезон она сыграла, кроме уже упоминавшейся шиллеровской Луизы, Парашу в пьесе Николая Полевого «Параша-сибирячка», Офелию в «Гамлете» Уильяма Шекспира, а также Микаэлу в пьесе Рафаила Зотова «Дочь Карла Смелого» и Марию в «Материнском благословении» А. Деннери и Г. Лемуана.
Врожденная музыкальность, искренняя, открытая манера игры, умение понять свою героиню и проникнуться ее переживаниями – все это быстро сделало Любу Косицкую одной из любимейших актрис Москвы. По глубине страсти и подлинности человеческого страдания ее сравнивали с Мочаловым, лучшим московским трагиком. Косицкую даже называли «Мочалов в юбке».
Режиссер Сергей Петрович Соловьев, работавший с Любой, вспоминал: «Познакомясь ближе с ее способностями, я пришел к убеждению, что для нее были нужны роли, которые не требовали бы благородства поз, изящества движений, но в которых преобладали бы чувства и простота формы, – почему я и выбрал для нее роль Параши-сибирячки».
Косицкая действительно лучше справлялась с мелодраматическими образами, которые она играла, как говорится, «широкими мазками» – открыто и ясно.
Ее героини любили и страдали искренне и потрясающе естественно. Критика отмечала почти все ее роли, но особенно выделяла две – Офелию и Марию из «Материнского благословения». После сцены безумия Офелии, которую Косицкая играла невероятно эмоционально, зал каждый раз взрывался аплодисментами. Успех актрисы в этой роли был непередаваем. В Марии зрителей потрясала глубина чувств и «натуральность» исполнения.
Со временем, однако, Люба ощутила потребность в иных ролях, ей хотелось переживать другие, не мелодраматические чувства. И играть своих, русских героинь со всеми их современными насущными проблемами. Эту возможность Косицкой предоставил великий русский драматург Александр Николаевич Островский.
Актриса и драматург оказались нужны друг другу. Он видел в ней своих героинь, а она находила в его пьесах именно тот материал, о котором мечтала. «Для пьес Островского она была чистое золото, – писали критики. – Более русского типа, со всеми условиями нежной русской души, нельзя было найти нигде».
Родился Островский 31 марта 1823 года в Москве, в Замоскворечье – старинном купеческом и чиновничьем районе. Там же он окончил гимназию. В 1841 году Александр поступил на юридический факультет Московского университета и одновременно стал подрабатывать в судах, кстати, тоже замосквореченских. Но университетского курса Островский не окончил, поскольку увлекся театром. Несколько лет он искал себя, свою манеру, свой жанр и, в конце концов, написал пьесу, в которой сумел передать доскональное знание быта и нравов купеческого сословия. Пьеса называлась «Картины семейного счастья», чтение ее происходило 14 февраля 1847 года в доме университетского профессора С. П. Шевырева. Этот день Островский считал самым памятным днем своей жизни и началом профессиональной литературной деятельности – когда он дочитал свою пьесу, профессор поднялся и сказал всем присутствующим: «Поздравляю вас, господа, с новым драматическим светилом в русской литературе».
Однако настоящая известность Островского как драматурга началась со второй его комедии – «Банкрот», которую мы знаем под более поздним названием «Свои люди – сочтемся!». Цензура запретила пьесу к постановке в театре, но она была напечатана, и читатели увидели в Островском продолжателя Грибоедова и Гоголя.
Затем последовали пьесы «Бедная невеста» и «Не в свои сани не садись», всего Александр Николаевич написал 47 комедий и драм (некоторые в соавторстве), и 46 из них были поставлены на сцене Малого Императорского театра уже при жизни драматурга.
Александр Николаевич хорошо знал не только жизнь московских купцов, но и русскую жизнь вообще: он много ездил по России, подолгу жил в своем любимом заволжском имении Щелыково, участвовал в этнографической экспедиции литераторов по Волге. Все впечатления он талантливейшим образом выражал в своих пьесах, за что его прозвали «певец купеческого Поволжья» и «Колумб Замоскворечья».
Актерам чрезвычайно нравилось играть в пьесах Островского – реальная, знакомая жизнь и понятные, невыдуманные чувства привлекали их профессиональный интерес.
С середины 50-х годов девятнадцатого века пьесы Островского прочно укоренились в репертуаре Малого театра, и Александр Николаевич погрузился в театральную и постановочную жизнь. Он много общался с актерами, и одной из любимых его актрис была Любовь Павловна Косицкая.
Люба относилась к молодому драматургу с большим уважением и, естественно, ждала от него интересных ролей. У них были добрые, нежно-шутливые отношения, однако он не всегда давал ей главные роли. В одной из пьес главную роль играла Екатерина Николаевна Васильева, а Косицкой достался лишь эпизод. Конечно, она и с эпизодом справилась блестяще, но на Островского немного обиделась – неужели он не понимает, кто первая актриса в этом театре?..
К моменту знакомства Любы с Александром Николаевичем она была уже замужем – за артистом того же театра Никулиным, человеком очень недалеким, но необычайно амбициозным. Как часто бывает с подобными людьми, Никулин, сам не обладая какими-либо выдающимися достоинствами, не терпел присутствия таких достоинств в других. А потому он чуть ли не с первого знакомства невзлюбил Островского – шумный литературный успех знаменитого автора его раздражал. Ну и, конечно же, не нравились «легкие» отношения Александра Николаевича с его Любой.
Быть может, Никулин предчувствовал, что «легкие» отношения вскоре перерастут в настоящий роман, а ему достанется роль обманутого мужа…
Никулин, правда, был не единственным, кого нервировала слава Островского. В этом ему составил компанию поэт Николай Федорович Щербина – довольно невзрачный и желчный тип, называвший героинь Островского «кокетками на постном масле», а про самого драматурга сочинивший такой стишок:
Со взглядом пьяным, взглядом узким, Приобретенным в погребу, Себя зовет Шекспиром русским Гостинодворский Коцебу.[1]Помимо этих двух завистников был еще и третий – некий артист Горев (это явно сценический псевдоним), который прибыл в Москву из провинции и повсюду утверждал, что пьесу «Банкрот» Островский украл у него.
Все эти выступления и заявления попортили немало крови Александру Николаевичу, но горечь и обида вскоре прошли – их сменила радость. Это чувство ему подарил роман с Любовью Павловной Никулиной-Косицкой.
Люба не только не разделяла взглядов своего мужа на драматурга и его творчество, но и была очень недовольна его злыми и завистливыми насмешками над Островским. Желание загладить отвратительное впечатление от мужниных эскапад только способствовало сближению актрисы и драматурга. Можно сказать, Никулин своим поведением сам подтолкнул свою жену к Островскому.
Вообще-то Островский тоже не был свободен. Он жил гражданским браком с некой Агафьей Ивановной – милой и простой женщиной из мещанского сословия. Она вела его дом, растила маленьких детишек и была ему верной и терпеливой подругой. Ему было с ней хорошо и уютно, однако пребывание в театральных кругах и общение с яркими и страстными актрисами не прошло даром – Островского потянуло от теплого домашнего очага к более жарким отношениям.
Случилось это после того, как однажды Косицкая обратилась к нему с просьбой: «Не знаю, найдет ли мое письмо Вас в Москве… – писала она, не заботясь об орфографии и знаках препинания. – …Мне нужна для бенефиса пьеса, которая бы помогла мне и моим нуждам… одно ваше имя могло бы сделать хороший сбор, если вы не разучились делать добрые дела, то сделайте для меня одно из них, нет ли у вас пьески, разумеется вашей, дайте мне ее для бенефиса…»
Александр Николаевич предложил ей пьесу «Воспитанница», но у нового директора императорских театров было свое мнение – он нашел пьесу «неподходящей». А затем последовал и запрет Третьего отделения.
Островский решил написать новую пьесу, специально для Любови Павловны. И приступил к работе. Он писал «Грозу».
Было это летом 1859 года, происходило все под Москвой, в дачном поселке, где отдыхала чуть ли не вся труппа Малого театра вместе со своими друзьями-литераторами. Именно тогда, по словам современников, и завязался серьезный роман…
Люба всегда восхищала Островского как талантливая актриса, ему нравились ее темперамент и женственность, ее искренность и некоторая игривость. Конечно, на характере Любы сказались восторг поклонников и восхищение почитателей ее таланта и красоты, но это отнюдь не портило Косицкую. Она была очень артистична, прекрасно пела, аккомпанируя себе на маленькой гитаре, а еще, говорят, она была замечательной рассказчицей – остроумной и находчивой. Много пережившая в жизни, выбившаяся к славе из самых низов, она сохранила искреннюю и широкую душу.
И вот нежно-дружеские отношения вдруг словно вспыхнули пожаром. Они полюбили друг друга. Александру Николаевичу было тридцать шесть лет, Любе – тридцать. По тем временам – возраст, да еще для актрисы!
Знаменитая Пелагея Стрепетова, тогда только начинавшая актриса, видела Косицкую на сцене и описала ее немного полной, среднего роста, «с гладко причесанными волосами, с красивыми, хотя немного крупными чертами круглого прямого русского лица и тихим, спокойным взглядом очаровательных серо-голубых глаз, которым большие черные ресницы придавали особую ясность выражения».
Косицкая рассказывала Островскому о своем прошлом – о жизни у жестокого барина, о службе у нижегородской купчихи, о том, как она пришла в театр… И даже о том, что не всегда расскажешь и близкому другу – о своих самых глубинных переживаниях и мечтах, о своих ошибках и сдерживаемых порывах. В сумерках звездной летней ночи можно так много поведать внимательному и любящему слушателю…
Некоторые отрывки ее рассказов он записывал на полях рукописи «Грозы», а потом использовал их в пьесе. Так и рождалась страдающая и мятущаяся Катерина – из жизни Любы Косицкой, мыслей и впечатлений влюбленного Островского и, конечно же, из его драматургического таланта.
Было в этом даже нечто мистическое: Александр Николаевич вспоминал, что когда он писал сон Катерины, он «услышал от Любови Павловны про такой же сон в этот же день…»
Первое чтение «Грозы» происходило уже в городе, в октябре того же года на квартире у Косицкой. Послушать Островского собрались едва ли не все актеры Малого театра. Александр Николаевич волновался, часто устраивал перерывы, хотя к подобным чтениям должен был привыкнуть. Но эта пьеса была для него особенной.
Волновалась и Косицкая. Она так много узнавала в пьесе… Но ей хотелось знать, чем же все кончится? Для нее эта пьеса тоже была особенной.
«Гроза» произвела на слушателей огромное впечатление – искушенные в драматургии, они были в восторге! Любовь Павловна была чрезвычайно довольна. А Островский – счастлив!
Естественно, что роль Катерины поручили Косицкой. А потом начались репетиции. Островский день и ночь пропадал в театре. Общее дело весьма способствовало развитию романа.
Невенчанная жена, Агафья Ивановна по-прежнему занималась детьми и хозяйством, видела перемены в любимом муже и молча переживала его постоянные отлучки допоздна.
Косицкая репетировала блестяще, вдохновенно, и Александр Николаевич влюблялся все больше и больше. Но встречаться они предпочитали тайно. Они писали друг другу письма. В одном письме Александр Николаевич, говоря о своих чувствах, писал: «Я вас на высокий пьедестал поставлю…» Ради своей Любови он был готов на все – оставить семейство, расстаться с Агафьей Ивановной…
Шестнадцатого ноября 1859 года в Малом театре состоялась премьера «Грозы».
История, показанная на сцене, была, казалось, довольно простая – купеческая жена, высоко нравственная и воспитанная в строгих правилах, влюбляется в приехавшего из Москвы молодого человека, изменяет мужу, мучается виной, затем публично кается и бросается с высокой кручи в Волгу.
Но актеры играли так вдохновенно, а драматург открыл зрителям такие стороны человеческой жизни – человеческой черствости и ограниченности и человеческого страдания, – что публика аплодировала чуть ли не каждому выходу.
Островский волновался безумно. Картина сменяла картину, зрители принимали по-прежнему прекрасно. И вот выход Косицкой… Он начинается со знаменитых слов: «Отчего люди не летают!..»
«Вдруг ее подхватила, понесла за собой волна вдохновения, когда ты – уже и не ты, а просто частица Божия, и велением сверху, а не своей волей, ты творишь, сам зачарованный содеянным… В эти секунды легкое дыхание вечности просыпается в тебе. И ты сам не знаешь: как все складывается, как получается…» – так описал игру Косицкой один из исследователей ее творчества. А игра эта настолько потрясла современников, что они еще долго говорили о ней, как о театральном чуде.
В сцене прощания с Борисом вместе с Косицкой рыдал весь зал. Игравшая Кабаниху Надежда Васильевна Рыкалова, опытная маститая актриса, стоя в кулисах в ожидании своего выхода, едва сдерживала слезы. Она вспоминала, что ей стоило немалых усилий снова войти в роль.
Но вот пьеса сыграна. За кулисами Островский бросился к Косицкой и обнял ее. Впервые при всех.
А потом, преодолев охватившее его волнение, воскликнул: «Сам Бог создал вас для этой роли!»
А зал ревел и грохотал аплодисментами. Успех был поистине оглушительный.
После премьеры был, как и положено, банкет. Но ни Косицкой, ни Островского там не было…
«Гроза» вызвала бурю эмоций. Кто-то восторгался, а кто-то возмущался, лишь равнодушных не было. Любовь Павловна писала Александру Николаевичу: «”Гроза” гремит в Москве, заметьте, как это умно сказано, и не удивляйтесь».
«Гроза» гремела в Москве, собирая полные залы. Публика валом валила посмотреть на «живую» женщину, бросающуюся в любовь, как в омут, а затем отдающую жизнь за эту любовь. Все шли смотреть Катерину-Косицкую.
Но в реальной жизни Косицкая была не столь безудержной и страстной. Она и Островского просила быть сдержаннее и помнить о долге перед семьей. Любовь Павловна говорила ему, что не должно бросать «кроткую Агафью Ивановну». Однако Островский уже разлюбил свою верную и тихую гражданскую жену.
Между прочим, в его последней пьесе «Не от мира сего» героиня, Ксения, произносит монолог, который вполне могла бы сказать Агафья Ивановна: «Поминутно представляется, как он ласкается к этой недостойной женщине, как она отталкивает его, говорит ему: „поди, у тебя есть жена“, как он клянется, что никогда не любил жену, что жены на то созданы, чтобы их обманывать, что жена надоела ему своей глупой кротостью, своими скучными добродетелями…»
Возможно, именно роман «на стороне» был причиной того, что Агафья Ивановна стала часто болеть и все внимание сосредоточила на бедных своих детях, которые, на беду, умирали один за другим. Лишь старший мальчик пережил свою несчастную мать, да и то – ненадолго…
Правда, надо отдать должное Александру Николаевичу – он старался не обижать Агафью Ивановну и поддерживать с ней спокойные, «нескандальные» отношения. Он и от посторонних требовал уважительного отношения к ней: Надежда Васильевна Рыкалова вспоминала, что все актеры Малого театра ездили представляться невенчанной жене драматурга.
Островскому было нелегко. Он, словно герой какой-нибудь своей пьесы, разрывался между долгом и любовью. А потом… Гроза разразилась и в его жизни. Он получил еще одно письмо от Косицкой. «…Я горжусь любовью вашей, но должна ее потерять, – писала Любовь Павловна, – потому что не могу платить вам тем же… простите меня, я не играла душой вашей…»
Он был потрясен. Он любил ее по-прежнему и не понимал, что случилось. Он просил объяснений.
И получил их. Она полюбила другого.
Новый возлюбленный Любови Павловны был молод и красив. И настойчив. Сын богатого купца Соколова, ветреный гуляка, на каждом представлении сидел в первом ряду, а после представления осыпал ее цветами. Немолодая актриса влюбилась, как девочка! Безоглядно, бездумно. А москвичи, на глазах у которых разворачивался бурный роман, только ворчали да осуждающе качали головами.
Для Александра Николаевича роман «его Катерины» был мукой и унижением. Ко всему прочему, молодой любовник, прокутив все, что имел, стал обирать Косицкую. И разорил ее. А потом оставил.
Ко времени этой влюбленности Никулин, муж Косицкой, уже умер, и она была свободна. Островский написал ей письмо, в котором предлагал вернуться к нему и обещал все простить…
В ответ он написала: «…я не ребенок, вы знаете, я не брошу моей чести и не отдам моей любви, не убедившись в ней, а где есть любовь, там нет преступления, и любовь моя не потемнит меня и не спрячет моих достоинств…»
Что мог ответить ей Островский, сам написавший пьесу о Катерине Кабановой? Ведь это он создал героиню, которая говорила со сцены всему миру о том, что там, «где есть любовь, там нету преступления»… Александр Николаевич словно попал в свою собственную пьесу – жизнь и творчество порой переплетаются самым невероятным образом.
Островский пытался бежать от своего чувства – он часто уезжал из Москвы, но и вдали от Косицкой его любовь не проходила. Он старался не видеть ее, не встречаться с ней… А в 1863 году отправился за ней в Новгород, где тогда гастролировал Малый театр. По возвращении в Москву он каждый вечер ждал ее у театра. Иногда даже не подходил близко, а только кланялся издали.
А в 1865 году он получил от нее последнее письмо: «Я пишу Вам это письмо и плачу, все прошедшее, как живой человек, стоит передо мной: нет, не хочу больше ни слова, прошедшего нет больше нигде…»
История с купеческим сынком серьезно подкосила Любовь Павловну. Любовные переживания в жизни обернулись для нее, как и на сцене, трагедией. Оставшись без средств, она была вынуждена распродавать все ценное – подарки былых поклонников и даже платья. Через три года, в 1868 году, она умерла от рака. Ей был сорок один год.
Спустя немного времени не стало и Агафьи Ивановны.
К этому времени Островский завел себе молодую любовницу – выпускницу театральной школы Марию Бахметьеву. Она родила ему двух детей. Какое-то время он предпочитал жить с ней также в гражданском браке, но затем все-таки обвенчался. Семейная жизнь не принесла ему счастья. «Здоровье мое плохо… – писал он другу, – по временам нападает скука и полнейшая апатия, это нехорошо, это значит, что я устал жить…»
И все же – была «Гроза» над Москвой. Были сильные, яркие чувства. Он любил и был любим.
Много лет спустя, в 1923 году, у стен Малого театра установили памятник великому драматургу, создавшему русский национальный театр. Александр Николаевич грузно сидит в кресле, погруженный в какие-то, явно нерадостные, думы. Кажется, что он вспоминает свою жизнь, и в том числе то, как Люба Косицкая рассказывала ему о своем деревенском детстве, о своих надеждах и мечтах… Она приходила к нему летними вечерами, и они говорили – долго и упоительно, не желая расставаться, все ночи напролет, до ранних летних рассветов.
«Казанова в юбке». Романы Сары Бернар
На склоне лет великая театральная актриса Сара Бернар однажды сказала: «Я была одной из величайших любовниц своего века». Она не преувеличивала – по свидетельствам современников, у этой женщины были тысячи (!) любовных связей. Несметное количество поклонников и столько же скандалов сопровождали Сару всю ее «взрослую» жизнь. Недаром ее называли «Казанова в юбке». Правда, самому Джакомо Казанове такое количество интрижек и не снилось.
Однако прославилась любвеобильная актриса не своими романами, а потрясающим талантом – который, кстати, и приводил к ее ногам околдованных ее сценическими преображениями поклонников.
Несравненная… Королева сцены… Величайшая актриса всех времен… Божественная Сара Бернар… Кто-то подсчитал, что если склеить все посвященные ей публикации в одну ленту, то этой лентой можно было бы обернуть земной шар. А если сложить в одну стопку все фотографии Сары, опубликованные в прессе, то стопка эта достигла бы вершины Эйфелевой башни.
О ней писал и говорил весь мир. Перед ней преклонялись самые известные люди современности – Виктор Гюго, Александр Дюма-отец, Гюстав Дорэ и многие другие. Более того, ею восхищались представители королевских домов Европы: у Сары были «особые отношения» с наследником английского престола, будущим королем Эдуардом Седьмым, с принцем Наполеоном, племянником Наполеона Первого. Ее таланту отдавали должное император Австрии Франц-Иосиф, король Испании Альфонс, король Италии Умберто, король Дании Кристиан Девятый, герцог Фредерик. Не остался в стороне и русский император. Великие мира сего оказывали актрисе почести, каких, вероятно, удостаивались лишь самые выдающиеся особы.
А она и была выдающейся. По сути, Сара Бернар была первой суперзвездой в мире.
Родилась Сара 2 октября 1844 года. Она была незаконнорожденным ребенком, плодом любви знаменитой куртизанки – красавицы еврейки Жюли Ван Хард и студента-юриста Эдуарда Бернара. Любовь у родителей Сары была мимолетной, и отца своего она не знала. А мать, занятая поисками очередного любовника-клиента и жившая исключительно удовольствиями, почти не уделяла дочери внимания. Круг общения у этой «дамы с камелиями» был довольно широкий и, надо сказать, весьма «престижный». Одним из ее любовников был герцог де Морни, единокровный брат Наполеона Третьего. Достаточно близкие отношения были у нее и с Дюма-отцом.
Вот в таком обществе росла Сара. Она была болезненным ребенком (с раннего детства ее мучил туберкулез, от которого она так и не смогла излечиться до конца своих дней), худенькой и бледной. Мамины приятели отзывались о девочке очень по-разному: одни величали ее «ангел в образе ребенка», а другие – «исчадие ада».
Почти с самого рождения с девочкой происходили самые невероятные происшествия. Ей не было и двух месяцев, когда она выпала из люльки и шлепнулась прямиком на угли горящего камина. Орущего младенца тут же окунули в ведро с парным молоком, а затем обернули специальным масляным компрессом. Эту процедуру повторяли несколько раз, и, к счастью, никаких следов на теле не осталось.
В девять лет Сара в споре с мальчишками заявила, что перепрыгнет через ров, перемахнуть через который еще не удавалось никому. Не удалось и ей. Будущая «божественная Сара» разбила лицо, сломала кисть руки и разодрала колени. Однако, когда ее несли домой, она сквозь слезы сердито кричала: «Все равно я через него перепрыгну!»
Посмотрев на свою угловатую и взъерошенную дочь, мать решила поместить девочку в пансион при монастыре под присмотр монахинь. Первым делом Сару, дочь еврейки, крестили надлежащим образом, а затем занялись ее воспитанием. Уже через два года она стала такой ревностной католичкой, что удивляла своим религиозным рвением даже монахинь. К сожалению, это нисколько не умерило ее вспыльчивости и гневливости, порой сестрам приходилось окатывать ее из ковша святой водой. Несмотря на столь «радикальные меры», Саре нравилось жить в монастыре, и она иногда подумывала принять постриг.
Шесть лет провела девочка в монастырских стенах, лишь изредка бывая дома с матерью. Но и в эти редкие часы мать была больше занята своими гостями. Чувствуя себя совсем ненужной, Сара, которой исполнилось пятнадцать лет, на очередном приеме в салоне матери объявила о своем желании посвятить жизнь Богу. Собиравшаяся у куртизанки публика не отличалась безгрешностью, и один из гостей зло и язвительно высмеял девочку прямо при всех. Поскольку рядом не оказалось монахинь с ковшом святой воды, Сара яростно налетела на обидчика, расцарапала ему лицо и вырвала клок напомаженных волос. Ее эмоциональность и непосредственность весьма впечатлили присутствовавшего при этой сцене герцога де Морни, который, смеясь, воскликнул: «Мой бог, да эта девчонка – прирожденная актриса! Ее место на сцене».
Матушка Жюли хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам и тоже стала куртизанкой, но, воспитанная при монастыре, Сара отказалась от этой, как она выразилась, «очень доходной формы работы».
И тут в судьбу Сары, на правах «друга дома», вмешался де Морни. Герцог пригласил нескольких своих близких знакомых, в том числе и Жюли с Сарой, на спектакль в театр «Комеди Франсез». Сара впервые оказалась в театре, она сидела в ложе герцога и посматривала на сцену. Наконец, занавес поднялся – в тот день давали пьесу Жана Расина «Британник».
Несколько позже один американский режиссер так описывал эти мгновения – начало спектакля: «И вот долгожданный миг настал: огни постепенно меркнут! О, этот миг! С чем можно сравнить те волшебные секунды, когда медленно гаснет свет, а вместе с ним замирает и ропот голосов, сменяясь тишиной? Так вздрагивают в последнем усилии крылья умирающей бабочки. Затем спускаются волшебные театральные сумерки, несколько мгновений в полумраке еще мерцают огни, но вот и их гасит невидимая рука, и тогда мягким, кошачьим прыжком обрушивается на занавес яркое, многоцветное сияние огней рампы и наполняет его трепетным биением жизни. О, этот занавес, за которым таятся неведомые чудеса, тайны, прекрасный, полный страстей, незнакомый мир, вот-вот готовый открыться нам. И какая бы ни шла пьеса, какие бы актеры в ней ни играли, этот готовый распахнуться занавес всегда пробуждает в вас чувство радостного, нетерпеливого ожидания».
Нечто похожее происходило и в душе Сары – театр заворожил ее. А происходящее на сцене так потрясло девушку, что она разрыдалась. Как всегда, непосредственно – в голос. Недовольные зрители зашикали на нее, но ей было не до них, к тому же она никак не могла успокоиться. Саре помог один из гостей герцога – Александр Дюма-отец. Он придвинул свое кресло к креслу мадмуазель Бернар и ласково и сочувственно приобнял ее. Сара в последний раз всхлипнула и перестала рыдать.
А герцог, утвердившись в своем мнении о призвании взрывной девушки, решил устроить ее в театральную школу – Консерваторию. К прослушиванию Сару готовил сам Дюма-отец, который искренне восхищался ее голосом, сравнивая его с «хрустально чистым ручейком, журчащим и прыгающим по золотой гальке».
И вот она предстала перед серьезной комиссией. Внешние данные Сары были прямой противоположностью того, что предпочитали видеть на сцене в середине девятнадцатого века: худенькая, угловатая, невысокого роста, с небольшой грудью и узкими бедрами. Но эти чудные, цвета морской волны, глаза! И совершенно волшебный голос! Современники называли его «золотым голосом» и говорили, что он просто «ласкает» слух…
Сара блестяще сдала экзамен. Своим завораживающим голосом она рассказала комиссии басню Лафонтена и… была зачислена в театральную школу. Здесь она проучилась три года и, в результате упорных трудов, получила на выпускном конкурсе вторую премию.
Герцог де Морни не оставил своих забот о талантливой девушке, и его стараниями Сара Бернар начала свою театральную карьеру в одном из самых популярных театров Парижа – «Комеди Франсез».
К сожалению, дебют восемнадцатилетней актрисы, состоявшийся 1 сентября 1862 года, не произвел ни на зрителей, ни на критиков особого впечатления. Дебютировала она в трагедии Расина «Ифигения в Авлиде». Первый выход на публику был непростым: «Когда занавес медленно стал подниматься, я думала, что упаду в обморок», – вспоминала Сара.
Критики на появление новой актрисы отозвались довольно кисло: «Молодая актриса была сколь красива, столь же невыразительна…» А зрители, привыкшие к «сочным» актрисам, были поражены невероятной худобой дебютантки. Когда Сара по ходу пьесы протянула руки к своему партнеру, какой-то остряк из зала выкрикнул: «Осторожно, месье, а не то она проткнет вас своими зубочистками».
Явление Сары Бернар на сцене фурора не произвело. Она была расстроена и разочарована. Отработав два сезона в «Комеди Франсез», Сара попросила у своего покровителя, Александра Дюма, рекомендательное письмо и уехала в Бельгию, в надежде понравиться тамошней публике. Но чуда не произошло – бельгийцы приняли ее так же, как и французы. Зато произошло другое.
В Брюсселе Сару пригласили на костюмированный бал, на котором присутствовало все высшее общество столицы Бельгии. Сара потрудилась над своим обликом и выглядела очень эффектно – молоденькая, стройная, с огромными глазами, в роскошном бархатном платье елизаветинской эпохи…
Она вспоминала, как дрогнуло ее сердце, когда ей поклонился невысокий, но прекрасно сложенный молодой человек в костюме Гамлета. Он обворожил ее своими великолепными манерами. И немудрено – это был герцог Анри де Линь, представитель одной из самых блистательных семей Бельгии.
Они танцевали весь вечер, очарованные друг другом.
Через некоторое время Сара вернулась в Париж, и молодой герцог последовал за ней. Они встречались почти каждый день, и в конце концов влюбленный Анри сделал ей предложение. Его не волновало ни ее происхождение, ни ее профессия, он хотел, чтобы она стала его женой. Только Саре следовало оставить сцену – это единственное условие, которое поставил ей герцог.
Сара дала свое согласие, и Анри отправился в Брюссель для серьезного разговора с семьей. Родственники были вне себя от возмущения – дочь куртизанки, еврейка, непризнанная актриска метит к ним в невестки!
Семейство поручило одному из кузенов Анри съездить в Париж и разобраться на месте с «нахальной девицей». Молодой человек, обуреваемый самыми неприятными эмоциями, явился к Саре и был, можно сказать, разоружен – любезная и обаятельная девушка его буквально очаровала. Теперь ему было совсем нелегко выполнить возложенную на него миссию – разъяснить Саре, какая участь ждет Анри, если он все-таки женится на ней: разрыв с семьей, лишение наследства, отторжение от общества…
Саре не понадобилось долго размышлять, ей сразу стало ясно, что она должна пожертвовать своей любовью. Когда из Брюсселя вернулся Анри, по-прежнему полный решимости жениться на ней, Сара объявила ему, что они расстаются. Он очень разволновался и долго отговаривал ее, но безуспешно – Сара бывала такой упрямой! Чтобы окончательно порвать с Анри, она заявила, что подписала ангажемент с одним парижским театром. Молодой герцог почувствовал себя в глупейшем положении – ее заявление прозвучало почти как оскорбление, – его милая Сара предпочла сцену его любви и их семейному счастью… Он даже не догадывался, что Сара беременна.
Они расстались. А через несколько месяцев она родила сына. Даже много лет спустя Сара старалась не «задеть» имя герцога де Линя и на вопросы журналистов, которых всегда очень волновало, кто же отец ее ребенка, отвечала неопределенно: мол, я и не упомню, то ли Виктор Гюго, то ли генерал Буланжэ…
Расставание с Анри далось ей очень тяжело; чтобы забыться, Сара с головой ушла в работу. Она изучила весь репертуар театра и была готова в любую минуту подменить заболевшую актрису, она полностью отдавалась театру, его интересам и его нуждам. Но на сцене она по-прежнему не блистала, а однажды произошел инцидент, который едва вообще не покончил с ее театральной карьерой.
Сара привела в театр младшую сестру Регину. Девочка впервые оказалась за кулисами театра, и потому глазела по сторонам и не смотрела под ноги. Совершенно случайно она наступила на длинный шлейф платья одной из ведущих актрис театра мадам Натали. Экспансивная мадам Натали с такой силой оттолкнула девочку, что Регина отлетела, врезалась в гипсовую колонну и рассекла лоб о ее неровный край. Увидев это, Сара, не задумываясь, залепила мадам такую оплеуху, что известная ведущая актриса шлепнулась на пол. Скандал был грандиозный. Сара была вынуждена уйти из «Комеди Франсез».
Однако ее быстро приняли в труппу театра «Одеон», где предложили роль в одной из пьес Александра Дюма-отца. Эта работа принесла ей первый большой успех. Затем, в 1868 году, она прекрасно справилась с ролью мальчика в пьесе Пьера Корнеля «Атали». С каждой новой ролью Сара набиралась все больше и больше опыта и мастерства, ее игра становилась все лучше и лучше, и вскоре она привлекла особое внимание публики. А затем к ней пришли признание и известность.
Не забывала Сара и «общественную» жизнь. Привыкшая к материнским раутам, она легко вписалась в светскую жизнь Парижа. У нее появилось множество новых знакомых – актеров, режиссеров, художников, литераторов и просто «околотеатральных» людей. Сара никогда не жаловалась на отсутствие внимания со стороны мужчин, но сейчас ее успех стал совершенно невероятным. Это была уже не угловатая взъерошенная девчонка, а образованная, уверенная в себе, чрезвычайно обаятельная и элегантная молодая женщина. С возрастом Сара приобрела свой стиль: она носила мужские костюмы и элегантно курила сигареты с длинным мундштуком. Это был не просто вызов, а очередное проявление характера. Ко всему прочему, Сара занималась боксом и фехтованием, водила машину, ну и брала уроки живописи и скульптуры. Она прекрасно ездила верхом, отлично стреляла из пистолета и часто повторяла, что если бы была мужчиной, то дралась бы на дуэли каждый день.
Сейчас все это не вызывает ни капли удивления – например, в брюках ходит больше половины женского населения Европы и Америки, но во второй половине девятнадцатого столетия подобное поведение одинокой женщины с ребенком вызывало не то что удивление, а шок! Можно смело сказать, что Сара Бернар «стояла у истоков» женской эмансипации.
Однако ее экстравагантность никого не отпугивала. Наоборот, как мы уже говорили, она пользовалась невероятным успехом у самых неординарных мужчин.
В 1870 году в Париж вернулся Виктор Гюго, двадцать лет он провел в политическом изгнании. Семидесятилетний писатель решил сразу же включиться в творческую жизнь столицы и поставить в театре свою пьесу «Рюи Блаз». Естественно, с участием знаменитой Сары Бернар.
Гюго предложил провести слушание и обсуждение пьесы у себя дома и пригласил всю труппу. Но Сара написала известному на весь мир писателю и пэру Франции, что больна и быть на слушании не может. На следующий день пришел ответ: «Я Ваш слуга, мадам». Чтение пьесы было отложено и перенесено в театр.
Репетиции прошли нормально, все с нетерпением и волнением ожидали премьеры. Успех «Рюи Блаза» превзошел все самые смелые ожидания. После спектакля Гюго пришел в гримерную к Саре и опустился перед ней на колени, он целовал ей руки и со слезами на глазах благодарил ее за чудесное исполнение роли.
Возраст нисколько не помешал ему влюбиться в молодую актрису. Саре тогда не было и тридцати лет.
Но Сару волновал только ее фантастический успех. Ее признали лучшей актрисой страны, однако она рвалась к новым горизонтам, осваивала новые роли, ее притягивало то театральное пространство, которое прежде было табу для женщин-актрис. В истории театра было время, когда все роли исполняли исключительно мужчины, теперь Сара Бернар играла мужские партии – Гамлета в одноименной пьесе Уильяма Шекспира, Лоренцо в исторической драме Альфреда де Мюссе «Лорензаччо». И, конечно же, она не забывала классический репертуар. Так, например, Федра в драме Жана Расина была ее любимой ролью – сорок лет Сара Бернар выходила на сцену в образе женщины, страдающей от неразделенной любви:
Я, глядя на него, краснела и бледнела, То пламень, то озноб мое терзали тело, Покинули меня и зрение и слух, В смятенье тягостном затрепетал мой дух. Узнала тотчас я зловещий жар, разлитый В моей крови, – огонь всевластной Афродиты.Четыре десятка лет произносила она страстные монологи Федры – и каждый раз по-новому, все ярче, насыщеннее и мощнее. Зрители проникались ее чувствами, они страдали и плакали вместе с ней.
Слава Сары Бернар не росла, она взлетала – все выше и выше. Вслед за славой ввысь тянуло и саму Сару: во время постройки ее особняка она забиралась на строительные леса и помогала рабочим, но это было для нее низковато, и в 1878 году она летала над Парижем на воздушном шаре.
Правда, и на земле она не забывала об эксцентричности. Верхом ее «причуд» был гроб из розового дерева, который «сопровождал» Сару во всех поездках. Этот гроб Саре по ее просьбе купила мать, после того как впечатлительная девочка услышала от врачей, что умрет в юном возрасте. Сара всю жизнь боялась внезапно умереть и не хотела, чтобы после ее смерти ее положили в «какой-нибудь уродец», а потому всюду возила с собой гроб, подаренный матерью. В этом гробу она часто фотографировалась. Ее приятельница, актриса Мари Коломбье, писала, что Сара нередко занималась любовью прямо в гробу с кем-нибудь из своих многочисленных кавалеров. Правда, соглашались на такой эксперимент далеко не многие, у некоторых «такая похоронная мебель убивала все их желания»…
И тем не менее самые прославленные драматурги мечтали о том, чтобы «божественная Сара» обессмертила их творения своей игрой. Многие из них писали специально для нее. Викторьен Сарду – «Теодору», через три года «Тоску», а еще позже «Колдунью». Эдмон Ростан – «Принцессу Грезу», «Самаритянку», «Орленка». Одной из ее лучших ролей была роль Маргариты Готье в «Даме с камелиями» Александра Дюма-сына.
Многие современники отмечали, что особенно ей удавались сцены смерти. Один из режиссеров, который видел Сару Бернар в пьесе Луи Вернея «Даниэль», вспоминал: «…наступает вдохновенный миг, столь же ослепительно и внезапно озаряющий театральные подмостки, как вспышка молнии освещает ночной пейзаж.
Бернар добилась этого в финале спектакля, в сцене смерти. Откинувшись на высоко взбитых подушках, она умирала. В последние минуты, когда жизнь еле теплилась в ней, она вдруг приподнялась и села. В ее голосе и в лице… появилось что-то новое, покоряющее своей силой. Почти шепотом она сказала несколько слов, и казалось, что жизнь отлетела от нее. Все актрисы, которые играли при мне умирающих, все, исполнявшие именно эту сцену, испустив последний вздох, непременно падали на подушки, грациозно вытянув руки и запрокинув бледное, в рамке кудрявых волос лицо, чтобы те, кто сидит в зале, смогли увидеть последнюю улыбку (лучезарный свет, покой, печаль) или все что угодно. Бернар сыграла сцену иначе: неожиданно резким движением, так, что мы все похолодели и задрожали в своих креслах, она рухнула вперед, неловко и тяжело, как свинцовая, трагически вытянув руки вдоль тела ладонями наружу. В этой позе она застыла. Да, это была смерть, настоящая, окончательная, неподдельная. Конечно, это был только театр, но это было высокое искусство. Тот неповторимый штрих, который заставлял воскликнуть: “На сцене великая Сара Бернар!”»
Знаток театра князь Сергей Михайлович Волконский в книге «Мои воспоминания» писал: «…это само искусство, это только искусство, без всякой примеси. Если бы меня спросили, какой самый великий пример техники, я не задумываясь скажу – Сара Бернар. Это самая полная, самая отчетливая картина сценического мастерства, какую я видал».
Казалось бы, князь тоже отмечает талант великой актрисы, но как «невосторженно» все это звучит, ему, похоже, не хватает в ее игре жизни, естественности – воздуха…
Были и более суровые судьи. В декабре 1881 года Иван Сергеевич Тургенев в одном из писем к своей знакомой писал: «Не могу сказать, как меня сердят все совершаемые безумства по поводу Сары Бернар, этой наглой и исковерканной пуристки, этой бездарности, у которой только и есть, что прелестный голос. Неужели же ей никто в печати не скажет правды?»
Кстати, по поводу ее «золотого голоса» князь Волконский высказался более тепло: «…я вспоминал впечатление этого говорка, когда в „Даме с камелиями“ она, опускаясь на грудь любовника, только не вперед, а назад, как бы навзничь, этим самым „знаменитым говорком“ говорит, замирая: “Je t’aime, je t’aime, je t’aime“, – бесчисленное количество раз, все слабее и слабее, погружаясь в блаженное замирание. Тут же вспомнил я трагический шепот, в стольких ролях пробегавший ужасом по зале. Вспомнил ее рычание, когда в „Тоске“, заколов Скарпиа, она наклоняется над его трупом, повторяя одно слово – “Meurs!”[2] И это слово, в котором рычанье леопарда, вонзается в труп, как повторяющиеся удары кинжала; этим словом она добивает его. И, наконец, золотые верхи – басня о двух голубях, которую она читает во втором действии „Адриенны Лекуврер“.
Все это великое разнообразие – ее собственность, ее особенность, и никогда не будет повторено в таком масштабе. Таких расстояний от радости к горю, от счастия к ужасу, от ласки к ярости я никогда не видал; такой «полярности» в театральном искусстве нам, то есть нашему поколению, никто не показывал».
Все так же влюбленный в Сару, Виктор Гюго предложил для постановки другую свою пьесу – «Эрнани». По ходу действия героиня пьесы влюбляется в Эрнани – главного персонажа. Сара, подхваченная эмоциями, по уши влюбилась в Мунэ-Сюлли, актера, исполняющего роль Эрнани. Мунэ-Сюлли был тоже достаточно знаменитым актером, одним из лучших в свое время, и к тому же очень красивым мужчиной. И эта любовь Сары была взаимной и страстной. Ее избранник был не просто красив, но и нежен, не просто мужественен и независим, но и талантлив и энергичен.
За влюбленной парой следил весь Париж. История любви двух прославленных актеров привлекла к ним еще больше внимания. Они повсюду были вместе – и на сцене, и на репетициях, и за стенами театра. А вечерами публика штурмовала театр, чтобы увидеть, как двое влюбленных говорят о своей любви на сцене.
Второй их совместной работой была пьеса «Отелло». Судьба часто подшучивает над влюбленными, ставя их в «пророческие» ситуации…
Как-то Мунэ-Сюлли узнал, что Сара изменяет ему. Он искренне любил ее, и известие об измене стало для него очень большой неприятностью.
И вот однажды, во время трагической конечной сцены в «Отелло», когда ревнивый мавр, в порыве гнева, душит свою любимую жену, Саре и впрямь показалось, что ей нечем дышать. Она задергалась, по-настоящему задыхаясь под сжимающимися пальцами «ревнивого Отелло»… К счастью, режиссер вовремя сообразил, что происходит, и приказал опустить занавес на несколько минут раньше, – впервые зрители не увидели, чем же кончается трагедия Шекспира…
Естественно, после таких «выяснений отношений» Бернар и Мунэ-Сюлли расстались.
В 1880 году Сара Бернар создала свою собственную театральную труппу, с которой отправилась в мировое турне. И вскоре слава «божественной Сары» гремела на весь мир.
Но, даже будучи мировой знаменитостью, она не могла справиться со своими хлещущими через край эмоциями – перед каждым спектаклем она чуть ли не тряслась от страха, а иногда, едва опускался финальный занавес, падала в обморок. Усугублял положение и неизлечимый туберкулез.
Нервы и болезнь «сжигали» и так худую Сару, и те, кто не числил себя ее поклонником, называли ее «прекрасно отполированным скелетом». Однако при этом она обладала недюжинной силой воли и потрясающей энергией. Был в этой хрупкой женщине какой-то магнетизм, притягивавший к ней и мужчин, и женщин.
В любви она была очень страстной, тем не менее в своих воспоминаниях Сара писала: «Дом моей матери всегда был полон мужчин, и чем больше я их видела, тем меньше они мне нравились».
Первый мужчина появился у нее, когда ей было восемнадцать лет. Это был не кто-нибудь, а граф де Керагри. Настоящую же любовь она познала только с Анри де Линем, про которого мы уже писали. Эта же любовь подарила ей сына Мориса – единственного мужчину, которого она обожала до конца своих дней.
Были среди ее поклонников, как мы уже говорили вначале, и весьма известные мужчины, например, Эмиль Золя, Оскар Уайльд, Эдмон Ростан. Она обожала, когда эти талантливые знаменитости пели ей в своих произведениях дифирамбы.
Составить полный список ее любовников не представляется возможным – она и сама, наверно, не могла упомнить всех. Говорят, она соблазнила всех правителей Европы, в том числе и самого папу римского.
Крутила она романы и с более «простыми» мужчинами – своими театральными партнерами. Заканчивалась совместная работа – заканчивался роман. Мужчины не жаловались. А многие даже становились ее добрыми друзьями.
Среди этого океана влюбленных мужчин для замужества она выбрала греческого дипломата Аристидиса Жака Дамала, который был на одиннадцать лет ее моложе. Произошло это в 1882 году, и брак продлился всего несколько месяцев.
Современники описывали Аристидиса как что-то среднее между маркизом де Садом и Казановой. Возможно, Сара сочла себя той единственной, ради которой он «исправится». И ошиблась. Аристидис и не подумал меняться. Он изменял Саре направо и налево, а потом ей же обо всем и рассказывал. А еще этому извращенцу нравилось публично унижать и оскорблять свою знаменитую супругу. Но и ее характер никуда не делся, – она быстро с ним развелась.
Правда, когда в 1889 году Аристидис умирал от слишком бурного увлечения наркотиками, Сара была рядом с ним и терпеливо заботилась о нем…
Но вернемся к началу восьмидесятых, когда Сара отправилась в мировое турне. Она побывала в Канаде и Соединенных Штатах, затем в Австралии и Южной Америке, потом вновь в Соединенных Штатах и, наконец, в России.
Александр Третий прибыл в театр лично познакомиться с мировой знаменитостью. Сара присела в глубоком реверансе перед его императорским величеством, но русский царь удержал ее и вежливо молвил: «Нет, мадам, это я преклоняюсь перед вами». Он подарил великой актрисе изумительной работы золотой браслет, украшенный бриллиантами.
Это был, естественно, не единственный подарок от восхищенного поклонника. Подобных даров у Сары Бернар было множество. Да и зарабатывала она очень много – ее гонорары, особенно во время зарубежных гастролей, были по тем временам баснословны. Однако образ жизни, который она вела, «съедал» все ее деньги.
У нее вечно устраивались какие-то приемы, на которых гостей кормили самыми изысканными блюдами. Дом ее был полон всяческой живности, которую она покупала, подбирала и которую ей дарили – Сара очень любила животных. Это была не причуда и не блажь – в одну из холодных парижских зим она истратила две тысячи франков на покупку хлеба для голодных городских воробьев.
В 1900 году Саре исполнилось пятьдесят шесть лет, и в этом году она играла роль юного принца в пьесе Ростана «Орленок». Премьера состоялась 15 марта, спектакль прошел блестяще – Сару вызывали на сцену тридцать раз. Наконец, она раскланялась в последний раз и ушла окончательно, однако и после этого зал продолжал скандировать ее имя.
В эту эпоху в Париже были две достопримечательности: недавно возведенная Эйфелева башня и Сара Бернар.
Ей был шестьдесят один год, когда при неудачном падении она очень серьезно повредила ногу. Лечение мало помогало, и актрису мучили сильные боли. Однако она продолжала играть на сцене. И даже попробовала себя в новом искусстве – кино. Но в кино еще не было звука, а одним из главных достоинств Сары Бернар был, как мы помним, ее неповторимый голос…
С годами травмированное колено все чаще напоминало о себе, ходить актрисе становилось все труднее и больнее, и в 1915 году Саре пришлось ампутировать ногу. И вновь на помощь «божественной Саре» пришел ее упрямый характер и неукротимая воля. Она не перестала играть, и при первой возможности отправилась на фронт Первой мировой войны – выступать перед солдатами.
Сидя в кресле, она играла отрывки из своих наиболее известных партий. В роли царицы Аталии Сару Бернар выносили на сцену на специально сооруженных носилках. И впечатление от ее игры нисколько не изменилось – она была все так же блистательна, она была все той же Сарой Бернар!
Ни инвалидность, ни возраст не влияли на Сару. И на ее желание любить. Однажды один писатель спросил Сару, когда она перестанет заводить романы. И актриса ответила: «Когда я перестану дышать».
Ей было шестьдесят шесть лет, когда она во время очередных гастролей по Соединенным Штатам познакомилась с американцем голландского происхождения Лу Теллегеном. Он был моложе ее на тридцать пять лет, что не мешало ни ему, ни ей – их любовь длилась четыре года. В своей автобиографии Теллеген написал, что эти годы были «самыми лучшими» в его жизни.
Сара Бернар продолжала выступать почти до самой смерти. А прожила она, несмотря на угрозы врачей, до семидесяти восьми лет. И в свой последний год она работала – снималась в фильме молодого режиссера С. Гитри «Провидица». Именно во время съемок у Сары случился приступ, и съемки были остановлены.
Толпы верных поклонников пришли к дому великой Сары Бернар, волнуясь о ее здоровье. И даже в эти мучительные дни, угасая, она осталась верна себе – Сара выбрала шесть молодых актеров, которые должны были нести ее гроб. Она хотела и после смерти быть в окружении красивых мужчин.
Утром 26 марта 1923 года в своем доме в Париже она потеряла сознание, а в 8 часов вечера лечащий врач актрисы открыл окно и объявил многотысячной толпе: «Мадам Сара Бернар почила…»
На похороны «божественной» пришел чуть ли не весь Париж. Десятки тысяч искренне скорбящих людей шли за гробом из розового дерева через весь город от дома Сары до кладбища Пер-Лашез. И весь этот путь, последний путь великой актрисы, был буквально усыпан камелиями – ее любимыми цветами.
Ее девизом при жизни были слова: «Несмотря ни на что». Все семьдесят восемь лет она прожила «несмотря ни на что» – начиная с падения в горящий камин во младенчестве и кончая непрерывной борьбой с болезнями. И что бы ни говорили люди, не считавшие ее великой актрисой, ни один не смог бы отказать ей в «звании» великой женщины. Все перипетии своей судьбы она встречала лицом к лицу и всю жизнь отличалась замечательным чувством юмора.
О ее находчивости и остроумии рассказывали множество историй, мы приведем здесь лишь некоторые из них.
Однажды Сара Бернар выступала в роли нищенки. Ее роль кончалась словами: «Идти больше нет сил. Я умираю от голода». Вдруг кто-то из зрителей в зале заметил у нее на руке дорогой золотой браслет, который актриса забыла снять пред спектаклем. Из зала последовала реплика: «Продайте браслет!»
Актриса не растерялась и тихим голосом закончила свой монолог: «Я хотела продать свой браслет, но он оказался фальшивым»…
Зал взорвался аплодисментами.
Другая история произошла в Соединенных Штатах. Когда Сара Бернар была на гастролях в Нью-Йорке, один из пасторов местной церкви регулярно поносил ее в своих проповедях. Она узнала об этом и написала ему записку: «Дорогой коллега! Зачем вы так поступаете? Мы, комедианты, должны поддерживать друг друга».
А когда ей сообщили, что шум вокруг ее имени в Нью-Йорке оказался гораздо больше, чем по поводу посещения этого города правителем Бразилии, Сара спокойно ответила: «Ах, это был всего лишь один из императоров…»
На одном представлении президент Франции, сидевший в почетной ложе театра, бросил к ногам актрисы букет и крикнул: «Да здравствует Сара!» Она, низко поклонившись, ответила: «Vive la France!» («Да здравствует Франция!»)
Многие высказывания Сары Бернар стали афоризмами и даже получили название «бернаризмов». Например, такие:
«Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях».
«Люди добрые, умные, жалостливые, собравшись вместе, становятся гораздо хуже. Отсутствие чувства личной ответственности пробуждает дурные инстинкты. Боязнь показаться смешным лишает их доброты».
«Моя слава приводила в ярость моих врагов и досаждала моим друзьям».
«Если кому-то и написано на роду стать важной персоной, то судить об этом следует только после его смерти».
«Любопытная особенность нашей профессии: мужчины завидуют женщинам гораздо сильнее, чем женщины завидуют мужчинам».
Однажды перед началом спектакля «Дама с камелиями» актриса «предупредила»: «Если публика сегодня будет капризничать, я умру уже во втором акте!»
Великая Сара Бернар написала автобиографическую книгу «Моя двойная жизнь», но многое в ней скрыла, о многом недоговорила… Она лишь приоткрыла завесу в свой мир. И вряд ли мы когда-нибудь сможем до конца разгадать величайшую тайну по имени Сара Бернар.
«Горькая судьбина». Полина Стрепетова и Модест Писарев
Замечательную русскую актрису Полину Антипьевну Стрепетову с самого рождения окружала атмосфера тайны, некоего мистического рока. Она была женщиной страстной, упорной и, казалось, сама бросала вызов судьбе. А судьба, которая поначалу одарила Стрепетову невероятным сценическим успехом и настоящей любовью, затем принесла горечь расставания с любимым и скорое забвение – и зрителями, и критиками…
День рождения Полины неизвестен. Дело в том, что звезда русской сцены второй половины девятнадцатого века была подкидышем.
Подбросили девочку не к церкви и не в приют, а на порог дома супругов Стрепетовых – Антипа Григорьевича, парикмахера Нижегородского театра, и Елизаветы Ивановны, актрисы того же театра. Произошло это поздним вечером 4 октября 1850 года. Стрепетов вышел из дома запереть ворота и закрыть ставни и на крыльце обнаружил укутанного в тряпки младенца. Антип Григорьевич внес ребенка в дом и послал за квартальным. Однако когда полицейский прибыл, супруги Стрепетовы решили не отдавать малышку в приют. На следующий день Антип Григорьевич пригласил священника, который окрестил приемную дочь Стрепетовых Пелагеей, но домашние звали ее Полиной.
Надо заметить, девочку подбросили Стрепетовым не просто так. Об их доброте и милосердии было известно многим, ведь к тому времени они уже два года воспитывали мальчика Ваню, которого нашли в каком-то подвале рядом с умирающей роженицей.
Настоящие родители Полины так никогда и не объявились. Правда, ходили слухи, что она была «плодом любви» артистки Глазуновой и гвардейского офицера Алексея Балакирева, отца знаменитого композитора и пианиста.
Через много лет, уже взрослая Полина, встретилась с Глазуновой, и была удивлена ее враждебностью: «Если эти рассказы не праздная болтовня, невольно покажется странной такая вражда ко мне человека, не имеющего со мной ничего общего. Если бы мы состояли в одном амплуа, возможно было бы предположить зависть. Но наши амплуа диаметрально противоположны». В этом Стрепетова ошибалась – Глазунову, скорее всего, раздражала не сама Полина, а беспричинные (и порочащие ее) слухи, связывающие ее со Стрепетовой. Вся эта ситуация очень напоминала пьесу Островского…
Приемные родители не имели средств, чтобы дать Полине систематическое образование. Писать и читать ее учил сосед-старичок, когда-то обучавшийся в семинарии. Воспитанием девочки занималась няня, бывшая крепостная. Няня пела Полине долгие, грустные песни, рассказывала занимательные и поучительные сказки, но чаще говорила о тяжелой жизни русского народа и, конечно же, о тяжкой женской доле. Полина полюбила чтение и всю жизнь много читала. Когда она была уже актрисой, ее любимым автором стал Виссарион Григорьевич Белинский, бывший в те годы властителем многих умов.
Супруги Стрепетовы были не только сострадательными, но и гостеприимными людьми – в их доме почти каждый вечер собирались актеры. Веселая, дружественная обстановка очень нравилась маленькой Полине, и актеры казались ей самыми лучшими людьми.
Ей было семь лет, когда она впервые вышла на сцену – в роли мальчика в двухактной французской драме «Морской волк». Полине так понравилось «представлять», что она решила стать актрисой. Родители, слишком хорошо знавшие театральную жизнь, пытались отговорить дочь от этого необдуманного шага, но безрезультатно. Одна была надежда: подрастет – одумается.
Но Полина своего решения не меняла. Она росла буквально на сцене, стараясь участвовать во всей жизни театра. С годами домашняя жизнь Стрепетовых становилась тяжелее – Антип Григорьевич начал попивать, а Елизавета Ивановна состарилась, и теперь ей предлагали роли старух, да и то во втором составе. Эти горькие обстоятельства привели к тому, что родители стали подумывать пристроить девочку на сцену.
«Она чрезвычайно неуклюжа, неповоротлива и нехороша собой. С ее ли грацией мечтать о сцене? – сомневалась приемная мать. – Если даже впоследствии и окажется способность, то будет играть комические роли…» Столь суровая оценка была, тем не менее, справедливой: в подростковом возрасте Полина выглядела чрезвычайно нескладной – худая, угловатая, черты лица неправильные, да к тому же искривленный болезнью позвоночник производил впечатление горба.
«Тебе бы в учительницы пойти или в гувернантки», – вздыхала Елизавета Ивановна. Но Полина стояла на своем: «Нет-нет, я непременно буду актрисой». И в конце концов Елизавета Ивановна согласилась помочь дочери. Она упросила антрепренера из Рыбинска взять дочку «на пробу» с уговором назначить ей жалование, только если Полина «будет полезна». Так Полина Стрепетова вместе с приемной матерью отправилась на первые гастроли. Ей было тогда четырнадцать лет, что не мешало антрепренеру заставлять девочку работать несколько месяцев бесплатно. Однако Полина не только не роптала, но и была почти счастлива. Она с радостью исполняла все маленькие роли и выходы без слов, так что к концу сезона растроганный и довольный антрепренер платил юной актрисе по 18 рублей в месяц, а это было чуть больше половины заработка ведущих актеров. По тем временам – хорошие деньги.
Публику в Рыбинском театре развлекали преимущественно водевилями и мелодрамами. Но вот решили поставить нечто более серьезное – драму Алексея Писемского «Горькая судьбина». Эту пьесу критики считали непревзойденной по силе и яркости изображения быта русской деревни, однако на сцене «Горькая судьбина» успеха не имела. Ее ставили и в Москве, и в Петербурге, и в Ярославле, и в Симбирске, и в Казани, но нигде пьеса не была принята должным образом.
И вот Рыбинский театр взялся за постановку. А в день премьеры актриса, которая должна была играть героиню – Лизавету, заболела. Ее подменила Полина Стрепетова… Это был триумф. Игра юной актрисы вызвала настоящую бурю аплодисментов и восторженные рецензии в газетах.
Один из современников, видевших Стрепетову в роли Лизаветы, писал: «Это была уже не игра. Это была полная иллюзия, художественное воплощение трагического женского образа. Когда артистка в первом действии, потупившись, теребит кончики передника и затем поднимает свои удивительные глаза и говорит мужу: „Никаких я против вас слов не имею!“, когда она в третьем акте выбегает простоволосая, в посконном сарафане и кричит: „Нету, нету, не бывать по-вашему!“ – в зрительном зале становится удивительно тихо. Все собравшиеся в своем переживании словно сливались воедино, в одну душу, и эта душа отдавалась во власть артистки».
С этого спектакля началось восхождение Полины к вершинам успеха. Уже к концу первого в жизни сезона она могла сама выбирать себе роли. Юная актриса, много читавшая и знавшая репертуар большинства театров, выбрала для себя пьесу Петра Боборыкина «Ребенок». Своей чуткой, замечательной игрой эта невзрачная в жизни девушка буквально преобразила пьесу – спектакль имел невиданный успех в Рыбинске и Ярославле.
Антрепренер был чрезвычайно доволен столь неожиданной удачей и возил свою труппу по всем театральным городам провинции. Так, через два года Полина оказалась в Симбирске, где ее игру увидел Владимир Александрович Соллогуб, замечательный русский писатель. Игра Стрепетовой произвела на Соллогуба очень сильное впечатление, и он рассказал о молодой актрисе известному антрепренеру и режиссеру Петру Медведеву: «Вот, батенька, вы всегда разыскиваете молодые таланты: поезжайте-ка в Симбирск, посмотрите актрису Стрепетову. Это такой талантище, что может прогреметь на всю Россию».
Петр Медведев действительно искал талантливых актеров, а потому тут же отправился в Симбирск. К сожалению, в те дни, что он был в городе, Стрепетова не была занята в спектаклях. Не желая отступать, Медведев пошел к ней на квартиру. Он вспоминал, что, придя с визитом, увидел «…какую-то нечесаную, неумытую, некрасивую женщину в стоптанных туфлях». Он был неприятно удивлен, но, помня отзыв Соллогуба, предложил Полине контракт. Тут она его удивила еще больше и еще неприятнее – потребовала 75 рублей в месяц. Медведев так возмутился «наглостью провинциальной актриски», что удалился, едва не хлопнув дверью.
А Стрепетова продолжала свое триумфальное турне. Ее слава гремела все громче, и вот через два года судьба вновь свела Петра Медведева и Полину. Это было в Казани, и в этот раз он увидел ее игру. После спектакля Медведев умолял ее согласиться на 75 рублей за каждое представление…
Надо отдать должное Полине: успех не кружил ей голову – она никогда не забывала о родителях. Каждый раз, отыграв сезон, она приезжала в Нижний Новгород к отцу с матерью. В тот год, получив большие гонорары, она накупила множество подарков и прибыла в Нижний. Дома ее ждала печальная картина: отец пил почти без просыпа, а мать маялась возле него, поскольку больше не получала ни одного предложения из театра. Побыв с родителями и утешив их, как могла, Полина вернулась в театр.
В восемнадцать лет Стрепетова поступила в самарскую труппу, которой руководил воспитанник Малого театра Александр Андреевич Рассказов. Полина оказалась в совершенно иной, непривычной актерской среде – театр Рассказова разительно отличался от большинства провинциальных театров. Будучи сам сильным актером и образованным человеком, Рассказов и труппу набирал соответствующую. Все его молодые актеры были с университетским образованием, и все они вскоре приобрели широчайшую известность – и Александр Ленский, и Модест Писарев, и Василий Андреев-Бурлак… Рядом с такими людьми Стрепетова явственно почувствовала нехватку знаний и рьяно взялась изучать литературу, музыку, французский язык и, конечно же, актерское мастерство. Приняли Полину в труппе очень хорошо, и ей было легко и приятно работать в театре Рассказова.
Она играла почти каждый день, и на каждый ее спектакль был аншлаг. Одна из провинциальных газет восклицала по поводу выступления Стрепетовой: «Если вы еще не видели госпожу Стрепетову, – идите и смотрите. Я не знаю, бывала ли когда-нибудь наша сцена счастливее, чем стала теперь, с приездом этой в полном смысле артистки-художницы…»
Фантастической игрой Полины Стрепетовой восторгались многие известные современники. Иван Сергеевич Тургенев на ее спектаклях заливался слезами и говорил: «Выучиться так играть нельзя. Так можно только переживать, имея в сердце искру Божию».
Владимир Иванович Немирович-Данченко считал Стрепетову явлением редким, феноменальным и заявлял, что высот, коих достигла актриса, «…не достигали многие столпы российской сцены».
Однако были и разочарованные. Так, Глеб Успенский пребывал в сильнейшем недоумении от расхваленной ему актрисы. Он увидел ее в роли кокетки-обольстительницы в переводной комедии «Кошка и мышка»: «Пришел посмотреть выдающийся талант, а увидел неопытную и некрасивую актрису, которая старалась выглядеть светской дамой и у которой это явно не получалось». Писатель вспоминал, что все представление не мог удержаться от смеха. Но таких были единицы, а восторженных – огромное большинство.
Однажды, будучи на гастролях в Казани, Стрепетова играла Аннушку в комедии Островского «На бойком месте». В действие она вплела народную песню «Убаюкай, родная, меня…» «Мы и теперь помним, – писал через двадцать лет местный театрал, – какое впечатление произвела эта простая песенка на публику. Как-то вдруг все смолкли, словно затаили дыхание, словно ждали еще чего-то, и вдруг весь театр потрясся от грома рукоплесканий и восторженных криков: „Браво! Браво! Бис! Бис!“ – И артистка снова запела, и запела, кажется, еще лучше, еще мучительно больнее, с дрожью и слезами в голосе… Плакала вместе с ней чуть ли не вся публика».
Конечно, Полина Стрепетова жила не только сценическими успехами, в ее жизни всегда оставалось место для любви. Правда, к ней любовь не торопилась: Полина влюбилась только в двадцать один год. Ее избранником стал, как это к несчастью часто бывает, местный обольститель, герой-любовник на сцене и в жизни, Михаил Стрельский. Настоящая его фамилия была Третьяков, но он предпочитал сценический псевдоним…
Михаил Третьяков был женат, что не мешало ему иметь множество любовниц. Этому очень способствовало то, что жена его жила за границей. Актер он был никакой, но броская внешность и бархатный голос делали его незаменимым в водевилях и опереттах. Женщины сходили по нему с ума. Не устояла и Полина.
Вообще-то она всегда держалась в стороне от свободных театральных нравов, но почти профессиональное обаяние Третьякова заставило молодую женщину забыть обо всех своих принципах. Правда, к этой первой любовной связи она подошла очень серьезно: «Я написала матери, – писала Стрепетова в своих мемуарах, – что я уж не та, что прежде, я люблю (такого-то) и сошлась с ним. Зная их (родительский) взгляд на такой образ жизни, я заранее объявляю ей обо всем этом, и, если она желает, я не буду даже называться ее фамилией… Ответ был полным любви и прощения…»
Полина старалась не расставаться со своим возлюбленным, и на гастроли они ездили вместе. Через какое-то время она родила дочку Машу. Но распутного Третьякова не прельщала семейная жизнь, он продолжал гулять и кутить, а Полина страдала от любви и обиды. И в конце концов они разошлись. Несколько недель спустя Стрепетова поняла, что опять беременна. Она родила вторую дочку, но девочка прожила всего лишь два месяца…
А потом была труппа Рассказова и знакомство с актером Модестом Ивановичем Писаревым. Теперь гастроли были уже в обеих столицах, и столичная публика принимала Стрепетову громом аплодисментов. В этот период Полина пребывала на вершине счастья: у нее было все, что она могла пожелать – грандиозный театральный успех и настоящая страстная любовь. Их отношения казались очень крепкими и серьезными – Писарев, чрезвычайно мягкий и благовоспитанный человек, удочерил ее дочь Машу. Он ввел Стрепетову в свой круг и познакомил с талантливейшими людьми того времени: Островским и Писемским, Репиным и Ярошенко.
Однако, в отличие от Писарева, у Полины был совсем не мягкий характер. Она вообще не шла на компромиссы ни с кем – ни с антрепренерами, ни с директорами Общедоступного театра. Если что было не по ней, Полина тут же разрывала отношения.
На счастливую жизнь с любимым ее хватило тоже ненадолго. Темпераментная и бурная Стрепетова требовала, чтобы спокойный, интеллигентный Писарев кипел страстями и совершал ради нее безумства – видно, сценическая экзальтация не прошла даром. У него это не очень получалось… И тут жизнь «развела» их – Писарев уехал в антрепризу Медведева. И встретил там другую женщину. А Полина к этому времени уже растила сына Писарева – Виссариона, которого любовно звала «Висечкой», «Висей».
Два года они не виделись, лишь изредка писали друг другу письма. Он работал у Медведева, а Полина начала болеть. Она с самого детства была нездорова, а каждодневные репетиции, постоянные переезды и бесчисленные спектакли, забиравшие немыслимые жизненные силы, сказались весьма отрицательно на организме актрисы. Полину мучили сильнейшие желудочные боли.
«Все я чего-то боюсь, страшно тороплюсь жить, взять у жизни все, что можно, – писала в те годы актриса. – Но знаю одно, что нервное расстройство все усиливается, а сдержать себя я не могу, я давно разбита, то есть посуда надтреснута». Боли привели к депрессии, но Полина сумела взять себя в руки и вновь выйти на сцену…
И тут к ней вернулся Писарев, он умолял Полину простить его побег и измену. Не сразу, но Стрепетова простила его – потому что все еще любила. Он официально, как положено, попросил ее руки, и она дала согласие. Полина Антиповна Стрепетова и Модест Иванович Писарев повенчались в церкви и были очень счастливы… А потом что-то случилось между ними, возможно, опять воскресла обида, и, несмотря на любовь, бескомпромиссная Стрепетова окончательно разорвала отношения с Модестом Ивановичем.
Он тяжело переживал расставание и засылал к Полине своих друзей, которые упрашивали ее простить «неразумного мужа», но Полина вновь проявила характер – все мольбы были тщетны. Не желая возобновлять отношений с Писаревым, Стрепетова, тем не менее, не мешала ему видеться с Машей и Висей, правда, он не всегда спешил на встречу со своими детьми.
Софья Ивановна Смирнова-Сазонова, писательница и приятельница Стрепетовой, как-то записала в своем дневнике: «В Москве Стрепетова вступила в переписку с мужем, который ответил ей только на первое письмо, а потом не отвечал. Предлагала ему видеться с сыном, но он не пожелал, сказавшись уехавшим из города, и просидел под домашним арестом. А сын рвался к нему, увидев знакомые дома на Тверской, думал, что его везут к отцу, а когда мать привезла его в меблированные комнаты, расплакался и не хотел идти. Мать спросила, не хочет ли он, чтобы она написала отцу и позвала его к ним.
Он обрадовался – „напиши!“ и перо ей принес. Потом спрашивает: „Отчего отец не идет?“ – „Оттого что он нас знать не хочет“. После ответа как воды в рот набрал и об отце ни слова!»
А Стрепетова, обдумав свое положение, пришла к выводу: «Да, главное, я хочу жить для сцены». Она осознала, что семейная жизнь не для нее; ей не хочется угождать мужу, пусть и любимому, воспитывать детей и вести хозяйство; знаменитая актриса Полина Стрепетова желает царить на сцене, жить страстями и покорять ежевечерне публику.
В Москве Полина поступила в театр А. А. Бренко, где проработала два года. За это время она сыграла в двенадцати постановках, в том числе и в своей любимой роли-талисмане в «Горькой судьбине» Писемского.
Она работала, как всегда, – выкладываясь до конца, буквально сгорая в ролях. Современники считали самыми удачными ее ролями Катерину в «Грозе», Марью Андреевну в «Бедной невесте», Кручинину в «Без вины виноватых». Известный писатель и критик Александр Валентинович Амфитеатров писал о ее игре: «Гениальна! Стихийна!» А автор всех трех вышеназванных пьес Александр Николаевич Островский лично благодарил талантливую актрису за блестящее исполнение.
Накал страстей, который ей приходилось переживать на сцене, отбирал столько сил и эмоций, что Полине некогда было думать ни о семье, ни о своем здоровье. А оно все ухудшалось. В довершение ко всему театр А. А. Бренко, несмотря на сильную труппу, обанкротился, и Стрепетова оказалась без работы. Воспользовавшись неожиданным «отпуском», Полина уехала из столицы подлечиться и попить целебный кумыс.
В это же время она узнала, что Писарев завел роман с актрисой Гламой-Мещерской. По этому поводу Смирнова-Сазонова записала в дневнике: «От Корша Стрепетова случайно узнала, что Писарев именье заложил, чтобы съездить с Гламой в Крым. А в это имение вложено 9 тысяч трудовых денег Стрепетовой…
Писарев не дает жене второй закладной на имение, отговариваясь тем, что не знает, где бумаги… Глама рассказывает, что она с Писаревым каждый месяц посылает Стрепетовой деньги на содержание детей. Стрепетова все крепилась, когда ей рассказывали за кумысом о житье-бытье ее мужа с Гламой, но тут не вытерпела, сказала, что она стерва.
1884 г. 15 марта. Стрепетова была. Страшная опять стала, желтая, худая. Постом ездила в Москву по делам, была у свекрови, все старое и всплыло. Муж ее в переписке с детьми и, если что нужно передать ей, передает через детей; так, он просил их сказать матери, что долг ей скоро заплатит, принят на казенную сцену. Стрепетова думала, что на петербургскую, и написала ему, чтобы он не лишал ее куска хлеба, что тогда ей придется уйти.
24 апреля. Стрепетова была постом. У нее несколько раз был Писарев, просил позволения повидать детей. Первый раз она ушла из дому, во второй раз приняла сама – встретила просто: „Здравствуй, голубчик!“ И поцеловала. Он сконфузился, ждал совсем не того, сцены или истерики. И все следующие разы она принимала его так же. После его ухода рыдала, а при нем была спокойна».
В другом месте Смирнова-Сазонова записала: «Стрепетова… разбирала при мне свой сундук, показывала бумажник Стрельского и мундштук Писарева, потом, хлопнув по связкам писем, объявила: „От двух любовников“.
Вынимала свои венчальные свечи, стихи, переписанные рукой Писарева, еще кое-какие тяжелые воспоминания…»
Она никогда не забывала о нем, хоть и старалась отвлечься в работе. Разрыв с мужем мучил Полину, она, быть может, и рада была вернуть все обратно, да характер не давал…
Вернувшись в Москву, Стрепетова почувствовала, что слишком ярки воспоминания, слишком свежи обиды, слишком близки «некоторые» люди, и потому она оставила столицу. В тридцать один год Полина явилась в Петербург, чтобы начать все сначала.
Ее дебют в Александринском театре все в той же «Горькой судьбине» был вполне успешным, дирекция подписала с ней контракт. Однако петербургские театралы особых восторгов не выказывали, а труппа вообще встретила актрису прохладно. Такой прием пробудил у Стрепетовой обычную реакцию – она повела себя вызывающе, чем спровоцировала уже открытую враждебность. В результате, в Александринском театре началась многолетняя борьба за первенство между двумя выдающимися актрисами того времени – Полиной Стрепетовой и Марией Савиной, притом что делить им было, собственно, и нечего – у актрис были разные амплуа. И виновата в этом была именно Стрепетова со своим скверным характером. Полине удавалось вывести из себя светскую Савину и довести до того, что эта дипломатичная женщина, завсегдатай аристократических салонов, вступала с ней чуть ли не в рукопашную.
Лишь общенациональное горе смогло сблизить, правда, совсем ненадолго, двух актрис. В 1891 году в Поволжье случился ужасающий голод. Полина Стрепетова, никому не говоря ни слова, отправила с сыном на Волгу все свои драгоценности – абсолютно все. Когда об этом все же стало известно, Савина по достоинству оценила поступок соперницы. Так же она поддержала Стрепетову и через год – в Саратове Полина помогла актерам заезжей труппы, которые остались совсем без средств из-за отсутствия сборов. Стрепетова отдала нуждающимся коллегам все бывшие при ней деньги совершенно безвозмездно.
К сожалению, короткое перемирие быстро закончилось. Никакие личные качества не помогли актрисам примириться навсегда.
Не происходило примирения и с мужем. Отношения Стрепетовой и Писарева становились порой совершенно театральными. Смирнова-Сазонова писала: «Муж два раза водил ее за нос, не отнимая надежды, что, может быть, он к ней вернется. Бывал у нее, виделся с сыном. Услыхав раз, что он болен, она сама привезла к нему больного ребенка, но муж оказался здоров, а с Висей сделался истерический припадок. Теперь она просила мужа прекратить свои посещения. Говорит, что любовь к нему совсем убита…»
Но любовь любовью, а театр театром. Снова из дневника Смирновой-Сазоновой: «Надежда (еще одна актриса Александринского театра. – Ред.) рассказывала про Стрепетову, как та Савину иначе никак не зовет, как подлая и стерва. Стрепетова посылала Висю к отцу просить, чтобы он за мать заступился. Тот сделал все, что мог: отказался играть с Савиной в “Грозе”».
А затем произошло наиважнейшее событие в жизни Полины Стрепетовой. Она вышла замуж за Александра Дмитриевича Погодина, ревизора департамента железнодорожной отчетности, внука известного историка Михаила Петровича Погодина. Молодому мужу было двадцать восемь лет, а жене – сорок три. Почти все знакомые (и незнакомые) смотрели на этот брак недоверчиво, а то и осуждающе. Только это нисколько не мешало новобрачным чувствовать себя абсолютно счастливыми.
Молодой Александр Погодин, по слухам, был влюблен в актрису, так сказать, заочно. Он долго просил о встрече наедине, и наконец Полина Антипьевна согласилась. Александр пришел в ее гримерную и увидел «стареющую горбатенькую женщину с огромными страдальческими глазами», но внешность Стрепетовой нисколько не умерила его любви…
Вот что писала по этому поводу Смирнова-Сазонова: «1891 г. 1 мая. Стрепетовой 43 года, она вышла за 28-летнего Погодина. Вся родня, в том числе Тертий Иванович Филиппов, в отчаянии. О своей свадьбе они объявили родне так: молодой Погодин ввел за руку сияющую Стрепетову: „Поздравьте! Это моя невеста, или, лучше сказать, жена, потому что она беременна“. Те так и окаменели и четверть часа с мыслями собраться не могли.
Стрепетова при всех бросается на шею к родне своего мужа и называет ее „милый дядюшка!“ Пишет из Крыма письма, точно 18-летняя институтка: „Когда-то я увижу мою милую Лиговку“. Говорят, что Висаря, когда она представила ему своего жениха, сначала фыркнул – не поверил. Потом, увидев, что это серьезно, сказал ей будто бы: „Нет тебе моего благословения“».
В дневниках Смирновой-Сазоновой рассказывается и о том, как Стрепетова познакомилась с Погодиным. «Первый раз она с ним познакомилась на чтении „Крейцеровой сонаты“. На другой день он к ней пришел с тетрадкой, принес свою исповедь. Она лежит с мигренью, он ей читает исповедь. Она наконец просит его перестать, с ней дурно, в глазах темнеет. Он оставил ей исповедь и ушел. Она ее и читать не стала. После этого он стал ходить к ней, она или не принимала его, или извинялась, что куда-нибудь спешит, надевала калоши и шапку, он просил позволения проводить ее, но она садилась на извозчика и уезжала.
Этот контрольный чиновник казался ей тошным. Так продолжалось года два. Она не велит принимать его, он все ходит. Наконец она оставила императорскую сцену. Время было для нее тяжелое. Она чувствовала себя одинокой, он тоже жаловался на одиночество, искал близкой души. Раз он как-то повез ее кататься. Потом стал ходить все чаще, и кончилось тем, что они поженились. „Я не знала, за кого выхожу замуж“. То есть она не подозревала, что это внук историка Погодина, да об историке Погодине никогда и не слыхала.
„Только все слышу, говорят о каком-то Михайле Петровиче. Кто это Михаил Петрович? Говорят: дедушка. Ну что ж такое! У всякого человека есть дедушка“. Через несколько дней после свадьбы она ужаснулась и схватилась за волосы. „Что я сделала? Я вышла за мальчишку!“ Почему она открыла это только после свадьбы, не понимаю. Он был на 14 лет моложе ее, но она знала это раньше. С этим словом „мальчишка“ у нее соединялось что-то обидное. „Я не могла уважать его“.
Когда он еще добивался знакомства с ней, она, не любившая новых знакомств, велела ему сказать, что ничего интересного в ней нет. „Скажите ему, что я демон, я дьявол“. И жизнь их вышла действительно дьявольская. Он ее ревновал к сыну, терзался, делал ей сцены и был, по ее мнению, человеком ненормальным».
Ревновал Погодин не только к сыну, но и к партнерам по спектаклям. Если кто на сцене обнимал его жену, как это было положено по ходу пьесы, Александр буквально задыхался от ревности. Полина вспоминала, что он умолял ее: «Пожалуйста, не позволяй этого!» – «Милый, – возражала Стрепетова, – как я могу обещать тебе? Из пьесы слово не выкинешь…» Но его это не успокаивало, он ревновал актрису к самому театру и, конечно же, к Писареву.
Бывший муж не мог стать для Полины чужим хотя бы потому, что у них был общий сын, а ее дочь он удочерил. Ну и не только это обстоятельство по-прежнему роднило их… Стрепетова вспоминала, что, вернувшись однажды с гастролей на Кавказе, она попала в странную ситуацию: «Меня пришли встречать оба мужа, и я не знала, к кому из них ехать…»
Примерно через полтора года Александра Погодина перевели по службе в Москву. И муж по праву потребовал от жены ехать с ним. Но не учел он характера своей жены, к тому же у нее были назначены спектакли… В общем, Стрепетова отказалась. 31 января 1893 года Погодин предупредил жену, что ехать ему обязательно, и она должна его сопровождать, а если откажется окончательно, то он покончит с собой.
«Шесть недель она играла в Тифлисе, – пишет Смирнова-Сазонова, – вернулась оттуда с издерганными нервами, начались опять сцены, и все по ночам. Сын удивлялся, что ночью люди спят, а они разговаривают. Накануне самоубийства у них вышла ссора из-за пустяков. Погодин вернулся из оперы и восхищался Фигнером в „Сельской чести“. Она сказала, что Фигнер не может быть в этой опере хорош, а вот итальянец Масини, тот эту роль действительно хорошо играет.
– Что же, я, стало быть, ничего не понимаю?
– В контроле ты, может быть, и много понимаешь, а в искусстве я, конечно, лучший судья, чем ты.
Слово за слово, наговорили друг другу неприятностей. Она хлопнула дверью и ушла. Он за ней. „Поля, прости!“ И на колени. Ее это взорвало: „Уходи вон!“
Он опять: „Поля, прости!“ – „Ты мне надоел. Оставь меня в покое. И в Москву я с тобой не поеду“. Он обезумел: „Как не поедешь?“ – „Не поеду“, – и прогнала его. Он к Висаре: „Поди, умоли маму, она не хочет ехать со мной в Москву“. Висаря просит его успокоиться, говорит, что мама вспылила, она все потом забудет. Он ее знает, надо только дать ей время успокоиться. Но тот в отчаянии просто с ума сходит… Ушел наконец в другую комнату и там затих. Она неспокойна, пошла посмотреть, что он делает. Вошла и видит, что он прячет в стол револьвер. Стала отнимать, не дает. Наконец она вспылила и сказала, что ей эта комедия надоела.
– И никогда ты не застрелишься. Ты даже на это неспособен.
– Ах, ты думаешь?
Это слово вырвалось у нее, она не могла потом простить себе его. Ушла спать, его все нет. Она посылает сына сказать ему, чтобы и он шел спать. Он пришел: „Поля, умилосердней“. Она молча закуталась в одеяло и отвернулась к стене. Это были последние слова, которые она слышала от него.
Утром ее разбудил выстрел. Она кинулась в другую комнату и там на пороге нашла его мертвым. На виске у него была маленькая, чуть заметная ранка. На круглом столике стояло зеркало, он целился перед зеркалом. В руке был судорожно сжат револьвер. Она кинулась обливать ему голову водой, говорила: „Саша, приди в себя!“ Но Саша был мертв, а от воды кровь только потекла по лицу. Обе прислуги с криком убежали. Она осталась в квартире вдвоем с покойником. Сын был в гимназии. В доме по этой лестнице, кроме них, никто не жил. Это был флигель у Шереметева, в его дворце на Фонтанке. „И вся шереметевская прислуга, а это 36 человек, говорила потом, что я его убила. Я ждала, что меня посадят в острог“.
1893 г. 3 февраля. Стрепетова сумасшествовала на похоронах застрелившегося мужа. На выносе тащила по полу свою шубу за рукав, повязалась платком, как селедочница. За обедней кидалась на гроб и кричала на всю церковь…
Были с Любой у Стрепетовой. Застали ее в исступлении, с желтым, как лимон, лицом…»
Говорят, после смерти Александра Погодина нашли дневник, в котором он 10 лет «носился» с мыслью о самоубийстве. Однако его родные все равно во всем винили Стрепетову. Она и сама переживала ужасно: «Я могла, могла удержать его от этого…»
Ей понадобился целый год, чтобы пережить это несчастье. Но затем, в январе 1894 года, Полина Стрепетова вновь вышла на сцену. Она играла в разных театрах, а в 1899 году вернулась в Александринский театр теперь уже на роли драматических старух. Но и в этих ролях она блистала по-прежнему. Однако в 1900 году Санкт-Петербургская контора императорских театров объявила Стрепетовой, что контракт с ней продлен не будет: «Это не входит в наши планы, и потому Вы можете считать себя свободной от службы». На прощание актрисе вручили обязательный прощальный «всемилостивейший подарок – брошь с рубинами, сапфирами, жемчугом и бриллиантами из кабинета его Императорского Величества».
Больше замечательная русская актриса не появлялась на большой сцене. Правда, расстаться с театром навсегда не хватило даже ее крутого характера – Полина выступала при каждом удобном случае на концертах и благотворительных вечерах.
А еще она продолжала ревновать своего первого мужа. Писарев завел себе новую подругу, тоже актрису – Анненкову-Бернар, и Стрепетова теперь злилась на нее. Называла она любовницу бывшего мужа «хайкой» и говорила своей подруге Смирновой-Сазоновой, что молоденькая «хайка» крутит с Писаревым лишь для того, чтобы он возил ее за границу.
«Тащит с него последнее, – записывала Смирнова-Сазонова, – а тот, старый дурак, запутался в долгах, да еще у нее же, у жены, то есть у Стрепетовой, денег на свою любовницу занял… Раз Анненкова сунулась было к ней в уборную, чтобы выразить ей свой восторг от ее игры. Стрепетова встретила ее сурово: „Что вам угодно?“ – „Я пришла взглянуть на вас, чтобы высказать вам, как я…“ – „Вы желаете видеть, как я одеваюсь? Какая у меня юбка? Вот у меня юбка шелковая, вот смотрите! (поворачивается перед ней), корсет атласный, чулки шелковые, туфли от Оклера, 25 рублей. Вот и подвязки! Хотите мои подвязки посмотреть? (Поднимает юбку)“. Другая бы ушла, но хайка не падает духом. „Какой у вас прелестный сын!“ – „Да, ничего, недурен“. – „У него такая чистая, светлая, честная душа!“ – „Да, мать у него не стерва и не подлая, так ему не в кого подлецом быть“…
Раз в Ялте Стрепетова ела в павильоне мороженое… Тут же, за другим столиком, сидел Писарев с Анненковой. „Хайка“ вдруг встала и, облокотившись на его стул или даже ему на плечо, приняла грациозную позу. Стрепетова представляет, какую именно. „Смотрите, мол, как мы друг друга любим“. Этого Полина не снесла. „Модест Иванович, – окликнула она Писарева, – Что же вы не идете к нам? Мы, кажется, с вами старые, даже очень старые знакомые“. Толстый, громоздкий Писарев, весь красный от смущения, должен был пересесть к ним и оставить свою даму».
В августе 1903 года в Севастополе Стрепетова почувствовала себя плохо. Она попала в больницу, где врачи поставили ей страшный диагноз – рак желудка. Они в один голос советовали ей ехать за границу делать операцию, но Полина Антипьевна отказалась ехать «к чужим». Она дала телеграмму сыну Виссариону, который в это время служил в российском посольстве в Константинополе. Вися приехал и перевез мать в Петербург, к Павлову. Иван Петрович сделал ей срочную операцию, но прогнозов на будущее давать не стал. Он и сам не знал, сколько она еще сможет протянуть – два года, год или и того меньше…
Виссарион вернулся на службу в Константинополь, а рядом с матерью день и ночь была Маша. Но и перенеся две тяжелейшие полосные операции, Полина не изменила своему характеру. Когда навестившие ее коллеги сказали, что она достаточно послужила русскому театру, Стрепетова ответила: «Театру Савина служит. Я служила народу». Ее неприязнь к сопернице была столь велика, что она не раз говаривала дочери: «Если я буду умирать и эта стерва захочет прийти ко мне, не пускай ее». И, конечно же, Савина пришла, и, конечно же, ее пустили, и умирающая Стрепетова не только простила ее, но и сама просила у нее прощения. Только близость смерти смогла примирить этих двух великих женщин, двух великих актрис…
Полина Антипьевна хотела выписаться поскорее из больницы, даже думала уехать к сыну, но ей не довелось сделать ни того, ни другого.
Четвертого октября 1903 года актриса умерла в больнице. Именно в этот день, пятьдесят три года назад, ее нашел на крыльце своего дома Антип Стрепетов… Этот день считался днем ее рождения.
Хоронить Полину Стрепетову пришли многие ее почитатели и поклонники. Бывший, и любимый, муж – Модест Иванович Писарев в это время болел и ничего не знал о смерти Полины, а потому не смог ни проститься с ней, ни проводить в последний путь…
Стрепетовой не стало, но ее деспотичный характер по-прежнему сказывался на домашних. Ее сын, Виссарион Писарев, покончил жизнь самоубийством из-за того, что мать не позволила ему жениться на любимой девушке, а к тому времени, когда мать умерла (и тем самым освободила его от запрета), девушка эта уже была замужем. Узнав о крахе своей любви, Вися покончил счеты с жизнью.
Мария Модестовна Писарева, дочь Стрепетовой, по словам современников, была очень одаренной девушкой и могла бы стать весьма замечательной актрисой, если бы не вмешательство матери. Стрепетова не желала видеть дочь на сцене и всячески препятствовала Маше в осуществлении мечты. В результате девушка отказалась от театральной карьеры, и всю жизнь была несчастлива…
Сильный характер Полины Стрепетовой помогал ей делать карьеру, но он же разрушил жизни самых близких ей людей. Да и ее собственную жизнь.
С юных лет она ездила по всей России, играла в самых злободневных пьесах, рассказывала о сложной, порой ужасающей судьбе русских женщин. Она и сама была такой женщиной – со сложной судьбой, постоянно зависимая от более «сильных и знатных»…
Вот уж поистине «горькая судьбина»!
«Амороза» без грима. Элеонора Дузе и Габриэле Д’Аннунцио
Однажды, уже будучи прославленной актрисой, Элеонора сказала об одной своей великой предшественнице: «Совершенство искусства и жизни». Эти слова в полной мере можно отнести и к самой Дузе. Многие современники, отмечая несомненный величайший талант актрисы, восторгались и ее душевными качествами: «…такой прелестный в жизни человек», – говорили они.
Один из истинных ценителей театрального искусства, князь Сергей Михайлович Волконский, писал о Элеоноре Дузе с удивительной нежностью: «Ни одна артистка, из известных людям нашего поколения, не сумела завоевать столько сердец, как Дузе. И не любовь мужчины к женщине я здесь разумею; я разумею оценку ее духовного существа, оценку человека человеком, безразлично какого пола. Лучшие люди, люди далекие от театральной жизни, люди, интерес которых к личности артиста никогда не перешагивал через рампу, почитали Элеонору Дузе как одно из самых духовно-красивых явлений человеческой природы, и дух высокой дружбы всегда окружал ее, когда щепетильность светская могла бы внушить отчуждение к страданиям ее больного сердца. Помимо изумительного своего таланта Дузе – личность, характер; это – душа, ум. И все – своеобразие, и все – в исключительной степени, и все – редчайшего качества».
Элеонора Дузе родилась 3 октября 1858 года в гостинице «Золотая пушка» в итальянском городе Виджевано. Всего через два дня после рождения девочку, по обычаю, существовавшему в Ломбардии, понесли крестить в специальном золоченом стеклянном ларце, дабы защитить невинную душу от злых духов. По дороге в церковь маленькая процессия встретила роту австрийских солдат, которые решили, что в таком красивом ларце могут нести только святые реликвии – вся рота вытянулась по стойке «смирно» и отдала честь.
Вернувшись после крещения дочери в гостиницу, отец Элеоноры подошел к жене и взволнованно сказал: «Я к тебе с доброй вестью – только что солдаты отдали честь нашей малютке. Это хорошее предзнаменование. Вот увидишь, в один прекрасный день наша дочь выбьется в люди».
Родители Элеоноры были бродячими артистами. Отец, Алессандро Дузе, унаследовал профессию от своего отца – знаменитого Луиджи Дузе, последнего из крупных представителей комедии дель арте. К сожалению, по наследству талант не передался – Алессандро был довольно посредственным актером. Мать Элеоноры, Анжелика, была родом из крестьянской семьи и к актерскому ремеслу приобщилась, лишь выйдя замуж. Способностями к лицедейству она не блистала, как, впрочем, и остальные актеры маленькой бродячей труппы Алессандро Дузе. Зарабатывали они мало и часто бедствовали. Когда Элеонора подросла, она как-то спросила отца: «Почему мы всегда ездим в вагонах третьего класса?» «Потому что четвертого класса не существует», – вздохнул Алессандро.
Элеоноре было четыре года, когда ее впервые вывели на сцену. Она должна была представлять Козетту в инсценировке «Отверженных» Виктора Гюго. Этот выход она запомнила на всю жизнь. Внизу, в полутьме зала, сидела публика. Неожиданно какие-то грубияны стали бить ее по ногам, стараясь, чтобы она заплакала. Мама, стоявшая рядом, тихо зашептала: «Не бойся, это они нарочно, чтобы ты поплакала. Надо же повеселить публику». Полумертвая от страха, она тогда никак не могла понять, как эти люди, сидевшие внизу в облаках табачного дыма, могут веселиться, глядя на ее слезы…
Девочке удалось справиться со своими эмоциями, и она сделала все так, как учила ее мама. Актеры были очень довольны своей маленькой помощницей. И, став уже профессиональной актрисой, Дузе с полным правом говорила: «Я с четырех лет зарабатываю себе на жизнь».
Впервые ее имя появилось на афишах, когда ей было всего лишь пять лет. Это было 12 марта 1863 года. Элеонора снова играла Козетту. А в это время, в другом итальянском городе, родился Габриэле Д’Аннунцио…
В детстве Элеонора ничем особенным не выделялась, вся ее жизнь была подчинена театру, и она старательно твердила роли и столь же старательно исполняла их на сцене. В двенадцать лет она сыграла Франческу в трагедии Сильвио Пеллико «Франческа да Римини» – роль серьезную и не до конца понятную подростку. В четырнадцать лет она представляла шекспировскую Джульетту, которой было ровно столько же. Спектакль играли в Вероне, в амфитеатре огромной древнеримской арены.
Много лет спустя Элеонора рассказала о том, что с ней происходило в то майское воскресенье, своему возлюбленному – драматургу Габриэле Д’Аннунцио. А он вложил ее рассказ в уста героини своего романа «Огонь» Фоскарины: «…Слова лились с непостижимой легкостью, почти непроизвольно, как в бреду… Прежде чем слететь с моих уст, каждое слово пронизывало меня насквозь, впитывая в себя весь жар моей крови. Кажется, не было во мне такой струнки, которая нарушала бы удивительное состояние необыкновенной гармонии. О, благодать любви! Каждый раз, когда мне дано было коснуться вершин моего искусства, меня вновь охватывало то ощущение полной отрешенности. Я была Джульеттой…
Когда я упала на тело Ромео, толпа завопила во мраке столь неистово, что я ощутила смятение. Кто-то поднял меня и потащил навстречу этому реву. К моему лицу, мокрому от слез, поднесли факел. Он громко трещал и распространял вокруг запах смолы. Передо мной металось что-то красное и черное, дым и пламя. А мое лицо, наверно, было покрыто смертельной бледностью.
С тех пор никакой рев восторженного партера, никакие крики, никакой триумф никогда не приносили мне упоения и полноты чувств того великого часа».
Да, зрители – жители Вероны – были потрясены: им явилась настоящая Джульетта.
Всю сценическую жизнь Элеоноры Дузе публику изумляла одна удивительная особенность актрисы – она выходила на сцену без грима. Это понятно в четырнадцать лет, когда в гриме просто нет необходимости, но Элеонора не пользовалась им и в шестьдесят. Эта волшебная актриса умела перевоплощаться внутренне, причем так фантастически, что зрители напрочь забывали о ее возрасте и внешнем несоответствии образу.
Один американский режиссер видел Элеонору Дузе на гастролях в Соединенных Штатах, когда ей было шестьдесят шесть лет. Вот что он писал о своих впечатлениях: «Я вгляделся в нее. Боже милостивый! Старуха, совсем старуха! Такая хрупкая и тщедушная, что, кажется, ее можно сдуть со сцены с такой же легкостью, с какой задувают свечу. Бледное, почти прозрачное лицо – прекрасное, о да, поистине прекрасное, огромные темные глаза, вокруг них морщины. Как много у нее морщин! Глубокие, резкие, безжалостно прочерченные прожитыми и выстраданными годами. И она не прячет, не стыдится их, не пытается скрыть под гримом. Даже на бледных губах нет следов помады. Из-под пестрого платочка выбиваются волосы – совсем седые, белые, как первозданный снег!
Я почувствовал внезапную боль в сердце, словно его сдавили чьи-то стальные пальцы, и откинулся на спинку кресла; слезы застилали мне глаза. Какое мужество! И какая глубокая в этом печаль! Беспредельная печаль нашего мира, бесконечная печаль старости с ее страданиями. Я почти раскаивался, что пришел в театр. В программе было сказано, что в первом акте Дузе играет молоденькую крестьянку двадцати трех лет, мать грудного младенца, жену горького пьяницы… Возможно ли смотреть, как эта маленькая старушка изображает молодую мать, и не умирать от смущения и боли… Я не умер. О, жалкий маловер (да, да, конечно, я говорю о самом себе)! О, маловер! Прошло несколько минут, и я понял, как заблуждался в своем трусливом неверии. Свершилось чудо, одно из тех незабываемых чудес, которые всю жизнь потом служат источником вдохновения. Не успел я оглянуться, как светлая магия гения превратила Дузе, морщинистую, седую Дузе, в прелестную молодую женщину, полную юного трепета и сил. Не знаю, как это случилось – я ни о чем подобном не подозревал, пока не понял вдруг, что перемена произошла. Передо мною была юная женщина, в самом расцвете первой весны. Вот она сидит у колыбели младенца – юная мать».
Но вернемся к началу ее восхождения, к ее первому триумфу. Успех дочери увидел только отец. Мать Элеоноры, самый близкий и самый родной ее человек, была в это время в больнице – врачи нашли у нее туберкулез. Через два месяца Анжелика умерла.
Весть о ее смерти Алессандро и Элеоноре сообщили во время очередного представления. Пораженная в самое сердце девушка сумела доиграть пьесу, не проронив и слезинки. Когда же спектакль закончился, она бросилась на улицу, чтобы выплакать свое горе. Ей было очень, очень тяжело, и чувство какого-то безысходного одиночества охватило ее – и не отпускало всю жизнь.
Конечно, с ней рядом был отец, но и он мучительно переживал потерю своей любимой жены и предпочитал страдать без свидетелей, никого не пуская в свою душу.
Такое состояние руководителя труппы передавалось и остальным актерам. Дела шли все хуже и хуже, и в конце концов труппа Алессандро Дузе распалась.
Элеонору стали приглашать в другие театральные труппы. В 1874 году Элеонора вместе с отцом оказалась под началом Луиджи Педзана, человека довольно ограниченного, но актера весьма незаурядного. Репетиции с ним происходили очень напряженно: ему не нравилась простота и естественность Элеоноры, он требовал от нее традиционного исполнения роли. Когда она однажды возразила, он недовольно воскликнул: «И почему вы непременно хотите быть актрисой? Этот кусок вам не по зубам!»
Актеры труппы тоже не были в восторге от Дузе, она казалась им серенькой бесталанной мышкой, а ее сдержанность они принимали за высокомерие. Провинциальная публика, жаждавшая яркой внешности и пышных форм, на Элеонору просто не реагировала, а однажды вообще потребовала убрать ее со сцены – мол, нам «такая не подходит».
Лишь в двадцать лет она наконец подписала персональный контракт на роль «прима амороза» – первой любовницы.
В 1879 году, во время гастролей труппы в Неаполе, заболела знаменитая примадонна Джулия Гритти, и Элеонора заменила ее. В тот вечер в зале присутствовал Джованни Эммануэль, один из виднейших актеров своего времени, который по достоинству оценил талант молодой актрисы. Ему удалось убедить владелицу театра создать постоянную труппу с Элеонорой Дузе. Всего через несколько месяцев в журнале «Arte Drammatica» («Драматическое искусство») появилась первая рецензия на игру актрисы в спектакле «Гамлет»: «…Элеонора Дузе была идеальна, как видение, благородна, как принцесса, нежна, как дева, прекрасна, как Офелия. Да, она была настоящей Офелией!»
И с той поры, кого бы она ни играла – Джульетту, Офелию, Дездемону, Электру – критики неизменно восклицали: «Дузе – это настоящая Джульетта (Офелия, Дездемона, Электра)». Однако окончательное и полное признание пришло к ней после исполнения роли Терезы Ракен в одноименной чрезвычайно мрачной драме Эмиля Золя. Один из актеров, присутствовавший на спектакле, вспоминая через несколько лет о том вечере, писал: «Да, триумфальный успех того вечера трудно забыть». Успех был, действительно, оглушительный. Партнерша Дузе по сцене, знаменитая Джачинта Педзана, после окончания спектакля воскликнула: «Пройдет немного времени, и, уверяю вас, это хрупкое существо станет величайшей итальянской актрисой!»
Узнав о таком триумфе, Эмиль Золя прислал из Парижа телеграмму с выражением благодарности итальянским актерам.
После успеха «Терезы Ракен» Элеонору пригласили в драматический театр «Труппа города Турина», руководимый Чезаре Росси. Дебют ее в заглавной роли состоялся 19 августа 1881 года. И тут у Элеоноры начались трудности. Публика плохо приняла молодую актрису театра, и зал иногда почти пустовал. Расстроенная Дузе находила утешение в романе с Тебальдо Кекки, за которого вскоре вышла замуж.
В это время в Италию на гастроли приехала великая французская актриса Сара Бернар. Она сыграла несколько спектаклей и в Турине. Элеонора ходила на каждый и, как завороженная, ловила каждое слово, каждый жест «божественной Сары». В восхищении она воскликнула: «Вот артистка, достигшая вершин мастерства, она учит толпу уважать прекрасное и заставляет преклоняться перед искусством!»
Главный урок, который она вынесла для себя – художник, творец имеет право следовать своему собственному стилю, без оглядки на традиции и авторитеты.
После отъезда Сары Бернар Элеонора попросила руководителя труппы поставить пьесу Александра Дюма-сына «Багдадская принцесса» – эту пьесу, не имевшую успеха у зрителей в Париже, сумела спасти только Сара Бернар. Росси не считал еще Дузе способной на такой же «подвиг» и долго не давал своего согласия, но она упорно стояла на своем. Росси в конце концов разрешил – и после был этому очень рад. Элеонора Дузе покорила публику.
Затем были и другие роли, много разных ролей. Теперь ее имя знала вся Италия. Не все спектакли удавались, и в таких случаях Дузе всякий раз признавала, что «публика всегда права»: «Причину того, что роль не была принята зрителями, надо искать во мне. А не в них. И я найду ее, эту причину». Она действительно находила причину, и следующий спектакль вызывал овацию.
В 1884 году Элеонора была уже признанной знаменитостью, теперь ее величали не иначе как «дива».
Летом 1885 года Чезаре Росси повез свою труппу за границу, в Южную Америку. Этими первыми зарубежными гастролями начались для Дузе бесконечные скитания по всему свету.
В Аргентине публика не сразу приняла Элеонору – в большом зале ее голос терялся, и половина зала откровенно скучала. Но, как это было уже неоднократно, на следующем спектакле и она, и вся труппа вновь «победили» зал.
На этих гастролях она сошлась с актером Флавио Андо, что привело к разводу с мужем. Тебальдо Кекки остался в Аргентине, когда труппа вернулась на родину. Элеонора безоговорочно взяла на себя содержание маленькой дочери, не предъявляя к Тебальдо никаких претензий. Однако ей и самой некогда было заниматься ребенком, а потому все детство, отрочество и юность девочка провела в пансионах Швейцарии и Германии. До совершеннолетия она даже не знала, что знаменитая актриса Элеонора Дузе и ее мать – это одно и то же лицо…
В Италии Дузе рассталась с Чезаре Росси и его «Труппой города Турина», и вместе с Флавио Андо создала «Труппу города Рима». Репертуар Элеоноры становился все больше и разнообразнее. Итальянская театральная критика расхваливала любимую актрису на все лады: «Синьора Дузе играет в полном смысле слова по-своему. Манера ее игры совершенно индивидуальна, оригинальна, кажется порой небрежной, а между тем она продуманна. Кажется напряженной, а она органична, она не удивляет и не сражает вас “сильными средствами”, но соблазняет, очаровывает, привлекает каким-то ароматом правды, неотразимым обаянием непосредственности, трепетом страсти, которая клокочет, переливается через край и захлестывает всех сидящих в зале».
В конце 1889 года Дузе со своим театром отправилась на гастроли в Египет и Испанию и пробыла за границей целый год. Публика принимала знаменитую диву на ура, и Дузе решила последовать совету своего давнего друга – русского художника Александра Волкова, с которым когда-то познакомилась в Венеции, – она подписала контракт на гастроли в России. Это было в 1891 году.
Дузе приехала в Петербург в начале Масленицы, в разгар театрального сезона. Петербургские зрители, видавшие множество зарубежных гастролеров, недоумевали, почему Дузе выбрала для первого выступления в новой для нее стране успевшую уже всем надоесть «Даму с камелиями». Дело в том, что эта пьеса Дюма в то время каждый вечер шла в Михайловском театре. Ко всему прочему, петербургским театралам еще живо помнилось блестящее исполнение роли Маргариты Готье все той же Сарой Бернар. А вот Элеонору Дузе в Петербурге никто не знал…
Потому неудивительно, что на первом выступлении Дузе в Малом театре зал был почти пуст. Однако уже первые реплики Элеоноры заставили публику насторожиться. А дальше… Дальше – все, как всегда. Зал был заворожен ее волшебным искусством. Искушенные зрители были потрясены фантастическим превращением – перед ними была «настоящая Маргарита Готье».
На следующий день по Петербургу разнесся слух об этом чуде, и в тот же вечер театр был полон. В этот день Элеонора играла в пьесе Шекспира «Антоний и Клеопатра». На этом представлении присутствовал Антон Павлович Чехов, который в ту же ночь, полный впечатлений написал в Москву сестре Марии Павловне: «Сейчас я видел итальянскую актрису Дузе в шекспировской «Клеопатре». Я по-итальянски не понимаю, но она так хорошо играла, что мне казалось, что я понимаю каждое слово. Замечательная актриса! Никогда ранее не видел ничего подобного…»
Ему вторил утренний выпуск «Петербургских ведомостей»: «Г-жа Дузе, ярко выраженная итальянка по темпераменту и внешности, своим общечеловеческим содержанием близка всем. Она всем понятна, хотя и играет на мало кому знакомом итальянском языке; язык слов для нее лишь внешняя оболочка, в ее распоряжении могущественное средство – богатый и гибкий язык чувств, тончайшая мимика, интонации необыкновенно музыкального голоса, прекрасные выразительные глаза».
Все запланированные сорок пять спектаклей прошли под шквал аплодисментов. Срок гастролей Дузе в Петербурге был продлен больше чем на месяц. И все последующие спектакли также шли под гром аплодисментов.
В Москве Элеонору вновь ждала незнакомая публика. Ее первое выступление проходило в театре Корша, и опять это была «Дама с камелиями»… Появление Дузе встретили, как бы из вежливости, аплодисментами, довольно жидкими. Однако «с первого же акта Дузе вполне овладела жадным вниманием залы; воцарилась в театре та чуткая тишина, которая говорит о всецелом захвате зрителя сценой… Никому не хватает слов, чтобы выразить всю глубину испытанных ощущений. Действительно, на сцене была сама жизнь в истинно реальной и высокохудожественной передаче. Знание итальянского языка оказалось для публики абсолютно ненужным: интонации, жесты, мимика и глаза артистки говорили богатым общечеловеческим языком страсти и страданий», – писали через пару дней московские критики.
Из Москвы Дузе отправилась в Харьков, Киев и Одессу. Все опасения, что провинциальная публика может не понять великую актрису, рассеялись на первых же спектаклях. А в «Харьковских губернских ведомостях» появились следующие строки: «Мы благодарны случаю, который дает возможность видеть на нашей заглохшей сцене художественное творчество великого таланта».
В конце 1891 года Дузе вернулась в Москву и работала в театре Корша весь ноябрь. Здесь она впервые исполнила роль Норы в «Кукольном доме» Ибсена, что послужило признанию норвежского драматурга в Западной Европе, где прежде к нему относились скептически. Затем Элеонора вновь приехала в Петербург и пробыла там до конца января 1892 года. А потом – опять в Москву, где дала три прощальных спектакля.
И снова она отправилась в путь – в турне по Европе. Элеонора позволяла себе совсем небольшие каникулы, а затем пускалась в очередные гастроли. И всюду ее с нетерпением ждали, и везде ей был обеспечен феноменальный успех.
В Париже Сара Бернар любезно уступила ей свою гримерную в театре Ренессанс. Упрямая Элеонора решила появиться перед французами в «Даме с камелиями». С самого начала зал был напряжен, но совсем недолго… Закончился спектакль под оглушительные аплодисменты. Среди восторженных криков слышался голос Сары Бернар: «Bravо! Bravо!» Это было искреннее признание мастерства великой итальянской актрисы!
На следующий день французская «соперница» уехала в Лондон и провела там все время, пока Дузе гастролировала в Париже…
Дузе исколесила с гастролями весь мир, еще дважды она была в России. Она видела спектакли Художественного театра и высоко оценила работу Станиславского и Немировича-Данченко. А Константин Сергеевич нашел в Элеоноре живое воплощение всех его театральных принципов – она именно «жила в театре».
А в 1895 году в ее жизнь вошел Габриэле Д’Аннунцио.
Он родился, как мы уже говорили, 12 марта 1863 года, в семье в богатой и знатной. Учился в Прадо в колледже Чикониньи. Еще до окончания колледжа Габриэле опубликовал свой первый сборник стихов и заслужил скандальную репутацию донжуана. Он сам назвал себя «жрецом любви» и изо всех сил старался соответствовать выдуманному образу.
Первые любовные страдания он испытал в семь лет. А когда ему исполнилось двенадцать, в колледже разразился скандал: Габриэле попытался направить руки монахини, поправлявшей на нем школьную форму, к интимным местам.
Невинность он потерял в шестнадцать лет, воспользовавшись услугами проститутки, после чего стал постоянным клиентом местных домов терпимости.
Вскоре он перебрался в Рим, где быстро свел знакомство с высшим светом, а также литературной и театральной богемой.
Ему было двадцать лет, за его плечами было уже более ста женщин, и Габриэле решил жениться. Надо сказать, что внешне он был не просто некрасив, а даже несколько уродлив, что тем не менее нисколько не мешало женщинам влюбляться в него без памяти. Говорят, было в нем нечто гипнотическим образом притягивающее к нему едва ли не всех знакомых женщин. Этой своей особенностью Габриэле пользовался самым откровенным образом. Он вообще был немного помешан на эротике. Все его творчество выходило за рамки принятых в обществе моральных норм.
Когда Габриэле надумал жениться, он выбрал себе невесту из весьма влиятельного семейства – Марию, дочь герцога Галлезе. Девушка была безумно влюблена, и никакие доводы возмущенного отца, знавшего о скандальной репутации предполагаемого зятя, на нее не действовали.
Как и следовало ожидать, женитьба, состоявшаяся 28 июля 1883 года, ничего не изменила в жизни распущенного Габриэле. Он по-прежнему крутил романы со множеством любовниц, с которыми, собственно, и предпочитал проводить время. Мария родила ему трех сыновей, но и дети не удерживали его дома. Через четыре года он бросил жену и сыновей, чтобы уже ничто не отвлекало его от любимого образа жизни.
Однако его любовные связи бывали весьма непродолжительными, что страшно расстраивало его любовниц, а иногда приводило к настоящим трагедиям.
Соблазненная Габриэле крайне религиозная графиня Манчини (именно это и привлекло к ней распутника, задумавшего потягаться с самим Творцом), осознав свое грехопадение, сошла с ума, и ее поместили в психиатрическую лечебницу.
Маркиза Александра Карлотти, дочь премьер-министра Италии – еще одна брошенная любовница, – постриглась в монахини и до конца дней оставалась в монастыре.
Весь свой «любовный» опыт Д’Аннунцио использовал в своих произведениях. Его не смущало, что «героинь» могли узнать читатели, что крайне негативно сказалось бы на репутации влюбленных женщин. Его вообще ничто не смущало.
Однажды, в 1887 году, Д’Аннунцио увлекся актрисой Барбарой Ленни. Они страстно полюбили друг друга и тайно встречались при каждом удобном случае. Как-то Барбара призналась Габриэле: «Дорогой, до встречи с тобой я была просто девственницей». Это признание натолкнуло его на одну мысль… Их встречи продолжались пять лет, и на каждом свидании Д’Аннунцио, прежде чем предаться любви, осыпал Барбару лепестками роз. А когда она засыпала, Габриэль садился рядом и записывал в тетрадь свои ощущения, чтобы в дальнейшем использовать это в своем романе, которому он уже придумал название – «Невинная».
Следующий, более или менее продолжительный, роман начался в 1891 году – Д’Аннунцио соблазнил замужнюю графиню Марию Гравину Гирамако. Она была потрясающе красива, как, впрочем, и все его любовницы, и, чтобы удержать непостоянного Д’Аннунцио возле себя, она тратила огромные средства. Что не могло не расстроить мужа… Суд обвинил Габриэле и Марию в прелюбодеянии и приговорил к 5 месяцам тюремного заключения. Однако нашлись смягчающие обстоятельства (и высокопоставленные заступники), и приговор был отменен.
А потом Д’Аннунцио познакомился с Элеонорой Дузе. Судьба и раньше сталкивала их несколько раз, но в 1895 году их встреча в Венеции привела к более близким отношениям.
Помимо любви их связывало желание преобразовать театр, они хотели создать новый театр и уйти от рутины буржуазной сцены. Они мечтали построить театр под открытым небом на берегу озера Альбано, чтобы ставить там античные трагедии, которые Габриэле переделывал для Дузе на особый ритмичный лад. «Мы не хотим больше правды. Дайте нам мечту!» – гласил манифест нового театра.
Габриэле писал много, и не только для Дузе, но и для Сары Бернар, а со временем его пьесы – он называл их исключительно «трагедиями» – вошли в репертуары почти всех театров Европы. Д’Аннунцио стал весьма востребован, несмотря на негодование многих читателей и зрителей, шокированных его эротическим настроем.
Чаще всего в своих пьесах он строил конфликт на ситуации любовного треугольника. И здесь все подчинялось основному девизу Габриэле: «Искоренить желание нельзя. Бороться со страстью – это грешить против жизни». Только непротивление своим страстям делает человека творцом, поэтом, гением. Таково было его жизненное кредо.
Как любой поэт, он писал в первую очередь о себе. И очень показательно, что его герой – это всегда сильная личность с чертами сверхчеловека, эгоистичного и жестокого, для которого не существует никаких запретов и ничего недозволенного. По сути, Д’Аннунцио провозглашал полную свободу, то есть аморальность «вольного» человека. Это мировоззрение полностью отвечало духу фашизма, и совсем неудивительно, что со временем Д’Аннунцио стал идеологом этого направления.
Роман с Элеонорой, самый громкий в их жизни, был также непростым. Габриэле Д’Аннунцио, похоже, умел любить только себя самого, да и то как-то болезненно. А с женщинами… Он вспыхивал, загорался, в самоупоении совершал невероятные романтические поступки, а потом внезапно остывал. Короче, – театр одного актера.
Однако связь с Дузе помогла написать ему несколько пьес, в которых великая актриса блистала как никогда. Вполне вероятно, что бесконечные романы были нужны Д’Аннунцио именно как стимул и в то же время как материал для творчества.
Много позже другой итальянский драматург Гиго де Кьяро написал пьесу «Элеонора» – о последней ночи жизни великой актрисы, где в воспоминаниях Дузе переплетаются театр и жизнь, роли и реальные люди, любовь к Д’Аннунцио и его предательство.
А предавал он ее не раз. Романтизма ему хватало на какой-нибудь экстравагантный поступок, но никак не на продолжительные отношения. О верности он вообще не имел представления, а потому и с Элеонорой все проходило, как всегда: они встречались, когда у нее не было гастролей, а он был свободен от других дел; когда же она была вдали, он жил привычной жизнью – по пословице: «С глаз долой, из сердца – вон». Ко всему прочему, он до мельчайших интимных подробностей описал в своем романе «Пламя» все, чем искренне делилась с ним Элеонора в минуты близости.
Когда роман вышел в свет, Дузе была обижена и возмущена. Но Д’Аннунцио нашел какие-то слова оправдания, и она простила его.
Связь Д’Аннунцио с Дузе длилась 9 лет. В 1904 году они расстались. Расставание было ужасным – Габриэле при посторонних в грубых и непристойных выражениях говорил, что она вздорная, старая и ее женские прелести его больше не влекут. Дузе сказала, что презирает своего бывшего любовника и не желает ни видеть его, ни слышать его имени.
Правда, позднее Элеонора призналась: «Он мне отвратителен. Но я его обожаю».
Габриэле не очень грустил по поводу своего разрыва с актрисой. Однако после ее смерти Д’Аннунцио утверждал, что общается с духом Элеоноры, стоя перед статуей Будды…
Единственная женщина, устоявшая перед чарами Габриэле, была знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Свои встречи с Д’Аннунцио она описала так: «Когда он встретил меня в Париже в 1912 году, он решил покорить меня. Это не может послужить мне комплиментом, ведь Д’Аннунцио покорял всех знаменитых женщин мира. Но я оказала ему сопротивление из-за своего преклонения перед Дузе. Я решила, что буду единственной, которая выстоит перед ним. Когда Д’Аннунцио стремился покорить женщину, он присылал ей каждое утро небольшое стихотворение и цветок как его символ. Каждое утро в 8 часов я получала такой цветок. Как-то вечером, а я занимала тогда студию вблизи отеля «Спайрон», Д’Аннунцио сказал мне с особым ударением: «Я приду в полночь». Весь день я готовила студию. Мы наполнили ее белыми лилиями, теми цветами, которые приносят на похороны, потом мы зажгли мириады свечей.
Д’Аннунцио, похоже, был поражен при виде студии, которая, казалось, стала похожей на готическую часовню. Мы подвели Д’Аннунцио к дивану, заваленному подушками, прежде всего я протанцевала перед ним, а затем осыпала цветами и расставила кругом свечи, плавно двигаясь под звуки траурного марша Шопена. Постепенно я погасила все свечи одну за другой, оставив лишь те, которые горели у его головы и в ногах. Он лежал, словно загипнотизированный, затем, все еще плавно двигаясь, я потушила свечи у его ног, но когда я торжественно направилась к одной свече, горевшей у его головы, он поднялся на ноги и с громким и пронзительным криком ужаса бросился из студии. Тем временем мы с пианистом, обессилев от смеха, свалились друг к другу на руки».
Через несколько лет, во время Первой мировой войны, Дункан приехала в Рим и остановилась в отеле «Регина». Оказалось, что соседний номер занимал Д’Аннунцио. Вот как описала Дункан их новую встречу у маркизы Казатти: «После обеда мы вернулись в залу… и маркиза послала за своей гадалкой. Она вошла в высоком остроконечном колпаке и плаще колдуньи и принялась предсказывать нам судьбу по картам. Тогда же вошел Д’Аннунцио. Он был очень суеверен и верил всем гадалкам. Гадалка сказала ему: “Вы полетите по воздуху и совершите огромные подвиги. Упадете и окажетесь у врат смерти, но вы пробьетесь сквозь смерть, избежите ее и доживете до великой славы”. Мне она сказала: „Вы сумеете пробудить нации к новой религии и основать великие храмы по всему миру. Вы находитесь под чрезвычайно прочной защитой. И когда вам грозит несчастный случай, вас охраняют великие ангелы. Вы доживете до очень преклонного возраста, вы будете жить вечно“. После этого мы вернулись в отель, Д’Аннунцио сказал мне: „Каждый вечер я буду приходить к вам в 12 часов. Я покорил всех женщин в мире, но я должен покорить еще Айседору“. И каждый вечер он приходил ко мне в 12 часов и рассказывал мне удивительные вещи о своей жизни, о своей юности и искусстве. Затем он принимался кричать: „Айседора! Я не могу больше, возьми меня!“ Я тихонько выпроваживала его из комнаты, так продолжалось три недели. Наконец я уехала».
А Габриэле Д’Аннунцио стал в Первую мировую войну военным авиатором. За отвагу его назначили командиром летного отряда. Во время одного вылета вражеская пуля выбила ему левый глаз, но он не демобилизовался. В 1919 году Д’Аннунцио возглавил 12-тысячную армию, захватил город Фиуме и удерживал его до победного конца.
За все заслуги перед Отечеством, личную отвагу, а также за активную поддержку фашистского правительства пришедший к власти в 1922 году Бенито Муссолини пожаловал Д’ Аннунцио титул принца. Теперь он величался принцем Монте Невозо.
Последние годы Д’Аннунцио доживал в собственном роскошном поместье на озере Гарда, стараясь держать на расстоянии и семью, и близких. Их ему заменял целый штат вышколенных слуг и местные деревенские женщины. Поскольку он продолжал писать, ему по-прежнему требовались «стимул и материал»…
Проживший «придуманную и сделанную» жизнь, Д’Аннунцио хотел и из своей смерти сделать представление: то он требовал, чтобы его тело использовали в качестве ядра для пушки, то настаивал, чтобы его тело растворили в кислоте… А смерть не стала дожидаться его окончательного решения – кровоизлияние в мозг застигло его за рабочим столом, всего за 11 дней до семидесятипятилетия. Произошло это 1 марта 1938 года.
Элеонора Дузе ушла на 14 лет раньше, в пасхальный понедельник 21 апреля 1924 года. Умерла она во время очередных гастролей, в Питтсбурге – 5 апреля 1924 года у нее был спектакль, но шофер по ошибке привез ее в театр слишком рано: двери были еще заперты. На улице шел проливной дождь, и, стоя у дверей, Элеонора промокла насквозь. А ей было шестьдесят шесть лет. К началу спектакля актриса не успела не то что согреться, но и просохнуть. Ей стало плохо, но она доиграла до конца, до финальных слов пьесы: «Одна, одна…» Это были последние слова великой Дузе, сказанные ею на сцене. На следующий день она слегла с воспалением легких. В ночь на 21 апреля ее не стало…
И хотя Элеонора Дузе открыто не признавала фашистское правительство, тело великой итальянской актрисы именно на средства правительства перевезли в Италию и, как она завещала, похоронили в Азоло, в провинции Тревизо. При прощании праху актрисы воздали военные почести.
Как и шестьдесят шесть лет назад, когда малышку Элеонору несли крестить, солдаты встали по стойке «смирно» и отдали честь.
Русская провинциальная актриса Марья Александровна Крестовская в своих замечательных воспоминаниях об Элеоноре Дузе писала: «Дузе интересовалась всем – и наукой, и литературой, и просто жизнью. Она выписывала себе книги из разных стран и на разные темы, до философских включительно. Она читала очень много, а если не знала языка, то отыскивала людей, которые этот язык знали, и просила их прочесть книгу и подробно рассказать ей содержание». Эта жажда познания была одной из отличительных черт великой Дузе. Она была единственной актрисой, которой восхищались не только на сцене, но и в жизни. Широта познаний делала Элеонору чрезвычайно интересным человеком и соответствовала широте ее души.
«…Никакое физическое обаяние не может быть ни благородным, ни прекрасным, если оно не выражает обаяния духовного. Именно потому, что творческий диапазон Дузе включает в себя эти высокие нравственные ноты, если можно так выразиться, она способна играть любые роли…» – писал покоренный ее божественным талантом Бернард Шоу.
Только одна роль ей не удалась – верно и бесконечно любимой женщины в настоящей, реальной жизни.
Бриллиант, оправленный в хомут. Мария Савина и Иван Тургенев
В одной из предыдущих историй мы рассказали о прекрасной трагической актрисе Полине Стрепетовой, и было бы справедливо поведать о ее вечной сопернице, замечательной русской актрисе Марии Гавриловне Савиной.
Мария Савина прослужила на сцене Александринского театра более сорока лет и долгие годы была в театре признанной примой, или, как говорят сами актеры, «премьершей». За удивительное мастерство, покорявшее публику многих российских городов, Савину называли «петербургской Сарой Бернар».
Родилась Мария 30 марта 1854 года в Каменец-Подольске. Ее отец, Гавриил Николаевич Подраменцев, был учителем чистописания и рисования, но очень увлекался любительскими спектаклями. Играя в таких спектаклях перед узким кругом знакомых лиц (как говорится, все свои), он имел некоторый успех, что вскружило ему голову. В те годы театр был в большой моде, и Гавриил Николаевич, бросив гимназию, решил добиться успеха на театральных подмостках. Он придумал себе сценический псевдоним – Стремлянов, и «устремился» к вершинам актерской славы. Его пример оказался столь заразительным, что вслед за ним на сцену пошла его жена, Мария Петровна, тоже не обладавшая ни талантом, ни даже небольшими способностями. Вот так и получилось, что родители Маши стали весьма посредственными провинциальными актерами.
В поисках работы новоявленные Стремляновы с дочерьми (у Маши была младшая сестра Елена) переехали в Одессу. Увлечение театром, а главное, театральной жизнью, не оставляло Марии Петровне времени на воспитание девочек, и впоследствии Савина вспоминала о своей матери: «Кроме пощечин, брани, упреков в ничегонеделании, я ничего от нее не видела, и с каждым годом было хуже». Живя в семье, девочка была одинокой и нелюбимой.
Когда Маше исполнилось восемь лет, ее поместили в частный пансион, а затем в интернат женской гимназии. Почти все время она проводила вдали от дома и родных, что совсем ее не огорчало.
Но была в ее жизни одна радость – она играла на сцене разных девочек и мальчиков и даже маленькую Эсмеральду. Эти выходы доставляли ей огромное удовольствие, и вскоре игра перешла в серьезное увлечение театром.
Марии было тринадцать лет, когда родители разошлись. Дочерей они поделили: отец взял Машу, а мать – Елену. В подростковом возрасте Мария стеснялась выходить на сцену, поскольку ужасно переживала из-за своей тогдашней внешности: «Как известно, тринадцать лет – самый неблагодарный возраст, – вспоминала она много позже. – Я была очень худа и ужасно смугла, узкие плечи, длинные руки, коротко остриженные светлые волосы, неправильные черты, ноги в больших (на рост) башмаках, уродски сшитое по тогдашней моде платье (всегда ситцевое, а стало быть, и измятое), длинная гусиная шея и пальцы в чернилах. Вот мой портрет».
Но время шло, и Маша взрослела и хорошела. Всего через пару лет она превратилась в очень привлекательную девушку. Эта приятная перемена вернула ей желание играть на сцене, что получилось, однако, не сразу. Но вот наконец ей предложили поступить в одну бродячую труппу – там не хватало актрис. Мария сразу же согласилась, и честно отрабатывала свой гонорар. А потом ее приметил профессиональный антрепренер, и Маша получила свой первый ангажемент. К этому времени она уже ушла от отца и начала самостоятельную жизнь.
Независимость хороша, но не в столь юном возрасте – не зная жизни и не разбираясь в людях можно наделать массу ошибок. Именно это случилось с Марией. Ей было всего шестнадцать лет, когда она выскочила замуж. Мужем ее стал, естественно, актер – Николай Николаевич Славич, носивший сценический псевдоним Савин. Это был очень слабый актер, пришедший на сцену, как и ее родители, по зову сердца. Дворянин и бывший флотский офицер, Славич обладал военной выправкой и хорошими манерами, которые производили сильное впечатление на молоденьких девиц и скучающих провинциальных дам. Этот непорядочный человек был изгнан с флота за то, что проиграл большую сумму казенных денег; его отец, узнав о таком позорном для дворянина поступке, проклял сына. Не имея, таким образом, возможности вернуться в отчий дом, Славич решил использовать свои внешние данные и знания «куртуазности поведения» на театральных подмостках. Его приняли в театр на роли героев-любовников и обольстителей. Он так увлекся этим амплуа, что продолжал «играть» и в жизни.
Естественно, Мария всего этого не знала, она видела лишь бравого, галантного мужчину, который в одной неприятной истории защитил ее. Романтически настроенная девушка вообразила, что он это сделал неспроста, а под влиянием высокого чувства. Дальше бурное воображение нарисовало ей рыцаря в сверкающих доспехах, и этот выдуманный образ совершенно заслонил реального распутника и проныру.
В таком восторженном состоянии она и вышла замуж. Увы, ее ждало горькое разочарование. Славич не считал нужным скрывать от молодой жены свои самые низкие стороны: он продолжал кутить, играть в карты и… поощрял ухаживания богатых поклонников за своей юной супругой. Его очень раздражала ее неопытность в деликатных делах – наивность и непонятливость в общении с богатыми мужчинами…
Давление мужа не дало результатов, Мария осталась верна своему характеру и своим взглядам на жизнь. Но это противостояние привело к семейным скандалам. К тому же наступило безденежье. Савина старалась заработать любым способом: днем она играла на сцене, а по ночам перешивала и латала театральные костюмы. Ее муж о семейном бюджете не задумывался и спускал все в карты.
Вся юность Марии Савиной прошла в семейных неурядицах и бесконечной работе. Но эти же годы стали серьезнейшей школой для молодой актрисы – она сыграла множество ролей, и с каждой ролью ее талант проявлялся все ярче.
Пять лет они с мужем колесили по России, меняя труппы и города – Минск, Харьков, Калуга, Орел, Одесса, Смоленск, Бобруйск, Саратов, Казань. В Нижнем Новгороде Савиной предложили заменить в местном театре заболевшую актрису, она согласилась – и не прогадала. Тогда в Новгороде ее партнером на сцене был так же ставший потом знаменитым Владимир Николаевич Давыдов, много позже он вспоминал: «Скромная, тихая, но с лукавыми глазенками, со звонким мелодическим голосом, вся изящная, хрупкая – она была очаровательна в оперетке и комедии… Тогда уже можно было угадать, что из Савиной со временем выработается хорошая актриса. Она имела характер, любила сцену до самозабвения и умела работать, не надеясь на вдохновение».
Вот такую Савину увидел на сцене известный театральный антрепренер Петр Медведев, тот самый, что искал молодых талантливых актеров по всей России. Конечно, он тут же взял юное дарование к себе в труппу, а с ней и «довесок» – ее мужа.
Такое признание чрезвычайно польстило Марии, к тому же публика принимала ее очень хорошо, и с этого момента в ней проснулось что-то вроде тщеславия. Она и прежде была достаточно независимой особой, теперь же Савина хотела быть еще и первой, и это не самое плохое чувство очень помогло Марии достичь желаемого и в жизни, и на сцене.
Но в те годы еще не все складывалось, как ей хотелось – на ней, словно вериги, «висел» муж, со всеми его «достоинствами». Этот бездарный и ленивый кутила абсолютно не вписывался в труппу Медведева. Актеры его терпели исключительно по необходимости. Амбициозный муж умудрился поссорить жену с самим Медведевым, а ведь Савина относилась к своему антрепренеру с огромным уважением. После неприятного скандала Славича таки выгнали из театра. Пришлось покинуть труппу и Савиной – она была еще не готова расстаться с мужем.
Но вскоре разрыв наконец произошел. Случилось это знаменательное событие в Саратове, где Савину приняли с огромной радостью. Ее муж опять было прошел «довеском», но на этот раз терпение девятнадцатилетней актрисы иссякло – Савина порвала с мужем окончательно и бесповоротно. И ощутила себя по-настоящему свободной и счастливой.
Постепенно Мария Савина стала играть все главные женские роли – она стала примой саратовского театра. Эта милая, остроумная и общительная женщина быстро завела множество друзей, которые, в свою очередь, познакомили ее со своими друзьями и ввели в общество. Светская жизнь пришлась Марии очень по душе – она посещала балы и благотворительные вечера, а гонорары (и отсутствие транжиры мужа) позволяли ей одеваться модно и со вкусом. Вскоре она научилась благосклонно общаться с многочисленными поклонниками…
Когда она почувствовала, что Саратов «покорен», то отправилась… покорять Петербург! Вот тут и пригодились уверенность и решительность Савиной – двадцатилетняя актриса из провинции явилась в северную столицу и была принята в труппу Александринского театра.
Ее живость, естественность и «незаштампованность» пришлись как нельзя кстати для императорского театра, пребывавшего в то время в кризисе. Музыкальная и пластичная Савина блестяще справлялась с ролями молоденьких, игривых и наивных девушек, которых так много в водевилях и опереттах.
Удавались ей и скромные «простые» девицы в мелодрамах и легких комедиях. Все эти немудреные роли она играла не просто легко, но талантливо, и столичная критика не замедлила откликнуться: «С г-жою Савиной русский театр ожил и напоминает старые дни золотого своего века, когда артисты играли с вдохновением… игра ее проста донельзя, дикция превосходная, вместе с грациозностью в осанке и изяществом в движениях». Эта молодая женщина завоевала столичную публику и стала «царицей русской сцены», не будучи трагической или романтической актрисой – такое случилось впервые!
На сцене Александринки Савина сыграла огромное количество ролей – и все роли ей удавались блестяще. Критики отмечали как особую заслугу Савиной то, что она создала на театральной сцене новый женский тип. Главное амплуа Савиной было инженю, и эти роли актриса умела играть так, что рецензенты писали: прежде «были водевильные попрыгуньи интернационального типа, были мелодраматические невинности, но русской девушки, русской женщины… наша сцена не знала». Пустые и поверхностные водевильные девицы в исполнении Савиной приобрели личностную глубину, оставаясь при этом легкими и изящными.
С годами Савина сменила амплуа инженю на романтических героинь. В результате она переиграла почти весь современный театральный репертуар. Мария блистала в пьесах Антона Павловича Чехова, Льва Николаевича Толстого, Александра Николаевича Островского, Алексея Сергеевича Суворина и, мало известных сейчас, но очень модных в то время драматургов Алексея Антиповича Потехина, Ипполита Васильевича Шпажинского, Виктора Александровича Крылова, Александра Ивановича Сумбатова-Южина и других.
Обладая потрясающей пластикой, причем не только внешней, но и внутренней, Савина создала целую галерею удивительных и запоминающихся образов. «Царица русской сцены» мастерски владела многими сценическими приемами, но главным всегда считала внутреннее перевоплощение. Она продумывала свой персонаж до мельчайших деталей, «примеряла на себя его шкуру» и в конце концов создавала не просто характер, а тип.
Восторгались критики и комедийным талантом Савиной. Ее самой известной комедийной ролью была гоголевская Мария Антоновна. «В ее исполнении уездная барышня была воздушным созданием, сочетавшим очарование юности с бесконечной ограниченностью и утонченно-пошлыми манерами», – отмечают исследователи творчества Марии Савиной.
О некоторых образах, созданных Савиной, историки театра пишут следующее: «Савина прекрасно сыграла и в пьесе Островского „Последняя жертва“ роль Юлии Тугиной (эту роль она играла более тридцати лет). В ее исполнении Юлия была благородной интеллигентной девушкой, беззащитной перед пошлостью и обманом. В этой роли прослеживался своеобразный Савинский „тихий“ драматизм».
В 1890-х, обогащенная опытом, актриса с большим пониманием и глубиной воплотила на сцене многие образы Островского, в том числе ранее не удававшиеся или принципиально отвергнутые. Это Параша («Горячее сердце»), Елена («Женитьба Белугина»), Вера Филипповна («Сердце не камень»), Людмила («Поздняя любовь»), а также острохарактерные – Клеопатра Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты») и Матрена Курослепова («Горячее сердце»).
В этом ряду стоит и одна из лучших ролей Савиной – Акулина из «Власти тьмы» Льва Николаевича Толстого, за право исполнения которой на сцене Императорского театра актриса боролась более семи лет. Сама Савина считала образ Акулины этапным в своем творчестве.
Но вот в Петербурге взошла звезда новой молодой актрисы – Веры Федоровны Комиссаржевской. Савина не стала бороться за первенство, а, чтобы вернуть себе немного остывшее внимание публики, придумала очень правильный ход – она отправилась на гастроли в Берлин и Прагу, дабы познакомить старушку Европу с современной русской сценической школой. Как ни странно, для европейского зрителя Савина выбрала, в числе других, пьесу Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Похоже, в те годы роль Маргариты была своего рода испытанием на талант. Мария Савина это испытание прошла с блеском – ее мастерство ставилось в один ряд с искусством знаменитых Элеоноры Дузе и Сары Бернар.
С гастролей Савина возвратилась победительницей. «Ввиду оказанных ею особых услуг русскому сценическому искусству» Савиной пожаловали звание заслуженной артистки императорских театров. «Царица русской сцены» торжествовала.
Зная толк в светской жизни, Мария Гавриловна занималась благотворительностью и общественной деятельностью. С ее участием было создано Российское театральное общество, которое она со временем возглавила, став председателем совета. А в 1896 году Савина основала в Санкт-Петербурге «Убежище для престарелых сценических деятелей» («Дом ветеранов сцены»), получившее впоследствии ее имя.
Но кроме сценической и общественной жизни у Марии Гавриловны была довольно бурная личная жизнь, которая сводила актрису с очень известными мужчинами…
Одним из таких мужчин был Иван Сергеевич Тургенев, который страстно увлекся Савиной в последние годы своей жизни.
Творчество Тургенева, по сути, все – о любви, и во многих произведениях он рассказывал о себе самом, о своих переживаниях и страданиях. Так, в повести «Первая любовь» он поведал историю из собственной жизни: будучи совсем молодым человеком, он влюбился в княгиню Шаховскую, но у него появился счастливый соперник – его отец. «Я не зарыдал, не предался отчаянию; я не спрашивал себя, когда и как все это случилось – я даже не роптал на отца… То, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня… Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня разбросанные и истоптанные».
Тонко чувствующий человек, умевший любить и ценить любовь, Тургенев не был счастлив в любви. И последняя его любовь, актриса Александринского театра Мария Савина, также не принесла ему долгожданного счастья.
А познакомились они обычно – по театральным делам. Савина подыскивала пьесу для своего бенефиса и ей попался тургеневский «Месяц в деревне». Роль Верочки пришлась Марии по вкусу, и Савина решила ставить именно эту пьесу. «Месяц в деревне» давно приобрел репутацию несценичной пьесы, но Савину это не останавливало. Дирекция театра предлагала найти что-нибудь более подходящее, а Савина упорно стояла на своем. В конце концов она получила разрешение на постановку.
Савина поработала над пьесой и послала автору телеграмму с просьбой разрешить некоторые сокращения. Тургенев, живший тогда в Париже, прислал любезный ответ: «Согласен, но сожалею, так как пьеса писана не для сцены и не достойна вашего таланта». Поскольку Тургенев ни разу не видел Савину, фраза о «таланте» была всего лишь любезностью.
«Месяц в деревне» поставили и сыграли – успех был грандиозный! Савиной удалось невероятное – дать сценическую жизнь несценичной пьесе.
Вскоре Тургенев приехал в Петербург. И, конечно же, он отправился в театр смотреть свою пьесу. В этот вечер Савина старалась как никогда, она играла для Тургенева! Ее техника внутреннего перевоплощения принесла потрясающие плоды – она совершенно явственно чувствовала, что героиня пьесы Верочка и она – одно лицо…
То же самое ощущал и автор пьесы. После представления он зашел за кулисы к Савиной. «Верочка… Вы живая Верочка… – воскликнул Тургенев. – Какой у вас большой талант! Неужели это я написал? Каждое ваше движение, каждый шаг, каждое ваше слово – все правда… Словно праздник – так хорошо!» – и он поцеловал ей руку.
А потом пригляделся повнимательнее и сочувственно спросил: «Отчего у вас такое грустное лицо? Это всегда так?»
И вдруг Савина разоткровенничалась: она рассказала, как сильно устала – каждую пятницу чей-нибудь бенефис, стало быть, новая роль, она бесконечно репетирует и играет, репетирует и играет…
Они почувствовали, словно давным-давно знакомы, и разговорились о самых разных вещах. Тургенев поведал, что вся его жизнь рассказана в его произведениях, а Савина вспомнила о своем неудачном замужестве, о детстве, о том, как не любят ее в театре, зовут провинциалкой…
На следующий день они были на вечере в пользу Литературного фонда и вдвоем читали диалог из его новой комедии «Провинциалка». С этого дня между ними началась теснейшая дружба. Он даже позабыл о своей мучительной любви к Полине Виардо. Да и немудрено – Савина была молода и очаровательна, она не мучила его и, ко всему прочему, была своя, русская, понятная. Они встречались довольно часто, Тургенев отдыхал душой рядом с молодой актрисой, а она… она следила не только за любым своим словом, но и за каждой мыслью – амбициозная женщина боялась как-нибудь оконфузиться перед знаменитым писателем.
Вскоре Иван Сергеевич вновь уехал в Париж. А затем началась их знаменитая переписка. «Встретить Вас на пути было величайшим счастьем моей жизни, моя преданность и благодарность Вам не имеет границ и умрет только вместе со мной…» – писал Тургенев Савиной.
Через некоторое время в Париж отправилась Савина, и, естественно, они встретились. Тургенев был несказанно рад, он читал ей свои стихи в прозе, а Савина уговаривала его вернуться в Россию навсегда.
Летом 1881 года она гостила в Спасском-Лутовинове, куда пригласил ее прибывший из Парижа хозяин. Когда он первый раз предложил приехать к нему в усадьбу, Савина отказалась. Тогда Тургенев стал писать ей из имения письма: «Милая Мария Гавриловна! Вот уже третий день, как стоит погода божественная, я с утра до вечера гуляю по парку или сижу на террасе, стараюсь думать о различных предметах – и вдруг замечаю, что мои губы шепчут: «Какую ночь мы бы провели… А что было бы потом? А Господь ведает!»… И мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда… Жаль для меня – и осмелюсь прибавить – и для Вас, потому что уверен, что и Вы бы не забыли того счастья, которое дали бы мне». Тургеневу было тогда шестьдесят три года, Савиной – двадцать семь…
После долгих уговоров она все же согласилась и приехала в Спасское-Лутовиново. Савина хорошо запомнила уютный дом Тургенева, особенно длинный и широкий диван «в турецком вкусе», который с давних лет получил прозвище «самосон». Этот диван помнили многие гости Тургенева. Говорят, после смерти Ивана Сергеевича Савина, увидев «самосон», воскликнула: «Родной „самосон“! Сколько на нем сиживалось, леживалось, спорилось, переживалось!»
Комнату, в которой проживала в тот свой приезд Савина, Иван Сергеевич так и прозвал «Савинской». После ее отъезда Тургенев писал ей: «Ваше пребывание в Спасском оставило неизгладимые следы… Комната, в которой вы жили, так навсегда останется Савинской».
А пока она жила в Спасском, у них были чрезвычайно искренние и доверительные отношения. Савина после вспоминала, как Тургенев говорил ей, что самые счастливые моменты в жизни для него всегда связаны с любовью женщины. «Это когда глаза встречают ее, глаза женщины, которую вы любите, и вы понимаете, что она любит вас тоже». Он с мгновенье помолчал, затем прибавил: «В моей жизни это случилось один раз; может быть, дважды…»
Савина спросила, а что если госпожа Виардо попросит его сейчас немедленно вернуться. И Тургенев ответил: «Поеду!»
И вскоре мадам Виардо действительно позвала его в Париж. И Тургенев сразу же уехал, теперь уже навсегда…
Об отношениях Савиной и Тургенева один из исследователей ее творчества писал следующее: «Она преклонялась перед талантом Ивана Сергеевича. Его сердечное, внимательное отношение к ней будоражило ее, появлялся трепет, волнение при встречах с Тургеневым. Она становилась откровеннее, честнее под его проникновенным взглядом.
Тургенев был по характеру медлителен, Савина порывиста, с пламенным умом и сердцем. Эти разные по темпераменту люди обогащали друг друга разноритмичностью характеров… Они прекрасно дополняли друг друга».
Их любовно-дружеские отношения продолжались до самой смерти Тургенева. Савина видела его нежное к ней отношение, однако понимала, что он на всю жизнь связан с Полиной Виардо, и эта женщина его никогда не отпустит. Да, собственно, Савиной и не нужно было, чтобы Ивана Сергеевича «отпускали» – ее чувство к нему не было любовью в настоящем ее понимании.
Всего через несколько недель после отъезда из имения Тургенева, она из Перми прислала Ивану Сергеевичу письмо, где сообщала, что собирается выйти замуж… Конечно же, Иван Сергеевич ответил ей пожеланиями счастья и радости и уверил в неизменности дружеских чувств.
Но когда у Савиной начались разлады со вторым мужем, Тургенев в письмах к ней вернулся к тем планам, что они когда-то строили вместе – к совместной поездке в Рим или Венецию. Иван Сергеевич писал три раза в неделю, и часто в его письмах попадались весьма нежные признания: «Милая Мария Гавриловна, я Вас очень люблю – гораздо больше, чем следовало бы, но я в этом не виноват».
Виделись они редко. В 1882 году Савина приехала в Париж подлечиться у европейских медицинских светил. Уже сам тяжелобольной, Тургенев отправился к знаменитому невропатологу Жану Шарко хлопотать о приеме знаменитой русской актрисы. Иван Сергеевич был страшно рад ее видеть и с удовольствием общался с ней. Но умер он все-таки в окружении семейства Виардо со словами: «Ближе, ближе ко мне, и пусть я всех вас чувствую около себя… Настала минута прощаться… Простите!..»
Мария Савина и после смерти Тургенева сохраняла к нему самые теплые чувства. В 1908 году в Академии наук была организована Тургеневская выставка, где представлялось все, связанное с его жизнью и творчеством. Перед большим портретом Тургенева каждое утро появлялся огромный букет роскошных пурпурных роз – их привозила и собственноручно ставила в вазу Мария Гавриловна Савина…
Однако нежные отношения с Иваном Сергеевичем не исключали вполне земной влюбленности Савиной в Никиту Никитича Всеволожского – блестящего лейб-гвардейца, адъютанта одного из великих князей.
Роман аристократа и актрисы длился около пяти лет, вызывая бесконечные сплетни и пересуды. Когда же они поженились, общество было шокировано. Особенно были недовольны родственники Всеволожского и незамужние девицы, потерявшие потенциального жениха. К тому же ради заключения брака Никите Всеволожскому пришлось выйти в отставку – говорят, он потом всю жизнь упрекал за это Савину. Тем более что она отказалась оставить сцену, сколько он того ни требовал.
Но остаться без заработка Мария Гавриловна не могла себе позволить – вместе с мужем она приобрела все его долги, оставшиеся от прежней холостяцкой разгульной жизни. Романтические отношения закончились очень скоро после женитьбы. «Ты с собаками своими обращаешься лучше, чем со мной, – писала Савина мужу. – Ради Бога, избавь меня от такого унижения. Ты свободен, делай что хочешь и забудь о моем существовании».
Всеволожский вел себя очень недостойно по отношению к жене. Его надменное семейство считало ниже своего достоинства водить знакомство с безродной актрисой, но ему и в голову не приходило защитить Марию или прекратить общаться с такой заносчивой родней. Он часто бывал у своих спесивых родственников и о жене старался не заговаривать – чтобы не задеть их «тонкие чувства».
А Савина не очень страдала по этому поводу, она жила своей жизнью: работала, работала, работала и общалась со своими давними и добрыми знакомыми. Когда она приезжала в имение Всеволожского, то вела себя так, как вели бы себя многие ее героини. Она учила и лечила деревенских ребят, помогала старикам, принимала детей у рожениц, добивалась у мужа поблажек для крестьян.
Всеволожского поведение жены удивляло – оно не вписывалось в его понятия о жизни, но поскольку ему заниматься делами имения было недосуг, он в конце концов перевел ведение хозяйства по имению на имя Марии Гавриловны. А через пару месяцев Всеволожский очень крупно проигрался, Савина должна была поручиться за мужа и взять на себя оплату его векселя.
В доме у них все было описано. Тут же объявились и другие желающие получить старые долги – векселя посыпались на нее со всех сторон, ее стали вызывать в суд, и осенью 1887 года их вместе с мужем объявили «несостоятельными должниками». Суд вынес решение под арест ее не брать, а долги удерживать из жалованья.
Общий же долг составил огромную по тем временам сумму – 100 000 рублей! На эти деньги тогда можно было купить два огромных имения «с прекраснейшим парком, с рекой, прудами, изобилующими рыбой, с церковью, театром, художнической мастерской, со статуями и монументами, с громоотводами и проч.». Чтобы выплатить такие деньги, Савина работала на износ…
Ее верный друг судебный деятель Александр Федорович Кони помогал ей во всех судебных тяжбах, он изо всех сил поддерживал растерянную и расстроенную всем случившимся актрису. Кони писал Савиной 6 октября 1887 года, имея в виду ее положение «несостоятельной должницы»: «Бриллиант, даже и оправленный в хомут, остается все-таки бриллиантом. Так и Вы… И даже в мансарде, со свечкой, вставленной в выдолбленную репу (какова картина?!), в холстинном платье – Вы все-таки остались бы в глазах всех знающих Вас тем же – тою же проводницею высоких эстетических наслаждений, так как с Вами, где бы Вы ни были, поселяется светозарный гений искусства, любимого и понимаемого Вами, как редко кем».
А пока Савина, разъезжая по всей России, зарабатывала деньги, чтобы выплатить долги мужа, сам он продолжал кутить. Поведение Всеволожского приводило к ссорам и скандалам – семейная жизнь рушилась на глазах. А он и не старался ее уберечь – одно время в Петербурге ходили слухи, что Всеволожский собирается развестись с Савиной и жениться на другой. Как романтический герой он якобы выбрал себе девушку молодую, но бедную и честную.
Любовь актрисы к «благородному» лейб-гвардейцу испарилась, а ее место заняли бесконечные склоки, разговоры о долгах и деньгах, упреки, обиды и даже угрозы. Переписка Савиной и Всеволожского второй половины 1880-х годов свидетельствует о неминуемом крахе их «неравного брака».
В одном из писем Савина писала: «Вы исказили мою жизнь, осрамили меня на весь мир, сделали хуже нищей, и теперь, когда я приняла Вас в свою квартиру, простив по-христиански Ваши гнусные поступки, Вы осмелились кинуть мне в глаза оскорбления и упреки в том, что я Вас разорила. Последнее только смешно, а первое – подло! Вы дошли до последней степени нравственного падения и теперь хватаетесь за новое средство обвинить меня. Стыдитесь, Вы Рюрикович, Всеволожский! Так честные люди не поступают. Вы пропадали годами и давали о себе знать только тогда, когда Вам нужны были деньги…»
Наконец, после десяти лет мучений, состоялось официальное расторжение брака. И вновь Мария ощутила себя счастливой и свободной.
Вообще Мария Гавриловна пользовалась большим успехом у мужчин, она могла выбрать себе вполне достойного мужа, однако дважды выходила замуж за низких распутников и негодяев. Вряд ли в этом стоит винить судьбу – ведь этот выбор делала сама актриса.
Среди самых достойных ее поклонников был уже упоминаемый нами знаменитый юрист Анатолий Федорович Кони. К нему Савина обращалась за советом в каждом сложном случае, и всякий раз получала не просто совет, но и истинно дружеское участие.
В этом можно убедиться, прочитав обширную переписку Марии Гавриловны и Анатолия Федоровича, которая, к счастью, сохранилась.
Так, в 1883 году, Савина, расстроенная царившими в Александринке порядками, собралась уйти из театра. Но Кони сумел удержать ее от опрометчивого шага. «Савина, – писал он ей, – не есть только имя личное; это имя собирательное, представляющее собой соединение лучших традиций, приемов и преданий с талантом и умом. Вы сами по себе школа. И должны, как солдат, стоять на бреши, пробитой в искусстве нелепыми представителями театральной дирекции».
Будучи старше Савиной на десять лет, Кони пережил ее на целых двенадцать. Мария Гавриловна Савина умерла в 1915 году. Ее верному поклоннику шел тогда семьдесят второй год…
После ее смерти Анатолий Федорович собрал сохранившиеся у Савиной письма Тургенева, и на их основе издал очень интересную и ценную книгу «Тургенев и Савина». Начало прошлого века, его десятые годы, были крайне тяжелым временем. Но Кони сумел выпустить свою книгу в свет – это была дань памяти любимой женщине, прекрасной русской актрисе Марии Гавриловне Савиной.
Когда-то Иван Сергеевич Тургенев писал ей: «Вы очень привлекательны и очень умны – что не всегда совпадает, и с вами беседовать – изустно и письменно – очень приятно». В ней действительно сочетались ум, красота и талант – это редкое соединение очаровывало очень многих.
Сорок лет отдала она русской сцене, сорок лет выходила она на подмостки, и все сорок лет публика встречала ее благодарными и восторженными аплодисментами.
Все эти годы Мария Савина неоднократно повторяла: «Сцена – моя жизнь». Так оно и было. В реальной жизни получалась нелепая, бестолковая трагедия дурного провинциального толка, а там – в свете рампы – Мария, вживаясь «в плоть персонажа», проживала немыслимые по накалу и разнообразию жизни.
Однажды Савина заметила: «Если бы все актеры играли по вдохновению и переживали свои роли, мир наполнился бы домами для душевнобольных».
Но никакие переживания и разочарования не могли сломить эту удивительно сильную женщину, ничто не могло затмить ее душевного света, потому что, как верно заметил Анатолий Федорович Кони, «бриллиант, даже и оправленный в хомут, остается все-таки бриллиантом…»
«Дитя рассвета». Мата Хари и Вадим Маслов[3]
«Какой желанной показалась мне эта женщина, как соблазнительны и упруги юные линии ее тела! Ее чудесные груди прикрыты тонко обработанными металлическими пластинками. Браслеты с драгоценными камнями надеты на запястья, верхние части рук и лодыжки. Все остальное – обнаженное, соблазнительное, бесстыдно голое – от пальцев рук до ярко-красного педикюра… Танцовщица трижды касается пола своим лбом. Затем медленно, очень медленно поворачивается и в сладострастном порыве сдвигает широкий золотой браслет на своем левом запястье, представляя нашему взору браслет-татуировку на коже цвета слоновой кости. Это искусно выполненное изображение змеи, кусающей себя за хвост», – так описал Мату Хари писатель Луи Демар.
Выступления этой женщины произвели в свое время настоящий фурор. Она окружила себя тайной, придумала себе экзотическую биографию, но главное, что потрясло и привлекло к ней зрителей (особенно мужчин), – она первая разделась на «официальной» сцене. «Люди приходят на мои выступления только потому, что я первой из женщин отважилась предстать перед ними без одежды», – считала сама танцовщица.
Она была известна в Париже как «священная баядера Шивы» – это тоже было частью созданного ею самой образа. Выходя на сцену, она произносила завораживающим голосом: «Мой танец – это священная поэма, а каждое движение в нем – слово. Эти танцы я исполняла в храме Шивы. Все храмовые танцы в своей основе религиозны, посредством жестов и поз передаются священные тексты». Доверчивая публика замирала и с благоговением следила за каждым ее движением.
Но постепенно настроение менялось – «священнодействие» переходило в раздевание. Это называлось – искусство восточного танца. Менялась, соответственно, и атмосфера в зале – она становилась накаленной и опьяняющей. Играла экзотическая чувственная музыка, восточные благовония дурманили мозг, сам воздух, кажется, источал теперь наслаждение… А на сцене, сверкая украшениями, обольстительно двигалась Мата Хари.
В те годы – время увлечения восточной мистикой и оккультизмом – Мата Хари стала буквально мировой сенсацией. О ней мечтали тысячи мужчин, и многим из них (очень многим) улыбнулась удача… Слава Маты Хари затмила даже немыслимый успех Сары Бернар!
Но сейчас при имени Мата Хари первым приходит на ум не искусство танца, а то, что эта «священная баядера Шивы» была шпионкой. Причем двойным агентом!
Маргарет Гертруда Целле (таково настоящее имя Маты Хари) родилась 7 августа 1876 года в Леувардене, центре самой северной провинции Голландии – Фрисландии. Ее отец, Адам Целле, был вполне процветающим шляпником. Но, к сожалению, через двенадцать лет после ее рождения, Адам обанкротился, а еще два года спустя умерла мать. Отец пристроил всех детей (у Маргарет было четыре брата) на воспитание к родственникам. Прожив четыре года бедной родственницей, Маргарет решает покончить с такой жизнью. Единственный выход – выйти замуж.
Ей было уже восемнадцать лет, и выросла она писаной красавицей с прекрасной фигурой, большими выразительными глазами и густыми черными волосами. Просматривая в очередной раз газету с брачными объявлениями, Mapгарет прочла следующее: «Офицер, приехавший в отпуск из Восточной Индии, хотел бы познакомиться с девушкой доброго нрава на предмет женитьбы». Маргарет тут же написала ему письмо. Они встретились, и дело сладилось.
Капитан Рудольф Маклеод принадлежал к старинному шотландскому роду и был старше Маргарет на двадцать лет. 11 июля 1895 года они поженились. А через некоторое время капитан получил назначение на военно-морскую базу в голландской Индии. Беременная первым ребенком Маргарет, естественно, отправилась с мужем – она давно мечтала вырваться из скучной «провинциальной» Голландии.
На новом месте она родила сына и мечтала начать совсем иную жизнь – яркую, счастливую. Но на деле вышло иначе. В тропическом климате и окружении боевых товарищей капитан открылся жене с самых неприятных сторон: он заводил любовниц из местных женщин, немерено пил и страшно ревновал, если кто-то вдруг оказывал знаки внимания Маргарет.
Время шло, и Маргарет родила второго ребенка – девочку. А через несколько лет случилось страшное несчастье – погиб маленький сын Маргарет и Рудольфа. Эта беда окончательно разладила отношения супругов, и по возвращении в Голландию они развелись.
После десяти лет замужества Маргарет осталась одна с ребенком на руках и без средств к существованию, поскольку Маклеод отказался содержать бывшую жену.
Поразмыслив, Маргарет приняла решение и поехала в Париж в надежде стать натурщицей – никаких других талантов она в себе не видела. Много лет спустя, уже став знаменитой танцовщицей, на вопрос корреспондента, почему она оказалась именно в Париже, Маргарет ответила: «Не знаю, но я думаю, что всех жен, сбежавших от мужей, тянет в Париж». Но карьера натурщицы не удалась: художники отказались писать Маргарет, заявив, что она не вписывается в каноны красоты (той эпохи) – у нее была слишком маленькая грудь.
Маргарет с дочерью вернулась в Голландию. Однако решимости ей было не занимать, и в 1904 году она вновь приехала в Париж. Теперь судьба была более милостива к ней: она нашла работу в школе верховой езды при знаменитом цирке Молье, здесь ей пригодилось умение обращаться с лошадьми, полученное в Ост-Индии.
Красивая, яркая, пластичная женщина не могла не привлечь внимание профессионала – месье Молье. Именно он посоветовал Маргарет использовать природные данные и попытать счастья в роли исполнительницы восточных танцев.
Маргарет, которая хорошо говорила по-малайски, а в Ост-Индии часто наблюдала местных танцовщиц, послушалась совета, и это принесло ей всемирную славу.
А вот как рассказывается в одном романе о «рождении» Маты Хари: «…Маргарет, как завороженная, следила за месье Эмилем Гимэ. Этот стареющий лысый господинчик возбужденно расхаживал по комнате. Выпустив очередное кольцо табачного дыма, он несколько раз повторил нараспев:
– Ма-та Ха-ри, Ма-та Ха-ри! Хорошо, пусть будет Мата Хари. По крайней мере, это гораздо лучше, чем Маргарет Гертруда Маклеод!
Мсье Эмиль сделал еще несколько кругов по тесной комнатке. Затем, встрепенувшись, спросил:
– Так ты говоришь, это имя означает „Око рассвета“? Растерянная Маргарет почти беззвучно произнесла:
– Да, в переводе с малайского. Если же на хинди, то это будет „Дитя рассвета“…
Мсье Эмиль хохотнул жирным баском:
– Недурно, недурно! Публика сейчас словно обезумела от восточных штучек.
Следующие несколько минут прошли в молчании – мсье Эмиль обдумывал подробности предстоящего выступления своей приятельницы Маргарет Маклеод. Судя по всему, идея пришлась ему по вкусу, – он удовлетворенно крякнул и продолжил:
– Значит, так. Выступать будешь в моем музее. Я подготовлю сцену на верхнем этаже. Прикажу изготовить драпировки в восточном стиле, на заднем плане размещу статуи Шивы – все шесть штук, которые есть в музее.
Маргарет следила за мсье Эмилем взглядом кролика, который оказался во власти удава.
– Ты ведь жила на Востоке, в Индии или где там еще? Наверно, видела какие-нибудь восточные штучки – пожирателей огня, танцующих баядерок? – мсье Эмиль в ажиотаже потер ладони.
Маргарет подумала, что она сумеет станцевать любой танец живота, если это позволит ей вырваться из ее нынешней жизни. Ей смертельно надоели уроки верховой езды, которые она давала последние полгода.
Встретившись с очередным „учеником“, она уже с первого взгляда могла определить, на каком по счету уроке он предложит ей поужинать в ресторане. И в какую гостиницу предложит поехать после ужина. Она спокойно относилась к таким историям. Собственно, в этом не было ничего плохого. Плохо было другое – господа ученики не отличались щедростью.
И вот Эмиль Гуиме, владелец музея восточных исследований предлагал ей работу куда интереснее…
„Если этот мсье так хочет заработать на восточной экзотике, – подумала Маргарет, – что ж, воспользуемся его музеем“.
Она заявила ему, что была храмовой танцовщицей в одном монастыре на Ганге:
– Я обучалась у самых лучших баядерок Индии! – Она вошла во вкус и прибавила: – Моя мать – яванская принцесса. Я унаследовала ее титул. Можете так и указать в афише!
Месье Эмиль был не против».
Первое выступление танцовщицы по имени Мата Хари состоялось 13 марта 1905 года. Сначала на сцене появился сам месье Гимэ и поведал заинтригованным зрителям совершенно невероятную биографию «священной баядеры Шивы». Мата Хари потом не раз повторяла эту «версию» своей жизни: «Я родилась в далекой Индии, в княжестве Джаффатам на берегу Малабара, и принадлежу к высшей касте браминов. Мой отец был раджой, а мать – храмовой танцовщицей. Она умерла во время родов, а меня сразу после рождения жрецы положили в золотую купель и нарекли Мата Хари, что означает “Око рассвета”…»
После этой восточной сказки, под звуки завораживающей музыки, наконец появилась она… Ее медленные, плавные движения околдовывали… Двигаясь свободно, но изящно, она начала раздеваться… И осталась лишь в расшитом драгоценностями лифе и массивных браслетах на ногах и руках.
Вообще-то Маргарет никогда не раздевалась на сцене полностью. На ней всегда оставались лиф (она слишком хорошо помнила высказывания парижских художников) и небольшие трусики-трико телесного цвета.
Выступление Маты Хари стало сенсацией – те сто зрителей, что видели ее танец, в тот же день оповестили весь Париж о появлении потрясающей восточной красавицы. А поскольку на представлении присутствовали послы Японии и Германии, о ней вскоре стало известно и за пределами столицы Франции. Маргарет, вернее Мата Хари, стала знаменитостью.
Восемнадцатого марта 1905 года газета «Ля пресс» написала: «Мата Хари воздействует на вас не только движениями своих ног, рук, глаз, губ. Не стесненная одеждами, Мата Хари воздействует игрой своего тела». А газета «Курьер франсэ» восторженно восклицала, что, даже оставаясь неподвижной, она околдовывает зрителя, а уж когда танцует, ее чары действуют магически.
В 1905 году великолепная Мата Хари 30 раз выступила в самых роскошных салонах Парижа, в том числе три раза в особняке барона Ротшильда. Один из своих величайших триумфов она испытала в августе того же года в прославленном театре «Олимпия». Мата Хари окончательно покорила Париж.
Однажды она кокетливо заметила, что не умеет танцевать, а зрителей привлекает исключительно раздевание. Ей почти вторил ее бывший, озлобленный донельзя, муж, заявлявший, что у Маргарет плоскостопие и ей нечего делать на сцене. Но тысячи зрителей считали иначе. Каждое выступление Маты Хари становилось сенсацией.
Вот что писал 2 мая 1905 года парижский выпуск «Нью-Йорк геральд»: «Невозможно себе представить более благородную постановку индийской религиозной мистерии, чем это было сделано здесь».
Маргарет теперь знала, что красива и обольстительна. Она знала, что ее присутствие возбуждает мужчин, что они готовы принадлежать ей душой и телом. И это осознание придавало ей сил и уверенности. Она всегда танцевала перед знатной, состоятельной публикой: министрами и дипломатами, знатью и высокопоставленными чиновниками, генералами и адмиралами, банкирами и промышленниками. «Знаменитые археологи, принадлежащие к сорока бессмертным, сочли за честь ввести меня в самые знатные круги общества», – вспоминала она. Каждый танец, каждая пантомима поднимались до уровня важной церемонии. Она танцевала на вечере у посла Чили, потом во дворце княгини Мюрат, затем на балу, данном в ее честь князем дель Драго. Наследница американского миллионера Натали Клиффорд Барни пригласила ее на вечер в роскошный замок в Нейи.
На этот раз Мата Хари изображала королеву амазонок, она выезжала к зрителям на белом коне, вся сбруя которого была отделана прекрасными бирюзовыми украшениями. На голове королевы амазонок сверкал золотой греческий шлем. После представления коня вместе с драгоценной сбруей подарили танцовщице. В тот день она поняла, чего стоит.
Мата Хари, вкусив роскоши, уже не могла и не хотела с ней расставаться. Чтобы окружить себя подобающим лоском – пышными апартаментами на Елисейских полях, слугами, всегда готовыми выполнить любые желания, лошадьми и каретами, экзотическими цветами, дорогими шелками и драгоценностями, – нужны были деньги. Большие деньги. Одними танцами столько не заработаешь…
Слухи о ее многочисленных любовниках были нисколько не преувеличены. Говорят, всего за год она сумела соблазнить совет министров Франции в полном составе, всех мужчин английского королевского дома, а также сотню миллионеров, политиков и промышленников. Среди ее любовников был кронпринц Германии Вильгельм, а вслед за ним – и его сын. Мата Хари не смущалась такими мелочами… За свои «услуги» она даже установила цену – семь тысяч франков за ночь.
Желающих этот тариф не отпугивал, – помимо «оговоренных» денег они охотно одаривали свою «богиню» всяческими драгоценностями. В то время Мату Хари провозгласили самой красивой женщиной Парижа.
В январе 1906 года ей предложили двухнедельный ангажемент в Мадриде. Это были ее первые зарубежные гастроли. Покорив Испанию, Мата Хари отправилась на Лазурный берег – «Опера Монте-Карло» пригласила ее танцевать в балете Жюля Массне «Король Лагорский». Это был очень важный момент в ее карьере, ведь «Опера Монте-Карло», наряду с парижской, относилась к числу ведущих музыкальных театров Франции.
Премьера балета прошла с огромным успехом. Великий композитор Джакомо Пуччини, находившийся в это время в Монте-Карло, послал ей в отель цветы с запиской: «Я был счастлив, когда смотрел на Ваш танец!» В таком же восторге от танцовщицы был и сам Массне.
В августе 1906 года Мата Хари прибыла в Берлин. И здесь произошло невероятное – она изменила своему правилу: не спать с одним мужчиной больше двух раз. В Берлине Мата Хари стала любовницей богатейшего помещика, лейтенанта личного конвоя кайзера Альфреда Киперта. Она была его любовницей два года. И за эти два года ухитрилась промотать все его баснословное состояние.
Когда у «душки Альфи» не осталось средств на ее капризы – ежедневные ванны из самых лучших сортов шампанского, ежеутренние завтраки свежей осетровой икрой и прочая, прочая, – она оставила прусского помещика в покое и вернулась во Францию.
Надо заметить, не только Мата Хари получала дивиденды со своей славы. Были и другие сообразительные люди, например, некий предприимчивый нидерландский сигаретный магнат выпустил сигареты «Мата Хари». В рекламе говорилось: «Новейшие индийские сигареты, отвечающие взыскательнейшему вкусу, изготовлены из лучших сортов табака с острова Суматра».
В Париже Мата Хари, теперь уже состоятельная женщина, стала выступать только в благотворительных представлениях. А затем нашла себе очередного богатого покровителя – опять военного, отставного генерала Руссо. Генерал открыто «взял ее под покровительство», предоставил ей счет в банке и даже предложил стать хозяйкой его роскошного замка на Луаре. Он поставил всего одно условие – оставить сцену. Мата Хари никогда не была фанаткой искусства, все эти танцевальные изыски (а по сути, банальный стриптиз) были лишь средством для зарабатывания денег. А получив их, можно сказать, в избытке, она с радостью согласилась на предложение генерала Руссо.
Но как только дела Руссо пошатнулись, она быстренько оставила его и сняла виллу в живописном парижском предместье Нейи-сюр-Сен. Мату Хари не волновало, что виновницей его финансовых проблем была именно она – со своими буквально разорительными тратами.
Меняя мужчин одного за другим, используя их и отбрасывая за ненадобностью, Мата Хари как будто компенсировала все свои прежние унижения, пережитые в замужестве. Теперь она частенько повторяла, иногда со вздохом: «Мужчин так много, а я всего одна!»
Многочисленные родственники Маргарет стыдились ее. В их понимании она была публичной танцовщицей, почти публичной женщиной. Да, собственно, так оно и было, только клиенты у этой куртизанки были самые отборные.
Обаяние этой удивительной женщины было столь велико, что даже разоблачительная книга ее папаши, решившего заработать на скандальной славе своей дочурки, не смогла повредить ее придуманному образу.
Единственные проблемы для Маты Хари иногда создавали ее конкурентки – Лола Монтес и Айседора Дункан. Последовав примеру Маты Хари, они танцевали практически обнаженными. Но и эти знаменитые женщины не всегда могли соперничать с Маргарет.
Когда, расставшись с «выжатым» Руссо, она вернулась на сцену, а было это весной 1911 года, ее пригласил знаменитый миланский оперный театр «Ла Скала». Незадолго до этого дирекция «Ла Скала» отказала в сцене уже прославившейся Айседоре Дункан.
Авторитетная итальянская газета «Корьере де ла сера» назвала Мату Хари «непревзойденным мастером танцевального искусства», наделенной даром мимической изобретательности, неисчерпаемой творческой фантазии и необыкновенной выразительности.
Ей было тридцать пят лет, стриптизом уже мало кого можно было удивить, а значит, ее танцы действительно являлись Искусством.
Однако, несмотря на триумф на лучших сценах мира, привыкшая сорить деньгами Маргарет начала испытывать денежные затруднения.
Летом 1913 года Мата Хари вновь танцевала в Париже, в новом представлении, поставленном в знаменитом варьете «Фоли-Бержер». Все спектакли шли при полных аншлагах.
Весной 1914 года она опять прибыла в Берлин, где 23 марта подписала выгоднейший контракт со столичным театром «Метрополь» на участие в балете «Похититель миллионов» (весьма говорящее название), но премьера, назначенная на 1 сентября того же года, сорвалась – за месяц до этого началась Первая мировая война. Все ее друзья (Мата Хари всегда отличала военных, начиная с замужества) оказались призванными в армию, а у богатых покровителей появились более насущные траты.
То, что в канун войны, 31 июля 1914 года, она в обществе высокопоставленного полицейского чина, фон Грибаля (руководителя зарубежного отдела), ужинала в берлинском ресторане, впоследствии было использовано как доказательство ее шпионской деятельности в пользу Германии.
Поскольку Германия и Франция находились в состоянии войны, Мата Хари решила вернуться в Париж через нейтральную Швейцарию. Это ей не удалось – на швейцарской границе ее не пустили из-за отсутствия необходимых документов. А вот весь ее багаж пропустили. Мата Хари вернулась в Берлин и получила документ на право выезда в нейтральную Голландию.
Прибыв в Амстердам, Маргарет оказалась в несколько неприятном положении – привыкшая менять туалеты по несколько раз на дню, она осталась в одном-единственном дорожном платье. Она вспоминала об этом визите на родину следующим образом: «Снова оказавшись на родине, я почувствовала себя просто ужасно. У меня совершенно не было денег. Правда, в Гааге жил один мой очень богатый поклонник, его фамилия ван дер Капеллен. Но я хорошо знала, какое значение для него играет одежда, поэтому не стала разыскивать его, пока не обновила свой гардероб».
В Амстердаме у нее нет знакомых и очень мало денег. Несмотря на это, Мата Хари поселилась в дорогом отеле «Виктория». И вновь судьба протянула ей руку: однажды после церковной службы к Маргарет подошел некий незнакомец и заговорил с нею. Он оказался банкиром по имени Генрих ван дер Шельк. Она мгновенно преобразилась – вскоре он стал ее любовником.
Генрих был добрым и чрезвычайно щедрым человеком. Маргарет выдавала себя за русскую, поэтому он принялся знакомить ее с достопримечательностями страны, которую она знала не хуже него. Он оплатил все ее счета и помог «обновить гардероб». Теперь Мата Хари могла разыскать своего давнего поклонника барона ван дер Капеллена.
А между тем, Генрих, пребывавший в восторге от своей новой знакомой, представил ее некоему господину Верфляйну. Этот господин жил в Брюсселе, вел обширные дела с германскими оккупационными властями и был близким другом нового германского генерал-губернатора, барона фон Биссинга.
В свою очередь Верфляйн познакомил Мату Хари с консулом Карлом Г. Крамером, руководителем официальной германской информационной службы в Амстердаме, под крышей которой скрывался отдел германской разведки.
Обзаведясь достойным гардеробом, Маргарет наконец находит барона ван дер Капеллена. Естественно, их связь возобновилась, и барон в благодарность оделил танцовщицу-куртизанку значительной суммой денег. На этот «гонорар» она сняла в Гааге небольшой дом, а еще через несколько недель ей опять посчастливилось – Гаагский королевский театр предложил ей ангажемент.
Но сколько бы она ни получала денег, ей всегда не хватало. Она желала в любом городе и в любых условиях жить на широкую ногу.
И вот тут-то появился фон Капель – представитель немецкой разведки. Он предложил ей шпионить в пользу Германии – ведь у нее так много любовников среди военных… Мата Хари, привыкшая крутить мужчинами и не понимавшая всей серьезности происходящего, решила, что ей предлагают просто новый источник дохода. Она согласилась – за тридцать тысяч имперских марок. Так Мата Хари стала германской шпионкой. Ей даже присвоили кодовое имя – Н-21.
Более четверти века спустя, когда шла уже следующая мировая война, майор в отставке фон Репель, который в Первую мировую войну руководил центром военной разведки «Запад», рассказал, что он был куратором Маты Хари. 24 ноября 1941 года в письме начальнику контрразведки рейхсвера, генерал-майору в отставке Темпу, он писал: «Выйти на Мату Хари удалось через барона фон Мирбаха… Последний как раз порекомендовал Н-21 шефу службы секретной разведки. Тогда я еще работал в центре военной разведки „Запад“ в Дюссельдорфе и был вызван по телефону к полковнику Николаи в Кельн, где состоялась первая беседа между Н-21 и полковником Николаи. Как Мирбах, так и я советовали не пускать в Германию Н-21, которая тогда жила в Гааге. Но шеф настоял на своем».
Все именно так и было. Военные – поклонники «священной баядеры Шивы» – не забыли любимую танцовщицу, и теперь использовали в своих целях. К сожалению, сама Мата Хари была настолько самонадеянна, что не смогла оценить ситуацию должным образом…
Руководитель службы разведки полковник Николаи, проведя беседу с агентом Н-21, решил, что эта неглупая женщина может использовать все свои многочисленные любовные связи на благо Германии. И приказал немедленно приступить к ее обучению по ускоренной программе.
Далее майор фон Репель вспоминал: «В дальнейшем Мата Хари часто рассказывала мне, что ее заметили уже при переходе границы в Зевенааре. Среди сопровождавших ее людей была горничная-мулатка из Индии, которая, быть может, тоже играла двойную роль. Шеф разведки откомандировал Н-21 из Кельна во Франкфурт-на-Майне, где ее устроили в гостинице „Франкфуртер гоф“. А я и фрейлейн доктор Шрагмюллер остановились в отеле „Карлтон“. Я должен был за несколько дней проинструктировать Н-21 по политическим и военным вопросам. Фрейлейн доктор должна была определить время поездки Н-21, а также проинструктировать ее относительно ведения наблюдений и способов передачи информации. Когда мы начали инструктаж по применению особых химических чернил, в помощь мне был прислан г-н Хаберзак из разведцентра в Антверпене. В дальнейшем мы вдвоем стали обучать ее химической переписке текстов и таблиц. Тогда же состоялся разговор с руководителем разведки. Он состоялся в гостинице „Домхотель“, недалеко от Кельнского собора. При разговоре присутствовали только фрейлейн доктор и я. Получив новые задания, мы вернулись во Франкфурт-на-Майне. Старший официант отеля “Франкфуртер гоф” раньше работал старшим официантом в парижском отеле „Ритц“. Он сразу узнал Мату Хари и, как нам стало известно на следующий день, вечером пригласил ее в гости к себе домой. Я должен был проводить инструктаж Маты Хари за городом, под видом прогулок, когда за нами никто не наблюдал. Во время одной из таких прогулок она сказала, что, наверно, ей не стоило ходить в гости к обер-кельнеру и что интерес к ней этого человека вообще внушает ей сильные опасения. Похоже, что она еще с парижских времен задолжала ему какие-то деньги: я своими глазами видел, как она передавала ему чек».
По окончании инструктажа Мата Хари уехала обратно в Гаагу. Ее первым заданием было выяснение в Париже ближайших планов наступления союзников. Кроме того, во время поездки и пребывания в районах, представляющих интерес в военном отношении, она должна была отмечать, где происходят передвижения войск. Ее обязали поддерживать постоянную связь с двумя координационными центрами германской разведки.
Вскоре после возвращения Мату Хари навестил консул Крамер. Позднее, на допросе, она рассказала об этой встрече: «Консулу стало известно, что я запросила въездную визу во Францию. Он начал разговор так: „Я знаю, что вы собираетесь поехать во Францию. Не согласились бы вы оказать нам определенные услуги? Нам бы хотелось, чтобы вы собрали там для нас информацию, которая, на наш взгляд, могла бы нас заинтересовать. В случае вашего согласия я уполномочен уплатить вам 20 000 франков“. Я сказала ему, что сумма довольно скромная. Он согласился и добавил следующее: „Чтобы получить больше, вы должны сначала показать, на что вы способны“. Я попросила немного времени на раздумье.
Когда он ушел, я подумала о своих дорогих шубах, задержанных немцами в Берлине, и решила, что будет справедливо, если я вытяну из них максимум того, что смогу. Поэтому я написала Крамеру: „Я все обдумала. Можете принести деньги“. Консул пришел немедленно и выплатил обещанную сумму во французской валюте. Он сказал, чтобы я писала ему чернилами для тайнописи. Я возразила, что это будет для меня неудобно, поскольку теперь мне придется подписываться своим настоящим именем. Он ответил, что есть такие чернила, которые никто прочесть не сможет, и добавил, чтобы я подписывала свои письма Н-21. Затем он передал мне три небольших флакона, помеченных цифрами 1, 2, 3. Получив от месье Крамера 20 000 франков, я вежливо выпроводила его. Уверяю вас, что из Парижа я никогда не написала им и полуслова. Кстати говоря, эти три флакона, вылив их содержимое, я бросила в воду, едва наш пароход подошел к каналу, идущему из Амстердама в Северное море». Из этого рассказа получалось, что германский консул навестил ее сразу после проблем на швейцарской границе (когда пропустили только багаж, а хозяйку отправили обратно в Берлин), но это было не так…
Во время военных действий все военные разведки активизировались самым наисерьезнейшим образом. За каждым шагом Крамера следили британские агенты, они-то и сообщили в лондонский центр о визите консула к Мате Хари.
В декабре 1915 года она прибыла во Францию и поселилась в «Гранд-отеле». А затем приступила к выполнению своей миссии. У нее, как мы уже говорили, было множество знакомых и «близких друзей» среди военных, например, бывший военный министр Адольф Мессими, лейтенант Жан Аллер из военного министерства, наконец, Жюль Камбон, генеральный секретарь министерства иностранных дел. Мата Хари, встречаясь с ними, старалась в светской болтовне узнать у них всевозможную интересующую немецкую разведку информацию. Работала она круглосуточно…
Всю полученную информацию она добросовестно передавала германскому агенту. Ее донесения подтверждались из других источников, и потому в германской разведке к ней относились с доверием. Сведения, добытые Матой Хари, действительно помогали противникам Франции.
В одной из статей, посвященных разведывательной деятельности Маты Хари, рассказывается: «Из Парижа Мата Хари отправилась в Испанию. Эта поездка носила разведывательный характер – она получила задание провести наблюдения на железнодорожных узлах Центральной и Южной Франции за перемещением военных эшелонов и за скоплениями войск. 11 января 1916 года Мата Хари достигла франко-испанской пограничной станции Андэй и через сутки прибыла в Мадрид. Мата Хари остановилась в „Палас-отеле“ и связалась с военным атташе германского посольства, майором Калле, чтобы передать информацию о том, что она видела и слышала во время путешествия. Эта информация, видимо, показалась майору настолько важной, что он распорядился немедленно передать ее консулу Крамеру в Амстердам. Радиограмма шифровалась, как всегда, кодом министерства иностранных дел.
Никто не догадывался, что британская служба радиопрослушивания давно перехватывает его донесения. Расшифровка германских радиограмм уже не представляла для англичан особого труда, поскольку Александр Сцек из немецкого радиоцентра в Брюсселе между ноябрем 1914 года и апрелем 1915 года постепенно переписал и передал британской разведке всю кодовую книгу германского МИДа. Британская разведслужба МИ-6 могла без особых затруднений установить, какой именно агент прибыл из Парижа через Андэй в Мадрид, чтобы сообщить о своих наблюдениях военному атташе Калле. В действительности перехваченная радиограмма лишь подтвердила выводы, сделанные службой МИ-6, что Мата Хари завербована германской разведкой».
Из Мадрида она вернулась в Гаагу, откуда хотела выехать в Париж. Она подала прошение о выдаче нового голландского паспорта на имя Маргарет Целле-Маклеод. 15 мая 1916 года Мата Хари получила и паспорт, и въездную визу во Францию, куда направилась через Испанию. Однако на границе произошел неожиданный инцидент – французские пограничники отказались пропустить ее в страну, не объясняя причины и не слушая ее весьма энергичные протесты.
Не привыкшая сдаваться, Маргарет написала письмо Жюлю Камбону, генеральному секретарю французского МИДа. Но даже не успела его отправить – на следующий же день ее как ни в чем не бывало пропустили во Францию. В этой ситуации абсолютно непонятна беспечность Маты Хари – ее нисколько не насторожило поведение французских властей, и германская шпионка радостно устремилась в Париж.
Она собиралась обустроиться здесь надолго и сняла квартиру на фешенебельной авеню Анри Мартэн. И тут случайно узнала, что один очень близкий ей человек – русский офицер, штабс-капитан драгунского полка Вадим Маслов, служивший в российском экспедиционном корпусе, находится во Франции и проходит курс лечения на курорте Виттель после ранения под Верденом. Поскольку курорт располагался в закрытой фронтовой зоне, Мата Хари обратилась к лейтенанту Жану Аллеру, тому, что служил в военном министерстве, и просила его помочь получить специальный пропуск. Лейтенант посоветовал ей обратиться к его другу в военное бюро по делам иностранцев. Мата Хари явилась по указанному адресу и… оказалась лицом к лицу с капитаном Ладу, шефом французской контрразведки. Он расспросил Маргарет о ее отношениях с лейтенантом Аллером и штабс-капитаном Масловым. Наконец Мата Хари обеспокоилась, она спросила: «Так вы завели на меня дело?» Ладу ответил коротко и ясно: «Я не верю сообщению англичан, что вы шпионка». А потом пообещал помочь с получением пропуска в запретную зону. Мата Хари перевела дух и уже собралась попрощаться, но тут капитан Ладу сделал ей предложение.
Шеф французской контрразведки предложил Мате Хари стать французским агентом. Эту женщину, похоже, ничем нельзя было смутить – она попросила время на размышление.
Шел 1916 год, бывшей танцовщице и нынешней шпионке исполнилось сорок лет. Она понимала, что может тут же, на месте решить все свои запутанные проблемы, но тогда ее не пустят в Виттель. А ей надо было попасть туда любой ценой.
Дело в том, что Вадим Маслов был единственным мужчиной, сумевшим покорить знаменитую красавицу. Только его прославленная Мата Хари по-настоящему любила. А вот он к ней глубоких чувств не испытывал. Может, потому и не отставала от него влюбленная куртизанка, что сам он за ней не увивался. Вадим был моложе Маты Хари на девятнадцать лет и ее внимание ему, конечно, льстило, но особого восторга не вызывало.
И вот перед ней встал выбор. Размышляла она недолго. Естественно, любовь взяла верх – Мата Хари согласилась стать французской шпионкой.
«Зачем вы ввязались во все это, вы хотите помочь нам?» – спросил напоследок Ладу. Мата Хари невесело вздохнула: «У меня есть только одна причина. Я хочу выйти замуж за мужчину, которого люблю, и хочу быть независимой». Она еще надеялась покорить русского офицера, как покоряла всех остальных военных…
Ладу наобещал ей золотые горы, но потребовал сначала выполнить задание. Мата Хари была готова на все, лишь бы получить вожделенный пропуск к Вадиму.
Из кабинета шефа французской разведки она вышла с пропуском и – уже двойным агентом.
В Виттеле Мата Хари пробыла с 1 по 15 сентября 1916 года. Целых две недели с любимым. Две недели счастья. Следившие за ней агенты Ладу отмечали, что шпионку не интересуют никакие военные объекты. Они ее и не интересовали – Мата Хари прибыла в запретную зону исключительно ради Вадима Маслова.
Но «каникулы» окончились, и она вернулась в Париж, где сообщила Ладу, что готова к действиям. Капитан, зная о ее знакомствах, предложил ей поехать в Бельгию и восстановить отношения с месье Верфляйном, близким другом генерал-губернатора Бельгии. На что Мата Хари с готовностью ответила: «Я напишу Верфляйну и поеду в Брюссель, прихватив свои самые красивые платья. Я буду часто посещать германское верховное командование…» А еще она добавила, что не желает «размениваться по мелочам» и постарается достать ни много ни мало планы германского верховного командования, касающиеся ближайшего наступления. Ладу с сожалением смотрел, как излишне самоуверенная (или потерявшая голову от любви?) женщина собственными руками роет себе яму…
Какое-то время она и впрямь побыла двойной шпионкой. Вернее, значилась таковой, поскольку сведения, добытые ею, мало повлияли на ход военных действий. По сравнению с настоящими резидентками германской разведки она была не просто дилетанткой, но пустым местом. Бедняжке Мате Хари страстные танцы удавались куда лучше, чем шпионские страсти. И все же ее зачем-то терпели…
Однако терпели недолго. Утром 13 февраля 1917 года в дверь ее номера в «Элизе-палас-отеле» постучали. За ней пришел шеф парижской полиции Приоле и пятеро его подчиненных. Приоле предъявил ордер на арест Маргарет Целле-Маклеод по обвинению в шпионаже.
Ее поместили в тюрьму Фобур-Сен-Дени в СенЛазаре, откуда она немедленно подала прошение руководству тюрьмы: «Я невиновна и никогда не занималась какой-либо шпионской деятельностью против Франции. Ввиду этого прошу дать необходимые указания, чтобы меня отсюда выпустили». Порой она была фантастически наивна.
Потом начались допросы, которые длились четыре месяца. Ее адвоката допустили на допросы всего два раза. Было ясно, что дело превращают в показательный процесс, а значит, ей уже не вырваться из лап военной разведки. Это было ясно адвокату, но не ей. Она продолжала надеяться на свою обольстительную красоту и высокопоставленных друзей.
Когда ей предъявили обвинение в том, что она выдала немцам тайну секретного французского оружия – боевого танка, – Мата Хари потеряла дар речи.
Затем эту авантюристку обвинили в гибели пятидесяти тысяч французских солдат.
Французские власти откровенно выставляли заигравшуюся в политику женщину виновницей всех своих военных неудач и огромных потерь.
Двадцать четвертого июля 1917 года Мата Хари предстала перед военным трибуналом. Все судебное разбирательство было очень неубедительным, поскольку прямых доказательств ее вины у властей не было. Говорят, накануне процесса один из ее бывших любовников генерал Массар приказал судьям: «Мата Хари должна быть признана виновной. Если эту женщину нельзя будет расстрелять как шпионку, ее нужно сжечь как ведьму». Вот прокурор и судьи и старались.
Обвиняли Мату Хари в том, что ей давали очень много денег различные политики, на что она отвечала, что это за оказанные сексуальные услуги. Говорили, что мелодия, под которую она танцует, содержит послания. Основной уликой на суде стал список денежных переводов, адресованных танцовщице, и найденные при аресте симпатические чернила, которые, как утверждала обвиняемая, были обычными каплями от головной боли.
Мата Хари выбрала единственно правильный путь, хотя и тупиковый – она отрицала свою причастность к вражеской разведке. Все деньги, которые она получала, Мата Хари назвала «подарками за любовь», которой она одаривала различных высокопоставленных чиновников и военных. И если кто-то из них после «требовал возмещения затрат из фондов германских спецслужб, значит, он не является джентльменом, каковым она его считала». Она даже признала, что получила 20 тысяч франков в мае 1916 года от немецкого консула в Амстердаме. Да, консул сказал тогда, что это якобы аванс за будущую информацию о состоянии французских войск, но она-то не собиралась давать ему никакую информацию и считала эти деньги компенсацией за меха, отобранные у нее немцами в Берлине в 1914 году!
В числе обвинений упоминалась и поездка Маты Хари в запретную фронтовую зону. Прокурор Бушардон с пылом доказывал, что никакая любовь здесь ни при чем, а была Мата Хари там исключительно из «шпионских» соображений. В качестве «улики» была предъявлена фотография Маргарет и Маслова, сделанная в Виттеле. На обратной стороне фотографии рукой Маты Хари было написано: «На память о самых прекрасных днях моей жизни, проведенных с чудесным Вадимом, которого я люблю больше всего на свете». И этот сувенир влюбленной женщины был приобщен к обвинительным документам.
Кстати, Маслов позже утверждал, что их отношения были обычной, совершенно рядовой любовной связью, которая ничего для него не значила и ничем особенным не выделялась среди множества других. На процесс против своей любовницы он вообще не явился, хотя его вызывали в качестве свидетеля. Для Маты Хари такое поведение возлюбленного стало тяжким разочарованием.
Возможно, его предательство и сломило ее сопротивление. Ей стало все равно. В своем эмоциональном последнем слове она заявила трибуналу: «Если кто-то и платил мне, то это была французская контрразведка, так как я работала только на нее. То, что я состояла в интимной связи с людьми в разных странах, еще не говорит о том, что я шпионила в их интересах… Пожалуйста, примите во внимание, что я не француженка и имею право поддерживать любые отношения, с кем я хочу и как хочу. Война – недостаточное основание, чтобы я перестала быть космополиткой. Я придерживаюсь нейтральных взглядов, но мои симпатии на стороне Франции. Если вас это не удовлетворяет, делайте, что хотите!»
Прокурор потребовал смертной казни.
Вечером на второй день судебного разбирательства секретарь прочел решение суда: «Именем Республики и французского народа военный суд, признав голландскую подданную, именующую себя Матой Хари, виновной в шпионаже против Франции, постановляет осудить ее к смертной казни».
Мата Хари послала прошение о помиловании президенту Франции, но в помиловании ей было отказано. А когда ранним утром 15 октября 1917 года за ней пришли, чтобы вести на казнь, она быстро взяла себя в руки и сказала монахиням, пришедшим поддержать бедную заблудшую осужденную: «Оставьте, сестры. Я знаю, как держать себя, и знаю, как должна умереть».
Надо отдать должное некоторым ее бывшим любовникам, не все отвернулись от нее, как Маслов и Массар. Один из них, кстати, занимавший весьма значительный пост, официально объявил, что она беременна от него. Поскольку по французским законам беременную женщину казнить нельзя, по дороге к месту казни у нее стали выяснять, действительно ли она ждет ребенка? Но Мата Хари лишь горько усмехнулась: «Беременна?.. Мне бы очень хотелось…» (К сожалению, не сохранилось сведений о ее дочери.)
Перед смертью Мата Хари произнесла: «Любовь намного страшнее того, что вы можете со мной сделать». Она думала о Вадиме, о его предательстве, о том, что ей больше не для чего жить…
Когда ей хотели завязать глаза, она отказалась. Так и стояла Мата Хари – худенькая, измученная женщина в черном шелковом платье и черной шляпке – и смотрела прямо в дула направленных на нее ружей. На прощание она послала двенадцати солдатам воздушный поцелуй…
Раздался залп. Из двенадцати пуль в цель попала лишь одна – и попала прямо в сердце… Лишь один солдат выстрелил в нее, остальные стреляли в воздух.
«Высокая, стройная, она гордо держит на чудесной белоснежной шее очаровательную головку. Ее лицо идеальной формы. Полные губы гордо, но сладострастно изгибаются под прямым и тонким носом. Роскошные, бархатные, нежные темные глаза оттеняются очень длинными, мягко загнутыми ресницами.
Мечтательность ее взора напоминает вечную тайну, присущую самому Будде. Ее взгляд полон очарования. Он обнимает всю Вселенную. Иссиня-черные, разделенные тонким пробором волосы придают ее лицу чрезвычайно значительную экспрессию. Это создание излучает восторг, завораживает и ошеломляет …» – так писал о Мате Хари знаменитый французский писатель Поль Бурже.
Говорят, что современные земляки Маргарет, жители ее родного городка, подали иск в суд – они хотят восстановить ее доброе имя, так как и по сей день ее вина не доказана. В суде обещали иск рассмотреть, но в общем порядке. Быть может, вскоре правосудие снимет с Маты Хари обвинение в шпионаже. И тогда весь мир будет говорить о ней только как о талантливой исполнительнице чувственных восточных танцев.
Когда-то Мата Хари восклицала: «Мужчин так много, а я всего одна!» И вдруг весь свет сошелся клином на одном-единственном, и не стало больше для нее других мужчин. Однако, по иронии судьбы, именно этот единственный и стал причиной ее гибели. Какой искушенной и опытной ни казалась она себе и окружающим, но с любовью сладить и ей не удалось. Вероятно, только рядом с блестящим русским офицером она и чувствовала себя той, которой столько лет называлась, лишь с «чудесным Вадимом» Мата Хари была – «Дитя рассвета»…
Босоножка и королевич. Айседора Дункан и Сергей Есенин
Какой-то истинный ценитель красоты однажды сказал: «Нет ничего прекраснее скачущей лошади, плывущего корабля и танцующей женщины».
Как раз такой прекрасной танцующей женщиной и была великая Айседора Дункан. Ее внешность вызывала споры: кто-то считал Айседору красавицей, а кто-то толстоватой экзальтированной особой, но еще большие споры вызывало ее искусство танца. Хотя почти никто не сомневался, что это было именно Искусство.
Айседора прожила всего пятьдесят лет, но это были годы, наполненные до отказа, вместившие в себя едва ли не все, что может выпасть человеку на земле…
Изадора Анджела Денкан (так правильно произносится ее имя) родилась в Сан-Франциско 27 мая 1878 года. Ее родители развелись, когда она была еще грудным ребенком. Отец бросил жену с четырьмя детьми на руках. Мать, которая была музыканткой и давала частные уроки, растила всех детей одна, и работать ей приходилось очень много. Мама часто задерживалась допоздна, и уже подросшая, предоставленная самой себе Айседора почти каждый день гуляла в одиночестве на морском берегу, предаваясь фантазиям. Природа так сильно действовала на девочку, что воспитанная на музыке и поэзии, она начинала танцевать свои фантазии, подражая ветру и морским волнам. Постепенно эта жизнь в танце стала для нее так же естественна, как дыхание. И как нельзя жить не дыша, так Айседора не могла жить не танцуя.
Бросив школу, которая не приносила ей никакого удовлетворения, Айседора серьезно занялась музыкой и танцами. Когда ей исполнилось восемнадцать, она отправилась в Чикаго. Здесь началась ее новая жизнь. Айседора выступала в «Богеме», клубе, где собирались бедные и непризнанные поэты, артисты, композиторы. В этой богемной среде юная танцовщица познакомилась с сорокапятилетним поляком Иваном Мироцким. Рыжий и бородатый поляк любил сидеть в углу и, покуривая трубку, с иронической улыбкой наблюдать за развлечениями собравшихся. Мироцкий был беден, однако он находил средства на то, чтобы сводить Айседору в недорогой ресторан или вывезти за город на пикник.
Они часто проводили время вместе, и наконец Мироцкий признался, что уже давно и страстно влюблен в Айседору. Он даже сделал ей предложение руки и сердца, и неискушенная в любовных делах девушка ответила на его чувства. Она тогда искренне верила, что этот солидный и заботливый человек станет любовью всей ее жизни.
В это время Дункан получила предложение выступать на светских вечеринках. Ее «подавали» гостям как экзотическое дополнение к веселью – сторонница свободной стихии танца, Айседора танцевала босиком, что крайне шокировало публику.
А затем она получила небольшую роль в нью-йоркском театре. Конечно, Айседора засобиралась в Нью-Йорк, что страшно расстроило Мироцкого. Но Дункан обещала ему, что, как только она достигнет успеха в Нью-Йорке, они сразу поженятся. В те годы Айседора еще уважительно относилась к брачным обязательствам.
В Нью-Йорке ее приняли в труппу. Через год она приехала с театром на гастроли в Чикаго. Айседора предвкушала встречу с женихом, и она действительно оказалась радостной. При каждой возможности они старались остаться наедине, но когда Айседоре нужно было возвращаться в Нью-Йорк, ее брат выяснил, что у Мироцкого есть жена в Лондоне. Это известие привело в ужас не только мать предполагаемой невесты, но и саму Айседору. На этом роман окончился. Первая любовь осталась позади…
Свое искусство танца Айседора создала после изучения танцевального искусства Греции и Италии, а также системы ритмической гимнастики, разработанной Франсуа Дельсартом. Она считала, что танец – это естественное продолжение движения, он отражает эмоции и характер исполнителя, и что «импульсом для появления танца должен стать язык души».
Исследователи творчества Айседоры Дункан отмечают, что «одним из своих духовных отцов Айседора называла поэта Уолта Уитмена. Уитмен, как и Дункан, прославлял тело человека и все сущее, все сотворенное природой. Айседора брала у каждого философа, художника, поэта только то, что было близко ей, совпадало с ее стремлениями. Наряду с философами она изучала композиторов – их музыку и теоретические взгляды. Бетховен был для нее учителем, создавшим, как писала она в своей автобиографической книге, „танец в мощном ритме“. С Вагнером Дункан сближало как стремление к синтезу искусств, так и приверженность античности».
В 1898 году весь гардероб Айседоры был уничтожен страшным пожаром в гостинице «Виндзор» в Нью-Йорке, поэтому во время своего очередного выступления она вышла на сцену в наскоро сымпровизированном костюме. Зрители вновь были шокированы – Айседора появилась перед ними практически обнаженной. Крепкое стройное тело юной танцовщицы облегали струящиеся одежды, прихваченные под грудью и на плечах по античному образу. С этого момента такая воздушная туника стала сценическим нарядом Айседоры Дункан. Босые ноги довершали создаваемый ею образ.
Несмотря на шок, публика с восторгом приняла выступление талантливой танцовщицы. Такой успех придал ей смелости, и вскоре Айседора отправилась в большое турне по Европе и очень быстро стала любимицей всего континента. Она заключила контракт с известным импресарио Александром Гроссом, который организовал ее сольные выступления в Будапеште, Берлине, Вене и других театральных столицах Европы. Заинтригованная потоками слухов и восторгов, публика буквально осаждала театры, чтобы увидеть новое чудо, новую звезду – страстную, вдохновенную Айседору, каждый раз неожиданную, потому что у нее не было поставленных танцев: она всегда импровизировала. Ее импровизации были не простыми плясками под музыку и не дурманящей восточной экзотикой (как у Маты Хари), а попыткой глубокого проживания музыки и передачи эмоций языком танца. Любимыми произведениями Айседоры тогда были «Голубой Дунай» Штрауса и «Похоронный Марш» Шопена.
Когда прекрасная Айседора танцевала в потрясающе красивом городе Будапеште, на улицах вовсю буйствовала весна. А в театральных залах буйствовала от восторга венгерская публика. Столь же восторженно аплодировал ей и некий молодой венгр, которому суждено было, по словам Дункан, «превратить целомудренную нимфу, какой я была, в вакханку».
Но познакомились они уже после нескольких выступлений Дункан, в одной дружеской компании. Айседора вспоминала, что вдруг встретилась взглядом с большими черными глазами, «сверкавшими таким безграничным поклонением и такой венгерской страстью, что в одном взгляде таился весь смысл весны в Будапеште». Черноглазый красавец, высокий и прекрасно сложенный, оказался известным венгерским актером Оскаром Бережи. Он подарил Айседоре билеты в ложу Королевского национального театра на спектакль, в котором он играл Ромео…
Столь романтичное знакомство имело не менее романтичное продолжение. После нескольких приятных встреч, они стали любовниками. Самые счастливые дни в Венгрии для Айседоры были связаны с Оскаром и крестьянской лачугой, в которую он увозил ее несколько раз.
Но и эта сказка закончилась, едва гастроли подошли к концу. «Я испытала ни с чем не сравнимую радость: проснувшись на рассвете, увидеть, что мои волосы запутались в его черных душистых кудрях, и чувствовать вокруг своего тела его руки», – вспоминала она об их недолгом счастье.
После Оскара Бережи в жизни Айседоры мелькнул Хенрик Тоде. Правда, отношения с этим женатым писателем были чисто платоническими.
А затем, в декабре 1904 года, Айседора познакомилась с художником-декоратором Гордоном Крэгом, сыном известной английской актрисы Эллен Терри. Дункан приметила его во время выступления. А после спектакля он неожиданно явился в ее гримерную и весьма эмоционально заявил: «Вы чудесны, вы удивительны, но зачем вы украли мои идеи, откуда вы достали мои декорации?»
«О чем вы говорите? – удивилась Дункан. – Это мои собственные голубые занавеси. Я придумала их, когда мне было пять лет, и с тех пор я всегда танцую на их фоне».
В ответ эмоциональный Крэг воскликнул, что она принадлежит его декорациям. А потом он буквально выкрал Айседору с семейного ужина, куда его любезно пригласила мать актрисы, и привез в свою студию… Вырвавшийся на волю ураган чувств захватил их обоих – на несколько дней.
Тем временем мать Айседоры и ее импресарио безуспешно разыскивали танцовщицу в полицейских участках, во всех посольствах, гостиницах и ресторанах. Публике объявили, что Айседора Дункан серьезно больна…
Талантливый, взбалмошный Крэг был одним из гениев нашей эпохи, с которого начался весь современный театр, с многообразием его школ и направлений. Гордон пребывал в состоянии постоянной экзальтации. И не только в творчестве, но и в жизни. Влюбленные вели бесконечную битву, каждый отстаивал первенство своего искусства. «Почему ты не бросишь театр? – вопил он Айседоре. – Почему ты желаешь появляться на сцене и размахивать вокруг себя руками? Почему бы тебе не оставаться дома и не точить мне карандаши?»
Никто из них не хотел уступать другому. Они были слишком похожи для того, чтобы сосуществовать долго и мирно. При этом они были безумно влюблены и, когда находились в разлуке, заваливали друг друга горами нежнейших писем. Однако в конце концов влюбленные расстались.
А Дункан родила девочку – Дидру. Айседоре тогда было двадцать девять лет.
В 1907 году танцовщица дала несколько концертов в Санкт-Петербурге. Здесь она попыталась завязать роман с Константином Станиславским, который восхищался ее искусством. В автобиографии Дункан так описала этот эпизод: однажды она, решив взять «дело» в свои руки, поцеловала его в губы, «у него был страшно удивленный вид… он, глядя на меня, с ужасом воскликнул: „Но что же мы будем делать с ребенком?“ – „Каким ребенком?“ – поинтересовалась я. „Нашим, конечно“. Я расхохоталась, а он посмотрел на меня с грустью и ушел».
Через два года сын знаменитого магната Парис Зингер предложил Айседоре свою любовь и покровительство. Она вспоминала, что когда он представился: «Парис Юджин Зингер», в голове у нее пронеслось: «Вот он, мой миллионер».
Дункан согласилась стать его любовницей. Она называла его Лоэнгрином – он был высок, строен, со светлыми вьющимися волосами. Лоэнгрин подарил Айседоре семь лет безмятежного счастья и сына Патрика. Однако Парис был ревнив и требовал от уже привыкшей к флирту и поклонению Айседоры сдержанного поведения. Это условие не устраивало самостоятельную Дункан, которая к тому же любила часто повторять, что ее нельзя купить. Между Айседорой и прекрасным, благородным Парисом стали случаться ссоры. После одного из наиболее крупных скандалов Дункан решила, как она это обычно делала, забыться в работе и отправилась на гастроли в Россию. Это была зима 1913 года, именно в это время у нее начались видения: бедной женщине повсюду мерещились знаки смерти, а однажды привиделись среди российских сугробов два детских гроба. Материнская душа была не на месте – Дункан приехала к матери, забрала детей и увезла их в Париж, где все семейство радостно встретил Парис.
Побыв какое-то время с родителями, дети с гувернанткой отправились в Версаль. Автомобиль по дороге вдруг остановился – заглох мотор, шофер вышел посмотреть, что случилось, и тут машина поехала. Автомобиль, в котором сидели дочь и сын Айседоры со своей няней, скатился со склона холма и утонул в Сене.
Айседора была потрясена, горе было настолько велико, что несчастная мать не могла плакать. Близкие стали опасаться за ее рассудок. От этого страшного удара она не оправилась до конца своей жизни…
Боль утраты не сплотила Айседору и Париса. Они расстались.
«Я не могла дольше переносить этого дома, в котором я была так счастлива, я жаждала уйти из него и из мира, – писала Дункан через несколько лет о своей парижской квартире, – ибо в те дни я верила, что мир и жизнь умерли для меня. Сколько раз в жизни приходишь к такому заключению. Меж тем, стоит заглянуть за ближайший угол, и там окажется долина цветов и счастья, которая оживит нас».
Такой спасительной долиной для Айседоры стала революционная, голодная и холодная Россия 1921 года.
Она получила официальное предложение от наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского открыть школу в Москве. Поверив многочисленным обещаниям советского правительства, Айседора поехала в Россию – в прошлые свои посещения, когда еще только начинались революционные события, она почему-то решила, что именно в этой стране надо искать новые формы в искусстве и в жизни. К тому же Айседора давно мечтала открыть в России свою собственную школу танца для девочек.
Одним из обещаний наркома просвещения было разрешение танцевать в… храме Христа Спасителя. Говорят, Дункан страстно желала танцевать именно там – обычные театральные помещения больше ее не вдохновляли. Однако Луначарский обманул танцовщицу: ей не довелось показать свое «языческое искусство» в храме Христа Спасителя. Выступать Дункан пришлось «всего лишь» в Большом театре. А в качестве компенсации ей выделили для школы и личного проживания целый особняк – роскошный дом на Пречистенке.
Дом этот был построен в XVIII веке и сменил немало хозяев. В 1900-х годах здесь поселился миллионер А. К. Ушков. Его жена, балерина Александра Михайловна Балашова, блистала на сцене Большого театра. Для домашних репетиций в особняке была оборудована специальная комната с зеркальными стенами. Вероятно, именно поэтому Айседоре и выделили этот особняк.
Прибыв в советскую Россию, Дункан решила первым делом познакомиться с новой богемой и принялась ходить по ресторанам и кафе, где собирались поэты, музыканты, художники. Как раз в этой среде она и встретила свою очередную любовь.
Они познакомились, правда, не в кафе, а на вечере у художника Московского камерного театра Георгия Богдановича Якулова. Надо заметить, что Есенин – человек влюбчивый, отчаянный и по-своему сумасшедший – сам искал этой встречи. Причем искал с такой страстью, что его закадычный друг, неразлучный с ним поэт Анатолий Мариенгоф спустя два года рассказывал: «Что-то было роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо!»
О том, что происходило у Якулова, написал в своих воспоминаниях журналист и театральный работник Илья Ильич Шнейдер.
«Появление Дункан вызвало сначала мгновенную тишину, а потом радостные крики: „Дункан!“
Дункан увели в соседнюю комнату, а меня в это время чуть не сшиб с ног какой-то человек в светло-сером костюме. Он кричал: „Где Дункан? Где Дункан?“ – и ураганом пронесся в соседнюю комнату. Я не успел разглядеть его лица.
– Кто это? – спросил я Якулова.
– Есенин, – засмеялся он.
Немного спустя мы с Якуловым подошли к Айседоре. Они сидела на софе. Есенин стоял около нее на коленях, она гладила рукой его волосы, скандируя по-русски:
– За-ла-та-я га-ла-ва…
Они проговорили целую ночь. Гости уже расходились. Айседора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней».
Когда Дункан, Есенин и Шнейдер вышли на улицу, им попалась пролетка, в которую они сели втроем. Уже рассвело, и ночной извозчик клевал носом.
«Ехали мы очень медленно, что моим спутникам, по-видимому, было совершенно безразлично. Они казались счастливыми.
Ни Айседора, ни Есенин не заметили, что дремлющий извозчик кружит нас вокруг церкви.
– Эй, отец! – тронул я его за плечо. – Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, три раза ездишь.
Есенин встрепенулся, а узнав, в чем дело, радостно рассмеялся.
– Повенчал! – хохотал он, поглядывая заблестевшими глазами на Айседору.
Дункан, узнав, что произошло, закивала головой:
– Mariage…[4]
Извозчик остановился у подъезда нашего особняка.
Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались. Айседора посмотрела на меня виноватыми глазами и просительно произнесла:
– Иля Илич… Ча-ай?
– Чай, конечно, можно организовать, – сказал я, и мы все вошли в дом.
Айседора не знала почти ни одного слова по-русски, а Есенин не владел ни одним из иностранных языков. Поэтому они мучали меня, прибегая к моей помощи, когда были совершенно не в состоянии понять друг друга, хотя оба и уверяли меня, что понимают прекрасно, „объясняясь образами Шелли, Шиллера, Байрона, Гете“.
– Он читал мне сейчас свои стихи, – говорила мне тогда Айседора, – я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка!»
Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. В два года мальчика отдали на воспитание деду по материнской линии.
Когда Сергею исполнилось девять лет, его определили учиться в земское училище, которое он окончил через пять лет с похвальным листом и рекомендацией для поступления в Спас-Клепиковскую церковно-учительскую школу. Родные прочили талантливому мальчику карьеру сельского учителя, но самого Сергея такое будущее не прельщало. Проучившись три года в церковно-учительской школе, он уехал в Москву, где, поработав немного у отца в мясной лавке, поступил на службу в издательство. Но работа не оставляла времени на то, чтобы писать стихи, и Сергей службу бросил.
Стихи Есенин писал с восьми лет. Он вспоминал, что бабушка в детстве рассказывала ему сказки, и, если конец истории ему не нравился, он его переделывал – так началось творчество, а вот стихи в нем зазвучали под воздействием частушек…
До встречи с Айседорой у Есенина была довольно бурная жизнь. Он влюблялся и расставался с женщинами, много пил, дебоширил и вообще имел скандальную репутацию. Одно время он был женат на известной актрисе Зинаиде Райх, которая родила ему двух детей. Разошлись они, когда она еще носила второго ребенка.
Несмотря на неспокойный, а порой и буйный характер Есенина, женщины страстно его любили. Столь же страстно влюблялся и сам Есенин. Одна из его возлюбленных – Галина Бениславская, с которой он сошелся уже после того, как расстался с Айседорой, писала о нем: «Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия не только в стихах, а в каждом движении… Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль – разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность».
Эта стихийность и захватила открытую всем стихиям Айседору. Страстная натура молодого поэта помогла Дункан избавиться от «призраков прошлого» и вступить в новую полосу жизни.
Говорят, что Есенин сделал предложение Дункан в центральном зале гостиницы «Метрополь». Не очень романтичное место, на зато у всех на виду.
Вскоре Есенин переехал на Пречистенку, в особняк Айседоры. Удивительно, но этот крестьянский парень, моложе Дункан на пятнадцать лет, был ее единственным мужем. Ни миллионерам, ни знаменитым актерам, ни художникам не удавалось уговорить «божественную Айседору» выйти за них замуж, а безденежному и не известному за границей Есенину удалось…
Многие считали, что она пошла на брак лишь для того, чтобы у поэта не было неприятностей в Америке, куда они собирались поехать вместе. В Штатах в то время свирепствовала «полиция нравов», и даже Максиму Горькому не удалось избежать разбирательств с властями, потому что он не был обвенчан со своей женой, Марией Федоровной Андреевой.
Но, возможно, у Айседоры была и другая причина. Ее прежние (и последующие) декларации свободной любви происходили, скорее всего, не от хорошей жизни. Неудачная первая любовь сподвигла Айседору доказывать всем, и себе в первую очередь, что роман с женатым мужчиной не является грехом и преступлением. Однако, встретив и полюбив Есенина, она почувствовала, что в любви никакие декларации не требуются…
Но радость Дункан и Есенина разделяли далеко не все знавшие их люди. В книге «Алмазный мой венец» Валентин Катаев писал следующее: «В совсем молодом мире московской богемы она воспринималась чуть ли не как старуха. Между тем люди, хорошо знавшие ее, говорили, что она необыкновенно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет, слегка по-англосакски курносенькая, с пышными волосами, божественно сложенная.
Так или иначе, она влюбила в себя рязанского поэта, сама в него влюбилась без памяти, и они улетели за границу из Москвы…»
Московское общество, на самом деле, было страшно недовольно связью Есенина с Дункан. Каждый острослов считал необходимым высказаться по этому поводу:
Есенина куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан,– писал один.
Другие величали Айседору Дункан не иначе как «Дуня с Пречистенки». А в московских кабаре распевали:
Не судите слишком строго, Наш Есенин не таков. Айседур в Европе много — Мало Айседураков!Но Айседора русского языка не знала, а Есенин только хохотал над всеми язвительными выпадами. Он любил Айседору, и мнение других его нисколько не интересовало.
Однако в ночь перед регистрацией брака Айседора попросила своего переводчика Илью Шнейдера подправить дату ее рождения в паспорте. Шнейдер, глядя на счастливую и смущенную женщину, совершенно искренне сказал, что подправить, конечно, можно, но «по-моему, вам этого и не нужно!»
«Это для Езенин, – объяснила Дункан. – Мы с ним не чувствуем пятнадцати лет разницы. Но она тут написана, а мы завтра дадим эти паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно…»
И Шнейдер исправил дату рождения Айседоры.
А на другое утро, 2 мая 1922 года, в безликом загсе Хамовнического совета Есенина и Дункан объявили мужем и женой. Они оба взяли двойную фамилию.
За границу Айседора ехала не просто так, чтобы вернуться, нет, у нее была новая идея. О появлении этой идеи Шнейдер пишет, что после одного урока танца с детьми (в школе Дункан было сорок девочек) Айседора сказала: «Вот моя награда! Газеты Европы и Америки перед моим отъездом в Москву скептически пророчили мне неудачу. Если бы они могли увидеть сейчас этих русских детей! Я всегда знала, что русские необычайно музыкальны, а способность их к танцу давно известна всему миру… Если бы можно было сделать так, чтобы этих детей увидал мир!»
Дункан тут же отправила телеграмму известному американскому импресарио Юроку: «Можете ли организовать мои спектакли участием моей ученицы Ирмы двадцати восхитительных русских детей и моего мужа знаменитого русского поэта Сергея Есенина телеграфируйте немедленно Айседора Дункан».
Ответ из Нью-Йорка пришел очень быстро, он гласил: «Интересуюсь телеграфируйте условия и начало турне Юрок».
Вот так и получилось, что Айседора заторопилась за границу, чтобы приготовить все к показательному выступлению ее танцевальной школы.
Началась семейная жизнь двух творческих, одаренных людей. Это всегда непростое дело. А тут сошлись совершенно взрывные натуры. В большей степени таким человеком был, конечно, Есенин. Правда, Айседора вела себя с ним на удивление терпеливо, она сносила от Сергея немыслимые оскорбления и даже побои. Возможно, она и не понимала смысла его отвратительных ругательств, но чуткому музыкальному слуху Дункан вполне хватало интонаций.
Она терпела не только его побои, но и истеричные уходы, и столь же экзальтированные возвращения. В порыве гнева он не раз писал ей, чтобы она забыла о нем, и передавал письма через своих друзей. Но часто эта почта приходила позже, чем возвращался сам автор… При очередной вспышке раздражения не умеющий держать себя в руках Есенин швырял в жену сапогом или посылал ко всем чертям, а она нежно улыбалась и повторяла на ломаном русском: «Сергей Александрович, я люблю тебя…» И чувствительный Есенин просил у нее прощения.
В отношении Айседоры к молодому мужу было что-то материнское и в то же время очень женское. Она воспринимала его чуть ли не ангелом, при том что вел он себя хуже черта. Но влюбленная Айседора как заклинание писала губной помадой на стенах, столах и зеркалах «Есенин – ангелъ»…
К сожалению, в советской России заклинание не работало. Айседора очень надеялась, что, вырвав его из привычной «кабацкой» обстановки и увезя подальше от бесшабашных, бесконечно пьющих дружков, она поможет ему измениться, избавиться от ужасающих перепадов настроения и создаст наилучшую атмосферу для творчества.
Через неделю после женитьбы Дункан и Есенин вылетели на самолете в Кенигсберг. Поэт летел впервые в жизни и очень волновался. Дункан, как заботливая мать, приготовила для него корзинку с лимонами – на случай, если его будет укачивать.
Сидя в самолете, «божественная Айседора» думала, что впереди их ждет только лучшее! Но лучшее осталось позади – в Москве, в особняке на Пречистенке…
Из Кенигсберга они выехали в Берлин, где Есенин, отдохнув с дороги, вновь взялся за старое и привычное – он стал пить и вести себя грубо и развязно. Они поселились в первоклассном отеле «Адлон», где их посетил Максим Горький. Он записал свои впечатления:
«Эта знаменитая женщина, приведшая в восторг тысячи эстетов, рядом с этим маленьким, замечательным рязанским поэтом казалась совершенным олицетворением всего того, что ему не нужно… Разговор между Есениным и Дункан происходил в форме жестов, толчков коленями и локтями… Пока она танцевала, он сидел за столом и, потирая лоб, смотрел на нее… Айседора, утомленная, падает на колени и смотрит на поэта с улыбкой любви и преклонения. Есенин кладет руку на ее плечо, но при этом резко отворачивается… Когда мы одевались в передней, чтобы уходить, Дункан стала нас нежно целовать. Есенин разыграл грубую сцену ревности, ударил ее по спине и воскликнул: „Не смей целовать посторонних!“ На меня эта сцена произвела впечатление, будто он делает это только для того, чтобы иметь возможность назвать присутствующих „посторонними“…»
Ко всем внутренним проблемам Есенина добавилась еще одна – здесь, за границей, его никто не знал и никто им не интересовался, кроме немногочисленных русских. Он вдруг оказался «мужем великой Айседоры», так сказать, придатком. С его болезненным самолюбием такое положение вещей только усилило душевный разлад. Есенин затосковал по московской разгульной жизни, по шумным выступлениям на разных сценах и в литературных кабаре, а бороться с тоской он умел только одним способом – еще больше пить.
Дункан, живя в России, в «лихорадке советских будней» отвлеклась от своих горьких воспоминаний, но, вернувшись в Европу и очутившись в привычной атмосфере, буквально через несколько дней ощутила, что боль вернулась.
Русская поэтесса, жена Алексея Николаевича Толстого, Наталья Крандиевская-Толстая в своих воспоминаниях описала встречи с Есениным и Дункан в Берлине. Одна из этих встреч произошла на улице. Наталья Васильевна шла со своим пятилетним сыном Никитой и, увидев Есенина, окликнула его. Сергей был с Айседорой, и они подошли поздороваться. Вдруг Дункан взглянула на мальчика «и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливались слезами». Потом она застонала и опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.
И Есенин, и Крандиевская-Толстая пытались ее поднять, и наконец она встала и, «накрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого…»
Дело в том, что сын Айседоры был очень похож на маленького Никиту Толстого. Наталья Васильевна по этому поводу замечает: «…но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная».
Из Берлина Дункан и Есенин прибыли в Париж, где опять поселились в отеле. Айседора не могла находиться в своем парижском доме – ее по-прежнему мучили воспоминания о погибших детях.
Но и в отеле не было ей покоя. Скандалы продолжались. Теперь попивать стала и она. Есенин словно с цепи сорвался – казалось, вся Европа стонет от этого белокурого юноши с неустойчивой психикой… А он все ершился и никак не мог сладить со своими совершенно детскими обидами на весь свет.
Роскошный образ жизни, к которому привыкла Дункан, здорово растряс ее финансы. У нее почти не осталось денег. Чтобы изыскать новые средства для своей школы, она решилась ехать из Европы в Америку. Но натолкнулась на неожиданное препятствие. Выйдя замуж за Есенина, она потеряла американское подданство. А когда ей удалось получить визу, и они с Есениным прибыли на пароходе «Париж» в Нью-Йорк, она была чрезвычайно неприятно удивлена встречей, которую ей устроили власти. Нерадушный прием был объяснен «советскими взглядами мисс Дункан, высказанными ею в печати».
Разобидевшаяся Айседора принялась на всех своих выступлениях произносить революционные речи и устраивать в пролетарских кварталах вечера для коммунистически настроенной публики. Возможно, что политика тут ни при чем. Наверно, так она хотела создать для Есенина атмосферу, хоть немного напоминающую родину. Но он ее стараний не оценил. И продолжал вести себя точно так же, как в Европе…
Теперь и Дункан от него не отставала – она устраивала ему некрасивые сцены ревности и приходила в бешенство от каждого его взгляда на другую женщину. Айседора могла закатить жуткую сцену прямо на официальном приеме или на дружеской вечеринке.
Возмутив пуританскую Америку, скандальная пара вернулась в Париж.
Едва они разместились в очередном номере отеля, как случился грандиозный скандал: ночью пьяный Есенин, в состоянии полного беспамятства, начал бить все, что попадалось ему под руку, и страшно ругаться. С большим трудом полиция доставила его в участок. Когда на следующее утро Дункан уезжала из отеля, она сказала: «Теперь все кончено!»
Она потребовала немедленного отъезда Есенина в Россию. Он сердито согласился и даже отправился в путь, но с бельгийской границы явился обратно – не смог перенести разлуки с Айседорой…
И опять они помирились. А потом вернулись в Москву. На вокзале Айседора сказала встречавшему их Илье Шнейдеру по-немецки: «Вот, я привезла этого ребенка на его родину, но у меня нет более ничего общего с ним…»
Но, как пишет Шнейдер, пока это были одни слова.
Вместе с Есениным они поехали в подмосковное Литвиново, где отдыхала детская балетная школа Дункан, которую в ее отсутствие возглавила приемная дочь Айседоры – Ирма.
Несколько дней все было прекрасно. На Пречистенку они вернулись счастливые и довольные, а потом снова конфликт – и Есенин исчез. Ирма потребовала немедленного отъезда Айседоры в Кисловодск для поправки здоровья. Обиженная на поэта Дункан согласилась.
Однако едва Есенин узнал, что Дункан собирается уехать, как тут же пришел к ней мириться. «Я тебя очень люблю, Изадора… очень люблю», – и они снова помирились.
Но в Кисловодск, а затем в Баку, Тифлис и другие города она отправилась одна. Когда Айседора прибыла в Ялту, ей подали телеграмму: «Писем телеграмм Есенину больше не шлите Он со мной к вам не вернется никогда Галина Бениславская».
И он уже не вернулся.
Айседора приехала в Москву, с друзьями о Сергее не говорила ни слова и, как всегда, с головой погрузилась в работу, чтобы отвлечься от тяжелых переживаний.
Галине Бениславской, безумно любившей Есенина, его расставание с Дункан ничего хорошего не принесло. Все ее ухаживания за ним, постоянная поддержка и помощь любви в нем не вызвали. Сергей относился к Галине только дружески, с благодарностью – и все.
Через какое-то время после разрыва с Дункан Есенин женился на внучке Льва Толстого, Софье Андреевне. И переехал к ней жить. Это для Бениславской было страшнейшим ударом.
Однако именно заботы Бениславской помогли Есенину окончательно порвать с мучительной связью и пережить расставание с Айседорой.
Какое-то время Дункан еще оставалась в России. У нее были обязательства перед ученицами и… воспоминания о любви. Ведь было у них много действительно счастливых дней и ночей… Хотя Шнейдер, бывший всегда рядом с Айседорой, писал: «Любовь Айседоры Дункан к Сергею Есенину внесла немало тяжелого, трагичного в ее жизнь. Они многое дали друг другу. Но вместе с тем и мучили один другого».
Когда Есенин попал в клинику неврозов, где пытался вылечиться от «душевных ран», Айседора встретилась в одной актерской компании с Августой Миклашевской, за которой Есенин ухаживал. Миклашевская как раз находилась в раздумьях – ответить на его чувства или не стоит? Миклашевская так описывает свою встречу с Айседорой:
«Я впервые увидела Дункан близко. Это была очень крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Я, сама высокая, смотрела на нее снизу вверх. Своим неестественным, театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный, бледно-зеленый хитон с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром с золотыми кистями, на ногах – золотые сандалии и кружевные чулки. На голове – золотая чалма с разноцветными камнями. На плечах – не то плащ, не то ротонда, бархатная, зеленая. Не женщина, а какой-то театральный король.
Она смотрела на меня и говорила:
– Есенин в больнице, вы должны носить ему фрукты, цветы!..
И вдруг сорвала с головы чалму – произвела впечатление на Миклашевскую, теперь можно бросить. И чалма полетела в угол.
После этого она стала проще, оживленнее. На нее нельзя было обижаться: так она была обаятельна.
– Вся Европа знайт, что Есенин был мой муш, и вдруг – первый раз запел про любоф – вам, нет, это мне!..
Болтала она много, пересыпая французские слова русскими, и наоборот.
…Уже давно пора было идти домой, но Дункан не хотела уходить. Стало светать. Потушили электричество. Серый, тусклый свет все изменил. Айседора сидела согнувшаяся, постаревшая и очень жалкая:
– Я не хочу уходить. Мне некуда уходить… У меня никого нет… Я одна…»
Конечно, у нее была приемная дочь Ирма. Была работа в школе, были прекрасные ученики. Но у нее больше не было любимого человека.
Дункан и вправду чувствовала себя одиноко – в чужом городе, в чужой стране. Постаревшая, уставшая, опустошенная…
Крандиевская-Толстая в своих воспоминаниях писала о Дункан: «Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно умная, она могла по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у другого ее соотечественника – Бернарда Шоу.
Айседора, например, утверждала: большинство общественных бедствий происходит оттого, что люди не умеют двигаться. Они делают много лишних и неверных движений. Неверный жест влечет за собой неверное действие.
Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно поддразнивала собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво:
– Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.
Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: эта пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?»
Как бы то ни было, Айседора села на самолет и отправилась в Европу. В пути случилась небольшая поломка, и аэроплан вынужден был приземлиться возле одного из российских селений. К месту посадки на поле, покрытом тонкой пеленой снега, собрались окрестные крестьяне. И «божественная Айседора» станцевала для них свой последний танец на русской земле. Больше в России она никогда не была.
Брак же Есенина с Софьей Толстой – как принято считать, брак по расчету – расчета не выдержал. Поэт был откровенно недоволен женитьбой. Об этом он заговорил вскоре после свадьбы: «С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено „великим старцем“, его так много везде, …что для живых людей места не остается. И это душит меня…»
Он скучал, тосковал, как всегда, когда задерживался возле какой-нибудь женщины. А Софью Есенин не любил, постоянно хотел развестись. Опять страшно пил – но в этом жену нельзя упрекнуть, ведь он и до нее напивался до беспамятства.
Третьего декабря 1925 года он, сбежав из клиники, где лечился, зашел в квартиру Толстой, собрал свой чемодан и, не прощаясь, ушел из дому.
А неделю спустя, 28 декабря, в Петербурге, в гостинице «Англетер» покончил с собой…
Это известие застало Дункан в Париже. «Она не произнесла ни одного слова», – вспоминал ее брат Раймонд. А Шнейдер, который и телеграфировал ей о страшном событии, писал: «Она тяжело переживала смерть Есенина. Прислала большую телеграмму, в которой, помню, были такие слова: “Я так много плакала, что у меня нет больше слез…”»
Еще тяжелее переживала смерть Есенина Галина Бениславская, у нее даже не было сил, чтобы прийти на его похороны. Ее хватило лишь на год жизни без Сергея – 3 декабря 1926 года она застрелилась на могиле Есенина, на Ваганьковском кладбище. «…Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина, – написала она в предсмертной записке, – но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое…» Она похоронена на Ваганьковском, рядом с Есениным.
Айседора Дункан прожила после смерти поэта всего два года. К этому времени она уже давно жила в Ницце. Свои страдания Дункан пыталась избыть в танце. «Айседора танцует все, что другие говорят, поют, пишут, играют и рисуют, – писал о ней поэт Максимилиан Волошин, – она танцует „Седьмую симфонию“ Бетховена и „Лунную сонату“, она танцует „Primavera“ Боттичелли и стихи Горация». Но это уже была не прежняя Айседора Дункан.
Ее не воскресил даже короткий роман с молодым русским пианистом Виктором Серовым. Возможно, помимо молодости (ему было двадцать пять лет) и приятной внешности Айседору привлекло в нем то, что он был русским, а значит, с ним было можно говорить о России, о русской поэзии…
Но молодой русский быстро охладел к стареющей танцовщице и предпочел ей другую. Когда Серов, после неприятного объяснения, уходил, Айседора крикнула ему вслед, что покончит самоубийством. Но он не поверил. Молодому человеку было даже лестно – такие страсти из-за него, и кто страдает? Сама Айседора Дункан!
А она пошла к морю. Вошла в воду и стала заходить все глубже и глубже… Айседора тонула, когда ее заметил некий английский офицер, он и вытащил ее из воды. Бедная женщина еле прошептала: «Не правда ли, какая прекрасная сцена для фильма…»
А через несколько дней, 14 сентября 1927 года, Айседора села за руль своего автомобиля. Было прохладно, и она повязала шею длинным алым шарфом. Автомобиль тронулся, и вдруг резко остановился. Конец шарфа затянуло в ось колеса… Голова Айседоры ударилась о край дверцы – алый шарф задушил божественную танцовщицу.
Бывшие рядом люди бросились на помощь, но было поздно. Она только успела выдохнуть: «Прощайте, друзья! Я иду к славе!»
Айседору Дункан похоронили на кладбище Пер-Лашез. На одном из венков было написано: «От сердца России, которая оплакивает Айседору»…
«Мое искусство, – писала она в книге „Моя Исповедь“, – попытка выразить в жесте и движении правду о моем Существе. На глазах у публики, толпившейся на моих спектаклях, я не смущалась. Я открывала ей самые сокровенные движения души. С самого начала жизни я танцевала. Ребенком я выражала в танце порывистую радость роста; подростком – радость, переходящую в страх при первом ощущении подводных течений, страх безжалостной жестокости и уничтожающего поступательного хода жизни.
В возрасте шестнадцати лет мне случалось танцевать перед публикой без музыки. В конце танца кто-то из зрителей крикнул: „Это – Девушка и Смерть!“ И с тех пор танец стал называться „Девушка и Смерть“. Но я не это хотела изобразить. Я только пыталась выразить пробуждающееся сознание того, что под каждым радостным явлением лежит трагическая подкладка. Танец этот, как я его понимала, должен был называться „Девушка и Жизнь“. Позже я начала изображать свою борьбу с Жизнью, которую публика называла Смертью, и мои попытки вырвать у нее призрачные радости…»
Однако нужно признать, что Айседора испытала в своей жизни отнюдь не «призрачные» радости. У нее была мировая слава, ее любили замечательные, знаменитые мужчины, а русский поэт Сергей Есенин, «королевич с соломенными волосами», писал прекрасные стихи о своей любви к «божественной босоножке»…
Платье мадам Бовари. Алиса Коонен и Александр Таиров
Про них говорили, что у Коонен был только Таиров, у Таирова была только Коонен, и у них был единственный ребенок – Камерный театр…
Александр Таиров создал этот театр прежде всего как театр Коонен. Репертуар строился в расчете на ее актерские данные. А данные у Алисы Коонен были редчайшие. Она была великой трагической актрисой, и пожалуй, единственной трагической актрисой в русском театре. Трагедию, кроме нее, никто не играл.
О ней точно сказал замечательный актер Василий Иванович Качалов: «В ней сто детей и сто чертей». Своенравная и своевольная, Алиса Коонен жила только Театром.
«Когда бьется сердце от первой встречи со зрителем, не знаешь, какой он сегодня, надо ли будет его завоевывать или сразу он кинется к тебе, и тогда понесешься как на крыльях, и весь вечер – точно пасхальный праздник в детстве! Кружишься в вихре невиданных чувств, страстей человеческих, страданий и радостей, во всех вихрях и метелях, какие бывают в жизни людей», – писала она в своих воспоминаниях.
Родилась Алиса 5 октября 1889 года в Москве. О своем рождении она писала: «Семья наша жила бедно. В день, когда я появилась на свет, не было денег, чтобы купить ваты, которую требовала акушерка. И мама сняла с себя крестильный крест, который отец пошел закладывать в ломбард».
Самые яркие впечатления детства Алисы связаны с различными театральными действами – новогодней елкой у богатой соседской девочки, рождественским балетным утренником («Я долго не могла прийти в себя, и дома бесконечно кружилась, придумывая какие-то невероятные пируэты, а потом кланялась, кланялась воображаемой публике…») и, конечно же, первым посещением драматического театра («Я много дней оставалась под впечатлением увиденного…произносила загробным голосом импровизированные монологи и „гипнотизировала домашних“»).
На лето семейство уезжало в имение к более состоятельной сестре мамы, в Тверскую губернию. Тетка была в прошлом провинциальной актрисой и любила устраивать у себя любительские спектакли, в которых участвовали и взрослые, и дети. «Взрослые чаще всего разыгрывали веселые комедии и водевили, а дети – живые картины и детские пьесы, – вспоминала Коонен. – Здесь, в театре на берегу, правда, не озера, а чудесной реки с лилиями и кувшинками, начала я, подобно Нине Заречной, свою актерскую жизнь.
Случилось так, что в одном из детских представлений меня увидела родственница Марии Петровны Лилиной (актрисы Художественного театра. – Ред.)…
и, как я узнала потом, сказала Станиславскому: „Я увидела в домашнем театре в Стречкове девочку, которая, когда вырастет, должна стать твоей ученицей“. Константин Сергеевич рассказал мне об этом, когда я поступила в школу Художественного театра».
В театральную школу Алиса пришла, когда ей не исполнилось и шестнадцати лет, – едва успев окончить Первую московскую гимназию. Еще в старших классах гимназии она чрезвычайно увлеклась именно Художественным театром, а кумиром ее был Василий Иванович Качалов.
На экзамены она почти опоздала, шло уже второе прослушивание, но Алису все же допустили пред строгие очи высокой комиссии. И ее приняли.
В МХТ Алиса Коонен проработала девять лет. В замечательной энциклопедии Московского Художественного театра в статье об Алисе Георгиевне Коонен перечисляются наиболее крупные роли, сыгранные ею во МХТ, и, в частности, говорится: Коонен имела принципиальный для себя самой успех в роли цыганки Маши («Живой труп», 1911) и в роли Анитры («Пер Гюнт», 1912). Анитру она играла-плясала босиком, решая образ через экзотическую буйную пластику, через «восточный орнамент» ритмов; для Маши у нее была плавная медлительность, строгая простота всего облика, черный гладкий шелк платья, черный гладкий шелк разделенных пробором волос, поющий голос, полный счастья, страсти и муки; роль явила внутренний сосредоточенный жар, трагическую заразительность переживания».
Знаменитый английский режиссер Гордон Крэг, прибывший в Москву по приглашению Станиславского, репетировал с Коонен Офелию. Его так впечатлила игра молодой актрисы, что он предложил Станиславскому: «Я заберу ее в Италию и сделаю там для нее монотеатр». Константин Сергеевич ответил: «Мисс Коонен любит быть окруженной людьми и умрет от одиночества и тоски в вашем монотеатре».
При расставании Крэг подарил Коонен свою фотографию с надписью: «Моей идеальной Офелии мисс Коонен. Гордон Крэг. 1910 г.»
Алиса была не просто востребованной актрисой, к 1913 году она была уже знаменитостью – одной из любимых учениц Станиславского, звездой МХТовских капустников.
Однако, несмотря на успех в МХТ, Алиса в том же 1913 году ушла в организованный Константином Марджановым Свободный театр. Ее «бог и кумир» Василий Качалов, узнав об этом, сказал Алисе: «Послушай, это же сюжет для пьесы. Ей-богу! Если бы я был Чеховым, непременно написал бы о тебе пьесу. Недаром Немирович как-то назвал тебя Ниной Заречной с Патриарших прудов. Скажи сама, разве это не пьеса: молоденькая актриса, одержимая своими идеалами и мечтами, бежит из солидного столичного театра, бросая вызов дирекции, и шикарным жестом кладет на стол контракт, подписанный в какой-то несуществующий театр. Ведь у Марджанова никакого театра пока еще нет».
Кстати, как писал в своей книге воспоминаний «Мой век, мои друзья и подруги» Анатолий Мариенгоф: «У Качалова в свое время был немимолетный роман с Коонен. Дома встал мучительный вопрос о разводе. В это время Нина Николаевна (жена Качалова. – Ред.) серьезно заболела. Болезнь дала осложнение – безнадежную хромоту.
– Теперь уж я никогда не разойдусь с Ниной, – сказал Василий Иванович.
И, конечно, умер ее мужем».
До встречи с Таировым, кроме романа с Качаловым, у Алисы была еще одна любовная история. На этот раз в молоденькую актрису влюбился писатель Леонид Андреев, имевший в то время в России оглушительную славу.
Он увидел Коонен на репетиции его пьесы «Жизнь Человека» в Художественном театре – одетая в прозрачный хитон она танцевала в сцене бала. После репетиции он прошел за кулисы и попросил представить его актрисе. Они познакомились. После Андреев говорил Алисе, что она напомнила ему его покойную жену, умершую совсем молодой, которую он очень любил.
Они стали часто встречаться. Когда Андреев возвращался в свой Петербург, то писал Алисе чудесные длинные письма. А приезжая в Москву, бывал на всех ее спектаклях, потом усаживал в роскошные сани, и они ехали кататься.
«Я очень скоро поняла, – писала Коонен, – что, несмотря на громкую славу, окружавшую Андреева, передо мной человек одинокий, глубоко несчастный, и стала относиться к нему со смешанным чувством нежности и жалости, радуясь, когда мне удавалось разогнать мрак, отчаяние, которые так часто мучили его».
Дальше Коонен вспоминает: «В один из своих приездов Андреев пришел с большой папкой. С гордостью он сказал, что привез показать мне выполненные им самим чертежи дачи, которую, как я уже знала, он собирался строить на Черной речке, недалеко от Петербурга. С увлечением рассказывал он, какой это будет замечательный дом, и, показывая отлично нарисованную высокую башню, сказал, что мечтает о том, чтобы в этой башне жила я. Я постаралась превратить все в шутку и, смеясь, ответила, что больше всего на свете не люблю и боюсь замков и башен и что, если бы мне пришлось тут жить, я наверняка бросилась бы с этой башни вниз головой. Приехав в другой раз, Андреев сообщил, что привез из Петербурга мать, чтобы познакомить ее со мной».
Анастасия Николаевна Андреева сначала с недоверием смотрела на молодую актрису, а потом вдруг, отбросив сдержанность, стала со слезами умолять помочь ее сыну. Этот бурный разговор разрушил легкость в отношениях Алисы и Леонида Николаевича. «Из них ушла простота, появилось что-то обязывающее и тревожное».
После смерти жены и от напряженной работы у Андреева были нелады с нервами, у него случались тяжелые срывы и даже были галлюцинации. Коонен знала обо всем этом, но однажды в таком угнетающем состоянии он пришел к ней домой глубокой ночью.
«Отец открыл дверь, – пишет Коонен, – и в нашу маленькую прихожую неожиданно ввалилась крупная фигура Андреева. Он был совершенно невменяем и охрипшим от волнения голосом умолял позвать меня.
– Алиса засела у меня в сердце как гвоздь, – твердил он.
Отец, сначала возмущенный этим визитом, а потом потрясенный отчаянием стоявшего перед ним человека, долго убеждал Андреева, что нехорошо в таком состоянии являться в дом к молоденькой девушке, и наконец с трудом уговорил его уйти. После этого у меня был тяжелый разговор с Леонидом Николаевичем. Я с полной откровенностью сказала ему, что очень ценю его большой талант и его доброту, всю жизнь буду ему самым искренним и преданным другом, но что войти в его жизнь не могу».
Они не виделись год, и вдруг он появился у нее в гримерной во время гастролей театра в Петербурге. Худой, бледный, страшно возбужденный, Андреев вытащил револьвер. Коонен вскочила и схватила его за руку. Он сразу обмяк и жалко улыбнулся: «Опять я напугал вас. Не бойтесь. Я ведь всегда ношу эту штуку с собой».
Алиса долго говорила ему какие-то успокаивающие слова, а потом повела на улицу, и они долго бродили по глухим переулкам.
Прощаясь, Андреев сказал: «Ну, вот и все. Теперь я уже не буду больше мучить вас».
Когда Константин Александрович Марджанов наконец получил помещение и собрал труппу, Алиса прибыла в Свободный театр. Марджанов обнял ее и тут же познакомил с Александром Яковлевичем Таировым, сказав, что ему поручена постановка «Покрывала Пьеретты» – первого спектакля, в котором должна была играть Коонен. «Это неожиданная новость ошеломила меня, – вспоминала Коонен. – Уйти из Художественного театра, от Станиславского, для того чтобы работать с неизвестным, совсем молодым режиссером!.. Уж лучше мне было бы уехать в провинцию!»
Но все ее опасения оказались напрасными. Работа с Таировым была интересной, а премьера «Покрывала Пьеретты» была, по словам Коонен, «очень горячо принята публикой».
К сожалению, Свободный театр Марджанова просуществовал всего лишь год.
И вот тогда Таиров создал свой театр – Камерный. У Александра Островского в пьесе «Лес» Несчастливцев говорит о том, что для создания труппы нужна прежде всего актриса. Судьба подарила Таирову редкую, удивительную актрису, с которой и для которой он создал свой театр. А труппу составили молодые актеры бывшего Свободного театра.
Историки театра пишут о том, что «у создателей нового театра была своя программа, она заключалась в «отречении» от всех существовавших тогда направлений. Режиссер со своими актерами-единомышленниками предлагал создать свой «раскрепощенный театр», пластичный, действенный, эмоциональный, говорящий своим сугубо театральным языком. Таиров словно отмел всю историю театра, устанавливая новые отношения с литературой, музыкой, пространством, живописью. А главное, воспитывал нового актера, виртуозно владеющего своим телом, способного абсолютно свободно чувствовать себя в двух основных жанрах Камерного театра – трагедии и буффонаде.
Алиса Коонен могла быть и опереточной дивой, и трагической героиней, могла играть и цариц, и беспризорниц. «Голос, раскаленный, как магма, без усилий заполнявший пространство тысячных залов, сохранивший и в старости молодую звучность и звонкую силу. Широко поставленные аквамариновые глаза с подрагивающими ресницами, имевшие привычку смотреть поверх партнера, избегая заглядывать в его глаза. Походка – всегда победа над пространством, триумфальный выход победительницы», – так вспоминал актрису один из современников.
Однако не на всех она производила столь ошеломляющее впечатление. Ироничный Мариенгоф так вспоминал одну встречу Нового года в Художественном театре: «Коонен была в белом вечернем платье, сшитом в Париже. Портной с Елисейских полей великолепно раздел ее.
Возле фойе, во фраке и в белом жилете, стоял бог (Константин Сергеевич Станиславский. – Ред.). Он блаженно улыбался, щурился и сиял. Сияние исходило и от зеркальной лысины, и от волос цвета январского снега, и от глаз, ласково смотревших через старомодное пенсне на черной ленте.
Играя бедрами, к нему подошла Коонен:
– С Новым годом, Константин Сергеевич!
– Воистину воскресе! – ответил бог, спутавший новогоднюю ночь с пасхальной.
Коонен вскинула на него очень длинные загнутые ресницы из чужих волос. Они были приклеены к векам.
– Пойдемте, Константин Сергеевич!
И взяла его под руку.
– Зачем же это? – спросил бог, не зная, что делать со своими глазами, чистыми, как у грудного младенца. Их ослепили обнаженные плечи, руки и спина знаменитой актрисы Камерного театра.
– Пойдемте, Константин Сергеевич, танцевать танго, – страстно и умоляюще выдохнула из себя Коонен.
Бог вытер ледяные светлые капли, величиной с горошину, выступившие в мудрых морщинах громадного лба, и ответил утробным голосом:
– Я… п-п-простужен.
И даже не очень искусно покашлял. На сцене у него это выходило несравненно правдивей.
Бог хотел быть учтивым с красивой чужой актрисой, которую знал почти девочкой – скромной, замоскворецкой. Она начинала у него в Художественном театре. Теперь Алиса Коонен считала себя актрисой трагической и сексуальной. Но именно «органического секса», как говорят в театре, у нее никогда не было. Поэтому на сцене Коонен приходилось так много «хлопотать» глазами, руками и животом.
Станиславский уверял:
– Алиса характерная актриса. Замечательная характерная актриса. А лучше всего она делает дур.
К сожалению, в ролях дур мы ее никогда не видели».
А она и не играла дур. В ее репертуаре были совсем другие роли, Алиса предпочитала представлять женщин необычных, трагических. Воплощая замыслы Таирова, и свои собственные, Коонен работала над сценической речью (говорят, она добилась тончайшей интонационной мелодики) и пластикой. Она стремилась к тому, чтобы ее тело было подобно музыкальному инструменту, в котором пластика тела, мелодика голоса и чувства сливались в унисон и поражали зрителей своей изысканной красивостью. Актриса избегала случайных интонаций и жестов, все было у ней точно и размерено.
Работа в Камерном театре шла полным ходом. Не все спектакли производили фурор – зрители, привыкшие к традиционному театру, не были готовы ко многим режиссерским ходам. Но постепенно новый театр захватывал все сильнее и сильнее. У него образовался свой круг почитателей и ценителей; как принято говорить, у театра появился «свой зритель».
Подлинная победа была одержана на спектакле «Фамира Кифаред» по трагедии замечательного русского поэта Иннокентия Аненнского. В пьесе рассказывалось о сыне фракийского царя, молодом музыканте, прославленном игрой на кифаре: зазнавшийся юноша вызывает на состязание Аполлона и терпит поражение. Разгневанные дерзостью смертного, музы лишают его зрения и музыкального дара, а боги осуждают на вечные странствия.
Критики отмечали, что в спектакле было гармонично все – и постановка Таирова, и принципиально новое конструктивистское оформление сцены Александры Экстер и музыка А. Фортера. «Фамира Кифаред» произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Даже противники нового театра были вынуждены признать его победу. «Фамира» – первый программный спектакль, утвердивший театр.
Затем была «Адриенна Лекуврер» Огюстена Эжена Скриба. По словам французского писателя Жана Ришара Блока, Таиров и Коонен сотворили с этой пьесой чудеса, превратили мелодраму в трагедию, а Скриба – в Шекспира.
Потом поставили «Саломею» Оскара Уайльда. Историк искусства Абрам Маркович Эфрос написал об этом спектакле: «Опыт огромной смелости. Так далеко театр еще не заходил».
И наконец Таиров взялся ставить «Федру» Жана Расина.
«Когда в газетах появились сообщения о постановке в Камерном театре „Федры“, – вспоминала актриса, – это вызвало бесчисленные толки. Многие не верили, что молодой театр может справиться с такой пьесой. Другие прямо говорили, что браться за эту трагедию вообще неслыханная дерзость. По сложившейся традиции считалось, что большие трагические спектакли актеры могут осилить только в зрелом возрасте, уже обладая и большим опытом, и специальной техникой».
Подготовка к спектаклю, репетиции, декорации – все потребовало огромной отдачи сил и энергии. А потом состоялась премьера.
«Очевидно, я была в совершенно невменяемом состоянии, потому что плохо помню этот спектакль. Помню только страшную тишину в зале, которая внушала нам, что мы предстали на какой-то ответственный суд. Когда кончился спектакль, тоже было очень страшно – публика не аплодировала. Мы уже собирались идти разгримировываться, когда вдруг раздался шум в зале и аплодисменты. Когда открылся занавес и мы вышли кланяться, весь зал встал. Это было необыкновенно торжественно».
Общее дело, к тому же столь успешное, быстро свело Коонен и Таирова. Их отношения не отличались какой-то особой страстью и романтичностью, они просто решили «быть вместе». У Таирова была семья – жена и дочка, у Коонен – многочисленные поклонники и принцип: никогда не жить под одной крышей с близким тебе человеком, чтобы не потерять свободу. Таиров уважал эти взгляды. И тем не менее пришел к ней, и они остались вместе на 35 лет…
Жизнь сама все решила за Алису Георгиевну и Александра Яковлевича. Через несколько лет после открытия Камерного театра Таиров остался без квартиры. Квартиру, в которой он тогда жил, нужно было срочно освободить, а новую сразу найти не удалось. И тогда Алиса Коонен не нашла ничего лучшего, как предложить Таирову переехать к ней домой. О чем и заявила в категоричной форме сначала Таирову, а потом, набравшись храбрости, – и своим домашним. Родители были ошеломлены таким поворотом событий. Алиса и Александр тоже чувствовали себя не в своей тарелке: они вообще не собирались устраивать жизнь по-семейному, в одной квартире. И все-таки они сошлись – спустя годы Алиса Коонен скажет, что им просто было суждено быть вместе.
Камерный театр стал одним из самых любимых в Москве, а зарубежные гастроли 1923, 1925 и 1930 годов принесли ему мировую славу. Гениальный режиссер сумел провести свой театр через все революционные передряги. Как ни любили революционеры все новое, репертуар театра они отслеживали строго – чтобы никакая буржуазная пропаганда не проскочила.
Проблема репертуара чрезвычайно тревожила Таирова. После не слишком удачного опыта с пьесой Александра Островского «Гроза», он поставил целых три пьесы американского драматурга Юджина О’Нила: «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами» и «Негр». На этот раз все получилось – все три пьесы имели большой успех у публики, особенно потрясла сердца зрителей «Любовь под вязами».
Выискивая пьесы для постановки, Таиров перебрал весь мировой репертуар. Постепенно Камерный театр переиграл все, что сколько-нибудь устраивало Таирова. А потом начались проблемы. Ставить только зарубежных авторов театр не мог, а советская драматургия Таирова нисколько не привлекала. Однако требования времени (а также партии и правительства) брали верх, и он поставил несколько советских пьес. Эти опыты закончились неудачей.
Исправила положение «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. Советские критики писали, что «постановка стала одной из общепризнанных новаторских вершин революционной героики на советской сцене». Таирову действительно удалась эта постановка, а Алисе Коонен – роль Комиссара.
В дальнейшем современная советская тематика заняла большое место в спектаклях Камерного театра. И все же успех театра в те годы больше связан с постановкой русской и зарубежной классики.
К сожалению, в советской России часто проводились идеологические кампании. В том числе, уже в 30-х годах, затеяли борьбу с «формалистическим театром», к которому относили все, что было непонятно или не устраивало по каким-то политическим причинам. Вот такие «непонимающие борцы» и начали в 1936 году планомерное наступление на Камерный театр.
Театр поставил забавную пародию-сказку «Богатыри». Веселый музыкальный спектакль очень понравился публике и имел огромный успех. А через месяц после премьеры в «Правде» вышла статья, разъясняющая антинародную суть спектакля. Этот «сигнал» был чутко уловлен остальными советскими газетами и журналами – в прессе началась откровенная травля.
В 1937 году вышло постановление о слиянии Камерного театра Таирова и реалистического театра Охлопкова в один коллектив. Это было насильственное соединение абсолютно несоединимого – всем сразу стало ясно, что очень реалистический театр Охлопкова просто поглотит абсолютно камерный театр Таирова.
Встреча двух директоров театров произошла так:
– Ну как, будем дружить? – обратился Таиров к Охлопкову.
– Нет, будем воевать! – отвечал ему мэтр Реалистического театра.
От гибели театр спасла перестановка в Комитете по культуре: на место кровожадно настроенного Керженцева был назначен более интеллигентный Храпченко.
В 1940 году состоялась премьера спектакля «Мадам Бовари» по книге Гюстава Флобера. Инсценировку сделала сама Алиса Георгиевна, музыку к спектаклю написал Дмитрий Кабалевский. «Мадам Бовари», по единодушному признанию критиков, стала одной из вершин режиссерского мастерства Александра Таирова. Казалось, Таиров и Коонен смогли проникнуть в самую суть души человека.
Для Коонен Эмма Бовари была необычайно дорога, многие годы спустя она вспоминала этот спектакль буквально по сценам.
Постановка имела оглушительный успех. Алиса Георгиевна писала: «В Москве в первый же сезон спектакль прошел со сверханшлагами сто двадцать пять раз.
Весной 1941 года мы поехали на гастроли в Ленинград. „Бовари“ и здесь была принята восторженно. Но мы успели сыграть только одиннадцать спектаклей. Последние спектакли доигрывались уже в военном Ленинграде, под вой сирен, извещавших о начале воздушной тревоги».
Театр срочно отправили в Москву, а оттуда – в эвакуацию, где труппа продолжала играть на крошечной сцене клуба в городе Балхаш.
В 1945 году широко праздновалось 30-летие Камерного театра, Таирова наградили орденом Ленина.
Но 20 августа 1946 года вышло постановление ЦК ВКП(б), практически запрещающее зарубежную драматургию и ориентирующее театры на советские безконфликтные пьесы о борьбе хорошего с лучшим. Такой репертуар был абсолютно не для Таировского театра. И снова началась борьба, приведшая в 1949 году к закрытию Камерного.
Идя на последнее заседание в Комитете по делам искусств, Таиров не собирался сдаваться. Он прочел доклад, пытаясь проанализировать реальное положение дел в театре. Но после доклада началась активная «проработка» при участии собственных учеников Таирова, его товарищей по театру. Предваряя решение комитета, он сам заявил об уходе из своего театра. Последним спектаклем Камерного стала «Адриенна Лекуврер», после которой его занавес закрылся навсегда. Это было в мае 1949 года.
После закрытия театра Коонен с Таировым прожили вместе еще год. У Александра Яковлевича начались приступы бреда, потом – безумие. Диагноз был страшным – рак мозга. Через год, 25 сентября 1950 года, его не стало.
Современники отмечали, что Алиса Коонен переживала все удары судьбы как античная героиня. А советская эпоха постаралась, чтобы ей было что переживать.
После ухода Таирова она вместе с Фаиной Раневской долго ходила по судам – Фаине Георгиевне в качестве свидетеля приходилось доказывать, что «Александр Таиров и Алиса Коонен на протяжении многих лет проживали на одной жилплощади и вели совместное хозяйство». Потому что после смерти Таирова Коонен оказалась ему никем. За 35 лет совместной жизни им так и не пришло в голову официально зарегистрировать свои отношения. А для чиновников во все времена существует один закон – нет документа, значит, и брака никакого не было.
Актриса долго сохраняла нетронутой их квартиру, находившуюся в здании театра, надеясь на разрешение властей устроить там музей Таирова. Все годы после его смерти Алиса Георгиевна жила памятью о нем, о своем «внебрачном» муже.
Алиса Георгиевна Коонен пережила Александра Таирова на двадцать четыре года. Она умерла в 1974 году.
Вот что говорил о ней известный актер Камерного, а потом Пушкинского театра – Владимир Владимирович Торстенсен: «Алиса Георгиевна, конечно, была выдающимся „театральным явлением“. Она была на голову выше всех других актрис. Вне конкурса. Все ее роли были просто изумительны. После закрытия театра многие режиссеры говорили ей: „Приносите любую пьесу, любую роль, которую вы хотите сыграть, мы сейчас же начнем ставить“. Только Ванин не предлагал – новый худрук Камерного».
Василий Ванин был одним из тех, кого считают виновником гибели Камерного театра. Один сердитый журналист уже в наше время написал: «Ему, сталинскому лауреату, оказалось мало славы „Человека с ружьем“, захотелось иметь свой театр, режиссировать, начальствовать. А тут Камерный подвернулся. Но есть Высший суд: через полгода Ванин умер, не дождавшись окончания ремонта в захваченном им театре».
Когда Владимира Торстенсена спросили, что он думает по поводу известного слуха, будто Коонен прокляла то место, где находился Камерный театр, он воскликнул: «Это неправда! Я это категорически заявляю! Алиса сказала, что она не выйдет на эту сцену. Но проклясть она не могла еще и потому, что была очень верующим человеком, в ее будуаре стоял киот с иконами, горели лампады. Да разве может человек проклясть свое детище?! А театр был для нее именно ребенком, плотью, кровью…»
В последние годы жизни Алиса Георгиевна согласилась на долгие уговоры издателей и написала книгу воспоминаний «Страницы жизни». Она вспоминала не для себя. Алиса Коонен вспоминала для всех нас. Ее книга стала данью памяти Александру Таирову и их общему детищу – Камерному театру.
Режиссер и Актриса. Александр Таиров и Алиса Коонен. Время сохранило не так уж много от их искусства – платье мадам Бовари, несколько клавиров да эскизы к некоторым декорациям.
Но осталось то, что неподвластно времени – осталась легенда Камерного театра.
Любимая Галатея. Зинаида Райх и Всеволод Мейерхольд
Знаменитый драматург и писатель Евгений Габрилович писал об их любви: «Сколько я ни повидал на своем веку обожаний, но в любви Мейерхольда и Райх было что-то непостижимое. Неистовое. Немыслимое. Беззащитно и гневно-ревнивое. Нечто беспамятное. Любовь, о которой пишут, но с которой редко столкнешься в жизни. Редчайшая. Пигмалион и Галатея – вот как я определил суть. Из женщины умной, но никак не актрисы, Мастер силой своей любви иссек первоклассного художника сцены».
Знаменитый режиссер появился на свет 10 февраля 1874 года в семье чистокровного немца, винозаводчика Эмиля Майергольда, подданного императора Вильгельма. Родители-лютеране дали сыну имя Карл Теодор Казимир. Лишь в двадцать один год, перейдя в православную веру, он получил согласно Святцам имя Всеволод, под которым и узнал его весь мир.
В восемнадцать лет, после первого выступления в любительском спектакле (давали «Горе от ума»), Мейерхольд записал в дневнике: «У меня есть дарование, я знаю, что мог бы быть хорошим актером».
Он и стал актером, но не просто хорошим.
Учился Мейерхольд в театральном училище у Немировича-Данченко, куда был принят сразу на второй курс. Внешность Всеволода была весьма специфической, а потому на «благородные» роли он не годился, но педагоги очень ценили его упорную работу над собой, чувство сцены и внутреннюю энергию. За четыре сезона в МХТ он сыграл 18 ролей. Ему удавались и комические, доходившие до буффонады роли, и по-настоящему трагические. Сам он любил играть чеховских Треплева из «Чайки» и Тузенбаха из «Трех сестер».
Но, как это часто бывает, у ученика и учителя случился конфликт – Мейерхольд обиделся, что Немирович-Данченко поручил желанную им роль другому актеру. Всеволод не то что обиделся, он разозлился. И решил доказать всем и вся, что может и сам создать театр – не хуже Немировича. Он даже продумал особую творческую программу.
Немирович-Данченко считал, что эта программа – «какой-то сумбур, дикая смесь Ницше, Метерлинка и узкого либерализма, переходящего в сумрачный радикализм. Черт знает что! Яичница с луком. Это сумятица человека, который каждый день открывает по нескольку истин, одна другую толкающих».
Но Мейерхольд, действительно собрав труппу, никаких программ в жизнь не воплощал и представлял вполне традиционные спектакли. Это уже много позже он стал реформатором. Театральные реформы и сценические опыты – Мейерхольд использовал традиции народного искусства театра площадей, в частности, итальянской комедии масок – прославили его на весь мир. Мейерхольда именовали «пророком театральной Мекки», то есть Москвы. Его псевдоним – Доктор Дапертутто, – взятый из сказок Гофмана, был известен всем без исключения любителям театра.
«Театр имени Мейерхольда – самый удивительный, неповторимый, невозможный единственный на свете», – писала пресса. Спектакли Мейерхольда обсуждали на специальных диспутах, а газеты восклицали: «Вперед 20 лет шагай, Мейерхольд, ты – железобетонный атлет – Эдисон триллионов вольт!» Студенты скандировали на спектаклях: «Левым шагаем маршем всегда вперед, вперед! Мейерхольд, Мейерхольд наш товарищ! Товарищ Мейерхольд!»
В 1923 году ТИМ (Театр имени Мейерхольда) был на пике славы вместе со своим создателем. Знаменитому режиссеру шел сорок девятый год. И в это время он познакомился с Зинаидой Райх.
Мастер влюбился, словно в первый раз, он буквально утонул в этой любви. С этой поры в его жизни воцарилась Она – любимая ученица и любимая женщина. Она была моложе Мейерхольда почти на двадцать лет, и о карьере актрисы не мечтала. Много лет она работала в газете, одно время была замужем – за Сергеем Александровичем Есениным. У нее было двое детей от Есенина – дочь Татьяна и сын Константин. Да и у самого Всеволода Эмильевича от первой жены – Ольги Мундт – было трое детей, которых он, естественно, содержал…
Родилась Зинаида в 1896 году, детство провела в городе Орле. Отец ее – силезский немец Август Райх, ставший в православии Николаем – работал машинистом паровоза и был активным членом РСДРП. А мать Зинаиды – из обедневшего дворянского рода – занималась домом. Из гимназии девушку исключили за связь с партией эсеров. Она уехала в Петроград, где окончила курсы и поступила на работу в эсеровскую газету «Власть народа».
Именно в редакции газеты Райх встретила первого мужа – тогда еще начинающего поэта. Было это весной 1917 года. Он пришел такой светлый, улыбчивый, задорный, а она была молода, остра на язык и очень хороша собой – классически правильные черты лица, матовая кожа, смоляные волосы. Им было так хорошо вдвоем, что они решили пожениться.
Поначалу семейная жизнь складывалась гладко и хорошо, но это было недолго. Есенин был ревнив. Постоянно искал в вещах жены письма ее гипотетических любовников. Потом на него стали наседать его приятели, недовольные, что у них «отобрали» дружка. Зинаида им откровенно не нравилась, и они порой чересчур открыто об этом говорили.
Анатолий Мариенгоф с такой неприязнью пишет о Райх, что складывается впечатление, будто он люто ревновал своего друга. Мариенгоф, по его собственному признанию, называл Зинаиду Николаевну – «эта дебелая еврейская дама». Его не смущало, что ее отец был немец, а мать – русская.
Есенин стал обращаться с женой грубо, пустился в загулы, а приходя домой в невменяемом состоянии, бил ее. Не выдержав «радостей семейной жизни», она ушла от него, будучи беременной вторым ребенком.
Об этом уходе все тот же ироничный и злой на язык Мариенгоф писал в своем «Романе без вранья»: «Нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил:
– Любишь ли ты меня, Анатолий? Друг ты мне взаправдашний или не друг?
– Чего болтаешь!
– А вот чего… не могу я с Зинаидой жить… Вот тебе слово, не могу… Говорил ей – понимать не хочет… Не уйдет, и все… ни за что не уйдет… Вбила себе в голову: „Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу“… Скажи ты ей, Толя (уж так прошу, как просить больше нельзя!), что есть у меня другая женщина.
– Что ты, Сережа… Как можно!
– Друг ты мне или не друг?.. Вот… А из петли меня вынуть не хочешь… Петля мне ее любовь… Толюк, милый, я похожу… пойду по бульварам к Москве-реке… а ты скажи (она непременно спросит), что я у женщины… С весны, мол, путаюсь и влюблен накрепко… Дай я тебя поцелую…
Зинаида на другой день уехала в Орел».
Райх и Есенин прожили вместе всего один год. А через шесть лет, в 1924 году, Есенин написал чудное стихотворение «Письмо к женщине»:
Вы помните, Вы все, конечно, помните, Как я стоял, Приблизившись к стене, Взволнованно ходили вы по комнате И что-то резкое В лицо бросали мне. Вы говорили: Нам пора расстаться, Что вас измучила Моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мой удел — Катиться дальше, вниз…Не все были согласны с «сердитой» точкой зрения Мариенгофа. Были люди, знавшие Есенина и Райх, которые считали, что поэт за всю свою жизнь по-настоящему любил только ее. Друг Есенина Георгий Устинов писал: «Любил ли он кого? Я думаю, любил только первую жену. Он очень хорошо говорил о Дункан, о некоторых других… но у него не было постоянной любви, кроме той, которая при этом была мучительной, потому что он не мог сойтись снова, и от него ушли…»
Устинову вторит Валентин Катаев в книге «Алмазный мой венец»: «Его (Есенина. – Ред.) навязчивой идеей в такой стадии опьянения было стремление немедленно мчаться куда-то в ночь к Зинке и бить ей морду. „Зинка“ была его первая любовь, его бывшая жена, родившая ему двух детей и потом ушедшая от него к знаменитому режиссеру.
Королевич (Есенин. – Ред.) никогда не мог с этим смириться, хотя прошло уже порядочно времени. Я думаю, это и была та сердечная незаживающая рана, которая, по моему глубокому убеждению, как я уже говорил, лежала в основе творчества каждого таланта…
….Мы с трудом вывели королевича из разгромленной квартиры на темный Сретенский бульвар с полуоблетевшими деревьями, уговаривая его успокоиться, но он продолжал бушевать.
Осипшим голосом он пытался кричать:
– И этот подонок…(Мейерхольд. – Ред.) это ничтожество… жалкий актеришка… паршивый Треплев… трепло… Он вполз как змея в мою семью… изображал из себя нищего гения… Я его, подлеца, кормил. Поил… Он как собака спал у нас под столом… как последний шелудивый пес… И увел от меня Зинку… Потихоньку, как вор… И забрал моих детей… Нет! К черту!.. Идем сейчас же все вместе бить ей морду!..
Несмотря на все уговоры, он вдруг вырвался из наших рук, ринулся прочь и исчез в осенней тьме бульвара».
Оканчивается Есенинское «Письмо к женщине» так:
Я стал не тем, Кем был тогда. Не мучил бы я вас, Как это было раньше. За знамя вольности И светлого труда Готов идти хоть до Ламанша. Простите мне… Я знаю: вы не та — Живете вы С серьезным, умным мужем; Что не нужна вам наша маета, И сам я вам Ни капельки не нужен. Живите так, Как вас ведет звезда, Под кущей обновленной сени. С приветствием, Вас помнящий всегда Знакомый Ваш Сергей Есенин.После разрыва с мужем Зинаиде Николаевне надо было как-то жить дальше. Осенью 1921 года она стала студенткой Государственных экспериментальных мастерских, которыми руководил Всеволод Мейерхольд. Она уже родила сына и даже успела немного оправиться от всех своих переживаний. В студии Мейерхольда Райх увлеклась его идеями создания нового, авангардного театра. «Мастер строил спектакль, как строят дом, и оказаться в этом доме, хотя бы дверной ручкой, было счастьем», – говорили о нем актеры. Она попала в совершенно новую для нее эмоциональную, творческую среду великого режиссера, а он сумел открыть в ней талант, о котором она даже и не подозревала. Без Мейерхольда она не стала бы актрисой и, возможно, не состоялась бы как личность.
Друг Мариенгофа и Есенина Вадим Шершеневич вспоминал, что «Райх была при Есенине забитая, бесцветная и злая. Позже, когда она вышла замуж за Мейерхольда, она совсем преобразилась. И сумела из скучноватой провинциальной учительницы развернуться в столичную крупную актрису. Конечно, тут на первом плане было влияние мастера Мейерхольда, но ни один мастер не может вылепить что-то значительное из ничего».
Зинаиде Райх был тридцать один год, когда Мейерхольд вывел ее на сцену. И даже самая строгая критика признала, что она талантлива.
Почти сразу же Зинаида переехала к Мейерхольду на Новинский бульвар. Говорят, что, узнав об этом, его первая жена, Ольга Михайловна, прокляла обоих перед образом: «Господи, покарай их!» Ольга и Всеволод знали друг друга еще с детства, и женаты были 25 лет, она родила ему трех прекрасных дочерей… Она была рядом с ним и в горе, и в радости, а теперь, когда молодость прошла, – оказалась ненужной. И он привел в их дом эту женщину, свою новую Музу!
Зинаида Николаевна ничем не походила на интеллигентнейшую Ольгу Михайловну. Но, наверно, именно в этом и был секрет ее притягательности для Мейерхольда. Режиссеру нравилось самому «лепить» новый образ из этого податливого и благоприятнейшего материала – молодой, красивой женщины, полностью доверявшейся ему. Он знал, что она болела сыпным тифом и после этого, отравившись сыпнотифозными ядами, оказалась в сумасшедшем доме. Он знал, как травмировал ее развод с Есениным. И он относился к этой женщине с неуравновешенной психикой бережно – как к ребенку.
Знаменитый режиссер был достаточно состоятелен, и вскоре помог перебраться в Москву родителям Зинаиды. У детей, которых Всеволод Эмильевич принял как родных, появились дорогие игрушки, няни и учителя. А из Райх он сделал одну из первых дам Москвы.
Он отдал ей не только свою жизнь, но и свое искусство. Жена стала первой актрисой его театра. Конечно, в труппе не все были этим довольны. Актеры Мейерхольда были необыкновенно подвижны. Они летали по сцене как резиновые мячики. Говорят, что он сам мог запрыгнуть с места на плечи стоящему человеку. Зинаида же в сравнении с актерами театра Мейерхольда была грузна и тяжеловесна. А ведь в это же время в труппе уже была своя «звезда» – тоненькая и гибкая Мария Бабанова! Естественно, актеры невзлюбили Райх. Но уйти, в конечном счете, пришлось Бабановой. Ушел из театра и Эраст Гарин, любимый ученик Мейерхольда.
Мариенгоф рассказал об этом так: Мейерхольд задумал ставить «Гамлета», он «собрал главных актеров и кратко поделился с ними замыслом постановки.
Главный администратор спросил:
– А кто у нас будет играть Гамлета?
Не моргнув глазом, мастер ответил:
– Зинаида Николаевна.
Актеры и актрисы переглянулись.
– На все другие роли, – заключил он, – прошу подавать заявки. Предупреждаю: они меня ни к чему не обязывают. Но может случиться, что некоторые подскажут то, что не приходило мне в голову. То есть: ад абсурдум. В нашем искусстве, как и во всех остальных, это великая вещь.
Если Станиславский был богом театра, то Мейерхольд его сатаной. Но ведь сатана – это тоже бог, только с черным ликом. Не правда ли?
…Один из лучших артистов мейерхольдовской труппы неожиданно спросил мэтра:
– Зинаида Николаевна, значит, получает роль Гамлета по вашему принципу – ад абсурдум?
Собрание полугениев затаило дыхание. А Мейерхольд сделал вид, что не слышит вопроса этого артиста с лицом сатира, сбрившего свою козлиную бородку.
…Не получив ответа, этот артист поспешно вынул из кармана вечное перо и написал заявку на роль… Офелии.
Результат?
Ну, конечно, Мейерхольд выгнал его из театра».
Ради любимой женщины режиссер был готов расстаться с кем угодно. Он приложил немало усилий и фантазии, чтобы скрыть недостатки и как можно ярче показать достоинства первой актрисы своего театра. Всеволод Эмильевич строил свои великолепные мизансцены так, что зритель мог любоваться прекрасным лицом Райх, слушать ее божественный голос, радоваться вспышкам ее весьма натуральных буйных эмоций. Но двигаться ей было не надо – двигались все вокруг нее! Зинаида Николаевна несомненно обладала магнетизмом, приковывая к себе внимание зрителя. Однако ее нельзя было назвать просто красивым манекеном. Мейерхольд сделал из нее действительно хорошую актрису!
Некоторые мемуаристы пишут, что, уже будучи замужем за Мейерхольдом, Райх иногда встречалась с бывшим мужем. По одним сведениям, Есенин приходил повидаться с детьми. По другим, – у них были свидания.
Одна из подруг Райх, Зинаида Гейман, утверждала, что свидания эти проходили в ее доме. Однажды сам Мейерхольд пришел к ней и «убедительно попросил» ее больше не помогать его жене встречаться с Сергеем Есениным. «Прошу вас прекратить это. Они снова сойдутся, и она будет несчастлива», – сказал Всеволод Эмильевич.
Трудно сказать, как относилась Зинаида Николаевна к Мейерхольду. Одни считали, что она его «старалась любить». Поскольку, принимая его предложение руки и сердца, она обещала сделать его счастливым. Другие утверждали, что она любила его по-настоящему, и приводили следующий случай, происшедший с Райх и Мейерхольдом в Италии. Их арестовали за то, что они страстно целовались среди развалин Колизея. Карабинеры не сразу поверили, что эти странные русские – пожилой мужчина и уже не первой молодости женщина, – муж и жена, женатые более десяти лет… А когда поверили, чрезвычайно умилились.
Кстати, очень показательно, что после женитьбы великий режиссер взял двойную фамилию и с той поры часто подписывался – Мейерхольд-Райх.
С Новинского бульвара все семейство вскоре переехало на другую квартиру. Теперь у них было четыре комнаты в кооперативном доме архитектора Рерберга по адресу: Брюсов переулок, 12. Сюда на ужины к Мейерхольдам любили приходить Андрей Белый, Борис Пастернак, Николай Эрдман, Юрий Олеша, Илья Эренбург, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн, Петр Кончаловский, Михаил Тухачевский. «Я не люблю людей хороших, – замечал по поводу необычного разнообразия гостей хозяин квартиры, – я люблю людей талантливых!»
В театре режиссер был грозный, требовательный, но дома он становился совсем другим. Бывало, после репетиции возбужденная Райх переступала порог своего дома и кричала: «Мейерхольд – бог!» и радостно добавляла: «А как он на меня сегодня орал!» А потом вступала в свои домашние права, потому что смешливый, добрый и мягкий Мейерхольд уступал роль главы семейства жене и покорно выслушивал бытовые упреки: «Всеволод, тысячу раз тебе говорила…»
Все знакомые вспоминают «двух Мейерхольдов»: недосягаемого, который вызывал трепет и восторг, и простого, обаятельного, ужасно беззащитного, которого было горько и мучительно жалко…
Мейерхольд постоянно опекал Зинаиду. Он знал, что ее безумие не прошло бесследно, и эта опека ей необходима. Он старался, чтобы Райх отдавала сцене побольше сил, и ее страшные приступы ярости (следствие болезни) сублимировались на сцене в эмоции ее героинь – в спектаклях «Ревизор», «Горе от ума», «Лес», «Дама с камелиями»… Зинаида влюблялась, страдала и умирала в мире, созданном великими драматургами и, конечно же, гением мужа. Излив все свои эмоции, она становилась спокойной и приятной женщиной.
Иногда она кричала страшным голосом – и на сцене, и в жизни. Однажды у нее стащили кошелек на базаре. Она завопила так, что… вор вернулся и отдал украденное.
Точно так же страшно кричала она возле гроба Есенина, ушедшего из жизни…
От безумия, которое могло проснуться в любую минуту, Зинаиду Райх спасал Мейерхольд. Его искусство.
Но в 1939 году ужасающие приступы ярости и страха стали учащаться. Психиатры требовали немедленно отправить ее в больницу, но Мейерхольд и слушать об этом не хотел. Он не желал расставаться с женой, он знал, что только сам сможет спасти ее.
И он ее спас. Мейерхольд исцелил свою безумно любимую Зиночку. Он не отходил от ее кровати, он держал ее за руку и говорил нежные слова, он ухаживал за ней и кормил ее с ложечки. И его любовь победила безумие. По сути, он сделал невозможное – уже через месяц Зинаида Райх вернулась к нормальной жизни.
Что бы ни говорили критики о таланте Райх, у многих зрителей было свое мнение об этом. Они считали Зинаиду Николаевну актрисой посредственной, не то что «сделанной» Мейерхольдом, но – навязанной. Среди таких недовольных были не только актеры труппы Мейерхольда, но и очень многие истинные ценители театрального искусства. Не согласный с ними Владимир Владимирович Маяковский на очередном диспуте громогласно заявил: «Вот говорят: Зинаида Райх. Выдвинули ее на первое место. Почему? Жена. Нужно ставить вопрос не так, что потому-то выдвигают такую-то даму, что она его жена, а что он женился на ней потому, что она хорошая артистка».
Всеволода Эмильевича задевало мнение «недоброжелателей» Райх, и как подтверждение таланта своей жены он решился поставить пресловутую французскую любовную мелодраму Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Райх предстояло «посоперничать» с Сарой Бернар, Элеонорой Дузе и другими великими актрисами, игравшими Маргариту Готье. Свой последний спектакль мастер ставил исключительно для нее и на нее. Только вообразите: в 1934 году, когда Сталин уже развернул свои репрессии, великий режиссер поставил «буржуазную мелодраму», превратив ее в любовное признание собственной жене.
Премьера «Дамы с камелиями» состоялась 19 апреля 1934 года и имела огромный успех у москвичей. Попасть на спектакль было очень трудно. Он стал «глотком свободы» от вездесущей идеологии и всюду проводящейся линии партии. В «Даме с камелиями» говорилось только о любви, о страданиях человеческих, о человеческой трагедии. Зрители отдыхали душой, сопереживая несчастной Маргарите, и полностью отрешались от советской действительности, которая ждала их за порогом театра.
В этом спектакле Зинаида Николаевна была великолепна; это отмечали даже самые недоброжелательные критики. Замечательный писатель Юрий Карлович Олеша назвал ее существом «с вишневыми глазами и абсолютной женственностью».
По воспоминаниям современников, «на сцене была необыкновенно элегантная, утонченная „французская“ красавица. Она разрывалась между чувством и моралью, между страстью и нравственностью. Чистота отношений Маргариты и Армана была необыкновенно трогательна… В любовных сценах не было и намека на какую-либо эротику, во всем присутствовали сдержанно-возвышенные тона.
В эпизоде расставания Маргарита и Арман вели диалог приглушенными голосами, стараясь быть внешне спокойными и изо всех сил сдерживая слезы. И лишь единственный раз Арман проводил по щеке своей возлюбленной, вытирая непрошенную слезу, и этот скупой жест производил на зрителей потрясающее впечатление. Стоявшая в зале тишина сменялась всхлипываниями. В этом спектакле Мейерхольд отразил атмосферу и стиль буржуазного общества ушедшего века с исключительным вкусом и достоверностью. На сцене находились подлинные вещи девятнадцатого века. Когда ему заметили, что зритель из зала не оценит и не отличит подлинника от бутафорской вещи, он сказал: „Зритель не оценит, но зато оценят актеры. Чудесные, старинные вещи, сделанные много лет тому назад, каких уже не умеют делать теперь, заключают в самих себе дух минувшей эпохи. И актеры, находясь в окружении этих вещей, почувствуют образы и страсти былого и вернее передадут их. А вот уж это заметит и оценит зритель“».
Но однажды в зале оказался зритель, который заметил и оценил совсем другое – отсутствие идеологии и прославление буржуазного быта.
Этим зрителем был Иосиф Виссарионович Сталин.
В печати тут же появилось «оскорбительное» понятие «мейерхольдовщина». Затем прославленному режиссеру не дали (уже ожидаемое) звание народного артиста СССР. И в конце 1938 года Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации театра Всеволода Мейерхольда.
Последний спектакль «Дама с камелиями» состоялся вечером 7 января 1939 года. Райх играла вдохновенно – она прощалась со сценой. Отыграв финальную сцену – смерть Маргариты – Зинаида Николаевна потеряла сознание. Ее на руках отнесли за кулисы. Театр был закрыт, как «враждебный советскому искусству».
А 20 июня 1939 года Мейерхольда арестовали в Ленинграде. Поездом, под конвоем, Всеволода Эмильевича переправили в Москву и поместили в тюрьму. В январе 1940 года он написал заявление на имя председателя Совнаркома СССР Вячеслава Молотова: «Меня здесь били – больного, 65-летнего старика клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху с большой силой по местам от колен до верхних частей ног. В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильными внутренними кровотечениями, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били жгутом».
Всеволода Эмильевича Мейерхольда обвинили в шпионаже в пользу английской и японской разведок, приговорили к расстрелу с конфискацией имущества, и 20 февраля 1940 года приговор привели в исполнение.
В день ареста Всеволода Эмильевича, в их квартире был произведен обыск. Вероятно, Зинаида Николаевна предчувствовала беду: обоих детей, уже взрослых, она благоразумно отправила из дома. А через несколько дней ее нашли в спальне с множеством ножевых ранений. Ей нанесли 11 ран и перерезали горло, изуродовали лицо и, как говорят, даже выкололи глаза. На попытки врача скорой помощи остановить кровотечение она прошептала: «Оставьте меня, доктор, я умираю…» Скончалась она по дороге в больницу. Кроме изувеченной хозяйки в квартире обнаружили труп домработницы – несчастной женщине проломили голову.
И по сей день точно не известно, что же произошло в квартире Мейерхольдов. Некоторые утверждают, что в богатую квартиру забрались воры, которые, нарвавшись на двух женщин, убили их и скрылись. Но ничего не было украдено, и вряд ли воры стали бы так изощренно уродовать уже немолодую актрису…
Квартира Мейерхольдов была опечатана, но Костя Есенин пришел туда, чтобы собрать запекшуюся кровь матери в спичечный коробок. Этот коробок он взял потом с собой на фронт…
Зинаиду Райх похоронили на Ваганьковском кладбище, недалеко от могилы Есенина. Место, где захоронен Мейерхольд, до сих пор неизвестно. Впоследствии на памятнике Райх добавили надпись: «Всеволод Эмильевич Мейерхольд». Люди вновь свели их вместе, хоть и после смерти. Как при жизни их свел Бог.
Несчастная примадонна. Мария Каллас и Аристотель Онассис
Кто-то назвал ее планетой, случайно занесенной в чужую галактику. Это относилось и к ее жизни в искусстве, и к реальной жизни. Ее личность воспринималась крайне противоречиво. Даже часто повторяемое в печати восхваление «единственная в своем роде» зачастую понималось в негативном смысле.
Ее вокальные данные приводили в восторг одних и вызывали раздражение у других. Эти споры начались с самых первых ее выступлений в послевоенной Италии. Награждение Марии Каллас титулом примадонны знаменитого театра «Ла Скала» явилось явным признанием ее таланта профессионалами, но реакция некоторой части публики и большей части газетных критиков была мало доброжелательна. Зрители реагировали не только на ее голос, но и на саму певицу. А образ ей создали не самые добросовестные газетные журналисты, рисовавшие Марию как капризную, чуть ли не склочную даму.
А голос у нее был изумительный. И по сию пору многих оперных певиц сравнивают именно с великой гречанкой, с ее исполнением знаменитых арий. Но помимо голоса она обладала потрясающими актерскими данными – Мария Каллас каждую роль наполняла своей немыслимой энергией и целым потоком чувств.
Столь «неуемное» проникновение в роли неотвратимо накладывало отпечаток на ее чрезвычайно эмоциональную личность. Тем более роли были непростые – Норма, Медея, Анна Болейн, леди Макбет, Тоска.
Один музыкальный критик, описывая голос Марии, отметил, что скорее поражает не его тембр, а способность певицы выражать им жизнь и интенсивность эмоций: «Важнее восхищения тем, как она поет, стало проникновение в то, почему она поет: из-за страсти». Эта страстность Марии звучала в пении. Эта страстность лишила ее голоса…
В одной статье, посвященной творчеству великой певицы, описывалась знаменитая постановка в «Ла Скала», которую осуществлял известнейший кинорежиссер Лукино Висконти. Он поставил «Травиату» Джузеппе Верди, сюжет которой основывался на знаменитой пьесе Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Висконти был впечатлен драматической игрой Марии Каллас, ее немыслимой работоспособностью и тем, сколько сил она отдавала сцене. В статье описывалось также само действие пьесы. «Декорация спектакля „Травиата“ была выполнена в траурных цветах: черном, золотом и пурпурном. Она наполняла атмосферу предчувствием смерти Виолетты, которую пела Каллас. Беспорядочная неразбериха в сцене бала походила на настоящий кутеж с его грубоватой разнузданностью. Во время дуэта влюбленные – Альфред и Виолетта – оставались на сцене одни. На Каллас было черное вечернее платье и длинные белые перчатки. А в руке она держала маленький букетик фиалок. Когда Альфред признавался ей в любви, она медленно отворачивалась от него и шла к просцениуму. Руки в белых перчатках она держала за спиной, напряженно вытянутыми. В таком положении Альфред и обнимал ее. Букетик падал на пол. Это было незабываемо…
После ухода гостей сцена становилась похожей на кладбище: полуувядшие цветочные гирлянды, стол, напоминающий поле боя, салфетки и веера на полу, перевернутые стулья… Входила служанка и гасила люстру и свечи, а Каллас тем временем опускалась в кресло у камина, закутанная в широкий шарф в отсветах пламени. Снимая украшения, вынимая шпильки из волос, рассыпающихся по плечам, она пела, потом вставала, подходила к столу, садилась, откидывала голову и сбрасывала туфли с ног. Здесь голос Альфреда прерывал ее пение. Она не понимала, откуда взялся этот звук: звучит ли он в ее воображении или в реальности. Она вскакивала и бежала к веранде…»
Режиссер так реалистично воспроизводил все детали быта, обыденного человеческого поведения, что все происходящее на сцене воспринималось как нечто действительно существующее. А игра Марии Каллас, именно актерская игра, буквально завораживала публику.
Мария не просто пела партии, но проживала их, заставляя слушателей чувствовать все, что ощущала она сама. Верди назвал свою оперу «Ла травиата» (заблудшая), и Каллас смогла показать сначала капризную страсть куртизанки к наслаждениям и развлечениям, а потом – превращение Виолетты в любящую женщину. Об этом писал Александр Дюма, действительно переживший всю эту историю. Об этом хотели сказать и прославленный режиссер, и сама актриса. О невероятной, магической силе любви, об удивительной способности Виолетты полностью забыться, раствориться в любимом человеке и, как высшее проявление любви, отказаться от него.
Но великой гречанке довелось и самой пережить почти столь же «смертельную» любовь…
Мария Каллас родилась 3 декабря 1923 года в Нью-Йорке. Евангелия, мать Марии, мечтала о мальчике, потому что недавно потеряла своего любимого трехлетнего сына. Но на свет появилась девочка, Евангелия отвернулась от дочери, не желая ее видеть, и лишь на третий день подошла к ней. Девочку назвали Сесилия София Анна Мария. Настоящая ее фамилия – Калогеропулос. Для простоты произношения (в Штатах не всякий мог выговорить такое) фамилию сократили до Каллас. И хотя вскоре семья греческих эмигрантов вернулась обратно на родину, Мария так и осталась – Марией Каллас.
Детство Марии и ее старшей сестры прошло под визгливые крики и брань матери, которая с утра до ночи пилила мужа. Все свои несбывшиеся честолюбивые притязания Евангелия обрушила на младшую дочку.
С детских лет Мария мгновенно запоминала и пела наизусть все песни и арии, звучавшие по радио. Евангелия подыскала дочери не слишком дорогого учителя музыки и вокала и придирчиво следила за ее успехами. Стеснительная, неуклюжая Мария, с пяти лет носившая очки, быстро поняла, что уроки музыки – единственное, что избавляет ее от одиночества и от агрессивной материнской любви; кроме того, уроки доставляли ей огромное удовольствие.
В четырнадцать лет Мария закончила среднюю школу, и мать тут же увезла ее учиться в Афины. Там она привела дочь в Национальную консерваторию на прослушивание к знаменитому педагогу Марии Тривелле. Прослушав Марию, Тривелла тотчас взяла ее в ученицы. Помимо несомненных вокальных данных она профессиональным взором угадала в пении девочки индивидуальность, характер. Тривелла знала, что семейство Каллас очень небогато, и постаралась выхлопотать для одаренной ученицы стипендию.
Мария начала учиться. Она постоянно участвовала в различных вокальных конкурсах – это льстило тщеславию матери. Но не всегда выступления приносили девочке радость – ее внешность доставляла Марии много огорчений: неуклюжие очки, лишний вес, некрасивое лицо, прыщи. А публика, к сожалению, не всегда бывает доброжелательна…
«Единственным удовольствием для меня тогда было обжорство», – признавалась примадонна в своих интервью. В оправдание она приводила бытовавший тогда предрассудок, будто певческие данные находятся в прямо пропорциональной зависимости от телесного объема. Трудно представить, что в пятнадцать лет Мария весила центнер при росте в 160 сантиметров.
Она была совсем юной, когда в Грецию пришла война. Итальянцы оккупировали Грецию, и одному из оккупантов по имени Марио предстояло стать первой любовью будущей «звезды» оперного искусства. Он ухаживал за юной толстушкой, водя ее по ресторанчикам, где она с удовольствием поедала всякие вкусности. Но первая любовь Марии оказалась по-настоящему трагичной – Марио однажды не вернулся из боя. Горе девушки было огромно. Она старалась забыться в учебе и работе, ища на сцене убежища от невзгод реальной жизни.
Война не помешала ее вокальным занятиям, и вскоре ее голос покорил всю Грецию. Однако ее габариты производили на слушателей не самое приятное впечатление: она казалась невероятно громоздкой, платья на ней топорщились, походка была тяжелая и неуклюжая. Уже повзрослев и поняв, что внешность очень важна для актрисы, Мария взялась за себя – она буквально «сделала сама себя», превратив «гадкого утенка» в «прекрасного лебедя». В результате строгой диеты она похудела более чем на сорок килограмм и стала одной из самых элегантных дам своей эпохи.
В юности, потеряв своего Марио, Мария, похоже, решила больше не влюбляться, и все силы стала отдавать сцене и славе. Однако жизнь распорядилась по-своему – в двадцать шесть лет она вышла замуж за итальянского промышленника Джованни Баттисто Менеджини.
В Верону она приехала по своему первому оперному контракту – пока никому не известная выпускница Афинской консерватории. Выглядела она тогда еще непривлекательно: полная, в бесформенных блузах, с гладкой прической. Тем не менее дебют Марии, состоявшийся 3 августа 1947 года, оказался столь успешным, что ведущие критики в один голос предрекли Каллас большое будущее.
Здесь же она встретила своего будущего мужа – пятидесятилетнего холостяка Джованни Менеджини. Мария, несмотря на совсем не привлекательную внешность, сразу полюбилась немолодому итальянцу: улыбчивая, милая и неизбалованная… Он стал носить за кулисы цветы, дарить всевозможные подарки, а после спектаклей водил девушку в приличные рестораны. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы покорить ее сердце. «Нас всюду видят вместе, – совершенно серьезно заявила Мария итальянцу. – Ты меня компрометируешь. Ты или должен на мне жениться, или перестать за мной ухаживать».
Менеджини немного поразмыслил и в тот же день, 21 апреля 1949 года, повел Марию под венец в маленькой церкви святого Филиппа в Вероне. За три часа он успел оповестить родственников, которые пришли в ужас, купить Марии шелковое платье (оно, правда, оказалось ей слегка тесноватым) и договориться со знакомым священником. В Италии так венчаются юные любовники. Их единственными гостями были двое наспех найденных свидетелей.
Через несколько часов после этой церемонии счастливая и довольная Мария отправилась на трехмесячные гастроли в Буэнос-Айрес.
А газеты поторопились написать, что «противоречивая» Каллас вышла замуж за «завсегдатая оперного закулисья», или, как еще называли Менеджини, «провинциального Казанову». Эта женитьба вызвала много толков, потому что никто не мог понять, зачем это понадобилось Менеджини, и с чего это Каллас вдруг решила выскочить замуж. То, что эти двое могли полюбить друг друга, никому и на ум не приходило. Мария писала мужу: «Хочу сказать тебе только одно, любимый, – что люблю тебя, уважаю и чту. Я так горжусь моим Баттисто! Нет на свете женщины счастливее меня! Пусть я знаменита как певица – для меня куда важнее, что я нашла мужчину своей мечты!»
Внешне Баттисто не отличался красотой – плотный, с седеющими редкими волосами, небольшого роста. Правда, он был всегда бодр и энергичен, да к тому же богат, нарочито нежен и умел говорить о любви (позже выяснилось, что больше самой Марии корыстный Менеджини любил ее большие гонорары).
Когда в апреле 1949 года они обвенчались во Флоренции, Мария отправила матери телеграмму, извещая о свадьбе. На что Евангелия ответила: «Никогда не забывай, Мария, что в первую очередь ты принадлежишь публике, а потом мужу». Мария об этом и не забывала. Она была примадонной и даже не помышляла поставить свою личную жизнь выше карьеры.
К семье она относилась очень серьезно. И Менеджини очень скоро обнаружил, что женился на женщине с весьма старомодными представлениями о семейной жизни. Он был удивлен ее несовременностью, но в то же время и необыкновенно доволен.
Для Марии было чрезвычайно важно, чтобы мир был стопроцентно предсказуем, иначе она совершенно терялась. Когда супруги Менеджини уже жили своим домом в Милане, Мария требовала от прислуги, чтобы туфли, расставленные в гардеробной, безукоризненно сочетались по цвету, а чашки и стаканы в буфете были выстроены «по росту»; если она не находила молочных продуктов строго на верхней полке холодильника – слугам грозил весьма серьезный выговор. (Такое поведение также порождало слухи о склочности примадонны.)
В это время она покорила одну из главных оперных сцен мира – миланский «Ла Скала». Эпитеты «великая», «непревзойденная», «неподражаемая» стали сопутствовать ей не только в Италии, но и в лондонском «Ковент-Гардене», и в нью-йоркском «Метрополитен-Опера», и в парижском «Гранд-опера». Но слава всегда требовательна – работать приходилось на износ. Днем Мария была в театре на репетиции, вечером отрабатывала спектакль, ровно в полночь, абсолютно обессиленная, она ложилась в постель, а завтра надо было опять быть в форме, чтобы продолжать этот сумасшедший забег к вершине Олимпа.
В ее отношениях с Менеджини с самого начала не было ничего особенно романтического, зато в них присутствовало нечто гораздо более для нее важное, а именно – надежность и стабильность. Баттисто стал для Марии не просто мужем, но и другом, и управляющим всеми ее делами, она же целиком и полностью была поглощена творчеством. Ей никогда не приходило в голову, что Баттисто может заинтересоваться другой женщиной; зато и она, со своей стороны, не давала ему ни единого повода усомниться в своей верности… до поры до времени.
Итак, супруги Менеджини объездили весь мир. Баттисто радовался успехам и взлету артистической карьеры жены. Мария стала самой высокооплачиваемой в мире певицей. Кроме того, именно в эти годы неузнаваемо изменился и ее внешний облик. Устав читать в газетах о своей полноте (один из критиков, анализируя «Аиду», где пела Каллас, написал, что невозможно различить ноги слонов, выходящих на сцену, и ноги примадонны), Мария решила коренным образом изменить свой имидж. Ее тайным идеалом всегда была воздушная Одри Хепберн. Познакомившись с Хепберн у визажиста Альберто де Росси, Мария попросила его сделать ей такой же макияж. Одри была польщена, что великая оперная певица сделала ее образцом для подражания.
Мария изнуряла себя диетой, но достигла желаемого результата. За время сезона 1953–1954 года Каллас изменилась до неузнаваемости. Сама она отмечала это так:
«Джоконда – 92 кг;
Аида – 87;
Норма – 80;
Медея – 78;
Лючия – 75;
Альцеста – 65;
Елизавета – 64».
Так имена сыгранных ею в тот период героинь обозначались весом, который все таял и таял.
В апреле 1959 года состоялось одно из величайших выступлений Марии Каллас. А затем был прием в парижском «Максиме». Там певица отмечала десятую годовщину своего бракосочетания с Баттисто Менеджини. Отмечала с большой помпой, хроникеры сообщали о телеграммах со всех концов света, о бесчисленных букетах цветов, о целых охапках красных роз, о каких-то изысканных блюдах… и все как один повторяли слова Марии, которые она сказала о себе и своем муже: «Я – голос, а он – душа».
Но именно в это время на горизонте появился Аристотель Онассис, легендарная и скандальная личность, которой было суждено разрушить «семейное счастье» этой четы. Выходец из малообеспеченной греческой семьи, он, благодаря своей неуемной энергии и незаурядным способностям, а также изобретательности и трудолюбию, стал уже в молодые годы мультимиллионером, а затем – одним из богатейших людей нашей планеты.
Родился Аристо (так называли его близкие) 20 января 1900 года. Еще в детстве бабушка научила его, что «мужчины должны сами строить свою судьбу». Он последовал совету любимой бабули. Едва возмужав и заработав денег на дорогу, он отправился в чужую страну – Аргентину, и там принялся сколачивать свое состояние. Начал он с торговли табаком, затем стал судовладельцем. В 1929 году Аристо уже был миллионером – он одевался «с иголочки» и вел себя, как роковой мужчина из голливудской мелодрамы. С юных лет он очень любил женщин и одержал не одну победу над настоящими красотками. Он просто не знал поражений. Любовную эпопею он начал в тринадцать лет с собственной учительницей…
Онассис выгодно женился на дочери мультимиллионера, грека из США, Ливаноса. Жена, ее звали Тина, была хороша собой и моложе него на двадцать три года. Она родила Аристотелю двух детей – сына Александра и дочь Кристину. Но Онассис не был создан для размеренной семейной жизни. Он путешествовал по миру, старался заработать еще больше денег, искал приключений и по-прежнему любил женщин.
Аристотель никогда не завидовал чужому богатству, даже если оно превышало его собственное. Единственное, что вызывало его зависть – это знания и высокая образованность, которые он ценил не меньше, чем наличные деньги. А еще его чрезвычайно привлекала слава – даже чужая.
В 1958 году Онассис и его жена Тина впервые встречали Рождество отдельно друг от друга. Его многочисленные любовницы и взрывной характер (темпераментный Онассис часто избивал своих женщин) охладили семейные отношения.
Именно в это время он стал особенно внимательно следить за творчеством своей легендарной соотечественницы – Марии Каллас. Его притягивала ее слава. Но, по словам Аристо, больше всего его умиляло тяжелое детство дивы. Оно напоминало ему его собственные детские годы.
Вообще Онассис и Мария имели очень много общего. Во-первых, оба они были греками по национальности, оба родились не на «исторической родине», но оба очень любили Грецию. Во-вторых, юность обоих прошла в годы войны и в неблагополучных семьях. В-третьих, Мария, как и Аристотель, самостоятельно добилась успеха. Ну и, наконец, и он и она были личностями чрезвычайно популярными. Можно сказать, Онассис был самым знаменитым в мире греком, а Каллас – самой знаменитой гречанкой того времени.
Журнал «Тайм» в 1956 году, поместив на обложке фотографию Марии Каллас, писал, что она «может петь все, что было когда-либо написано для человеческого голоса, презирая обычные границы сопрано, меццо-сопрано и контральто, как будто природа их вовсе не создавала».
Интерес Онассиса к Марии стал скоро беспокоить ко многому привыкшую жену миллионера – Тину. Особенно она заволновалась, когда ее муж решил непременно посетить Лондон, где Каллас должна была петь в «Ковен-Гардене». После ее выступления Аристотель организовал грандиозную вечеринку, куда пригласил пять тысяч «избранных» гостей. Почетной гостьей была сама Мария Каллас, ради которой все и затевалось. Это торжество мало походило на обычные приемы по случаю премьеры. Бальный зал отеля «Дорчестер», в котором проходил прием, был выдержан в лиловом цвете и до отказа заполнен розами тоже лилового цвета. Онассис всячески старался произвести впечатление на великую соотечественницу.
В три часа ночи Мария покинула вечеринку, где ее фотографировали то под руку с мужем, то вместе с Онассисом. Это было самое блестящее событие светской жизни того года. Затем Онассис пригласил Марию с мужем принять участие в круизе по Средиземному морю на его роскошной яхте «Кристина».
Перед поездкой Мария попросила директора голландского фестиваля, на котором она только что закончила выступать, задержать ей на несколько месяцев выплату гонорара. «В ближайшие месяцы произойдут значительные перемены в моей жизни, – пророчески сказала певица, – это мне подсказывает чутье. Вы многое еще услышите!» Директор усмехнулся: «Мария, это так мелодраматично!» В ответ он услышал: «Нет, это не мелодрама, Питер, а настоящая драма».
И вот 22 июля 1959 года из Монте-Карло отчалила, пожалуй, самая известная в мире яхта. На борту – хозяин Аристотель Онассис и его гости – самые знатные люди Европы, в том числе князь Монако, Уинстон Черчилль с супругой и Мария Каллас со своим мужем.
Яхта являла собой своеобразный плавучий музей – она была вся набита антиквариатом: византийскими и венецианскими произведениями искусства. В каюте Онассиса висела картина Эль Греко. В ванных комнатах были золоченые краны. На яхте имелся плавательный бассейн, выложенный мозаикой, скопированной с мозаики Кносского дворца. Обслуживали судно 60 человек – причем не только матросы, но и массажисты и повара, горничные и официанты.
Первые дни прошли спокойно. Менеджини, не владевший ни французским, ни английским, чувствовал себя несколько чужим на этом празднике жизни. Онассис был всего на девять лет моложе итальянца, но обращался с ним подчеркнуто уважительно, словно с древним стариком.
Седьмого августа «Кристина» бросила якорь у горы Атос – знаменитой священной горы, которая является местом паломничества православных греков. На другой день оба семейства – Онассисы и Менеджини – были приняты патриархом Константинополя. Патриарх, с присущим южным красноречием, восславил «величайшую певицу мира» – Марию и «величайшего мореплавателя Нового времени, нового Одиссея» – Аристотеля. Мария и Аристотель опустились перед патриархом на колени, и он благословил их. Это так напоминало сцену венчания, что Тина и Менеджини опустили в смущении глаза.
Через некоторое время уже брошенный Менеджини сказал, что он был свидетелем проявления «националистического начала», которое явно взбудоражило его жену. «Как я мог защитить себя от нового Одиссея?» – вопрошал обиженный Менеджини.
Итак, в певице проснулись чувства, которые она на протяжении десяти лет воспевала на сцене!
Тридцатишестилетняя Мария была в расцвете славы и красоты. Она отдыхала едва ли не впервые за последние 20 лет и чувствовала себя невероятно свободной и счастливой. Ей не нужно было спешить на репетицию, вечером ее не ждал спектакль – она наконец расслабилась.
Этому беспечному настроению весьма способствовала атмосфера, царившая на яхте Онассиса. С утра гости располагались на верхней палубе в удобных шезлонгах, купались в бассейне, вели неторопливые беседы и просто загорали. По вечерам все отправлялись на берег на какой-нибудь пышный прием либо устраивали веселую вечеринку прямо на яхте. Мария совершенно преобразилась в этой расслабляющей атмосфере, и муж не мог нарадоваться этой перемене. Однако вскоре его радость сменилась огорчением – Мария уделяла ему все меньше и меньше внимания, а затем и вовсе перестала слушаться. Однажды вечером она отказалась укладываться спать, а осталась танцевать с обаятельным хозяином яхты.
Эта ночь осталась в памяти Баттисто как самое горькое воспоминание его жизни. Он лег один, а через пару часов в каюту вошла женщина, которую он в темноте принял за жену. Она присела рядом с ним на кровать. Менеджини протянул было руку, чтобы обнять ее, но, присмотревшись, обнаружил, что это не Мария, – он узнал Тину Онассис, жену Аристотеля.
«Баттисто, – сдавленным голосом произнесла Тина. – Там, наверху, твоя Мария нежится в объятиях моего мужа. Хочешь, пойди полюбуйся. Впрочем, тебе уже вряд ли удастся получить ее обратно, уж я-то его знаю».
Баттисто никуда не пошел: он не хотел ни скандала, ни тем более того, что могло последовать за таким скандалом. Наоборот, он решил вообще никак не реагировать: в конце концов Мария была почти на тридцать лет его моложе и впервые заинтересовалась чем-то, кроме пения. Он надеялся, что как только яхта пристанет к берегу, все вернется на круги своя.
Но его надежды не оправдались. 8 августа, в Стамбуле, она призналась мужу, что любит Онассиса и хочет развестись.
«Между нами все кончено, я люблю Аристо!» – заявила она. «Мария, опомнись! – увещевал жену расстроенный Баттисто. – С каким таким Онассисом ты остаешься? Ведь он женатый человек, у него двое детей!»
Но Мария была непреклонна.
Второго сентября она уже на виду у всех в аэропорту Милана поцеловала Онассиса и поблагодарила за прекрасное путешествие. Вот с этой-то прогулки на яхте и начался этот длительный и страстный роман.
Спустя несколько дней Онассис увез Марию из поместья, в котором она жила с Менеджини. Они сразу поселились вместе в апартаментах Онассиса в Париже. Мария старалась как можно лучше узнать своего дорогого возлюбленного и все свое время посвящала только ему, избегая своих близких, друзей и знакомых.
«Когда я встретила Аристо, который был так полон жизни, я стала другой женщиной. …У меня было такое ощущение, – говорила Мария в то время, – что меня десять лет продержали в клетке, а с ним я совершенно изменилась». Она впервые почувствовала страсть не на сцене, а в жизни. Правда, было и одно неудобство – им постоянно приходилось прятаться от фотокамер назойливых репортеров. Журналисты устроили настоящую охоту за певицей и миллионером. Очень скоро Онассис и Мария сделались предметом сплетен – о них говорили все кому не лень.
Восьмого сентября 1959 года за ужином в одном из миланских ресторанов Каллас и Онассиса все-таки настигли папарацци. Тут же во всех газетах появились их фотографии.
Еще через день журналисты взяли в осаду квартиру певицы. Через некоторое время Мария объявила, что разрыв ее с бывшим мужем решен. Разводом занимаются адвокаты и скоро дадут объяснения. «Отныне я являюсь сама своим менеджером», – сказала примадонна. Она просила понимания в этой болезненной ситуации. «Меня и господина Онассиса связывает исключительно большая и довольно давняя дружба, – зачем-то говорила она неправду. – Я поддерживаю с ним сугубо деловые отношения».
Естественно, вслед за Марией в кольцо репортеров попал и сам Аристо. Однако он заявил совершенно обратное: «Естественно, мне польстило, да и как могло быть иначе, что женщина такого ранга, как Мария Каллас, могла влюбиться в человека вроде меня. А кто бы на это не клюнул?»
Многие считают, что Онассис решил в очередной раз утвердиться за счет чужой славы, но ведь он так или иначе использовал каждого своего знакомого и, в каком-то смысле, всех людей на свете. Менеджини в одном интервью саркастически заметил, что Аристотелю нужна Мария для того, чтобы «позолотить свои мрачные танкеры именем великой певицы».
Но существовала и другая сторона медали. Певица наконец полюбила, и она вовсе не думала о том – использует ее Онассис или нет. Она просто была счастлива. Конечно, она задумывалась над тем, любит ее Аристо или нет, но, даже понимая, что не очень-то и любит, говорила: «Я только хотела бы, чтобы это действительно был роман».
Аристотель научил ее наслаждаться физической любовью, открыв Марии абсолютно новые для нее ощущения. Опытный в любовных делах Онассис прекрасно знал, как себя следует вести: приходя к Марии, он изображал влюбленного пажа королевы. Одевал ее, собственноручно делал ей педикюр, расчесывал ее длинные черные волосы и непрерывно говорил комплименты. При этом как никто умел слушать или притворялся, что слушает. Он понимал, что обладающая своеобразными взглядами на отношения мужчины и женщины Мария желает видеть в своем возлюбленном не только любовника, но и подлинного друга.
«Я вела себя так глупо, – писала Каллас в своем дневнике, – каялась перед ним, что бросила мужа, говорила, что мне из-за этого стыдно. Как ему, наверно, было смешно все это слушать!»
Но он слушал. Значит, зачем-то ему это было нужно, ведь не только ради секса – этого у него могло быть в избытке и без Марии… Между прочим, Аристотель, не принимавший никогда и никаких советов от женщин, охотно прислушивался к мнению примадонны, которые она решительно высказывала по каждому поводу. Более того, в первое время Мария даже сопровождала его на деловые обеды, где с чисто женской интуицией и свойственным ей умом давала полезные советы.
А брошенный муж тем временем принялся нападать на Марию. «Каллас, – заявлял Менеджини, – мое творение. Она была жирной, безвкусно одетой женщиной, бедной, как церковная мышь. Да у нее вообще ничего не было за душой. А теперь я должен отдавать ей половину своего состояния?» Он почему-то забыл, что женился на Марии, когда она уже была знаменитой и получала значительные гонорары.
Надо признать, что, оставшись без Баттисто, который много лет вел все дела, Мария обнаружила, что не может самостоятельно справиться со всеми проблемами: она не умела сама организовать свое время, составить нормальное рабочее расписание с учетом всех спектаклей и гастролей, а потому начались какие-то досадные накладки – то срывался выгодный контракт, то расстраивался интересный проект, то откладывался спектакль. Неудивительно, что Каллас не могла работать как раньше, с полной отдачей, ведь, с одной стороны, ей теперь требовалось заниматься еще и организационными вопросами, а с другой – ее мысли были направлены вообще не на работу. Она ждала, что Аристотель сделает ей предложение.
Долгие месяцы имя певицы не сходило со страниц газет, которые изощрялись, кто сильнее очернит женщину, бросившую мужа и сошедшуюся с женатым мужчиной. Если бы она не была великой Каллас, а он – «тем самым Онассисом», то и радетели нравственности не начали бы свой «крестовый поход».
Мария была одной из немногих женщин, которых не интересовало богатство Онассиса. Она очень редко соглашалась принять от него подарки, хотя он пытался «осыпать» ее дарами, а когда Аристо предложил ей 2000 долларов в месяц «на содержание дома и прислуги» – она решительно отказалась. Ей был нужен он сам, а не его деньги.
И вот состоялся развод Онассиса с женой. Мария была неприятно удивлена, когда из газет узнала, что на развод подал не Аристотель. Обвинив мужа в измене, Тина назвала в качестве разлучницы… некую Джину Райнлэндер. Как ни наивна была Каллас, но она сразу поняла, что это означает: Тина таким образом дала ей понять, что в жизни Онассиса кроме Марии были, есть и будут другие женщины.
Очень скоро состоялся развод Марии и Менеджини. Она отсудила себе дом в Милане, все свои украшения и, главное, право на свои музыкальные записи. Разошлись они «по взаимному согласию сторон».
Мария ликовала. Она свободна! Теперь можно официально соединиться с любимым. Она мечтала о ребенке, она жаждала личной жизни, которой так долго была лишена. «Мне больше не хочется петь. Хочу жить, просто жить, как обыкновенная женщина», – восклицала вдохновленная Каллас.
В прессе появились сообщения о том, что уже идут приготовления к свадьбе Марии Каллас и Аристотеля Онассиса. Но прошел год, два, пять, а свадьбы не было. Она ждала, страдала, а потом смирилась и перестала ждать. К тому же брак по-прежнему оставался в ее глазах вещью священной, а она уже поняла, что с таким человеком, как Онассис, ничего священного не построишь. Несдержанный и вспыльчивый, он позволял себе публично оскорблять Каллас. Их бурные ссоры в общественных местах мгновенно становились достоянием прессы.
Однажды в парижском ресторане «Максим» их общая приятельница Мэгги ван Зулен, любуясь на красивую пару, в шутку сказала: «Вы, Мария, теперь так мало поете, наверно, только и делаете, что занимаетесь любовью». Мария густо покраснела и пробормотала: «Что вы, мы вообще никогда…»
Услышав это, Онассис вдруг в бешенстве отшвырнул от себя салфетку, едва не угодив Марии в лицо, и громко издевательски произнес: «В самом деле, никогда! Приятнее заниматься любовью с поленом, чем с ней».
Помимо оскорбления от Аристотеля Марию очень сильно задели слова «мало поете». К этому времени она изменила свое отношение к пению – ей снова хотелось петь. Но тут-то и скрывалась еще одна и впрямь мучительная драма. «Мне приписывают, что якобы я страдала исключительно из-за моих отношений с Онассисом. Какая наивность! – писала Мария в своем дневнике. – Голос – вот моя трагедия!»
Мария записала в Лондоне несколько пластинок, но они оказались такими неудачными, что она даже запретила пускать их в продажу. Тем не менее она поехала в Остен, чтобы дать концерт. Но наутро проснулась без голоса. Концерт был отменен. Однако она собиралась петь на следующем концерте – исключительно ради Онассиса. Она хотела возродить чувства своего возлюбленного именно тем, что прославило ее – голосом. Но по какой-то страшной иронии судьбы именно свое главное достояние, свой поразительный голос, делавший ее неотразимой и единственной в своем роде, она и теряла: он изменял ей, надламывался, ее стали преследовать бесконечные трахеиты и бронхиты.
Началось это чуть ли не с первых дней романа с Онассисом, еще в самый безоблачно счастливый период их отношений. Каллас обивала пороги лучших клиник мира. Врачи не находили никаких явных заболеваний и предполагали, что все дело в «психосоматике». «Не голос мой болен, больны мои нервы», – писала в те дни Мария.
Каллас была уверена, что таким образом Бог наказал ее за то, что она изменила долгу, своим религиозным убеждениям и бросила мужа. По ночам она не могла спать и проводила долгие часы в молитве, прося, чтобы Господь вернул ей голос. Ей снилось, что Господь ставит ее перед страшным выбором – голос или Онассис? Во сне она неизменно выбирала голос, а наяву трепетала от страха, что может потерять и то и другое.
Проблемы с голосом привели к тому, что она уже не могла «отработать» целый спектакль. Теперь прославленная Мария Каллас больше пела в новомодных гала-концертах, что лишало зрителя возможности наблюдать другую сторону ее дарования – ее превосходный актерский талант.
Затем с ней отказался работать Висконти, который должен был ставить оперу с ее участием. Проект не состоялся, хотя великий режиссер помнил, как прекрасно им работалось вместе. Он писал: «Я преклоняюсь перед Каллас, но не верю, что она опять будет петь, такое случается теперь лишь раз в году. Она лучше, нежели кто-либо другой, знает, что в позапрошлом году еще была великой, и она также хорошо знает, что это великое уходит. Как женщина, она по-прежнему молода, но как певица далеко не молода… К тому же она в плену разных личных обстоятельств. Это тлетворно влияет на нее…»
Марии казалось, что все вокруг разваливается прямо на глазах. Из-за чувства неуверенности в себе она все реже появлялась на сцене, а ведь именно на сцене она прежде набиралась сил для жизни.
Ей предложили сыграть в фильме Ханса Хабе «Примадонна». По словам знающих Онассиса знакомых, это вполне могло вновь привлечь его к Марии. Но и этот проект не состоялся. «Каллас уже не та», – писали газеты. Она теряла голос. Голос и… Аристо. Онассис любил все необычное, «самое лучшее», а оперная примадонна Мария Каллас перестала быть самой-самой…
Она пыталась работать, говоря: «Я должна снова черпать радость в своей музыке». Но звучало это жалко. Еще большую жалость вызывало другое ее высказывание: «Если у меня не будет работы, чем мне тогда заниматься с утра до ночи? Детей у меня нет. Семьи тоже. Что мне делать, если у меня больше не будет моей карьеры? Не могу же я просто так сидеть и болтать языком или играть в карты, я не принадлежу к такому типу женщин».
А тут еще «ее мужчины» проявили себя. Менеджини, который действительно нажил капитал за счет ее славы, решил изменить в свою пользу решение суда о разводе, а Онассис принялся ухаживать за принцессой Радзивилл.
Уязвленная Мария твердо решила полностью отдаться работе. Она отправилась в турне по Германии. Немецкие газеты писали о ее выступлениях, используя исключительно прошедшее время – «бывшая», «была», «когда-то». Если и появлялись хвалебные эпитеты, то после каждого следовало «но»… Она и сама понимала, что ее прежде завораживающий голос стал неровным и неуверенным.
В 1963 году в Америке застрелили президента Джона Кеннеди. На траурную церемонию клан Кеннеди пригласил всех значимых людей планеты, в том числе и Аристотеля Онассиса. Посочувствовав бедной вдове Жаклин, Онассис пригласил ее погостить на его яхте. Это приглашение имело значительное продолжение.
А в декабре 1963 года он вылетел в Париж, чтобы отметить сорокалетие Марии. Здесь, в Париже, они снова сошлись. На этот раз Мария серьезно стала настаивать на женитьбе. Главным ее аргументом было то, что ей много лет, и совсем скоро она уже не сможет стать матерью. А это была ее заветная мечта.
И вдруг Онассис согласился. Или сделал вид, что согласился. Дело происходило в декабре, а свадьбу он назначил на первую неделю марта в Лондоне. Каллас ликовала! А когда пришла весна и до назначенной церемонии оставалось несколько часов, жених и невеста внезапно очень серьезно поссорились – свадьба не состоялась.
Через два года Мария радостно сообщила Аристотелю, что ждет ребенка. В ответ, вместо ожидаемых восторгов, она услышала поток брани – Онассис потребовал в самой категорической форме, чтобы она сделала аборт. Мария испугалась, что он сейчас же бросит ее, и согласилась, о чем потом сильно жалела. У нее больше никогда не было детей. А Онассису они были и не нужны – у него уже было двое наследников.
Больше о свадьбе речи не заходило. Мария пила транквилизаторы, пытаясь заглушить свое горе – от крушения надежд и потери ребенка. Однажды был случай передозировки – далеко не случайный. Марию спасли, но психика ее претерпела необратимые изменения… Она часто признавалась друзьям в то время, что ее любимой оперой является «Норма» Беллини, в которой героиня, чтобы не докучать своему возлюбленному, кончает жизнь самоубийством.
А тем временем близилось ее последнее театральное представление. 5 июля 1965 года на благотворительном гала-концерте публика услышала ее голос, выводивший мелодию с величайшей осторожностью. От былой мощи и пылкости не осталось и следа!
Мария с отчаянием думала – как жить дальше? Карьера явно шла на убыль. Отношения с Аристотелем все чаще омрачались переменчивыми настроениями и злобными выходками, которые мужчина может позволить себе только в случае, если он потерял уважение к женщине.
«Что ты представляешь из себя? Ничего! У тебя остался только свисток в горле, да и тот уже не свистит», – заявил ей как-то Аристо. В другой раз она услышала: «Ты – пустое место». Все эти грубости он бросал ей в лицо при свидетелях. Однажды кинорежиссер Франко Дзеффирелли, услышав очередное хамское заявление Онассиса, не выдержал и потребовал, чтобы тот извинился перед публично униженной женщиной. Но – безрезультатно.
В октябре 1968 года Онассис все-таки женился. На Жаклин Кеннеди. Они уже несколько лет как были любовниками, и вот Аристотель решил скрепить их союз брачными обязательствами.
Узнав об этом, Мария, которая и не подозревала об их связи, была настолько потрясена, что уже серьезно стала подумывать о самоубийстве. Вездесущие папарацци сумели взять у ошеломленной певицы интервью, в котором она, в частности, сказала: «Сначала я потеряла вес, потом я потеряла голос, потом ребенка, а теперь я потеряла Онассиса».
Уединившись в своей парижской квартире, Каллас часами смотрела на портрет Марии Магдалины и пыталась осмыслить свою жизнь. «Как мне раньше хотелось, чтобы существовала опера о Марии Магдалине, – записала она в дневнике. – Я всегда чувствовала наше тайное родство. Только в отличие от Марии Магдалины я сначала была верной, а потом стала грешницей. Возможно, поэтому ее Бог простил, а меня – нет».
Однако через несколько недель Онассис явился пред ее заплаканные очи. Он стал умолять простить его и говорить, что поступил необдуманно, что брак его исключительно выгодная сделка, а Жаклин он совсем не любит, впрочем, как и она его. Что было в его словах правдой, трудно сказать. Одно точно – Жаклин Кеннеди даже не пыталась быть ему хорошей женой. Все свое время она предпочитала проводить в Америке, а не рядом с мужем. А еще она вовсю транжирила его огромное состояние – транжирила просто так, без необходимости, просто чтобы тратить.
Мария и Аристотель стали снова встречаться.
Но потом в жизни Онассиса произошло страшное несчастье – в авиакатастрофе погиб его горячо любимый сын. После этого все окружающее перестало интересовать Аристотеля. Очень редко он виделся с Марией, которая сумела ему все простить и одна могла поддержать его.
Нравственно и физически разбитый, Онассис заболел. Он перенес серьезную операцию, но так и не пошел на поправку. Его жена, Жаклин, всего один раз прилетела из Нью-Йорка, чтобы навестить его… 15 марта 1975 года Аристотель Онассис умер.
Мария пережила своего возлюбленного. Но полностью потеряла вкус к жизни после его смерти. Ее мучили затяжные депрессии. 16 сентября 1977 года Марию Каллас обнаружили мертвой на полу ванной комнаты ее огромного парижского дома…
Ходили странные слухи о том, что великая певица была убита. Как подтверждение этой версии приводили тот факт, что она не оставила завещание. А состояние у нее было внушительное. Но это были только слухи – ничего конкретного.
Мария Каллас была великой в каждом жесте, в каждом звуке… Она не просто пела роли, она их проживала на пределе сил, она превращала обычный речитатив в нечто живое и каждый раз новое. Эта удивительная певица так преображала роли, что и Верди, и Беллини, и Россини – словом, все композиторы, чьи произведения она исполняла, не только увидели бы в ней восхитительное осуществление задуманного, но и удивились бы – какие дополнительные краски нашла Мария в их творениях.
Она всегда принадлежала искусству, и при этом всегда была настоящей женщиной – любящей и страдающей. Несчастной примадонной.
Зачем нужна любовь? Две любви Эдит Пиаф
«Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила прежде всего ее, жизнь. Мне бы хотелось, чтобы сказали обо мне, как о Марии Магдалине: ей многое простится, ибо она много любила».
Говоря эти слова за несколько месяцев до смерти, Эдит Пиаф не лукавила – все ее существование было пронизано Любовью – любовью к жизни, которая вмещает в себя и любовь к музыке, и любовь к мужчинам, и любовь ко всему на свете.
Это хрупкое создание вмещало в себя столько любви, что ее хватило бы на целое население небольшого государства. Сила этой любви, любви к жизни, и сотворила настоящее французское чудо по имени Эдит Пиаф.
Эдит Джованна Гасьон родилась 19 декабря 1915 года. Ее отец и мать были уличными акробатами. Эдит появилась на свет холодной декабрьской ночью прямо на тротуаре бедной парижской улочки, пока отец девочки, Луи Гасьон, бегал за извозчиком, чтобы отвезти жену, Аннет Майер, в родильный дом.
Вскоре отца забрали на фронт (шла Первая мировая война), а мать, бросив дочь на попечение своих родителей-алкоголиков, сбежала к другому. Дед и бабка Майер вскармливали девочку, добавляя в молоко вино, которое было основным их «питанием». Услышав от кого-то, что вредные микробы якобы не переносят грязи, дед с бабкой не только сами не мылись, но и не мыли младенца, радея о его здоровье.
Рядовой Луи Гасьон, приехавший в 1917 году в отпуск, к счастью, застал свою двухлетнюю дочь еще живой, что было истинным чудом. Он тут же забрал Эдит и отвез к своей матери, Луизе Гасьон, которая работала кухаркой в публичном доме.
В борделе за девочку взялись все «девушки» – ее отмыли и одели в новое платье. Сентиментальные проститутки окружили малышку такой любовью, что Эдит была счастлива. Однако вскоре обнаружилось, что ребенок слеп. Все «сотрудницы» публичного дома складывалась на дорогих докторов, но никакого результата лечение не приносило.
Эдит исполнилось пять лет, когда вернулся из армии ее отец. Луи часто наведывался к дочке, но забирать ее у бабушки он не стал – девочке там было лучше, чем с уличным акробатом.
Девушки из борделя переживали за внучку Луизы Гасьон, а поскольку все они верили в Бога и божественное провидение, то решили все вместе помолиться за исцеление маленькой Эдит. Девочке было уже семь лет, а никакое лечение по-прежнему не помогало. И вот, уповая на божественные силы, парижский дом терпимости в полном составе прибыл в церковь святой Терезы и целый день возносил молитвы, прося исцелить Эдит Гасьон.
Двадцать пятого августа 1921 года, через неделю после этой коллективной молитвы, в день святого Людовика, именин отца Эдит, – она прозрела!
Это было вторым чудом в ее жизни. Любовь, как видно, и впрямь всесильна.
Счастливая бабушка отдала девочку в школу, но там, узнав о том, где Эдит живет, тут же потребовали забрать ее. А потом в дело вмешался местный кюре, заявивший, что юному невинному созданию незачем общаться с падшими женщинами. И его нисколько не взволновал тот факт, что молитвами этих грешниц произошло настоящее чудо.
Теперь Луи пришлось взять на себя воспитание дочери. Он взял ее к себе и попытался обучить своему мастерству – акробатике. Но щупленькая Эдит не годилась в гимнастки, зато у нее оказался очень громкий и звонкий голос, к тому же петь она, воспитанная сентиментальными «девушками», умела чрезвычайно чувствительно – от всех ее песен слушателей непременно пробирала слеза. Будущая великая певица обладала врожденным абсолютным слухом и никогда не обучалась музыке профессионально. До конца жизни она не знала нот, а когда сочиняла мелодии, то наигрывала их на рояле одним пальцем.
С отцом Эдит выступала на улицах, в казармах, в кабачках. Она пела слезливые песни, а он показывал акробатические номера. В конце каждого представления Эддит неизменно исполняла «Марсельезу».
Много лет спустя Эдит рассказывала, что однажды весьма прилично одетая пара предложила Луи отдать им дочь на воспитание – им очень понравился ее голос, и они подумали отдать ее в обучение. Супруги предложили отцу целых 100 000 франков – деньги очень большие, – но Луи даже раздумывать не стал – он не желал расставаться с дочерью.
Жизнь девочки могла пойти по иному пути…
Но Эдит осталась с отцом, а значит, – на самом дне Парижа, среди проституток, спивающихся нищих, уличных актеров, воров и сутенеров. Когда ей исполнилось четырнадцать лет, она ушла от отца, чтобы начать самостоятельную жизнь. И жизнь эта была точно такой, как и у всех уличных певичек – днем она пела на улицах, вечером тратила заработанные деньги с мужчинами, которые сменяли один другого бесконечной чередой. Это легкое отношение к любовным связям она явно унаследовала от своих воспитательниц. Хотя бедные кварталы Парижа вообще не отличались целомудренностью.
Наконец в череде любовников, чьи имена она порой не могла вспомнить на утро, попался некий Луи. Эдит было тогда шестнадцать лет, и она влюбилась. Светлоглазый блондин Луи работал в большом магазине, в отделе доставок на дом. Он тоже влюбился в веселую и голосистую девушку. Они поселились вместе в мансарде маленького отеля.
Эдит по-прежнему пела на улицах, пока Луи был на работе. Им хотелось хоть как-то обустроить свой быт, но денег вечно не хватало, и Луи стал подворовывать в магазинах всякую утварь. Очень скоро Эдит забеременела и родила дочь. К этому времени у молодых родителей уже не было постоянной крыши над головой, они ночевали где придется. Заработав немного денег, Эдит снимала гостиницу на 12 часов, чтобы помыть ребенка и дать ему нормально поспать, а потом опять отправлялась петь на улицу вместе с малышкой. Девочка росла слабой и очень болезненной, что немудрено, ведь Эдит вела себя не намного ответственнее, чем ее непутевая мамаша.
В конце концов девочка заболела менингитом и умерла. Дочку следовало похоронить, и Эдит вышла на улицу – петь. Ей было так плохо, и пела она так надрывно, что какой-то прохожий спросил, что случилось. Эдит, сама еще почти ребенок, расплакалась и рассказала о своем горе. Мужчина вручил ей 10 франков и ушел. После смерти дочери любовники расстались.
Эдит продолжала свою беспутную жизнь. Она пела, тратила, опять пела и опять тратила. Любовники сменяли друг друга, не задерживаясь надолго. Так бы и прошла ее жизнь на грязных улицах среди всякого сброда, если бы пасмурным осенним днем судьба не надумала совершить еще одно чудо.
«Родилась, как воробей. Прожила, как воробей. Умерла, как воробей», – пела Эдит, дрожа на ветру, под аккомпанемент подружки-аккордеонистки. Старое, протертое пальто с чужого плеча почти не грело. Стоптанные туфли были одеты на босу ногу, поскольку чулок, конечно же, не было. Сырой ветер задувал в лицо и забирался под одежду. А она старательно пела одну песню за другой в надежде заработать им с подругой на горячий кофе и хотя бы один пирожок.
Вдруг она услышала за спиной голос: «Да ты с ума сошла – петь на улице в такую погоду!» Эдит оглянулась и увидела солидного господина лет сорока, очень элегантно одетого. Он с усмешкой смотрел на уличную певичку, и она тут же «взъерошилась»: «А есть-то мне что-то надо!» – и резко отвернулась от противного типа. Но «тип» спокойно спросил: «Хочешь выступать в кабаре?» Не веря своим ушам, Эдит опять повернулась к солидному господину. «Меня зовут Луи Лепле, – представился мужчина. – Я хозяин кабаре „Жернис“. Если хочешь, приходи завтра в четыре, я тебя послушаю».
Эдит плохо понимала, что происходит, и молча смотрела на него. А Лепле оторвал клочок от газеты, которую держал в руке, написал на нем адрес и протянул Эдит. «Да, и вот еще что, купи себе поесть», – он сунул Эдит прямо в руки пятифранковую банкноту.
Потом она не помнила, поблагодарила ли его тогда, но отлично помнила, как они с подругой кинулись в кафе и заказали по бифштексу. Весь оставшийся день Эдит пыталась понять, чего же на самом деле хочет от нее этот странный господин.
На встречу с Луи Лепле не привыкшая к дисциплине Эдит, естественно, опоздала. Он, ужасно сердитый, стоял у входа: «Так-так. Опоздание на час. Детка, что же будет дальше?» Они вошли внутрь кабаре, и у Эдит перехватило дух. Такой роскоши она никогда не видела.
«Встань на сцену и пой все песни, которые знаешь», – велел Лепле. Она послушно поднялась на сцену – впервые в жизни. И пела два часа, а Лепле внимательно слушал. Будучи опытным продюсером, Луи понял, что из этого заморыша из парижских трущоб может получиться замечательная певица.
«Через неделю я устрою тебе дебют в „Жернисе“, а до этого будешь каждый день приходить ко мне на репетиции. И еще – тебе нужно придумать псевдоним», – произнес Лепле.
Вот тогда-то, глядя на тщедушную фигурку Эдит, Лепле сказал: «Ну, конечно, ты же такая маленькая и хрупкая, тебе подойдет имя – Малютка Пиаф». На парижском жаргоне «пиаф» означало «воробей». Маленькая, невзрачная, взъерошенная, дитя тротуаров – настоящий парижский воробей!
У нее не было приличного платья, она не умела накладывать грим, у нее все еще не было чулок, она даже не успела довязать рукав на джемпере, в котором собиралась впервые выйти к публике. Одна из певиц кабаре, увидев затруднения юной дебютантки, тут же подарила ей белоснежный шелковый шарф. Набросив его на плечи, чтобы скрыть отсутствие одного рукава, Эдит вышла на сцену.
Публика сидела за столиками, и все были заняты своими разговорами и ужином. Эдит перевела дух и запела. В теплом уютном помещении она так увлеклась пением, что вскинула руки, и белоснежный шарф упал, а Эдит испуганно замерла на сцене в патетической позе – с воздетыми руками, в джемпере с одним рукавом, – и продолжала петь. Но слушатели словно ничего не видели. В зале давно уже смолк гул и разговоры – ничего подобного еще не звучало под сводами «Жернис». А Эдит твердила про себя: «Победить! Победить!» Песня кончилась. Ни аплодисментов, ни шепота – тишина… Эти двадцать секунд показались Эдит вечностью. И вдруг зал буквально взорвался аплодисментами. Достопочтенная парижская публика, которую так боялась Эдит, была завоевана навсегда!
«Порядок», – сказал за кулисами Лепле и по-отечески обнял счастливую певицу.
Луи не был скупым и не собирался наживаться на талантливой девочке, он платил Эдит за каждое выступление по 50 франков – сумасшедшие для нее деньги. Но беспечная девчонка тратила их в тот же вечер на своих приятелей и приятельниц. Эдит не собиралась менять образ жизни только потому, что стала петь не на улице, а в одном из самых известных кабаре Парижа.
Она прибегала к «своим» после выступлений и развлекалась с ними до утра. А мудрый Лепле смотрел на образ жизни новой звезды своего кабаре сквозь пальцы. Он понимал, что Эдит не перевоспитать, и совершенно не собирался этим заниматься. Однако он старался хоть как-то наладить ее быт и научить основным правилам поведения в приличном обществе. Он заботился о ней, словно родной отец, но не потому, что с появлением Малютки Пиаф его кабаре стало приносить огромные доходы. Лепле искренне привязался к худенькой девушке, которая вызывала у него не только уважение своим талантом и невероятной силой духа, но и жалость – своей неустроенностью и тем, что абсолютно не понимала этого. Она храбрилась и ершилась, жила сегодняшним днем, не задумываясь ни на минуту о том, что станет с ней завтра. В этом тщедушном тельце вмещалась такая жажда жизни, что Лепле оставалось лишь восхищаться Эдит и ненавязчиво помогать ей «сменить компанию».
Уверенный в таланте певицы Лепле задействовал все свои связи и стал продвигать Малютку Пиаф на большую сцену. Вскоре представился подходящий случай. В Каннах проходил ежегодный благотворительный бал-концерт, где по традиции выступали самые прославленные французские артисты. Благодаря стараниям Лепле, Пиаф позволили выступить в столь серьезной компании.
И вот, 17 февраля 1936 года, Малютка Пиаф появилась в большом концерте в цирке «Медрано» вместе с такими знаменитыми артистами, как Морис Шевалье, Мистангетт, Мари Дюба. Затем Лепле организовал ей небольшое выступление на Радио-Сите. Эти несколько минут стали очередным шагом к настоящей славе – слушатели звонили на радио, прямо в прямой эфир, и требовали, чтобы Малютка Пиаф выступала еще.
Дела шли все лучше и лучше. Все складывалось так хорошо, и ничто не предвещало беду. Но она пришла.
Ночью 6 апреля 1936 года Эдит срочно вызвали к Луи Лепле. Она сразу же поехала к нему, на другой конец города. Рядом с домом своего покровителя она увидела толпу народа и полицейских.
Луи Лепле лежал в собственной кровати с простреленной головой.
Как после рассказала служанка Лепле, в дом ворвались четверо бандитов в масках. Они связали ее и заперли в кладовой. А потом она услышала выстрел…
Полицейские забрали Эдит в участок, объяснив по дороге, что певица должна дать показания, с кем она знакомила своего работодателя. Эдит поняла, что действительно могла быть косвенно причастна к гибели своего благодетеля – ведь в ее окружении были люди с весьма сомнительным прошлым, которые были способны на все, что угодно. В том числе и позариться на деньги владельца кабаре.
Поскольку в завещании Лепле значилась и ее фамилия (Луи оставил ей небольшую сумму денег), полиция автоматически внесла в число подозреваемых и саму Эдит. К счастью, ее сочли невиновной и на другой же день отпустили.
Но весь город уже полнился слухами – один другого фантастичнее, – и репутация Эдит была опорочена. Вдобавок на каждом углу мальчишки-газетчики вопили: «Сенсация, сенсация! Убит владелец „Жернис“! В деле замешана Малютка Пиаф».
Эдит вновь осталась без работы. Она решила покинуть столицу и попытать счастья в провинциальных театриках и кабаре. Но об убийстве знаменитого хозяина кабаре и импресарио писали в газетах по всей Франции, и не раз случалось – после выступления в каком-нибудь маленьком кинотеатре из зала слышались выкрики: «Убийца!»
Впервые в жизни ей не хватило душевных сил – от всех переживаний Эдит оказалась на грани нервного срыва. Но тут судьба вспомнила о своей любимице и подарила ей новую, очень важную встречу.
В провинции Эдит разыскал Реймон Ассо, поэт, с которым они когда-то познакомились в «Жернисе». Он прямо сказал Эдит, что поможет ей, но только при условии, что она в корне изменит свой образ жизни: с загулами, ночными пирушками и бесконечными любовниками должно быть покончено. Впервые Эдит ставили условия и предъявляли требования. Первым ее желанием было послать его куда подальше, у нее внутри все просто клокотало от гнева, но она промолчала. Тоже впервые в жизни. Познав жизнь настоящей певицы, она уже не могла жить иначе. И в тот момент ей хватило ума понять, что без помощи Реймона она на сцену не вернется. И она на все согласилась.
Ассо научил ее читать и писать и открыл ей все богатство мировой культуры. Реймон поселил ее в просторном номере хорошей гостиницы в центре Парижа. Он учил ее хорошим манерам, старался привить ей хороший вкус. И одновременно создавал ее собственный, неповторимый репертуар. Народные, кабацкие, эстрадные песенки она пела прекрасно. Но ей нужны были свои песни, свой репертуар. Впервые для Эдит их написал именно Ассо.
Они стали любовниками, но это не мешало им упорно трудиться над «созданием Эдит». И они добились своего. Директор АВС (крупнейшего концертного зала Парижа) согласился отдать первое отделение одного из концертов Эдит. В тот день певица впервые выступила не как Малютка Пиаф, а как Эдит Пиаф. Она исполнила новые песни, написанные для нее Реймоном.
Ее успех недостаточно назвать огромным, это было нечто невообразимое. Самый большой концертный зал Парижа, набитый до отказа, ревел от восторга, публика не желала отпускать Эдит. Ей пришлось петь на бис и песни из своего старого репертуара, и новые песни, написанные Ассо. А пресса, которая год назад писала об Эдит как о возможной убийце Лепле, теперь в экстазе возвещала: «Вчера на сцене АВС родилась великая певица Франции!»
Впоследствии сводная сестра Эдит Симона говорила: «Лепле открыл Пиаф, но великой ее сделал Ассо».
Реймон Ассо действительно сделал Эдит Пиаф. Он продуманно создавал «стиль Пиаф», учитывая все особенности ее индивидуальности, и писал песни, подходящие только ей – «Париж – Средиземноморье», «Она жила на улице Пигаль», «Мой легионер», «Вымпел для легиона».
Он же выбрал для Эдит композитора – удивительную, чрезвычайно тонко чувствующую певицу Маргарет Моно. Эдит быстро подружилась с Маргарет, и эту дружбу они сохраняли всю жизнь.
Именно Реймон Ассо сделал историю жизни Эдит Пиаф историей ее песен. Это с его подачи ее сценический образ стал продолжением реальной женщины. Публика уже не отличала одно от другого – подлинную Эдит Пиаф от героинь ее песен.
А Эдит, по сути, и была героиней своих песен – страстной, отчаянной, бесстрашной. Она не раз испытывала все чувства, о которых пела – безрассудную любовь, бескорыстную, несчастную, и потому горькую. Она стала единственной, потому что была искренна, ее невозможно повторить, потому что в своих песнях она была так же органична, как жила в жизни.
Слава Эдит росла с каждым днем, ее дела резко пошли в гору. Знаменитый французский писатель Жан Кокто писал специально для Эдит скетчи, из которых она, по словам современников, создавала настоящие маленькие шедевры, что принесло ей славу драматической актрисы. Для «великой Эдит Пиаф» писали киносценарии, и она с удовольствием снималась в кино. К огромному сожалению, фильмы с ее участием в нашей стране не демонстрировались. Но те, кто видел ее игру, были в восхищении. Поверим на слово Чарли Чаплину, сказавшему о Эдит Пиаф: «Я обожаю ее и высоко ценю ее дарование, она как актриса делает то, что делаю я!»
Неповторимый Жан Кокто, имевший чрезвычайно большой авторитет в мире искусства, был первым человеком, который сказал: «Мадам Эдит Пиаф гениальна…» Кокто утверждал, что Эдит обладает удивительным даром драматической актрисы, и предложил ей сыграть в своей небольшой пьесе «Равнодушный красавец».
Конечно же, Пиаф согласилась – Жан Кокто был не просто авторитетным художником своего времени, он был настоящим кумиром. Репетиции прошли удачно, и пьеса имела большой успех. Впервые она была показана в сезон 1940 года. Игра Эдит произвела такое впечатление, что кинорежиссер Жорж Лакомб решил снять по пьесе фильм. И в 1941 году появилась картина «Монмартр на Сене», в котором Эдит играла главную роль. Во время съемок фильма Эдит познакомилась с Анри Конте, журналистом, который искренне восхищался ее талантом и много писал о ней.
Благодаря этому знакомству и зародившейся дружбе, Конте написал для Эдит несколько прекрасных песен: «Свадьба», «Господин Сен-Пьер», «Сердечная история», «Падам… Падам…», «Браво, клоун!»
В том же году молодой композитор Мишель Эмер продемонстрировал Эдит свою песню «Аккордеонист», которая вошла в ее репертуар и стала фантастически популярна. В дальнейшем Эдит много сотрудничала с Эмером, он написал для нее «Господин Ленобль», «Что ты сделала с Джоном?», «Праздник продолжается», «Заигранная пластинка», «По ту сторону улицы», «Телеграмма».
Эти годы творческого подъема выпали на самое страшное время для всей планеты – шла Вторая мировая война. Во время войны умерли родители Эдит. О своем отце она всегда заботилась, часто навещала его, помогала ему деньгами, дарила всяческие подарки. А вот с матерью, вспомнившей о существовании дочери, только когда дочь стала знаменитой, отношения так и не сложились. Но Эдит все равно давала ей деньги и даже как-то устроила в больницу, в надежде, что мать вылечится от алкоголизма.
С годами Эдит стала уже не только самостоятельной (они с Реймоном расстались в начале войны), но и состоятельной. Теперь она могла позволить себе собственный дом в центре Парижа. Для его отделки она наняла самых лучших парижских дизайнеров. Но, въехав в особняк, Эдит предпочла спать в комнате консьержки. Там эта крохотная женщина чувствовала себя спокойнее и привычнее, чем в огромной спальне с антикварной мебелью. Ее роскошный дом был всегда открыт для многочисленных друзей, которые у Эдит не переводились. Некоторые «друзья» жили у Эдит по месяцу, а то и больше. Она всех принимала, всех привечала, всех кормила и поила – шампанское и икра на кухне не переводились. И, как и прежде, она не вела счета деньгам. Она полагала, что самое правильное с ними обращение – это тратить. А что еще надо делать с деньгами? Она всегда жила по принципу: есть деньги – хорошо, нет – заработаю.
Мало кто из современных поклонников таланта Эдит Пиаф знает, что в годы оккупации Франции «бошами» эта женщина, живущая исключительно любовью и музыкой, участвовала в движении Сопротивления.
Свое свободолюбие Эдит распространяла на всех людей на земле. Она не могла безучастно смотреть на происходящее вокруг. И поэтому, по поручению партизанского штаба, находящегося в Париже, Эдит отправилась в лагерь для военнопленных французов. Она выступила перед заключенными, а потом сфотографировалась с ними на память. Эдит Пиаф увезла в Париж фотографию 120 пленных. Снимок увеличили. Эдит заказала 120 фальшивых документов, вклеила туда лица с общей фотографии и сумела достать для каждого печать полицейского управления. А потом в чемодане с двойным дном привезла документы в лагерь и ухитрилась передать их заключенным под предлогом, что раздает фотографии со своими автографами. Эти люди спаслись.
А она терпеть не могла, когда об этом абсолютно естественном для нее поступке говорили как о подвиге.
Эдит всегда помнила, кто она и откуда, и никогда не забывала, сколько для нее сделал Луи Лепле. Она словно старалась вернуть свой долг и постоянно помогала пробиться наверх многим начинающим исполнителям – Иву Монтану, ансамблю «Компаньон де ла Шансон», Эдди Константену, Шарлю Азнавуру. К сожалению, некоторые из них предпочли об этом забыть.
Ива Монтана, можно сказать, создала именно Эдит Пиаф. Начинающего певца Эдит встретила в 1944 году. Она научила его подбирать репертуар, помогала репетировать, советовала, как держать себя на сцене, объясняла, как правильно подбирать одежду для выступлений (и не только), короче, вместе с ним добивалась успеха. Они снялись в фильме Марселя Блистена «Безымянная звезда», а затем она помогла организовать Монтану выступление на сцене театра «Этуаль» с сольным концертом. Ив Монтан имел тогда огромный успех, и Эдит искренне радовалась за него. Монтана признали – и публика, и коллеги, однако он оказался не слишком благодарным учеником.
Помимо «живых» концертов Эдит Пиаф записывала песни для грампластинок, которые раскупались мгновенно. Когда тиражи пластинок Эдит во Франции перевалили за миллион, ею заинтересовались американские импресарио и предложили устроить турне по городам США.
В это время Эдит вновь вернулась к привычному образу жизни. Реймона рядом не было, никому другому она ничего не обещала, а потому жила теперь в свое удовольствие. Она тогда частенько повторяла: «Жизнь – это издевательство, мужчины – животные, чем стоит заниматься – смеяться, пить и безумствовать в ожидании смерти, и чем скорее она придет, тем лучше».
И вдруг в тридцать лет к ней пришла любовь – настоящая, о какой иные только мечтают. Эту любовь Эдит Пиаф подарил Марсель Сердан – высокий красавец, будущий чемпион мира по боксу.
На этот раз не одна Эдит выступала в роли доброго и умного педагога, но и Марсель, малообразованный, но чрезвычайно мягкий и терпеливый человек, очень многому научил свою взбалмошную возлюбленную.
Эдит научила Марселя, ничего, кроме комиксов, не читавшего, ценить хорошую литературу, искусство. А он преподносил ей уроки вежливости. Однажды после концерта Эдит вышла на улицу в дурном настроении и грубо отмахнулась от поклонников, жаждавших ее автографа. В машине Марсель сказал: «Я впервые разочаровался в тебе. Эти люди ждали взамен своей любви, восхищения и преклонения всего лишь автографа!» Эдит стало по-настоящему стыдно, и с тех пор она ни разу не отказала в автографе, как бы ни уставала.
Марсель преклонялся перед талантом Эдит, а она самозабвенно «болела» за него на боксерских состязаниях и молила всех святых о победе. Этот человек, обладавший несокрушимым ударом, был полон нежности и доброты.
Марсель считал, что в таланте певицы есть что-то сверхъестественное: «Эдит, ведь ты всего треть от моего веса, я дуну на тебя, и ты рассыплешься! Но какой у тебя голос! В голове не укладывается!»
Рядом с «великой Пиаф» чемпион ужасно робел, поэтому в присутствии Эдит старался говорить мало. Просто смотрел на нее с нескрываемым обожанием и выполнял любую прихоть. Это он купил Эдит ее первое норковое манто, хотя она никогда не просила его ни о каких подарках. Но, получив манто, она была в таком восторге, что говорила всем своим знакомым: «Мне бы в жизни в голову не пришло купить эту штуку, а он догадался!» И дело было, понятно, не в цене подарка, ведь она могла купить десять таких манто…
Эдит тоже любила делать подарки – она задаривала Марселя бриллиантовыми запонками, роскошными костюмами и обувью из крокодиловой кожи.
В Америке они везде появлялись вдвоем – лучшая французская певица и лучший французский боксер. Однако в Париже им приходилось соблюдать конспирацию – ведь Марсель был женат. Будучи по натуре человеком искренним, Марсель все сразу рассказал жене, но разводиться с ней он не стал – у них было трое детей. И ради детей он всегда старался соблюдать приличия.
Перед боем за титул чемпиона мира Марселю предстояло пройти двухнедельные сборы. Строгий режим, никаких женщин, за нарушение – дисквалификация. Он уехал в Америку в тренировочный лагерь в Катскилле. Эдит недолго оставалась во Франции. Уже через три дня она прилетела к нему. В багажнике автомобиля влюбленный боксер довез Эдит до спортлагеря, где она жила две недели в заброшенном домике, в полной изоляции, с закрытыми шторами, без света, питаясь одними бутербродами – на что не пойдешь ради того, чтобы быть рядом с любимым!
Эти дни были, пожалуй, самыми счастливыми в бурной жизни великой Эдит Пиаф.
Тайные нарушения режима не помешали Марселю Сердану стать 21 сентября 1948 года чемпионом мира. Но тренеры и газетчики продолжали нападать на Сердана за то, что он мало времени уделяет тренировкам и слишком увлекся своим романом.
А Сердану предстояло подтвердить свой титул чемпиона мира в бою со следующим соперником, но на этот раз Марсель проиграл. Французская пресса тут же объявила причиной его поражения роман с Эдит, заявив, что, увлекшись любовной историей, он совершенно забыл об обязанности представлять свою страну, которая доверила ему такую честь. Марсель переживал и поражение, и обвинения, и насмешки, но расставаться с Эдит не собирался.
У Эдит в это время были очередные гастроли в Америке. Она с нетерпением ждала приезда Сердана из Парижа. Он должен был приехать через неделю, но Эдит, заскучав по любимому, позвонила во Францию и умоляла Марселя приехать как можно скорее.
«Хорошо, дорогая, завтра я вылечу. Я тебя люблю», – сказал он ей.
На следующий день, 28 октября 1949 года, Эдит стояла за кулисами нью-йоркского зала «Версаль», готовясь к выступлению. В это время ей передали, что самолет, которым Сердан летел в Америку, разбился недалеко от Азорских островов. Тело Марселя опознали по часам – знаменитый боксер любил носить их сразу на обеих руках. Эти часы дарила ему Эдит…
Она не отменила концерт.
Все присутствующие думали, что Эдит не сможет петь. Но, выйдя на сцену, она глухим голосом произнесла: «Сегодня вы не должны аплодировать. Сегодня я пою для Марселя Сердана. Только для него одного».
И она пела. А зрители в полной тишине слушали, как плачет голос Пиаф, как разрывается от страшной боли ее сердце. И они плакали вместе с нею, и вместе с ней прощались с великой любовью, с ее погибшим возлюбленным…
Тело Марселя Сердана доставили в Касабланку, где жила его семья. Эдит не могла приехать туда, чтобы проститься с Марселем и проводить его в последний путь. И у нее случился нервный срыв – она винила себя в его смерти, это из-за нее он бросил все и полетел в Америку, если бы она потерпела, он прилетел бы через неделю и остался жив… Эдит рыдала, пила, глотала транквилизаторы, рассылала друзьям телеграммы с мольбой о помощи… Одного из них, Робера Дальбана, она умоляла свести ее с каким-нибудь ясновидящим или спиритом, чтобы «установить контакт» с Марселем… В очередной раз напившись, она выходила на улицу, брела в неизвестном направлении и пела прохожим… Казалось, она сошла с ума.
И вдруг вдова Марселя Сердана, Маринетта, прислала Эдит телеграмму, в которой просила срочно приехать в Касабланку. Пиаф вылетела первым же самолетом. От былой неприязни не осталось и следа – им больше некого было делить, и обе женщины, любившие и потерявшие одного мужчину, стали не только поддержкой друг другу, но и подругами. Эдит уговорила Маринетту вместе с детьми переехать в Париж, где она устроила их самым наилучшим образом. Конечно, вдова не осталась без денег – Сердан зарабатывал немало, – но Эдит приняла его детей, словно родных (ведь своих у нее больше никогда не было).
Однако все эти хлопоты и заботы не умерили боль от потери Марселя. Эдит кинулась по привычке искать спасения в алкоголе и с новыми любовниками. Она даже вышла замуж – за некоего Жака Пилса, но лучше ей не стало (брак этот оказался, понятно, неудачным, и они развелись через четыре года). Она никак не могла забыть своего Марселя.
Выходя на сцену, она чувствовала, что ей не хочется петь – впервые в жизни. Но она пела:
Бог мой, Бог мой, Бог мой, Оставьте мне его Еще ненадолго, Моего возлюбленного! На один день, Два дня, Неделю! Оставьте его мне Еще ненадолго, Мне одной…Эту песню-мольбу, песню-молитву «Мой Бог» Эдит Пиаф пела на каждом выступлении. И всякий раз зал замирал, глядя на эту миниатюрную страдающую женщину и слушая ее надрывающее душу пение…
Тоска ее была невыносимой. Эдит почти перестала есть, зато много пила. Говорят, по ночам она отправлялась в поход по ресторанам: за одну ночь могла обойти семь-восемь заведений и в каждом выпить по несколько рюмок. Она не могла усидеть на одном месте, ей все время хотелось смены «декораций», она пыталась хоть как-то отвлечься от мучивших ее мыслей: «Это из-за меня он погиб».
После таких прогулок друзья несли Эдит чуть ли не на руках. Самые близкие люди, искренне переживавшие за нее, заставляли Эдит давать клятвы больше не пить. Она соглашалась, клялась, а потом придумывала какой-нибудь предлог и нарушала все свои обещания. Однажды она заявила: «Я дала клятву не пить в Париже, но я, например, могу отправиться в Брюссель». И она садилась в поезд и ехала в Брюссель.
Преодолевая себя, она выходила на сцену, а потом наконец подписала контракт на гастроли по Европе. И у нее, и у ее друзей появилась надежда, что Эдит снова все преодолеет, снова выкарабкается, но тут случилась новая беда…
В 1952 году Эдит попала в автокатастрофу. Ее доставили в больницу и сделали операцию. Ей наложили гипс на переломанные руки и ребра. Но расшатанный алкоголем и транквилизаторами организм почти не реагировал на обычные обезболивающие, и тогда врачи, чтобы облегчить нестерпимые страдания, стали колоть ей морфий. В результате всего через неделю она стала наркоманкой и уже не могла обходиться без этого страшного «лекарства».
Выйдя из больницы, она обратилась к своим прежним дружкам из парижских трущоб, и они с превеликой радостью стали снабжать ее морфием. Если она не успевала получить очередную дозу, у нее начинались страшнейшие ломки и приступы белой горячки.
Ежедневная порция стала необходимостью. Перед каждым выступлением Эдит прямо сквозь одежду вкалывала себе дозу, затем блестяще пела и, едва дотащившись до кушетки в гримерной, падала полумертвой.
С младенчества приученная к вину, выросшая на улице, воспитанная проститутками и уличными актерами, привыкшая общаться с отбросами общества, величайшая певица Франции Эдит Пиаф справлялась со своим горем как умела: собирала вокруг себя как можно больше людей, колола наркотики, пила и устраивала сеансы спиритизма, чтобы вновь «почувствовать Марселя».
А еще она стала искать спасения в концертах – среди восхищенных ее талантом людей, которым она «выпевала» свое горе. Эдит говорила: «Я живу только на сцене… Я всегда буду петь, а в тот день, когда перестану – умру».
Как ни странно, это был период действительно небывалого успеха. Ее с восторгом слушали жители парижских предместий и утонченные ценители искусства, рабочие и аристократы.
Когда ей предстоял сольный концерт в зале «Плейель» – а это считалось вершиной в карьере любого серьезного певца, – некоторые газеты в недоумении писали: «…песни улиц в храме классической музыки». Для многих зал «Плейель» был «святая святых», и выступление там Эдит воспринималось чуть ли не как вызов. Это выступление стало очередным триумфом Эдит Пиаф!
Однако и это не избавило ее от щемящего чувства одиночества. «Публика втягивает тебя в свои объятия, открывает свое сердце и поглощает тебя целиком. Ты переполняешься ее любовью, а она – твоей. Потом в гаснущем свете зала ты слышишь шум уходящих шагов. Они еще твои… Ты уже больше не содрогаешься от восторга, но тебе хорошо. А потом улицы, мрак… сердцу становится холодно… ты одна».
От этого одиночества она спасалась все теми же средствами…
Со временем у Эдит стали появляться первые признаки невменяемости, и она наконец согласилась лечь в клинику, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Лечение вроде бы принесло результаты. Во всяком случае, так казалось со стороны.
Сама Эдит клялась, что с наркотиками покончено, и тем не менее кололась тайно. Бывшие уличные приятели, поставлявшие ей наркотик, найдя постоянного богатого клиента, вернее, клиентку, не желали терять столь выгодную «статью дохода». Они всячески старались всучить ей очередную дозу, а если Эдит отказывалась, шантажировали ее публичным разоблачением. Чтобы откупаться от них – а они требовали все больше и больше, – она заключала контракты на выступления. К сожалению, наркотик разрушал ее здоровье и психику все сильнее и страшнее. Однажды Эдит не могла выбраться из кулис на сцену, ей почудилось, что выход наглухо закрыли, а занавес украли.
В другой раз она благополучно вышла на сцену, но когда запела, оказалось, что поет она какую-ту нелепицу – совершенно бессмысленные наборы слов. В третий – вдруг почувствовала, что пол под ногами заходил ходуном, Эдит ухватилась за микрофон, чтобы не упасть, но и микрофон раскачивался, словно тонкое деревцо на ветру. В голове бешено пульсировала кровь, и Эдит словно накрыло волной – она не слышала ни музыкантов, ни собственного голоса – он пропал…
Наркотик стал сказываться на физическом состоянии – места уколов не заживали, и бедра Эдит покрылись кровоподтеками, ранами и струпьями. В таком состоянии пение уже не только не приносило спасения, оно превратилось в пытку. В конце концов Эдит Пиаф вообще перестала воспринимать окружающее.
Больница сменялась больницей, в периоды просветления, когда ей удавалось хотя бы на время избавиться от морфия, Эдит возвращалась к работе над новыми песнями, становясь, как и прежде, весьма придирчивой. «Песня – это рассказ, – говорила она. – Публика должна в него верить».
И публика верила. Она принимала Эдит Пиаф со всеми ее проблемами, со всеми ее несчастьями, со всеми ее слабостями и пороками. Поразительная искренность Эдит, каждая песня которой была исповедью, заставляла слушателей сопереживать и… восхищаться фантастическим талантом этого «парижского воробышка».
Истерзанная недугами, Эдит Пиаф как-то сказала: «Для публики я воплощаю любовь. У меня все должно разрываться внутри и кричать – таков мой образ…»
«Я не расстраиваюсь из-за своих болезней, – говорила певица в интервью газете „Либерасьон“, – каждая болезнь это еще одна ступень на пути к Богу. Что касается страданий… Ведь это мое богатство! Не страдай я в жизни – я не понимала бы, о чем пою!»
«В течение недели, каждый вечер, две тысячи зрителей наблюдают самоубийство Пиаф. Оно происходит под звуки оркестра, вспышки магния и аплодисменты публики. Вчера в Дьепе, сегодня – в Лионе, завтра… После двух катастроф, нескольких операций, напичканная медикаментами („Что касается лекарств, я – супераптека!“ – смеется она), Пиаф приняла решение отправиться в турне по городам Франции, несмотря на просьбы друзей и настоятельные рекомендации врачей».
«Я буду петь до конца!» – говорила она.
«На вопросы радио– и тележурналистов, следующих, как тени, за самой великой французской певицей, Пиаф отвечает: „У меня все превосходно!“ – в ее смехе не слышно слез. Она выходит на сцену, сменив голубой свитер и красную юбку на всегдашнее черное короткое платье, ее походка напоминает движение автомата. Зал взрывается аплодисментами прежде, чем она откроет рот. „Салют, моя красавица!“ – кричит кто-то. Она, в самом деле, красавица – несмотря на изуродованные ревматизмом руки, отекшее от антибиотиков лицо, безжизненные волосы. Когда Пиаф поет, с присущим только ей пафосом и страстью, это Любовь отстаивает свои права. В гримерной ее ждет мужчина – неважно, как сегодня зовут объект привязанности Эдит Пиаф. „Я пролила много слез, чтобы иметь право любить“, – поется в одной из ее песен. „Кого хочу, как хочу и когда хочу!“ – добавляет она. После концерта, после пережитого экстаза, она похожа на боксера, одержавшего победу, но до предела вымотанного. Чтобы сделать несколько шагов, Пиаф вынуждена опереться на чью-нибудь руку…» – так писала французская газета «Либерасьон» в 1960 году.
В конце концов от наркотической зависимости она избавилась. А от одиночества и тоски пыталась найти спасение в мистицизме. Эдит увлеклась спиритизмом, общалась с загробным миром, вызывая души своего отца, дочери и Марселя Сердана. Она стала верить во всевозможные приметы, а в сумке носила множество амулетов и талисманов на все случаи жизни.
Ей было всего сорок пять лет, а организм у нее был почти как у старухи. Обострился ревматизм, которым она страдала в юности. Она уже не могла не то что ходить на каблуках, но и стоять на них ей было невыносимо, – и Эдит начала выступать в черных сандалиях. Вместо наркотика перед выступлением она выпивала пару рюмок чего-нибудь крепкого. Но пела по-прежнему великолепно. Правда, репертуар становился все более трагичным.
Знаменитый французский кинорежиссер, вдохновленный талантом великой певицы и историей ее любви к Марселю Сердану, снял фильм «Эдит и Марсель». Но это был лишь фильм, а она хотела любви в реальной жизни.
Однажды Эдит призналась своей сводной сестре: «Я просто не могу, когда в доме нет мужчины. Это хуже, чем день без солнечного света. Без солнца в принципе можно и обойтись – есть электричество. Но вот дом, в котором не висит где-нибудь мужская рубашка и не валяются мужские носки и галстук – это убивает». И словно на прощанье, судьба преподнесла Эдит еще одну любовь – последнюю.
У Эдит был ее «ее вечный секретарь» – двадцатидевятилетний Клод Фегюс. С тринадцати лет он обожал голос Эдит, а впоследствии влюбился в нее саму. Случилось так, что именно Фегюс познакомил Эдит и Тео. А было это так.
В один из зимних вечеров 1962 года Клод привел в дом Пиаф своего друга, высокого молодого человека, одетого во все черное. Он представил приятеля своей хозяйке: «Теофанис Ламбукас».
Пока Клод и Эдит говорили о делах, Теофанис просидел весь вечер на ковре, в углу, не проронив ни единого слова и раздражая своим молчанием хозяйку. Так прошла их первая встреча.
Через несколько недель Эдит попала в больницу с двусторонней пневмонией. Среди многочисленных посетителей, приходивших навестить любимую певицу, неожиданно оказался Теофанис, которого она не сразу узнала.
О его приходе доложила медсестра: «Мадам, в коридоре какой-то молодой человек просит разрешения пройти к вам в палату». «Наверно, поклонник», – подумала Эдит и кивнула в знак согласия. На пороге появился высокий юноша, одетый во все черное, с темными волосами и такими же глазами. «Меня зовут Тео, – заговорил он. – Месяц назад нас представили друг другу, но вы были слишком заняты, чтобы поговорить со мной».
Тео подошел и протянул ей маленькую куклу. В последний раз ей дарил куклу отец… Эдит засмеялась: «Знаете, я уже вышла из этого возраста». «Но это необычная кукла. Она из Греции, с моей родины. Она принесет вам удачу». И тогда она взглянула на него совсем по-другому…
На следующий день он пришел с цветами. Молодой человек стал часто навещать Эдит. Каждый раз он приносил какой-нибудь сувенир. Эдит, потратившая состояния на подарки мужчинам, вдруг поняла, что ценно искреннее внимание, а не стоимость подарка.
Однажды он попросил разрешения… причесать ее. Она крайне удивилась и смутилась. «Не пугайтесь, я ведь парикмахер!» – улыбнулся молодой человек. И Эдит улыбнулась в ответ.
А через несколько месяцев в каком-то разговоре Тео просто и очень мягко спросил: «Хочешь быть моей женой?»
Как ни умиротворяюще это звучало, Эдит буквально подскочила: «Тео, это невозможно!.. Я намного старше тебя, почти в два раза».
Но он спокойно ответил: «Для меня ты родилась в тот день, когда я тебя увидел».
И она согласилась. Она не могла не согласиться.
Потом она не раз повторяла: «По-настоящему я любила только Марселя Сердана. И всю свою жизнь ждала только своего Тео».
Всего за два года до смерти она встретила потрясающего, удивительного человека – словно сам ангел-хранитель принял облик человека, чтобы помочь этой страдающей душе примириться с окружающим миром. Она так легко, так запросто раздавала всю себя, свои деньги, свой голос, свою жизнь, что в какой-то момент ей показалось, будто душа ее опустела, но именно в этот страшный момент к ней пришел Тео…
Эдит было так хорошо с ним, что ей захотелось сделать ему какой-нибудь приятный подарок, и она подарила ему… игрушечную железную дорогу.
Перед свадьбой Тео познакомил невесту со своими родителями и двумя сестрами. Семейство Ламбукас очень приветливо приняло Эдит в своем доме, и впервые она почувствовала, что счастье можно найти в самых обычных вещах – например, в том, что вокруг стола собирается настоящая семья…
После официального объявления об их свадьбе с Тео, естественно, начались пересуды и сплетни. Ей сорок шесть, ему двадцать шесть! Неужели молодой красавец мог влюбиться в больную стареющую женщину? Конечно, нет, – его интересуют только ее деньги! Ведь величайшая певица Франции, должно быть, весьма состоятельная дама. Так считало большинство сплетников. После ее смерти они узнали, что «охотнику за наследством» достались только долги – огромные долги великой Эдит Пиаф.
Тео и впрямь любил Эдит. И женился на ней ради нее, а не ради денег и славы – сомнительной славы. По словам Симоны Берто, сводной сестры Эдит, «они любили друг друга необыкновенной любовью, тою, о которой рассказывают в романах, о которой говорят: такого не бывает, это слишком прекрасно, чтобы быть на самом деле. Он не замечал, что руки Эдит скрючены, что она выглядит столетней старухой. Он никогда не оставлял ее…»
А по поводу их пресловутой разницы в возрасте сама Эдит Пиаф заявила одной из парижских газет: «Я считаю странным думать о людях с этой точки зрения. Вообразите, что во время светского приема мажордом металлическим голосом провозглашает: „Мсье такой-то, тридцати трех лет, и его жена, которой уже давно за пятьдесят“. Ведь так не делают? Вот именно, и мне так кажется».
Другой парижской газете она насмешливо сказала: «Послушайте, меня часто упрекали за то, что я плохо причесана. А раз уж я влюбилась в молодого парикмахера, то не могу упустить такой случай… И потом, что вы хотите, – продолжала она, – нельзя от Пиаф требовать быть логичной. Я люблю Тео, Тео любит меня, мы любим друг друга – вот единственная логика, которую я знаю, единственный глагол, который я умею спрягать и употреблять во всех временах, и именно поэтому мы женимся».
За месяц до свадьбы Эдит и Тео вместе записали песню «Зачем нужна любовь?»:
Итак, если я понял: Без любви, Без радостей, без печалей Жизнь пуста. Но посмотри, посмотри на меня! Каждый раз я верю в это И буду верить всегда, Потому и существует любовь…25 сентября 1962 года Эдит пела с высоты Эйфелевой башни по случаю премьеры фильма «Самый длинный день» песни «Нет, я ни о чем не жалею», «Толпа», «Милорд», «Ты не слышишь», «Право любить». Ее слушал весь Париж.
А накануне свадьбы, назначенной на 9 октября 1962 года, Эдит снова заболела. У нее поднялась высокая температура, но она не желала отменять брачную церемонию. Она собиралась в тот же вечер выйти вместе со своим мужем на сцену «Олимпии»…
И торжество по случаю ее бракосочетания состоялось. Одетая в бархатную юбку и черный свитер Эдит Гасьон вышла замуж за Теофаниса Ламбукаса. «Вы великая артистка и великая француженка», – сказал ей заместитель мэра шестнадцатого округа Робер Сулейтис, регистрируя ее законный брак.
Затем молодые венчались в православной греческой церкви на улице Жоржа Бизе. Эдит было дано специальное разрешение, несмотря на ее развод, вновь обвенчаться. Во время церемонии, которую проводил епископ Мелетиос вместе с архимандритом Атанасом Вассипулосом, церковь была больше заполнена фотографами, чем родными и друзьями. Войдя под ее своды около пяти часов вечера, молодожены вышли из ее дверей и попали под дождь из риса. Его кидали из окон ближайших домов жители – поклонники Эдит.
«Мерседес» Пиаф быстро увез Эдит и ее молодого мужа от любопытной толпы. На приеме в квартире на бульваре Ланн собрались члены семьи Ламбукас, близкие друзья и коллеги Эдит…
Все было так хорошо, что Эдит почувствовала себя почти здоровой. Она дала концерт в известном парижском зале «Олимпия». Публика приветствовала ее стоя и в экстазе скандировала: «Гип-гип-ура, Эдит!» И только Тео знал о приговоре врачей – максимум год. У Эдит нашли рак.
Ее положили в больницу. Но Пиаф вновь встала на ноги. Понимая, что жизнь уходит, она спешила жить.
Держась лишь на необыкновенной силе духа и любви Тео, Эдит Пиаф отправилась на гастроли. Она твердо решила сделать из Тео певца, и это у нее получилось. Она успела.
Помня уроки Лепле, Эдит придумала Тео новое имя, более благозвучное для французского уха, – Тео Сарапо. Сарапо на греческом значит «я тебя люблю».
С 17 по 30 ноября 1962 года она выступала перед публикой Брюсселя. Имя Сарапо открывало афишу утренних выступлений, имя Пиаф – вечерних. Эдит защищала свое «детище», своего любимого мужа от любых нападок. В одном интервью она насмешливо заметила: «Некоторые говорят, что у него нет голоса, другие заявляют, что он кричит слишком громко. Кстати, единственные добрые слова, которые я прочла на этот счет, – это „вопящий Тео“. Забавно!» Эдит искренне верила в талант Тео.
В другой раз она возмутилась: «Разве зал не полон каждый вечер? Вот видите! Я могла бы вам сказать то, что думаю о критиках, но это было бы невежливо».
Последний раз Эдит было суждено спеть спустя полгода после свадьбы, в марте 1963 года. Это было в Оперном театре города Лилля. Она не знала, что это ее последний концерт.
Вскоре ее вновь положили в больницу с диагнозом «отек легкого». Болезнь отягощалась двухнедельным приступом безумия, во время которого она не узнавала Тео. А он не отходил от жены круглые сутки. Когда Эдит наконец пришла в себя, она сказала: «Тео, ты не заслужил такого».
Из больницы муж увез Эдит в инвалидном кресле. Они поселились в загородном доме, где Тео взвалил на свои плечи весь труд по уходу за женой.
В день годовщины свадьбы Эдит позвонила Симоне и попросила ее приехать. Симона ответила, что приедет в понедельник. «В понедельник будет поздно», – сказала Эдит недрогнувшим голосом, будто предвидела, что именно в понедельник, 11-го, она покинет этот мир. Симона, оставив все дела, примчалась к сестре и ужаснулась, увидав Эдит. Пиаф выглядела так, словно ей сто лет, и весила 33 килограмма…
Несмотря на то, что врачи скрывали от Эдит правду, она догадывалась о близкой смерти и сказала Симоне: «Мне не страшно умирать, ведь я прожила две жизни».
Вечером Симона уехала обратно в Париж, а Эдит, приняв снотворное, уснула.
На следующее утро Эдит впала в беспамятство и уже никого не узнавала. А через день Симона из газет узнала, что Эдит больше нет.
Говорят, что перед смертью Эдит попросила Тео дать клятву не летать самолетом. Трагедия, произошедшая с Марселем Серданом, не давала ей покоя.
Тео сдержал обещание. Но его жизнь все равно оборвалась трагически. Он пережил любимую жену на семь лет и погиб в автомобильной катастрофе. Его похоронили рядом с Эдит.
На могиле жены он почти не бывал. Ему приходилось много петь за границей – он зарабатывал деньги, чтобы расплатиться с долгами великой Эдит Пиаф. Долгов оказалось на 45 миллионов франков, и все семь лет оставшейся ему жизни деньги вычитали из его заработков и, конечно же, из посмертных авторских отчислений за песни самой Эдит.
Хоронили Эдит в солнечный осенний день. Франция прощалась с частью своей души…
Ватикан запретил отпевать «женщину, столь мало уважавшую законы церкви», но епископ Парижский преклонил колени у ее могилы как частное лицо. На кладбище собралось более 40 тысяч человек, люди горько плакали, прощаясь со своей любимой певицей, цветов было столько, что приходилось идти прямо по ним.
В день похорон газеты писали об Эдит Пиаф: «Она пела как никто, она жила как никто, она была необыкновенно талантлива и чрезвычайно ранима…»
Когда Жану Кокто сообщили о смерти Пиаф, он сказал: «Это известие не дает мне дышать». А спустя несколько часов, готовясь произнести по радио речь, посвященную памяти Эдит Пиаф, великий поэт Франции умер.
Вот отрывок из его речи: «Эдит Пиаф, подобно невидимому соловью, теперь сама станет невидимой. Нам останется от нее только взгляд, ее бледные руки, этот высокий лоб, собирающий лучи рампы, и голос. Голос, который заполняет все вокруг и летит все выше и выше, постепенно оттесняя певицу, увеличиваясь подобно тому, как росла ее тень на стене, и, наконец, величаво воцарясь на месте, где стояла маленькая робкая женщина. Душа улицы проникает во все поры города. Это уже поет не мадам Пиаф, а моросит дождь, жалуется ветер, и лунный свет стелется по мостовой…»
Ее хоронила вся Франция, а оплакивал – весь мир.
«Мужчины – это роскошь». Шер и Сонни Боно
Она вполне могла бы написать мемуары с «оригинальным» названием «Сорок лет на эстраде». Но она не хочет этого делать, она вообще не любит говорить о личной жизни, а если все же вынуждают настойчивые журналисты, то старается отшутиться.
Красивую, обольстительную, вечно юную, талантливую Шер знают во всем мире. Во всяком случае, в том, который интересуется западной музыкой. Ее уникальный голос – мягкое контральто – легко узнаваем, а о внешности и говорить не приходится. И все же каждый раз при взгляде на эту потрясающую женщину, захватывает дух. В свои шестьдесят она прекраснее, чем была в шестнадцать.
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем, однако так бывает далеко не всегда. Но в случае с Шер эта пословица абсолютна верна. За свою долгую, сорокалетнюю карьеру она сделала записи в самых разных стилях музыки и сама писала тексты для многих своих песен; ее киноработы не просто нравились зрителям, но и принесли Шер официальное признание профессионалов; она единственная певица на планете, чьи хиты входят в десятку лучших вот уже четыре десятилетия подряд. Помимо творчества, Шер занимается благотворительной деятельностью: она – председатель Ассоциации детской лицевой хирургии; активно занимается сбором средств для Фонда борьбы со СПИДом, а также для Фонда защиты прав геев.
Шерилин Саркисян родилась 20 мая 1946 года в Эль Сентро, штат Калифорния, в бедной семье. Ее мать, Джорджия Холт, имела среди предков и англосаксов, и французов, были и индейские, и даже цыганские корни. Отец Шерилин, водитель-дальнобойщик Джон Саркисян, не мог похвастаться таким набором кровей – он был чистокровный армянин, выходец из турецкой Армении.
Джорджия, мать Шерилин, была неудачливой актрисой, посещавшей все прослушивания, но так и остававшейся на подпевках. Единственное, что ей удавалось, это выходить замуж. Она проделала это восемь раз. Правда, три раза она выходила замуж за отца Шерилин, и трижды разводилась с ним. В третий и последний раз они разошлись через год после рождения дочери.
Шерилин познакомилась с отцом только в одиннадцать лет. А когда в середине 80-х годов он умер, она сказала: «Наверно, мне жаль, но трудно тосковать о том, кого не знаешь».
Семья бедствовала, мать выходила замуж и опять разводилась, а Шерилин росла и мучилась из-за своей внешности. Он страшно страдала от постоянных насмешек одноклассников, которым не нравилось ее восточное лицо – крупный нос, доставшийся от отца-армянина, выдающиеся скулы и прямые черные волосы (сказалась материнская индейская кровь). Вспоминая о тех годах, Шер как-то сказала: «Я знала, что из зеркала на меня никогда не взглянет голубоглазая блондинка, которой мне всегда хотелось быть».
Не меньше собственной нелюбимой внешности, Шер удручала бедность, в которой им приходилось жить.
Но однажды матери наконец повезло – она встретила вполне приличного и состоятельного джентльмена, вице-президента небольшого банка, который смог наладить для своей новой семьи по-настоящему достойную жизнь. Шерилин хорошо относилась к своему отчиму, но особо близких отношений у них не сложилось. Не складывалось у нее и в школе – она училась плохо и предпочитала смотреть фильмы и слушать современную музыку. В конце концов, в шестнадцать лет она бросила школу и сбежала в Лос-Анджелес «учиться на актрису».
Шерилин отправилась в Лос-Анджелес за славой. Но сначала к ней пришла любовь.
«Когда я его увидела первый раз – это было в кафе, – у меня все поплыло перед глазами», – рассказывала Шер. В шестнадцать лет такое случается повсеместно, но ей казалось, что у нее все не как у других. Шерилин влюбилась в Сальваторе Бонно, он был начинающим продюсером, композитором и певцом. Разница в двенадцать лет, Сонни было тогда двадцать восемь, его не остановила – в век хиппи вся молодежь жила под девизом «Занимайтесь любовью, а не войной».
При всех своих музыкальных амбициях Сонни приходилось зарабатывать на жизнь более прозаическими занятиями – он был развозчиком продуктов в небольшом магазине. С первой же встречи они стали жить вместе, причем, поглощенная любовными переживаниями Шерилин, как это часто бывает с женщинами, почти перестала думать о карьере актрисы. А вот Сонни был буквально одержим карьерой. Чтобы быть «поближе к славе», он подрабатывал у легендарного Фила Спектора, гениального музыкального продюсера.
Сонни любил рассказывать о том, как он «открыл» талант Шерилин: якобы однажды он услышал, как его юная подружка тихо напевает, то ли за мытьем посуды, то ли занимаясь стряпней на кухне, и его осенило, что Шер поет замечательно и ее надо «продвигать». Вот так и получилось, что с пения на кухне началось триумфальное шествие великой Шер по сценам всего мира.
Очередная легенда, насаждаемая Сонни, гласит, что они два года жили исключительно в платонических отношениях. Не стоит забывать, что Шер было всего шестнадцать, а по суровым американским законам за развращение малолетних полагается немало. Официально пожениться они не могли, и Шерилин жила у него на правах прислуги. А вот это действительно правда – она выполняла всю домашнюю работу, пока он работал в магазине и у Спектора.
«Любовь была платонической долгое время, – говорит и Шер. – Я все больше надоедала Сонни, глупый ребенок, но я просто помешалась на нем». А мать Шерилин, узнав, что дочь живет у холостого молодого мужчины, взъярилась и приказала ей немедленно покинуть квартиру Сонни. Когда Боно помогал «домработнице» упаковывать вещи, он разрыдался. Шер с умилением рассказывала, что только в ту минуту она поняла, как небезразлична Сонни.
Однако главным жизненным устремлением Сонни была карьера, такая же, как у его идола – Спектора, которому он подражал даже в одежде. Разглядев в подружке-домработнице вокальные данные, он пристроил Шерилин бэк-вокалисткой в популярную группу «The Ronnettes».
Сонни всячески пытался записать Шерилин как солистку, но Спектору худощавая длинноволосая девушка не внушала надежд. Тогда в моде были блондинки с гитарами, поющие в стиле «кантри». Однако Сонни было не занимать упрямства, и в конце концов на свет появилась первая сольная пластинка Шерилин под псевдонимом Бонни Джо Мейсон «Ringo, I Love You», посвященная Ринго Старру.
Однако ожидаемого успеха не последовало – публика приняла низкий голос Шерилин за мужской, а песня «голубого» парня, страдающего по Ринго Старру, их «не грела». Требовалось время, чтобы и слушатели, и музыкальные критики привыкли и прочувствовали сильный и необычный голос Шер.
Затем Сонни и Шерилин создали дуэт «Цезарь и Клео» – в необычных костюмах они исполняли песни, играя при этом в кегли и катаясь на коньках. Но и эти «находки» не привлекли публику.
Прорыв состоялся в 1964 году, когда Сонни придумал новое название для дуэта и новые сценические костюмы. Назывались они теперь «Сонни и Шер», а одевались, как все – в широченные клеши, замшевые куртки с бахромой и всяческие «фенечки». Написанная Сонни песня «I Got You Babe» вдруг взлетела на вершины хит-парадов и стала настоящим гимном движения хиппи. Имя Шер – короткое, экзотическое – зазвучало во всех музыкальных радиопрограммах. Новый дуэт стал популярен настолько, что даже слегка потеснил прославленных «The Beatles». Вскоре в американской двадцатке лучших песен значилось сразу пять песен Сонни и Шер.
Начался звездный час звездной пары…
Параллельно с работой в дуэте с Сонни, Шер вела удачную сольную карьеру. Ее первый сольный альбом «All I Really Want To Do» имел большой успех и целых шесть недель значился в списке лучших. Именно этот альбом принято считать началом ее успешной сольной карьеры.
За работой они не забывали о личной жизни. В 1965 году они сыграли оглушительную свадьбу. Но семейная жизнь не спешила радовать Шер. Темпераментный итальянец Боно очень любил женщин и не считал зазорным проводить время с многочисленными любовницами. Шер все это терпела, потому что любила его. И потому что они очень много делали вместе. Но вспоминать об этом периоде жизни она очень не любит.
Окончательно завоевала мир песня «Bang, Bang (My Baby Shot Me Down)». Это случилось в 1966 году. Имя Шер появилось на второй строчке хит-парадов США и на третьей строчке чартов Британии. Эта победа сделала Шер настоящей звездой.
Примерно в это же время Сонни решил снимать Шер в кино. Она дебютировала в полулюбительской короткометражке «Дикари на пляже», затем появилась в комедиях «Славные времена» и «Чэстити» – картине, снятой по сценарию Сонни.
Это редкое имя – Чэстити – они выбрали для дочери, которая родилась в марте 1969 года. Когда белокурое создание появилось на свет, газеты оповестили американскую общественность кричащими заголовками: «Это – девочка!»
Рождение дочери не изменило отношения Сонни к семейной жизни. Став популярным, он лишь расширил «ареал» своих любовных романов. Шер знала обо всех его интрижках, она старалась не думать об этом, растила дочь и работала, работала, работала. Ей почему-то не приходило в голову развестись, она, похоже, воспринимала себя и Сонни как нечто единое, а значит, со всеми его загулами следовало мириться. Она искала ему оправдания и, конечно же, их находила. Только песни ее изменились – теперь она исполняла не романтические баллады, а песни о разводе или о нежелательной беременности.
Вспоминая о тех временах, даже Боно признавал, что их семья представляла собой пару: «свинья и ангел».
Семейные проблемы отошли на второй план, когда явились более серьезные – финансовые. Вкладывая в кино собственные деньги, Сонни и Шер выпустили два фильма, которые с громким треском провалились в прокате. Все заработанные деньги – у них тогда был общий бюджет – были потрачены, и на горизонте замаячило банкротство. За этой проблемой, как водится, потянулись другие: Сонни и Шер получили счет на четверть миллиона долларов неоплаченных налогов, пластинки раскупались все хуже и хуже, выступать почти никуда не приглашали. Вчерашние звезды были вынуждены выступать в ночных клубах, чтобы заработать на жизнь и возвратить долги.
Эти выступления чрезвычайно не нравились Шер, о своих чувствах она, не стесняясь, высказывалась прямо на концертах – конечно, она не грубила, но замечания ее были очень остры и едки. Вскоре чувство юмора и находчивость Шер привлекли к ней внимание телевизионщиков, и в 1971 году на канале CBS прошел пилотный выпуск нового комедийного шоу Сонни и Шер.
Очень быстро шоу стало самым популярным в Америке и принесло Шер первый «Золотой Глобус». А затем состоялось триумфальное возвращение на музыкальный Олимп – сольный диск «Gypsys, Tramps & Thieves» вновь вознес имя Шер на первую строчку хит-парада.
Эта песня была такой популярной, что даже Король Элвис Пресли не погнушался перепеть ее.
К этому времени уже всем стало ясно, что в дуэте «Сонни и Шер» первую скрипку ведет она.
Больше трех лет каждую неделю Америка с интересом наблюдала за «семейной идиллией» известных звезд по телевизору. «Счастливая» пара шутила в эфире, но за кадром оставалось все меньше веселья. Шер больше не могла терпеть измен мужа. Как глава семьи он не состоялся, а Шер однажды в интервью сказала: «Вполне можно жить с мужчиной, которого не любишь, но нельзя жить с тем, кого не уважаешь». Ее уважение Сонни потерял уже давно.
В 1974 году они развелись. Порядочная Шер сначала полностью поправила все семейные финансовые дела и лишь потом подала на развод. Сонни был крайне изумлен – он не мог понять, в чем дело, ведь у них такой счастливый брак и такое удачливое сотрудничество… А она после развода сказала: «Я никогда не была так одинока, как в браке с Сонни».
Однако и после развода они еще два года жили под одной крышей. Больше Шер не была послушной, терпеливой и всепрощающей женой. «Я долго не понимала, что проблема не во мне, проблема в Сонни», – сказала она однажды. А поняв, в чем корень всех ее проблем, Шер перестала винить во всем себя и потребовала, чтобы Сонни не только управлял всеми ее делами, но и занимался более простыми вещами, например, подписывал ее чеки. Как ни странно, он принял новые правила игры.
Но когда в журналах и газетах стали появляться первые фотографии Шер с другими мужчинами, дружелюбный до этого момента Боно резко изменил свое отношение к бывшей жене. Он принялся при каждом удобном случае высказываться о Шер в самых резких выражениях, она в долгу тоже не оставалась. Война на газетных полосах продолжалась довольно долго, но потом постепенно утихла.
С распадом семьи распался и телевизионный дуэт. Дирекция компании CBS немного погрустила, а потом нашла выход, и 12 февраля 1975 года на той же CBS появилось новое шоу – «Cher Show». Теперь Шер развлекала американцев одна.
Первыми гостями ее нового телепроекта стали Элтон Джон, Бетт Мидлер и Филип Вилсон. Это было неплохим началом, но обязанностей оказалось так много, что уже на третьей неделе Шер поняла: одной ей не справиться. Она позвонила Сонни и предложила сотрудничество. Поскольку он за это время уже потерпел несколько неудач, то предложение принял.
В 1976 году на голубых экранах эта парочка вновь появились в совместном шоу. Но существовать вдвоем они уже не могли. И в августе 1977 года дуэт распался окончательно.
К этому времени Шер вышла замуж во второй раз и уже успела родить второго ребенка. Этот муж тоже был певцом, да к тому же и весьма скандально известным рокером. Его звали Грег Оллман. А ребенка она родила 10 июля 1977 году – славного мальчика, которого назвала Элайджа.
Это замужество не предвещало ничего хорошего – после свадьбы Шер узнала, что ее новый муженек алкоголик и героиновый наркоман. Однако бросить его сразу она не решилась, а приняла очередной «самаритянский» поход – попыталась спасти мужа от наркотической зависимости. Естественно, ничего не вышло, и через три года они разошлись. После она говорила, что «прошла через ад, впрочем, как и все родственники наркоманов». Однако надо отдать Оллману должное – он дал жизнь их сыну и одному из самых интересных альбомов Шер – «Allman And Woman: Two The Hard Way».
Оставшись без очередного мужа, свободная Шер начала бурную личную жизнь. Ее имя не сходило со страниц желтой прессы, один за другим сменялись ее бойфренды. Она заводила романы с самыми известными и, между прочим, самыми неуравновешенными мужчинами – Вэлом Килмером (он был известен своими дебошами и пьянством), Джином Симмонзом (участник скандально известной группы «Kiss» имел славу настоящего подонка), Уорреном Битти (в пьяном виде он разгромил один из ее домов). Только Том Круз ничем скандальным не отличался, он просто оставил ее ради молоденькой Николь Кидман.
Но самое удивительное – ни с одним своим бывшим любовником она не расставалась со скандалом. Даже о самых бешеных говорила в исключительно положительных тонах, а они ей были за это благодарны. Вэл Килмер как-то заметил, что «ее „донжуанский список“ выглядит как перечень самых высокооплачиваемых людей Голливуда. Да, собственно, так оно и есть. И при этом у нее почти нет врагов, потому что она добра, терпелива и не любит болтать». Из уст дебошира это звучит высочайшей похвалой.
В 1982 году Шер решила попробовать себя в театре. Она уехала из Лас-Вегаса в Нью-Йорк для участия в постановке Роберта Олтмана. Мало кто верил в Шер как в актрису, но ее игра в этой пьесе поразила всех – Шер даже номинировали на премию «Золотой Глобус». Впечатлился ее игрой и режиссер Майк Николс, который предложил ей участие в фильме «Силквуд», где ее партнершей стала знаменитая Мэрил Стрип.
Этот фильм окончательно убедил скептиков, что Шер по-настоящему талантливая актриса. Награждение ее «Золотым Глобусом» лишь подтвердило то, что уже было известно всем любителям кино.
В 1985 году на экраны вышел фильм-драма «Maска», где Шер сыграла роль легкомысленной мамаши несчастного шестнадцатилетнего юноши, у которого редкое заболевание костей черепа, из-за чего лицо его напоминает уродливую маску. Этот фильм принес Шер «Пальмовую Ветвь» Каннского фестиваля за лучшую женскую роль и очередную номинацию на «Золотой Глобус».
Участие в «Маске» заставило Шер задуматься о «несовершенстве мира» – она узнала о несчастных детях-инвалидах. После фильма Шер стала, как мы уже писали, председателем американской благотворительной организации «Ассоциация детской лицевой хирургии». И по сей день она всеми силами поддерживает детей с нарушениями в лицевой части черепа и их семьи. Она проводит благотворительные сборы пожертвований, представляет организацию на всяческих конференциях и в разных учреждениях, сама жертвует огромные суммы на лицевую хирургию для несчастных детей, дружит со многими детьми и сопровождает своих питомцев по жизни от начала лечения до конечных операций. Больные дети всегда бесплатно посещают ее концерты.
А в 1986 году произошло событие, которое вошло в историю шоу-бизнеса как «воссоединение» Сонни и Шер. Знаменитый ведущий Дэвид Леттерман пригласил в свое знаменитое шоу обоих бывших супругов.
Шер явилась на передачу в очень откровенном кожаном наряде, практически обнаженной ниже пояса, увешанная металлом и с агрессивной косметикой на лице. Всегда полноватый Сонни смотрелся на ее фоне, мягко говоря, тюфяком. К этому времени он был уже женат во второй раз и жил спокойной жизнью обычного американца.
Шер изо всех сил «блистала», ей явно хотелось что-то доказать своему бывшему мужу, а заодно и всей публике. Бедняга Сонни тоже всячески пытался поднять свою планку. Зрители были в восторге, когда, после долгих уговоров Леттермана, а потом и Сонни, Шер наконец согласилась исполнить уже ставшую знаковой песню «I Got You Babe».
В одной статье по поводу этого шоу говорилось: «Не очень миролюбивая обстановка в студии в начале передачи сменилась потоком слез растрогавшейся публики, когда они вновь увидели Сонни и Шер вдвоем. Дружеский поцелуй в конце передачи стал решающим аккордом в истории Сонни и Шер. Они помирились. И пусть они уже давно не муж и жена, но по-прежнему благодарны друг другу за те годы, что прожили вместе, вместе творили и добивались удач…»
В свои сорок неувядающая Шер стала идолом нового поколения – она менялась вместе со временем. Стало модно носить кожаные одежды, и Шер утянулась в кожу, села на мотоцикл и сменила бахрому и народные вышивки на металл, высоченные шпильки и кучу бижутерии.
Вырастив двух красивых и здоровых детей (Чэстити Боно и Элайджу Олмена), Шер решила, что теперь больше никому ничего не должна – дети взрослые и самостоятельные, не зависящие от нее люди, а значит, и она может от них больше не зависеть. И она занялась своей жизнью, в частности, принялась экспериментировать над собственным телом. С каждым годом ее лицо и фигура становились все тоньше, моложе и безупречнее. Волосы меняли цвет и форму. Говорят, после кардинальных перемен, которые Шер всегда проводила втайне даже от самых близких людей, ее не узнавали не только поклонники и возлюбленные, но даже собственные дети.
Но Шер уже раз и навсегда решила для себя – больше она не будет ни от кого зависеть. Она меняет любовников, и с каждым годом они становятся все моложе и моложе.
Самый знаменитый из «молодых» – булочник Роб Камилетти («Самое красивое лицо, которое я когда-нибудь видела», – говорила о нем Шер) был моложе ее на восемнадцать лет. Их роман был «на пике», когда Роб вдруг бросил ее. Добрая Шер на все вопросы журналистов спокойно отвечала, что Роб – просто замечательный человек, но он, к сожалению, не выдержал испытания публичностью.
Однако к Шер, похоже, применима пословица: «Старая любовь не ржавеет». Что бы она ни говорила, но ее чувство к Сонни Боно было самым сильным в ее жизни. И в этом нет ничего удивительного – он был ее первым мужчиной, он помог ей найти собственный образ, он продвигал ее в музыкальном мире, он даже придумал ей имя.
Когда несколько лет назад Сонни погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте, Шер очень тяжело переживала. На похоронах бывшего мужа она горько рыдала и произнесла чрезвычайно прочувствованную речь. Слезы лились из ее глаз, а она восхваляла Сонни Боно, и мир словно впервые увидел эту женщину – ранимую, тонко чувствующую.
После похорон Шер впала в глубокую депрессию. Отдавая дань памяти Боно в специальном выпуске на CBS, она назвала свое горе «тем, что она никогда не планировала пережить».
Один из ее друзей рассказал, что Шер «поддерживает связь» с Сонни в загробном мире. Шер как-то поведала ему: «Сонни говорит со мной через экстрасенса. Я теперь только поняла, что всегда буду любить его. Он по-прежнему для меня во многом самый лучший».
На то, чтобы выйти из депрессии, ей понадобился год. Она снялась в фильме «Чай с Муссолини», выпустила сольный диск «Believe», тут же взлетевший на самые верхние строчки всех хит-парадов.
И все же смерть Сонни наложила отпечаток на ее последующую жизнь – у нее стало меньше любовников. Может, больше некому было что-то доказывать? И чем дальше, тем меньше их становилось…
А любимая дочь Чэстити пошла еще дальше – однажды она объявила маме, что придерживается нетрадиционной ориентации. Казалось бы, очень «нетрадиционная» мама уже ко всему должна была привыкнуть за свою бурную жизнь, но тут она испытала настоящий шок. Конечно, она сказала дочери, что поддержит ее в любом случае, но потом стала посещать собрания ассоциации «Родители и друзья гомосексуалистов и лесбиянок».
Шок стал еще чувствительнее, когда Шер узнала, что о «пристрастиях» Чэстити знали все вокруг, кроме нее. Говорят, в тот день она долго била посуду и мебель дома. «Я всегда думала, что моя дочь – сорванец, но я думала, она перешагнет через эту стадию роста», – говорила Шер. Со временем она сумела примириться со вкусами дочери. И даже пригласила Чэстити вместе с ее подругой жить в своем доме в Малибу. Сейчас Шер искренне рада, что ее дочь нашла человека, который делает ее счастливой.
В 1998 году Чэстити написала книгу о своем опыте. И знаменитая мама сочинила предисловие к этой книжке. Книга стала бестселлером, а Шер и Чэстити добрыми подругами.
В отличие от дочери сын Шер не огорчал маму. «У меня ушло много времени на то, чтобы смириться с выбором Элайджи – он хотел стать музыкантом, и у него получилось, – сказала в одном интервью Шер. – Теперь я горжусь сыном. Я горжусь обоими моими детьми».
Увлекшись делами детей, она совсем позабыла о любовниках, но нашла в этом даже некоторые плюсы. «Не надо чистить зубы перед сном, – смеется Шер, – можно не брить ноги, сидеть дома, ничего не делая, и никто не отнимает пульт телевизора. Я не умру, если рядом не будет мужчины, но мне нравится, когда есть кто-то, кого можно целовать и обнимать».
Однако она никогда не забывала о себе. «Я была бедной и богатой, и знаю, что богатой быть лучше, – говорит она. – Мне было 40. Теперь за 50, и я точно знаю, что быть сорокалетней лучше. Меня пугает, что наступит день, когда придет климакс. Я проснусь старой брюзгой и… мне не захочется поехать в Диснейленд. У меня есть мечта – никогда не стареть. Поэтому я и извожу себя упражнениями».
Недавно Шер явила миру своего нового приятеля – Ли Тергесена. Это уже не молоденький мальчик, а сорокалетний мужчина. Он – актер, играет то полицейских, то бандитов, на наших экранах мелькнул в эпизодической роли в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Так что личная жизнь несколько оживилась, теперь Шер есть кого обнимать и целовать.
Молва приписывает ей множество разнообразных пластических операций, но сама Шер утверждает, что прибегала к помощи хирургов всего дважды: первый раз после того, как увидела свой нос на телеэкране (это было в самом начале певческой карьеры). И еще раз после рождения второго ребенка – тогда ей захотелось приподнять грудь.
«Даже если я захочу переставить лицо на затылок, то я это сделаю, и никто мне не помешает», – заявляет Шер.
Однажды она решила сделать татуировку – и сделала. Потом ей это дело понравилось, и она сделала еще несколько. Первая тату – бабочка – появилась как знак освобождения от Сонни. Затем на правом боку пониже талии «расцвела» лилия, потом на лодыжке – хризантема, на правом плече «воссиял» расколотый бриллиант, на животе «распустилась» черная хризантема и последняя наколка – браслет из крестов и сердец – обхватила левую руку. Теперь увлечение закончилось. Поумнев, Шер поняла, что не татуировки красят тело и человека. Говорят, она начала их понемножку сводить, раз в месяц по процедуре, дорогой и болезненной.
На вопрос журналиста, почему она так любит перевоплощаться, Шер ответила: «Я такая с шести лет. Поэтому я не совсем понимаю вопрос о перевоплощениях. Если ты делаешь что-то, что не имеет успеха, тебе скучно. А если что-то успешное, – открываешь себя заново. Вы имеете в виду то, что я делаю с париками и костюмами? А что мне еще делать? Выйти на сцену в широких штанах и белой футболке? Вот это будет скучно!»
Шер и впрямь большое значение придает одежде, вернее, своему образу. А образ себе она создает крайне сексуальный и откровенный. Точно такая же у нее «выходная» одежда. Но это только на сцене и на людях. Когда некого шокировать и удивлять, Шер предпочитает обычные джинсы. Правда, и в них она выглядит чрезвычайно сексуальной.
«Знаете, почему я трачу столько денег на одежду? Потому что в юности у меня ничего не было. Как-то раз мне даже пришлось идти в школу в рваных туфлях, я тогда привязала подошву лентой, чтобы не отвалилась. Если я представляю себе бедность, то мысль о голоде меня не пугает. А вот об отсутствии нарядов – да, – говорит она. – Я до смерти боюсь бедности. Это что-то вроде паранойи, которая бывает у толстушек, которым удается сильно похудеть. Но в душе они остаются толстыми. Так и со мной: я выросла в бедности и внутренне так это и не переросла».
Когда Шер была в нашей стране, на банальный вопрос: «Ваше любимое занятие?», она ответила очень неожиданно: «Больше всего я люблю оставаться дома одна и читать». А в ответ на недоверчивые возгласы журналистов она назвала множество книг, и классических, и современных, которые прочла за последнее время.
Особенное впечатление произвел поэтически образный ответ певицы на вопрос одного из российских изданий о том, что она думает о происходящем в нашей стране: «Это как драгоценная золотая цепочка, которую из-за плохого обращения всю перепутали, свернули узлами. Но если у вас хватит терпения осторожно и бережно ее развязать и распутать, она опять станет прекрасной, опять засверкает».
Недавно Шер исполнилось шестьдесят лет. Эта неутомимая и чрезвычайно оптимистично настроенная женщина заявила, что подумывает заняться альпинизмом или отправиться «на своем грузовике в сторону Тибета». «Буду изучать мир», – добавила она.
А пока она готовит очередной музыкальный альбом и участвует в съемках нового фильма.
Шер, пожалуй, единственной в шоу-бизнесе, удается четыре десятилетия подряд не просто удерживаться на плаву, но все эти годы быть звездой – востребованной, популярной, любимой. Преодолев множество препятствий, пережив столько же неудач, она остается по-прежнему жизнерадостной и буквально сияющей от переполняющей ее энергии.
В этом ей немало помогали ее мужчины. Она ведь не зря после замужества предпочитала мужчин моложе себя. «Нравятся ли мне молодые мужчины? – посмеивается Шер. – Конечно. Вообще-то мне нравятся все мужчины. Дело не в возрасте, а в жизненной силе. Я уверена, что есть миллионы пожилых мужчин, которые обладают невероятной жизненной энергией. Как, впрочем, и женщины. Моей бабушке 90 лет, а она ходит в гимнастический зал».
В одном из интервью Шер рассказала о том, как однажды они с актрисой Мишель Пфайффер решили пойти потанцевать и зашли в некий клуб. Две признанные мировые красавицы сидели за столиком сорок минут, и ни один мужчина не пригласил их на танец!
«Потом, слава богу, зашла пара моих приятелей-геев, – смеется Шер. – Вот с ними мы и протанцевали еще минут сорок. Мы для нормальных мужиков были как обои на стенах. Так что для нас, звезд, нужен особый тип мужчины. Очень смелый!»
А вообще она абсолютно уверена, что «мужчины – это роскошь, а не необходимость».
Примечания
1
Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу (1761–1819), немецкий писатель, автор огромного числа драм, написанных во вкусе немецкого мещанства.
(обратно)2
Умри! Фр.
(обратно)3
Медальон с темным силуэтом показывает, что портрет описываемого человека не найден.
(обратно)4
Свадьба. Фр.
(обратно)
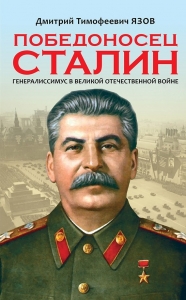

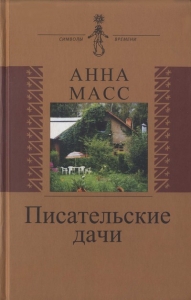



Комментарии к книге «Закулисные страсти. Как любили театральные примадонны», Каринэ Фолиянц
Всего 0 комментариев