Предисловие
Самое поразительное в книгах слепоглухонемой Елены Келлер, а она написала семь книг, — то, что чтение их не вызывает ни снисходительной жалости, ни слезливого сочувствия. Вы словно читаете записки путешественника в неведомую страну. Яркие, точные описания дают читателю возможность испытать неизведанное в сопровождении человека, который не тяготится необычным странствием, а, вроде бы, сам выбрал такой жизненный маршрут.
Елена Келлер потеряла зрение и слух в возрасте полутора лет. Острое воспаление мозга превратило сообразительную малышку в мятущееся животное, которое тщетно пыталось понять, что происходит в окружающем мире, и безуспешно объяснить этому миру себя и свои желания. Сильная и яркая натура, которая впоследствии так помогла ей стать Личностью, поначалу проявлялась лишь в яростных вспышках безудержного гнева.
В то время большинство ей подобных становились, в конце концов, полуидиотами, которых семья старательно скрывала на чердаке или в дальнем углу. Но Елене Келлер повезло. Она родилась в Америке, где в ту пору уже разрабатывались методы обучения глухих и слепых. А потом вообще случилось чудо: в 5 лет ее учительницей стала Анна Салливан, сама испытавшая временную слепоту. Талантливый и терпеливый педагог, чуткая и любящая душа, она стала спутницей жизни Елены Келлер и сначала научила ее языку знаков и всему, что знала сама, а потом помогла дальнейшему образованию.
Елена Келлер прожила 87 лет. Независимость и глубина суждений, сила воли и энергия завоевали ей уважение множества самых разных людей, в том числе видных государственных деятелей, писателей, ученых.
Марк Твен говорил, что две самые замечательные личности XIX столетия — Наполеон и Елена Келлер. Сравнение, на первый взгляд, неожиданное, но понятное, если признать, что и тот, и другая изменили наше представление о мире и границах возможного. Однако если Наполеон подчинял и соединял народы силой стратегического гения и оружия, то Елена Келлер открыла нам изнутри мир физически обездоленных. Благодаря ей мы проникаемся состраданием и уважением к силе духа, источником которой служат доброта людей, богатство человеческой мысли и вера в Божий промысел.
Составитель
ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
Александру Грэхему Беллу, который научил глухих говорить и сделал возможным услышать в Скалистых горах слово, произнесенное на побережье Атлантики, посвящаю эту историю моей жизни
Глава 1. И ДЕНЬ ТОТ НАШ…
С некоторым страхом приступаю я к описанию моей жизни. Я испытываю суеверное колебание, приподнимая вуаль, золотистым туманом окутывающую мое детство. Задача написания автобиографии трудна. Когда я пытаюсь разложить по полочкам самые ранние свои воспоминания, то обнаруживаю, что реальность и фантазия переплелись и тянутся сквозь годы единой цепью, соединяя прошлое с настоящим. Ныне живущая женщина рисует в своем воображении события и переживания ребенка. Немногие впечатления ярко всплывают из глубины моих ранних лет, а остальные… «На остальном лежит тюремный мрак». Кроме того, радости и печали детства утратили свою остроту, многие события, жизненно важные для моего раннего развития, позабылись в пылу возбуждения от новых чудесных открытий. Поэтому, боясь вас утомить, я попытаюсь представить в кратких зарисовках лишь те эпизоды, которые кажутся мне наиболее важными и интересными.
Я родилась 27 июня 1880 года в Таскамбии, маленьком городке на севере Алабамы.
Семья моя с отцовской стороны произошла от Каспара Келлера, уроженца Швейцарии, переселившегося в Мэриленд. Один из моих швейцарских предков был первым учителем глухих в Цюрихе и написал книгу по их обучению… Совпадение необыкновенное. Хотя, правду говорят, что нет ни одного царя, среди предков которого нет раба, и ни одного раба, среди предков которого не было бы царя.
Мой дед, внук Каспара Келлера, купив обширные земли в Алабаме, туда переселился. Мне рассказывали, что раз в год он отправлялся верхом на лошади из Таскамбии в Филадельфию закупать припасы для своей плантации, и у моей тетушки хранится множество его писем семье с прелестными, живыми описаниями этих поездок.
Моя бабушка была дочерью Александра Мура, одного из адъютантов Лафайета, и внучкой Александра Спотвуда, бывшего в колониальном прошлом губернатором Виргинии. Она также была троюродной сестрой Роберта Ли.
Отец мой, Артур Келлер, был капитаном армии конфедератов. Моя мать Кэт Адамс, его вторая жена, была намного его моложе.
До того, как роковая болезнь лишила меня зрения и слуха, я жила в крохотном домике, состоявшем из одной большой квадратной комнаты и второй, маленькой, в которой спала служанка. На Юге было принято строить около большого главного дома маленький, этакую пристройку для временного житья. Такой домик выстроил и мой отец после Гражданской войны, и, когда он женился на моей матушке, они стали там жить. Сплошь увитый виноградом, вьющимися розами и жимолостью, домик со стороны сада казался беседкой. Маленькое крыльцо было скрыто от глаз зарослями желтых роз и южного смилакса, излюбленного прибежища пчел и колибри.
Главная усадьба Келлеров, где жила вся семья, находилась в двух шагах от нашей маленькой розовой беседки. Ее называли «Зеленый плющ», потому что и дом, и окружающие его деревья, и заборы были покрыты красивейшим английским плющом. Этот старомодный сад был раем моего детства.
Я очень любила ощупью пробираться вдоль жестких квадратных самшитовых изгородей и по запаху находить первые фиалки и ландыши. Именно там я искала утешения после бурных вспышек гнева, погружая разгоревшееся лицо в прохладу листвы. Как радостно было затеряться среди цветов, перебегая с места на место, внезапно натыкаясь на чудесный виноград, который я узнавала по листьям и гроздьям. Тогда я понимала, что это виноград, который оплетает стены летнего домика в конце сада! Там же струился к земле ломонос, ниспадали ветви жасмина и росли какие-то редкие душистые цветы, которые звали мотыльковыми лилиями за их нежные лепестки, похожие на крылья бабочек. Но розы… они были прелестнее всего. Никогда потом, в оранжереях Севера, не находила я таких утоляющих душу роз, как те, увивавшие мой домик на Юге. Они висели длинными гирляндами над крыльцом, наполняя воздух ароматом, не замутненным никакими иными запахами земли. Ранним утром, омытые росой, они были такими бархатистыми и чистыми, что я не могла не думать: такими, наверное, должны быть асфодели Божьего Райского сада.
Начало моей жизни походило на жизнь любого другого дитяти. Я пришла, я увидела, я победила — как всегда бывает с первым ребенком в семье. Разумеется, было много споров, как меня назвать. Первого ребенка в семье не назовешь как-нибудь. Отец предложил дать мне имя Милдред Кэмпбелл в честь одной из прабабок, которую высоко ценил, и принимать участие в дальнейшем обсуждении отказался. Матушка разрешила проблему, дав понять, что желала бы назвать меня в честь своей матери, чье девичье имя было Елена Эверетт. Однако по пути в церковь со мной на руках отец это имя, естественно, позабыл, тем более что оно не было тем, которое он всерьез рассматривал. Когда священник спросил у него, как же назвать ребенка, он вспомнил лишь, что решили назвать меня по бабушке, и сообщил ее имя: Елена Адамс.
Мне рассказывали, что еще младенцем в длинных платьицах я проявляла характер пылкий и решительный. Все, что делали в моем присутствии другие, я стремилась повторить. В шесть месяцев я привлекла всеобщее внимание, произнеся: «Чай, чай, чай», — совершенно отчетливо. Даже после болезни я помнила одно из слов, которые выучила в те ранние месяцы. Это было слово «вода», и я продолжала издавать похожие звуки, стремясь повторить его, даже после того, как способность говорить была утрачена. Я перестала твердить «ва-ва» только когда научилась составлять это слово по буквам.
Мне рассказывали, что я пошла в тот день, когда мне исполнился год. Матушка только что вынула меня из ванночки и держала на коленях, когда внезапно мое внимание привлекло мельканье на натертом полу теней от листьев, танцующих в солнечном свете. Я соскользнула с материнских колен и почти побежала к ним навстречу. Когда порыв иссяк, я упала и заплакала, чтобы матушка вновь взяла меня на руки.
Эти счастливые дни длились недолго. Всего одна краткая весна, звенящая щебетом снегирей и пересмешников, всего одно лето, щедрое фруктами и розами, всего одна красно-золотая осень… Они пронеслись, оставив свои дары у ног пылкого, восхищенного ими ребенка. Затем, в унылом сумрачном феврале, пришла болезнь, замкнувшая мне глаза и уши и погрузившая меня в бессознательность новорожденного младенца. Доктор определил сильный прилив крови к мозгу и желудку и думал, что я не выживу. Однако как-то ранним утром лихорадка оставила меня, так же внезапно и таинственно, как и появилась. Этим утром в семье царило бурное ликование. Никто, даже доктор, не знал, что я больше никогда не буду ни слышать, ни видеть.
Я сохранила, как мне кажется, смутные воспоминания об этой болезни. Помнится мне нежность, с которой матушка пыталась успокоить меня в мучительные часы метаний и боли, а также мои растерянность и страдание, когда я просыпалась после беспокойной ночи, проведенной в бреду, и обращала сухие воспаленные глаза к стене, прочь от некогда любимого света, который теперь с каждым днем становился все более и более тусклым. Но, за исключением этих беглых воспоминаний, если это вправду воспоминания, прошлое представляется мне каким-то ненастоящим, словно кошмарный сон.
Постепенно я привыкла к темноте и молчанию, окружившим меня, и забыла, что когда-то все было иначе, пока не явилась она… моя учительница… та, которой суждено было выпустить мою душу на волю. Но, еще до ее появления, в первые девятнадцать месяцев моей жизни, я уловила беглые образы широких зеленых полей, сияющих небес, деревьев и цветов, которые наступившая потом тьма не смогла совсем стереть. Если когда-то мы обладали зрением — «и день тот наш, и наше все, что он нам показал».
Глава 2. МОИ БЛИЗКИЕ
Не могу припомнить, что происходило в первые месяцы после моей болезни. Знаю только, что я сидела на коленях у матери или цеплялась за ее платье, пока она занималась домашними делами. Мои руки ощупывали каждый предмет, прослеживали каждое движение, и таким образом я многое смогла узнать. Вскоре я ощутила потребность в общении с другими и начала неумело подавать некоторые знаки. Качание головой означало «нет», кивок — «да», тянуть к себе значило «приди», отталкивание — «уйди». А если мне хотелось хлеба? Тогда я изображала, как режут ломтики и намазывают их маслом. Если я хотела, чтобы на обед было мороженое, я показывала, как вертят ручку мороженицы, и дрожала, будто замерзла. Матушке удавалось многое мне объяснить. Я всегда знала, когда ей хотелось, чтобы я что-то принесла, и я бежала в ту сторону, куда она меня подталкивала. Именно ее любящей мудрости я обязана всем, что было хорошего и яркого в моей непроглядной долгой ночи.
В пять лет я научилась складывать и убирать чистую одежду, когда ее приносили после стирки, и отличать свою одежду от остальной. По тому, как одевались моя матушка и тетя, я догадывалась, когда они собирались куда-то выходить, и неизменно умоляла взять меня с собой. За мной всегда посылали, когда к нам приезжали гости, и, провожая их, я всегда махала рукой. Думаю, у меня сохранились смутные воспоминания о значении этого жеста. Однажды какие-то джентльмены приехали в гости к моей матери. Я почувствовала толчок закрывшейся входной двери и другие шумы, сопровождавшие их прибытие. Охваченная внезапным озарением, прежде чем кто-либо успел меня остановить, я взбежала наверх, стремясь осуществить свое представление о «выходном туалете». Став перед зеркалом, как, я знала, это делали другие, я полила себе голову маслом и густо осыпала лицо пудрой. Затем я покрыла голову вуалью, так что она занавесила лицо и упала складками на плечи. К своей детской талии я привязала огромный турнюр, так что он болтался у меня за спиной, свисая почти до подола. Разодетая таким образом, я спустилась по лестнице в гостиную развлекать компанию.
Не помню, когда я впервые осознала, что отличаюсь от остальных людей, но уверена, что это произошло до приезда моей учительницы. Я заметила, что моя матушка и мои друзья не пользуются, как я, знаками, когда хотят что-то сообщить друг другу. Они разговаривали ртом. Иногда я становилась между двумя собеседниками и трогала их губы. Однако понять мне ничего не удавалось, и я досадовала. Я тоже шевелила губами и отчаянно жестикулировала, но безрезультатно. Временами это так меня злило, что я брыкалась и вопила до изнеможения.
Полагаю, я понимала, что веду себя дурно, потому что знала: пиная Эллу, мою няню, делаю ей больно. Так что, когда приступ ярости проходил, я испытывала нечто вроде сожаления. Но не могу припомнить ни одного случая, чтобы это помешало мне вести себя подобным образом, если я не получала того, что хотела. В те дни моими постоянными спутниками были Марта Вашингтон, дочка нашей кухарки, и Белль, наш старый сеттер, когда-то отличная охотница. Марта Вашингтон понимала мои знаки, и мне почти всегда удавалось заставить ее делать то, что мне нужно. Мне нравилось властвовать над нею, а она чаще всего подчинялась моей тирании, не рискуя вступать в драку. Я была сильная, энергичная и равнодушная к последствиям своих действий. При этом я всегда знала, чего хочу, и настаивала на своем, даже если приходилось ради этого драться, не щадя живота своего. Мы много времени проводили на кухне, месили тесто, помогали делать мороженое, мололи кофейные зерна, ссорились из-за печенья, кормили кур и индюков, суетившихся у кухонного крыльца. Многие из них были совсем ручными, так что ели из рук и позволяли себя трогать. Как-то раз один большой индюк выхватил у меня помидор и убежал с ним. Вдохновленные индюшиным примером, мы утащили с кухни сладкий пирог, который кухарка только что покрыла глазурью, и съели его до последней крошки. Потом я очень болела, и мне было интересно, постигла ли индюка та же печальная участь.
Цесарка, знаете ли вы, любит гнездиться в траве, в самых укромных местах. Одним из любимейших моих занятий было охотиться в высокой траве за ее яйцами. Я не могла сказать Марте Вашингтон, что хочу поискать яйца, но я могла сложить вместе ладошки горсточкой и опустить их на траву, обозначая нечто круглое, скрывающееся в траве. Марта меня понимала. Когда нам везло, и мы находили гнездо, я никогда не разрешала ей относить яйца домой, знаками заставляя понять, что она может упасть и разбить их.
В амбарах хранилось зерно, в конюшне держали лошадей, но был еще двор, на котором по утрам и вечерам доили коров. Он был для нас с Мартой источником неослабевающего интереса. Доярки разрешали мне класть руки на корову во время дойки, и я часто получала хлесткий удар коровьего хвоста за свое любопытство.
Подготовка к Рождеству всегда доставляла мне радость. Конечно, я не знала, что происходит, но с восторгом наслаждалась разносившимися по всему дому приятными запахами и лакомыми кусочками, которые давали мне и Марте Вашингтон, чтобы мы не шумели. Мы, несомненно, путались под ногами, но это ни в коей мере не снижало нашего удовольствия. Нам разрешали молоть пряности, перебирать изюм и облизывать мутовки. Я вешала мой чулок Санта Клаусу, потому что так поступали другие, однако не помню, чтобы эта церемония меня очень интересовала, заставляя проснуться до рассвета и бежать на поиски подарков.
Марта Вашингтон любила проказничать ничуть не меньше, чем я. Двое маленьких детей сидели на веранде жарким июньским днем. Одна была чернокожей, как дерево, с копной пружинистых кудряшек, завязанных шнурками во множество пучков, торчащих в разные стороны. Другая — беленькая, с длинными золотыми локонами. Одной было шесть лет, другая двумя или тремя годами старше. Младшая девочка была слепой, старшую звали Марта Вашингтон. Сначала мы старательно вырезали ножницами бумажных человечков, но вскоре эта забава нам надоела и, изрезав на кусочки шнурки от наших туфелек, мы обстригли с жимолости все листочки, до которых смогли дотянуться. После этого я перевела свое внимание на пружинки волос Марты. Сначала она возражала, но потом смирилась со своей участью. Решив затем, что справедливость требует возмездия, она схватила ножницы и успела отрезать один из моих локонов. Она состригла бы их все, если бы не своевременное вмешательство моей матушки.
События тех ранних лет остались в моей памяти отрывочными, но яркими эпизодами. Они вносили смысл в молчаливую бесцельность моей жизни.
Однажды мне случилось облить водой мой фартучек, и я расстелила его в гостиной перед камином посушиться. Фартучек сох не так быстро, как мне хотелось, и я, подойдя поближе, сунула его прямо на горящие угли. Огонь взметнулся, и в мгновение ока пламя охватило меня. Одежда загорелась, я отчаянно замычала, шум привлек на помощь Вайни, мою старую нянюшку. Набросив на меня одеяло, она чуть меня не удушила, зато сумела потушить огонь. Я отделалась, можно сказать, легким испугом.
Примерно в это же время я научилась пользоваться ключом. Однажды утром я заперла матушку в кладовке, где она вынуждена была оставаться в течение трех часов, так как слуги находились в отдаленной части дома. Она колотила в дверь, а я сидела снаружи на ступеньках и хохотала, ощущая сотрясение от каждого удара. Эта самая вредная моя проказа убедила родителей, что меня надо поскорее начинать учить. После того как приехала ко мне моя учительница Энн Салливан, я постаралась при первой же возможности запереть в комнате и ее. Я отправилась наверх с чем-то, что, как дала мне понять матушка, следовало отдать мисс Салливан. Но, едва отдав ей это, я захлопнула дверь и заперла ее, а ключ спрятала в холле под гардеробом. Отец был вынужден влезть на лестницу и вызволить мисс Салливан через окно, к моему несказанному восторгу. Я вернула ключ лишь несколько месяцев спустя.
Когда мне сравнялось пять лет, мы переехали из увитого виноградом домика в большой новый дом. Семья наша состояла из отца, матушки, двух старших сводных братьев и, впоследствии, сестрички Милдред. Самое раннее мое воспоминание об отце — это как я пробираюсь к нему сквозь ворохи бумаги и обнаруживаю его с большим листом, который он зачем-то держит перед лицом. Я была очень озадачена, воспроизвела его действие, даже надела его очки, надеясь, что они помогут мне разрешить загадку. Но в течение нескольких лет эта тайна так и оставалась тайной. Потом я узнала, что такое газеты и что мой отец издавал одну из них.
Отец мой был необыкновенно любящим и великодушным человеком, бесконечно преданным семье. Он редко покидал нас, уезжая из дома только в сезон охоты. Как мне рассказывали, он был прекрасным охотником, знаменитым своей меткостью стрелком. Он был радушным хозяином, пожалуй, даже слишком радушным, так как редко приезжал домой без гостя. Особой его гордостью был огромный сад, где, по рассказам, он выращивал самые изумительные в наших краях арбузы и клубнику. Мне он всегда приносил первый созревший виноград и отборнейшие ягоды. Я помню, как трогала меня его заботливость, когда он вел меня от дерева к дереву, от лозы к лозе, и его радость от того, что мне что-то доставляло удовольствие.
Он был прекрасный рассказчик и, после того, как я освоила язык немых, неуклюже рисовал знаки у меня на ладони, передавая самые остроумные свои анекдоты, причем больше всего его радовало, когда потом я к месту их повторяла.
Я находилась на Севере, наслаждалась последними прекрасными днями лета 1896 года, когда пришло известие о его смерти. Он болел недолго, испытал краткие, но очень острые муки — и все было кончено. Это было первой моей тяжкой потерей, первым личным столкновением со смертью.
Как мне написать о моей матушке? Она так мне близка, что говорить о ней кажется неделикатным.
Долгое время я считала свою маленькую сестренку захватчицей. Я понимала, что больше не являюсь единственным светом в окошке у матушки, и это переполняло меня ревностью. Милдред постоянно сидела на коленях у матушки, где привыкла сидеть я, и присвоила себе всю материнскую заботу и время. Однажды случилось кое-что, по моему мнению, добавившее оскорбление к обиде.
У меня тогда была обожаемая затертая кукла Нэнси. Увы, она была частой беспомощной жертвой моих яростных вспышек и жаркой к ней привязанности, от которых приобрела еще более потрепанный вид. У меня были другие куклы, которые умели говорить и плакать, открывать и закрывать глаза, но ни одну из них я не любила так, как Нэнси. У нее была своя колыбелька, и я часто по часу и дольше укачивала ее. Я ревностно охраняла и куклу, и колыбельку, но однажды обнаружила маленькую свою сестричку мирно спящей в ней. Возмущенная этой дерзостью со стороны той, с кем меня пока не связывали узы любви, я рассвирепела и опрокинула колыбельку. Ребенок мог удариться насмерть, но матушка успела подхватить ее.
Так бывает, когда мы бредем долиной одиночества, почти не зная о нежной привязанности, произрастающей из ласковых слов, трогательных поступков и дружеского общения. Впоследствии, когда я возвратилась в лоно человеческого наследия, принадлежащего мне по праву, наши с Милдред сердца нашли друг друга. После этого мы были рады идти рука об руку, куда бы ни вел нас каприз, хоть она совсем не понимала моего языка жестов, а я ее детского лепета.
Глава 3. ИЗ ТЬМЫ ЕГИПЕТСКОЙ
Я росла, и во мне нарастало желание выразить себя. Немногие знаки, которыми я пользовалась, все меньше отвечали моим потребностям, а невозможность объяснить, чего я хочу, сопровождались вспышками ярости. Я чувствовала, как меня держат какие-то невидимые руки, и делала отчаянные усилия, чтобы освободиться. Я боролась. Не то чтобы эти барахтанья помогали, но дух сопротивления был во мне очень силен. Обычно я, в конце концов, разражалась слезами, и все заканчивалось полным изнеможением. Если матушке случалось в этот момент быть рядом, я заползала в ее объятья, слишком несчастная, чтобы вспомнить причину пронесшейся бури. Спустя какое-то время потребность в новых способах общения с окружающими стала настолько неотложной, что вспышки гнева повторялись каждый день, а иногда каждый час.
Родители мои были глубоко огорчены и озадачены. Мы жили слишком далеко от школ для слепых или глухих, и казалось нереальным, чтобы кто-то поехал в такую даль учить ребенка частным образом. Временами даже мои друзья и родные сомневались, что меня можно чему-нибудь научить. Для матушки единственный луч надежды блеснул в книге Чарльза Диккенса «Американские заметки». Она прочитала там рассказ о Лоре Бриджмен, которая, как и я, была глухой и слепой, и все-таки получила образование. Но матушка также с безнадежностью вспомнила, что доктор Хоу, открывший способ обучения глухих и слепых, давно умер. Возможно, его методы умерли вместе с ним, а если даже не умерли, то каким образом маленькая девочка в далекой Алабаме могла этими чудесными благами воспользоваться?
Когда мне было шесть лет, отец прослышал о видном балтиморском окулисте, добивавшемся успеха во многих случаях, казавшихся безнадежными. Родители решили свозить меня в Балтимор и выяснить, нельзя ли что-либо для меня сделать.
Путешествие было очень приятным. Я ни разу не впала в гнев: слишком многое занимало мой ум и руки. В поезде я подружилась со многими людьми. Одна дама подарила мне коробочку ракушек. Отец просверлил в них дырочки, чтобы я могла их нанизывать, и они счастливо заняли меня на долгое время. Проводник вагона также оказался очень добрым. Я много раз, цепляясь за полы его куртки, следовала за ним, когда он обходил пассажиров, компостируя билеты. Его компостер, который он давал мне поиграть, был волшебной игрушкой. Уютно пристроившись в уголке своего дивана, я часами развлекалась, пробивая дырочки в кусочках картона.
Моя тетя свернула мне большую куклу из полотенец. Это было в высшей степени безобразное создание, без носа, рта, глаз и ушей; у этой самодельной куклы даже воображение ребенка не могло бы обнаружить лица. Любопытно, что отсутствие глаз поразило меня больше всех остальных дефектов куклы, вместе взятых. Я назойливо указывала на это окружающим, но никто не догадался снабдить куклу глазами. Внезапно меня осенила блестящая идея: спрыгнув с дивана и пошарив под ним, я нашла тетин плащ, отделанный крупным бисером. Оторвав две бусины, я знаками показала тёте, что хочу, чтобы она пришила их к кукле. Она вопросительно поднесла мою руку к своим глазам, я решительно закивала в ответ. Бусины были пришиты на нужные места, и я не могла сдержать своей радости. Однако сразу после этого я потеряла к прозревшей кукле всякий интерес.
По приезде в Балтимор мы встретились с доктором Чизхолмом, который принял нас очень доброжелательно, однако сделать ничего не мог. Он, впрочем, посоветовал отцу обратиться за консультацией к доктору Александру Грэхему Беллу из Вашингтона. Тот может дать информацию о школах и учителях для глухих или слепых детей. По совету доктора, мы немедля отправились в Вашингтон повидаться с доктором Беллом.
Отец ехал с тяжелым сердцем и большими опасениями, а я, не сознавая его страданий, радовалась, наслаждаясь удовольствием переездов с места на место.
С первых минут я почувствовала исходившие от доктора Белла нежность и сочувствие, которые, наравне с его поразительными научными достижениями, покоряли многие сердца. Он держал меня на коленях, а я разглядывала его карманные часы, которые он заставил для меня звонить. Он хорошо понимал мои знаки. Я это осознала и полюбила его за это. Однако я и мечтать не могла, что встреча с ним станет дверью, через которую я перейду от мрака к свету, от вынужденного одиночества к дружбе, общению, знаниям, любви.
Доктор Белл посоветовал моему отцу написать мистеру Ананьосу, директору института Перкинса в Бостоне, где когда-то трудился доктор Хоу, и спросить, не знает ли он учителя, способного взяться за мое обучение. Отец сразу это сделал, и через несколько недель от доктора Ананьоса пришло любезное письмо с утешительной вестью, что такой учитель найден. Это произошло летом 1886 года, но мисс Салливан приехала к нам только в марте следующего.
Таким вот образом вышла я из тьмы египетской и встала перед Синаем. И Сила Божественная коснулась души моей, и она прозрела, и я познала многие чудеса. Я услышала голос, который сказал: «Знание есть любовь, свет и прозрение».
Глава 4. ПРИБЛИЖЕНИЕ ШАГОВ
Самый важный день моей жизни — тот, когда приехала ко мне моя учительница Анна Салливан. Я преисполняюсь изумления, когда думаю о безмерном контрасте между двумя жизнями, соединенными этим днем. Это произошло 7 марта 1887 года, за три месяца до того, как мне исполнилось семь лет.
В тот знаменательный день, после полудня, я стояла на крыльце немая, глухая, слепая, ожидающая. По знакам моей матушки, по суете в доме я смутно догадывалась, что должно случиться что-то необычное. Поэтому я вышла из дома и села ждать этого «чего-то» на ступеньках крыльца. Полуденное солнце, пробиваясь сквозь массы жимолости, согревало мое поднятое к небу лицо. Пальцы почти бессознательно перебирали знакомые листья и цветы, только-только распускающиеся навстречу сладостной южной весне. Я не знала, какое чудо или диво готовит мне будущее. Гнев и горечь непрерывно терзали меня, сменяя страстное буйство глубоким изнеможением.
Случалось вам попадать в море в густой туман, когда кажется, что плотная на ощупь белая мгла окутывает вас, и большой корабль в отчаянной тревоге, настороженно ощупывая лотом глубину, пробирается к берегу, а вы ждете с бьющимся сердцем, что будет? До того, как началось мое обучение, я была похожа на такой корабль, только без компаса, без лота и какого бы то ни было способа узнать, далеко ли до тихой бухты. «Света! Дайте мне света!» — бился безмолвный крик моей души.
И свет любви воссиял надо мною в тот самый час.
Я почувствовала приближение шагов. Я протянула руку, как полагала, матушке. Кто-то взял ее — и я оказалась пойманной, сжатой в объятиях той, что явилась ко мне открыть все сущее и, главное, любить меня.
На следующее утро по приезде моя учительница повела меня в свою комнату и дала мне куклу. Ее прислали малыши из института Перкинса, а Лора Бриджмен ее одела. Но все это я узнала впоследствии. Когда я немножко с ней поиграла, мисс Салливан медленно по буквам нарисовала на моей ладони слово «к-у-к-л-а». Я сразу заинтересовалась этой игрой пальцев и постаралась ей подражать. Когда мне удалось, наконец, правильно изобразить все буквы, я зарделась от гордости и удовольствия. Побежав тут же к матушке, я подняла руку и повторила ей знаки, изображавшие куклу. Я не понимала, что пишу по буквам слово, и даже того, что оно означает; я просто, как обезьянка, складывала пальцы и заставляла их подражать почувствованному. В последующие дни я, так же неосмысленно, научилась писать множество слов, как, например, «шляпа», «чашка», «рот», и несколько глаголов — «сесть», «встать», «идти». Но только после нескольких недель занятий с учительницей я поняла, что у всего на свете есть имя.
Как-то, когда я играла с моей новой фарфоровой куклой, мисс Салливан положила мне на колени еще и мою большую тряпичную куклу, по буквам написала «к-у-к-л-а» и дала понять, что слово это относится к обеим. Ранее у нас произошла стычка из-за слов «с-т-а-к-а-н» и «в-о-д-а». Мисс Салливан пыталась объяснить мне, что «стакан» есть стакан, а «вода» — вода, но я продолжала путать одно с другим. В отчаянии она на время прекратила попытки меня вразумить, но лишь для того, чтобы возобновить их при первой возможности. Мне надоели ее приставания и, схватив новую куклу, я швырнула ее на пол. С острым наслаждением я почувствовала у своих ног ее обломки. За моей дикой вспышкой не последовало ни грусти, ни раскаяния. Я не любила эту куклу. Во все еще темном мире, где я жила, не было ни сердечных чувств, ни нежности. Я ощутила, как учительница смела останки несчастной куклы в сторону камина, и почувствовала удовлетворение от того, что причина моего неудобства устранена. Она принесла мне шляпу, и я поняла, что сейчас выйду на теплый солнечный свет. Эта мысль, если можно назвать мыслью бессловесное ощущение, заставила меня запрыгать от удовольствия.
Мы пошли по тропинке к колодцу, привлеченные ароматом жимолости, увивавшей его ограждение. Кто-то стоял там и качал воду. Моя учительница подставила мою руку под струю. Когда холодный поток ударил мне в ладонь, она вывела на другой ладони по буквам слово «в-о-д-а», сначала медленно, а потом быстро. Я замерла, мое внимание было приковано к движению ее пальцев. Внезапно я ощутила неясный образ чего-то забытого… восторг возвращенной мысли. Мне как-то вдруг открылась таинственная суть языка. Я поняла, что «вода» — это чудесная прохлада, льющаяся по моей ладони. Живой мир пробудил мою душу, дал ей свет.
Я отошла от колодца полная рвения к учебе. У всего на свете есть имя! Каждое новое имя рождало новую мысль! На обратном пути в каждом предмете, которого я касалась, пульсировала жизнь. Это происходило потому, что я видела все каким-то странным новым зрением, только что мною обретенным. Войдя в свою комнату, я вспомнила о разбитой кукле. Я осторожно приблизилась к камину и подобрала обломки. Тщетно пыталась я сложить их вместе. Глаза мои наполнились слезами, так как я поняла, что наделала. Впервые ощутила я раскаяние.
В тот день я выучила много новых слов. Не помню сейчас, какие именно, но твердо знаю, что среди них были: «мать», «отец», «сестра», «учитель»… слова, которые заставили мир вокруг расцвести, как жезл Аарона. Вечером, когда я легла в кроватку, трудно было бы найти на свете ребенка счастливее меня. Я заново переживала все радости, которые этот день мне принес, и впервые мечтала о приходе нового дня.
Глава 5. РАЙСКОЕ ДЕРЕВО
Я вспоминаю много эпизодов лета 1887 года, последовавших за внезапным пробуждением моей души. Я ничего не делала, кроме того, что ощупывала руками и узнавала имена и названия каждого предмета, которого касалась. И чем больше вещей я касалась, чем больше выучивала их названий и назначения, тем уверенней в себе я становилась, тем больше крепла моя связь с окружающим миром.
Когда пришла пора цветения маргариток и лютиков, мисс Салливан за руку повела меня через поле, которое пахали фермеры, готовя землю под посев, на берег реки Теннесси. Там, сидя на теплой траве, я получала первые свои уроки постижения благодати природы. Я узнала, как солнце и дождь заставляют расти из земли каждое дерево, приятное для зрения и полезное для еды, как птицы вьют свои гнезда и живут, перелетая с места на место, как белка, олень, лев и всякое иное существо находят себе пищу и укрытие. По мере того как росло мое знание о предметах, я все больше и больше радовалась миру, в котором живу. Задолго до того, как научилась я складывать числа или описывать форму Земли, мисс Салливан научила меня находить красоту в аромате лесов, в каждой травинке, в округлостях и ямочках ручки моей маленькой сестренки. Она связала мои ранние мысли с природой и заставила меня почувствовать, что я ровня птицам и цветам, счастлива, как они. Но примерно в это же время я испытала нечто, внушившее мне, что природа не всегда добра.
Как-то мы с моей учительницей возвращались после долгой прогулки. Утро было прекрасным, но, когда мы повернули в обратный путь, стало знойно. Два или три раза мы останавливались передохнуть под деревьями. Последняя наша остановка была у дикой вишни неподалеку от дома. Раскидистое и тенистое, это дерево было как будто создано для того, чтобы я могла залезть на него с помощью учительницы и устроиться в развилке ветвей. На дереве было так уютно, так приятно, что мисс Салливан предложила мне там позавтракать. Я пообещала сидеть смирно, пока она сходит домой и принесет еду.
Внезапно с деревом произошла какая-то перемена. Солнечное тепло исчезло из воздуха. Я поняла, что небо потемнело, так как жар, означавший для меня свет, куда-то исчез из окружающего пространства. От земли поднимался странный запах. Я знала, что такой запах всегда предшествует грозе, и безымянный страх сжал мне сердце. Я почувствовала себя абсолютно отрезанной от друзей и твердой земли. Неизведанная бездна поглотила меня. Я продолжала сидеть тихо, в ожидании, но леденящий ужас медленно овладевал мною. Я жаждала возвращения учительницы, больше всего на свете хотела спуститься с этого дерева.
Наступила зловещая тишина, а затем трепетное движение тысячи листьев. Дрожь пробежала по дереву, и порыв ветра чуть не сшиб меня вниз, если бы я не прильнула изо всех сил к ветке. Дерево напряглось и закачалось. Мелкие сучки с хрустом ломались вокруг меня. Дикое желание спрыгнуть охватило меня, но ужас не давал шевельнуться. Я скорчилась в развилке ветвей. Время от времени я ощущала сильное сотрясение: что-то тяжелое падало вниз, и удар падения возвращался вверх по стволу, до ветви, на которой я сидела. Напряжение достигло высочайшей точки, но как раз в ту минуту, когда я решила, что дерево и я упадем наземь вместе, учительница схватила меня за руку и помогла спуститься. Я прильнула к ней, дрожа от осознания нового урока, что природа «ведет открытую войну со своими детьми, и под ее нежнейшим прикосновением зачастую таятся предательские когти».
После этого переживания прошло много времени, прежде чем я решилась вновь залезть на дерево. Одна мысль об этом наполняла меня ужасом. Но, в конце концов, манящая сладость душистой мимозы в полном цвету преодолела мои страхи.
Прекрасным весенним утром, когда я сидела одна в летнем домике и читала, на меня внезапно повеяло чудесным нежнейшим ароматом. Я вздрогнула и невольно протянула вперед руки. Казалось, дух весны пронесся надо мной. «Что это?» — спросила я и в следующую минуту узнала запах мимозы. Ощупью я прошла в конец сада, зная, что у забора, на повороте тропинки, растет мимозовое дерево. Да, вот оно!..
Дерево стояло, трепеща в солнечном свете, его отягощенные цветами ветки почти касались высокой травы. Было ли раньше в мире нечто столь же изысканно прекрасное! Чуткие листья съеживались от малейшего прикосновения. Казалось, это райское дерево, чудесным образом перенесенное на землю. Сквозь ливень цветов я пробралась к стволу, постояла мгновение в нерешительности, затем поставила ногу в широкую развилку ветвей и стала подтягиваться. Держаться за ветки было трудно, потому что ладонь моя едва могла их обхватить, а кора больно впивалась в кожу. Но я испытывала изумительное ощущение, что проделываю нечто необычное и удивительное, и потому лезла все выше и выше, пока не добралась до маленького сиденья, устроенного кем-то в кроне так давно, что оно вросло в дерево и стало его частью. Я сидела там долго-долго, чувствуя себя феей на розовом облаке. После этого я провела множество счастливых часов в ветвях моего райского дерева, погруженная в черные думы и светлые грезы.
Глава 6. ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
Дети, обладающие слухом, обретают дар речи без особых усилий. Слова, которые роняют чужие уста, они с восторгом подхватывают на лету. Глухой ребенок должен усваивать их медленно и часто мучительно. Но, как ни тяжел этот процесс, результат его чудесен.
Постепенно, шаг за шагом, продвигались мы с мисс Салливан вперед, пока не одолели огромное расстояние от первых запинающихся слогов до взлета мысли в строках Шекспира.
Поначалу я задавала мало вопросов. Мои представления о мире были смутными, а словарный запас убог. Но, по мере того, как мои знания расширялись и я узнавала все больше слов, поле моих интересов тоже расширялось. Я вновь и вновь возвращалась все к тому же предмету, жаждая новых сведений. Иногда новое слово оживляло образ, запечатленный в моем мозгу каким-то ранним опытом.
Мне вспоминается утро, когда я впервые спросила о значении слова «любовь». Я нашла в саду несколько ранних фиалок и принесла их моей учительнице. Она попыталась поцеловать меня, но в то время я не любила, чтобы меня целовал кто-либо, кроме моей матушки. Мисс Салливан ласково обвила меня рукой и нарисовала по буквам на моей ладони: «Я люблю Елену».
«Что такое любовь?» — спросила я.
Она привлекла меня к себе и сказала: «Это здесь», — указывая на мое сердце, удары которого я тогда ощутила впервые. Ее слова меня сильно озадачили, потому что я тогда не понимала того, чего не могла потрогать.
Я понюхала фиалки в ее руке и, отчасти словами, отчасти знаками, задала вопрос, смысл которого означал: «Любовь — аромат цветов?» «Нет», — отвечала моя учительница.
Я снова задумалась. Теплое солнце освещало нас.
«А это — любовь? — настаивала я, указывая в сторону, откуда шел живительный жар. — Разве не это любовь?»
Мне казалось, что не может быть ничего прекраснее солнца, чье тепло заставляет все жить и расти. Но мисс Салливан покачала головой, и я снова притихла, озадаченная и разочарованная. Я подумала: как странно, что моя учительница, которая столько всего знает, не может показать мне любовь.
День или два спустя я нанизывала бусы разных размеров, чередуя их симметрично: три большие — две маленькие, и так далее. При этом я делала много ошибок, и мисс Салливан терпеливо, вновь и вновь, указывала мне на них. Наконец я сама заметила явную ошибку в последовательности, на миг сосредоточилась и попыталась сообразить, как сочетать бусины дальше. Мисс Салливан коснулась моего лба и написала по буквам с нажимом: «Думай».
Мгновенной вспышкой меня озарило, что это слово является названием процесса, происходящего в моей голове. Это было мое первое сознательное понимание абстрактной идеи.
Долгое время я сидела, не думая о бусинах у меня на коленях, а пытаясь, в свете этого нового подхода к процессу мышления, найти значение слова «любовь». Я хорошо помню, что в тот день солнце пряталось за облаками, шли краткие ливни, но внезапно солнце прорвалось сквозь тучи со всем южным великолепием.
Я снова спросила мою учительницу: «Это любовь?»
«Любовь — что-то вроде облаков, закрывавших небо, пока не выглянуло солнце, — ответила она. — Понимаешь, ты ведь не можешь коснуться облаков, но чувствуешь дождь и знаешь, как рады ему после жаркого дня цветы и страдающая от жажды земля. Точно так же ты не можешь коснуться любви, но ты чувствуешь ее сладость, проникающую повсюду. Без любви ты не была бы счастлива и не хотела бы играть».
Прекрасная истина озарила мой ум. Я ощутила невидимые нити, протянувшиеся между моей душой и душами других людей…
С самого начала моего обучения мисс Салливан ввела в обычай беседовать со мной так, как с любым, не глухим ребенком. Единственная разница состояла в том, что она рисовала фразы по буквам у меня на руке, а не выговаривала их вслух. Если я не знала слов, необходимых для выражения моих мыслей, она сообщала их мне, даже подсказывала ответы, когда я не могла поддержать разговора.
Этот процесс продолжался несколько лет, потому что глухой ребенок не может выучить за месяц или даже за два-три года бесчисленные словосочетания, используемые в простейшем повседневном общении. Ребенок, обладающий слухом, научается им от постоянного повторения и подражания. Разговоры, которые он слышит дома, пробуждают его любознательность и предлагают все новые темы, вызывая в его душе невольный отклик. Этого естественного обмена мыслями лишено глухое дитя. Моя учительница повторяла мне, по мере возможности, дословно, все что слышала вокруг, подсказывая мне, как я могу принять участие в разговорах. Однако прошло еще много времени, прежде чем я решилась проявить инициативу, и еще больше, прежде чем я сумела говорить подходящие слова в подходящий момент.
Слепым и глухим очень трудно приобрести навыки любезной беседы. Насколько же возрастают эти трудности для тех, кто слеп и глух одновременно! Они не могут различать интонации, придающие речи смысл и выразительность. Они не могут наблюдать выражение лица говорящего, не видят взгляда, раскрывающего душу того, кто с тобой говорит.
Глава 7. ДЕВОЧКА В ШКАФУ
Следующим важным шагом моего образования стало обучение чтению.
Как только я смогла складывать несколько слов, моя учительница дала мне кусочки картона, на которых выпуклыми буквами были отпечатаны слова. Я быстро сообразила, что каждое напечатанное слово обозначает предмет, действие или свойство. У меня была рамка, в которой я могла собирать слова в маленькие предложения, но, прежде чем составлять эти предложения в рамке, я, так сказать, осуществляла их из предметов. Я клала мою куклу на кровать и выкладывала рядом слова «кукла», «на», «кровать». Таким образом я составляла фразу и одновременно выражала смысл этой фразы самими предметами.
Мисс Салливан вспоминала, что однажды я прикрепила слово «девочка» к своему переднику и встала в платяной шкаф. На полке я разложила слова «в» и «шкаф». Ничто не доставляло мне такого же удовольствия, как эта игра. Мы с учительницей могли играть в нее часами. Часто вся обстановка в комнате была переставлена в соответствии с составными частями различных предложений.
От выпуклых печатных карточек был один шаг до печатной книжки. В моей «Азбуке для начинающих» я выискивала слова, которые знала. Когда я их находила, радость моя была сродни радости «водящего» в игре в прятки, когда он обнаруживает того, кто от него спрятался.
Долгое время у меня не было регулярных уроков. Я занималась очень старательно, но это походило скорее на игру, чем на работу. Все, чему учила меня мисс Салливан, она иллюстрировала прелестной историей или стихотворением. Когда мне что-то нравилось или казалось интересным, она разговаривала со мной на эту тему так, словно сама была маленькой девочкой. Все, что дети считают нудной, мучительной или пугающей зубрежкой (грамматика, трудные математические задачи или еще более трудные занятия), до сих пор относится к самым любимым моим воспоминаниям.
Не могу объяснить особую симпатию, с которой мисс Салливан относилась к моим развлечениям и капризам. Возможно, это было следствием ее долгого общения со слепыми. К этому добавлялась ее удивительная способность к ярким и живым описаниям. Она бегло касалась неинтересных деталей и никогда не терзала меня проверочными вопросами, чтобы удостовериться, что я запомнила из позавчерашнего урока. С сухими техническими подробностями наук она знакомила меня понемножку, делая каждый предмет настолько радостным, что я не могла не запомнить, чему она меня обучала.
Мы читали и занимались на воздухе, предпочитая дому залитые солнцем леса. Во всех моих ранних занятиях присутствовало дыхание дубрав, терпкий смолистый запах сосновой хвои, смешанный с ароматом дикого винограда. Сидя в благословенной тени тюльпанового дерева, я училась понимать, что во всем есть значимость и оправданность. «И красота вещей научила меня пользе их…» Поистине все, что жужжало, щебетало, пело или цвело, принимало участие в моем воспитании: громкоголосые лягушки, сверчки и кузнечики, которых я бережно держала на ладони, пока они, освоившись, не заводили вновь свои трели и пиликанья, пушистые птенчики и полевые цветы, цветущий кизил, луговые фиалки и яблоневый цвет.
Я трогала раскрывающиеся коробочки хлопка, осязала их рыхлую мякоть и мохнатые семена. Я ощущала вздохи ветра в движении колосьев, шелковистый шелест длинных листьев маиса и возмущенное фырканье моего пони, когда мы поймали его на лугу и вложили ему в рот удила. Ах, Боже мой! Как же прекрасно помню я пряный клеверный запах его дыхания!..
Иногда я поднималась на рассвете и пробиралась в сад, пока обильная роса еще лежала на травах и цветах. Немногие знают, какая это радость — ощутить нежность лепестков розы, льнущих к твоей ладони, или прелестное колыхание лилий на утреннем ветерке. Иногда, срывая цветок, я захватывала с ним какое-нибудь насекомое и осязала слабое шевеление пары крылышек, трущихся друг о друга в приступе внезапного ужаса.
Другим любимым местом моих утренних прогулок был фруктовый сад, где, начиная с июля, созревали плоды. Большие персики, покрытые легким пушком, сами ложились мне в руку, а когда шаловливые ветерки врывались в кроны деревьев, к ногам моим падали яблоки. О, с каким наслаждением собирала я их в свой передник и, прижимаясь лицом к гладким яблочным щечкам, еще теплым от солнца, вприпрыжку торопилась домой!
Мы с учительницей часто ходили к Келлерову Причалу, старой обветшавшей деревянной пристани на реке Теннеси, которой пользовались для высадки солдат во время Гражданской войны. Мы провели там с мисс Салливан много счастливых часов, изучая географию. Я строила из гальки запруды, создавала озера и острова, углубляла русло реки, все ради удовольствия, совершенно не задумываясь, что при этом учу уроки. С возрастающим удивлением слушала я рассказы мисс Салливан об окружающем нас большом мире, с его извергающими огонь горами, погребенными в земле городами, движущимися ледяными реками и многими другими, не менее странными явлениями. Она заставляла меня лепить из глины выпуклые географические карты, чтобы я могла почувствовать горные хребты и долины, проследить пальцем извилистое течение рек. Мне это очень нравилось, а вот деление Земли на климатические зоны и полюса вносило в мою голову растерянность и смятение. Иллюстрирующие эти понятия шнурки и деревянные палочки, обозначавшие полюса, казались мне настолько реальными, что по сию пору одно упоминание о климатической зоне вызывает у меня образ многочисленных кружков из бечевки. Не сомневаюсь, что если бы кто-то постарался, я могла бы навсегда поверить в то, что белые медведи в самом деле вскарабкиваются на Северный полюс, торчащий из земного шара.
Кажется, только арифметика не вызывала у меня никакой любви. С самого начала я совершенно не интересовалась наукой о числах. Мисс Салливан пыталась учить меня счету, нанизывая бусы группами, или сложению и вычитанию, передвигая в ту или другую сторону соломинки. Однако у меня никогда не хватало терпения подобрать и расположить более пяти или шести групп за урок. Едва закончив задание, я считала свой долг исполненным и мгновенно убегала на поиски товарищей по играм.
В столь же неторопливой манере изучала я зоологию и ботанику.
Однажды какой-то джентльмен, имя которого я позабыла, прислал мне коллекцию окаменелостей. Там были ракушки с красивыми узорами, кусочки песчаника с отпечатками птичьих лапок и прелестный выпуклый рельеф папоротника. Они стали ключами, открывшими мне мир до потопа. Дрожащими пальцами воспринимала я образы жутких чудищ с неуклюжими непроизносимыми названиями, бродивших когда-то по первобытным лесам, обдирая для еды ветки с гигантских деревьев, и умиравших затем в болотах доисторических времен. Эти странные существа долго потом тревожили мои сны, а мрачный период, в который они жили, стал темным фоном для моего радостного Сегодня, полного солнечного света и роз, отзывающегося легким топотом копыт моего пони.
В другой раз мне подарили красивую раковину, и с детским восторгом я узнала, как этот крохотный моллюск создал себе сияющий домик, и как в тихие ночи, когда бриз не морщит зеркало воды, моллюск-наутилус плывет по синим волнам Индийского океана в своем кораблике из перламутра. Моя учительница прочитала мне книжку «Наутилус и его домик» и объяснила, что процесс сотворения раковины моллюском похож на процесс развития ума. Точно так же, как чудотворная мантия наутилуса поглощаемое из воды вещество преобразует в часть себя, так и частицы знаний, поглощаемых нами, претерпевают подобную перемену, превращаясь в жемчужины мыслей.
Рост цветка давал пищу другому уроку. Мы купили лилию с островерхими, готовыми раскрыться бутонами. Мне показалось, что тонкие, охватывающие их, словно пальцы, листья открывались медленно и неохотно, как бы не желая являть миру прелесть, которую скрывали. Процесс расцветания шел, но планомерно и непрерывно. Всегда находился один бутон крупнее и красивее других, который расталкивал внешние покровы с большей торжественностью, словно красавица в нежных шелковых одеждах, уверенная, что является лилией-королевой по праву, данному ей свыше, в то время как ее более робкие сестры застенчиво сдвигали свои зеленые колпачки, пока все растение не превращалось в единую кивающую ветвь, воплощение аромата и очарования.
Одно время на подоконнике, уставленном растениями, стоял стеклянный шар-аквариум с одиннадцатью головастиками. Как весело было запустить туда руку и ощутить быстрые толчки их движения, дать головастикам проскальзывать между пальцами и вдоль ладони. Как-то самый честолюбивый из них подпрыгнул над водой и выскочил из стеклянной чаши на пол, где я и нашла его, скорее мертвого, чем живого. Единственным признаком жизни было легкое подрагивание хвостика. Однако, едва возвратившись в свою стихию, он рванулся ко дну, а затем стал плавать кругами в бурном веселье. Он совершил свой прыжок, он повидал большой мир и теперь готов был спокойно ждать в своем стеклянном домике под сенью огромной фуксии достижения зрелого лягушачества. Тогда он отправится на постоянное житье в тенистый пруд в конце сада, где наполнит летние ночи музыкой своих забавных серенад.
Вот так я училась у самой природы. Вначале я была всего лишь комочком нераскрытых возможностей живой материи. Моя учительница помогла им развиться. Когда она явилась, все вокруг наполнилось любовью и радостью, обрело значение и смысл. С тех пор она никогда не упускала случая показать, что красота пребывает во всем, и никогда не прекращала стараний своими мыслями, действиями, примером сделать мою жизнь приятной и полезной.
Гений моей учительницы, ее мгновенная отзывчивость, ее душевный такт сделали первые годы моего обучения такими замечательными. Она уловила нужный момент для передачи знаний, я смогла их воспринять с удовольствием. Она понимала, что ум ребенка подобен неглубокому ручейку, который бежит, журча и играя, по камешкам познания и отражает то цветок, то кудрявое облачко. Все дальше устремляясь по этому руслу, он, как любой ручеек, будет питаться потаенными ключами, пока не станет широкой и глубокой рекой, способной отразить волнистые холмы, сияющие тени деревьев и голубые небеса, равно как и милую головку скромного цветка.
Каждый учитель может привести ребенка в классную комнату, но не каждый в силах заставить его учиться. Ребенок не будет работать охотно, если не почувствует, что свободен выбрать занятие или отдых. Он должен ощутить восторг победы и горечь разочарования до того, как примется за труды, ему неприятные, и бодро начнет прокладывать свой путь через учебников.
Моя учительница так мне близка, что я не мыслю себя без нее. Мне трудно сказать, какая доля моего наслаждения всем прекрасным была в меня заложена природой, а какая пришла ко мне благодаря ее влиянию. Я чувствую, что душа ее неразделима с моей, все мои шаги по жизни отзываются в ней. Все лучшее во мне принадлежит ей: нет во мне ни таланта, ни вдохновения, ни радости, которые не пробудило бы во мне ее любящее прикосновение.
Глава 8. ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО
Первое Рождество после приезда мисс Салливан в Таскамбию стало великим событием. Каждый член семьи приготовил для меня сюрприз, но, что радовало меня больше всего, мы с мисс Салливан тоже приготовили сюрпризы для всех остальных. Тайна, которой мы окружили наши дары, радовала меня несказанно. Друзья старались возбудить мое любопытство написанными на моей руке словами и фразами, которые они обрывали, не закончив. Мы с мисс Салливан поддерживали эту игру, которая научила меня гораздо лучшему чувствованию языка, чем какие-нибудь формальные уроки. Каждый вечер, сидя у камина с пылающими поленьями, мы играли в нашу «угадайку», которая, по мере приближения Рождества, становилась всё более волнующей.
В Сочельник у школьников Таскамбии была своя елка, на которую нас пригласили. В центре класса стояло, все в огнях, прекрасное дерево. Ветви его, отягощенные чудесными странными плодами, мерцали в мягком свете. Это был миг неописуемого счастья. В экстазе я танцевала и прыгала вокруг дерева. Узнав, что для каждого ребенка здесь приготовлен подарок, я очень обрадовалась, и добрые люди, устроившие праздник, разрешили мне раздавать детям эти дары. Поглощенная восторгом этого занятия, я забыла поискать гостинцы, предназначенные мне. Когда же я о них вспомнила, нетерпение мое не знало границ. Я сообразила, что полученные подарки — не те, о которых намекали мои близкие. Моя учительница заверила меня, что подарки будут еще замечательнее. Меня уговорили пока удовольствоваться подарками со школьного дерева и набраться терпения до утра.
В ту ночь, повесив чулок, я долго притворялась спящей, чтоб не пропустить прихода Санта Клауса. Наконец, с новой куклой и белым мишкой в руках, я заснула. На следующее утро я разбудила всю семью моим первым: «Веселого Рождества!» Я обнаружила сюрпризы не только в своем чулке, но и на столе, на всех стульях, у двери и на подоконнике. Право же, я ступить не могла, чтобы не наткнуться на что-то, завернутое в шуршащую бумагу. А когда моя учительница подарила мне канарейку, чаша моего блаженства переполнилась.
Мисс Салливан научила меня заботиться о моем питомце. Каждое утро после завтрака я готовила ему купание, чистила клетку, чтобы она оставалась опрятной и уютной, наполняла кормушки свежими семенами и колодезной водой, вешала на его качели веточку мокричника. Малыш Тим был таким ручным, что вспрыгивал мне на палец и клевал засахаренные вишни из моей руки.
Как-то утром я оставила клетку на подоконнике, а сама пошла за водой для ванночки Тима. Когда я возвращалась, мимо меня из двери проскользнула кошка, задев меня пушистым боком. Просунув руку в клетку, я не почувствовала легкого трепета крылышек Тима, его острые когтистые лапки не вцепились в мой палец. И я поняла, что больше никогда не увижу моего милого маленького певца…
Глава 9. ОСЯЗАНИЕ ИСТОРИИ
Следующим важным событием в моей жизни стал визит в Бостон, в институт для слепых, в мае 1888 года. Помню, как вчера, приготовления, наш отъезд с матушкой и моей учительницей, само путешествие и, наконец, прибытие в Бостон. Как отличалась эта поездка от той, в Балтимор, двумя годами ранее! Я уже не была беспокойным возбужденным существом, требовавшим внимания от всех едущих в поезде, чтобы не заскучать. Я тихо сидела рядом с мисс Салливан, сосредоточенно вникая во все, что она мне рассказывала о проносящихся за окном: прекрасной реке Теннеси, необозримых хлопковых полях, холмах и лесах, о смеющихся неграх, на станциях махавших нам с перронов, а между станциями разносивших по вагонам восхитительные шарики воздушной кукурузы. С противоположного сиденья уставилась на меня бусинами глаз моя тряпичная кукла Нэнси, в новом платьице из клетчатого ситца и летней шляпке с оборочками. Иногда, отвлекшись от рассказов мисс Салливан, я вспоминала о существовании Нэнси и брала ее на руки, но чаще успокаивала совесть, говоря себе, что она, наверное, спит.
Поскольку у меня больше не будет случая упомянуть о Нэнси, мне хочется здесь рассказать о грустной судьбе, постигшей ее вскоре после нашего приезда в Бостон. Она вся была измазана землей, из-за песочных пирожков, которыми я ее усиленно кормила, хотя Нэнси никогда не проявляла к ним особой склонности. Прачка в институте Перкинса тайком взяла ее, чтобы искупать. Это, однако, оказалось бедной Нэнси не по силам. Когда я увидела ее в следующий раз, она представляла собой бесформенную кучу тряпок, неузнаваемую, если бы не две бусины глаз, укоризненно на меня глядевших.
Наконец поезд прибыл на Бостонский вокзал. Это было волшебной сказкой, ставшей явью. Сказочное «когда-то» превратилось в «сейчас», а то, что называлось «в дальней стороне», оказалось «здесь».
Не успели мы приехать в Перкинсовский институт, как я уже завела себе друзей среди маленьких слепых детей. Меня несказанно обрадовало, что они знают «ручную азбуку». Что за наслаждение было беседовать с другими на своем языке! До тех пор я была иностранкой, разговаривавшей через переводчика. Мне, впрочем, понадобилось некоторое время для осознания того, что мои новые друзья слепые. Я знала, что, в отличие от остальных людей, видеть я не могу, но поверить не могла, что эти милые приветливые дети, окружившие меня и весело включившие в свои игры, тоже слепы. Я вспоминаю удивление и боль, которые почувствовала, заметив, что они, как и я, кладут руки поверх моих во время наших разговоров и что они читают книги пальцами. Хотя мне рассказывали об этом ранее, хотя я знала о своих лишениях, я смутно подразумевала, что, раз они могут слышать, то наверняка должны обладать чем-то вроде «второго зрения». Я была совершенно не готова обнаружить одного ребенка, потом другого, потом третьего, лишенных этого драгоценного дара. Но они были так счастливы и довольны жизнью, что сожаления мои растаяли в общении с ними.
Один день, проведенный со слепыми детьми, дал мне почувствовать себя в новой обстановке — совсем как дома. Дни пролетали быстро, и каждый новый день приносил мне все новые приятные переживания. Я никак не могла поверить, что за стенами института существует большой неизведанный мир: для меня Бостон был началом и концом всего сущего.
Находясь в Бостоне, мы побывали на холме Банкер-хилл, и там я получила свой первый урок истории. Рассказ о храбрецах, отважно сражавшихся на месте, где мы теперь стояли, взволновал меня чрезвычайно. Я влезла на монумент, пересчитала все его ступени и, карабкаясь все выше и выше, раздумывала о том, как залезали солдаты на эту длинную лестницу, чтобы стрелять в стоящих внизу.
На следующий день мы отправились в Плимут. Это было мое первое путешествие по океану, первая поездка на пароходе. Сколько же было там жизни — и движения! Однако, приняв рокот машин за гром грозы, я расплакалась, боясь что, если пойдет дождь, мы не сможем устроить пикник. Больше всего в Плимуте меня заинтересовал утес, к которому пристали пилигримы, первые переселенцы из Европы. Я смогла потрогать его руками и, наверное, поэтому прибытие пилигримов в Америку, их труды и великие дела стали для меня живыми, родными. Я потом часто держала в руках маленькую модель «Утеса Пилигримов», которую какой-то добрый джентльмен подарил мне там, на холме. Я ощупывала его изгибы, расщелинку в центре и вдавленные цифры «1602» — и в голове у меня мелькало все, что я знала об этой чудесной истории с переселенцами, высадившимися на диком берегу.
Как разыгрывалось мое воображение от великолепия их подвига! Я их обожала, считая самыми храбрыми и самыми добрыми людьми. Годы спустя я была очень удивлена и разочарована, узнав о том, как преследовали они других людей. Это заставляет нас сгорать от стыда, даже славословя их мужество и энергию.
Среди многих друзей, встреченных мною в Бостоне, были мистер Уилльям Эндикотт и его дочь. Их доброта ко мне стала зернышком, из которого проросло в дальнейшем множество приятных воспоминаний. Мы посетили их красивый дом в Беверли-Фармс. С восторгом вспоминаю, как я прошлась по их розарию, как их собаки, огромный Лео и маленький курчавый и длинноухий Фриц, подошли познакомиться со мной, как Нимрод, самый быстрый конь, тыкался носом в мои руки в поисках сахара. Я также вспоминаю пляж, где впервые играла в песочке, плотном и гладком, сосем не похожем на рыхлый, колючий, смешанный с ракушками и лохмотьями водорослей песок в Брюстере. Мистер Эндикотт рассказал мне о больших кораблях, отплывающих из Бостона в Европу. Я много раз после этого виделась с ним, и он всегда оставался мне добрым другом. Я всегда думаю о нем, когда называю Бостон «Городом добрых сердец».
Глава 10. ЗАПАХ ОКЕАНА
Перед закрытием Перкинсовского института на лето было решено, что мы с моей учительницей проведем каникулы в Брюстере, на мысе Код, у миссис Хопкинс, нашего дорогого друга.
До той поры я все время жила в глубине материка и никогда не вдыхала ни глотка соленого морского воздуха. Однако в книжке «Наш мир» я прочитала описание океана и преисполнилась изумлением и нетерпеливым желанием коснуться океанской волны и ощутить рев прибоя. Мое детское сердечко возбужденно забилось, когда я поняла, что мое заветное желание вскоре сбудется.
Едва мне помогли переодеться в купальный костюм, я вскочила с теплого песка и бесстрашно бросилась в прохладную воду. Я ощутила колыхание мощных волн. Они вздымались и опускались. Живое движение воды пробудило во мне пронзительную трепетную радость. Внезапно мой экстаз перешел в ужас: моя нога ударилась о камень, а в следующее мгновенье волна захлестнула мне голову. Я вытянула руки вперед, стремясь найти хоть какую-то опору, но сжимала в ладонях только воду и обрывки водорослей, которые волны швыряли мне в лицо. Все мои отчаянные усилия были тщетны. Это было страшно! Надежная твердая почва выскользнула у меня из-под ног, и все — жизнь, тепло, воздух, любовь — куда-то скрылось, заслоненное буйной всеобъемлющей стихией… Наконец океан, вволю потешась новой своей игрушкой, выбросил меня обратно на берег, и в следующую минуту я была заключена в объятья моей учительницы. О, это уютное долгое ласковое объятье! Как только я достаточно оправилась от испуга, чтобы заговорить, я тут же потребовала ответа: «Кто положил в эту воду столько соли?»
Придя в себя после первого пребывания в воде, я сочла, что самое прекрасное развлечение — сидеть в купальнике на большом камне в черте прибоя и ощущать накат волны за волной. Разбиваясь о камни, они осыпали меня брызгами с головы до ног. Я чувствовала шевеление гальки, легкие удары камешков, когда волны швыряли свой немалый вес на берег, сотрясавшийся под их неистовой атакой. Воздух дрожал от их натиска. Валы откатывались, чтобы собрать силы для нового порыва, и я, напряженная, очарованная, всем телом ощущала мощь мчащейся на меня водной лавины.
Мне каждый раз стоило большого труда покинуть океанский берег. Терпкость чистого и вольного, ничем не загрязненного воздуха была сродни спокойному неторопливому глубокому размышлению. Ракушки, галька, обрывки водорослей со вцепившимися в них крохотными морскими животными никогда не теряли для меня своего очарования. Однажды мисс Салливан привлекла мое внимание к странному созданию, которое она поймала, когда оно нежилось на мелководье. Это был краб. Я ощупала его и нашла удивительным, что он носит свой домик на спине. Я решила, что из него, пожалуй, выйдет отличный друг, и не оставила мисс Салливан в покое, пока она не поместила его в норку возле колодца, где, я не сомневалась, он будет в полной безопасности. Однако на следующее утро, придя туда, увы, я обнаружила, что мой краб исчез. Никто не знал, куда он делся. Мое разочарование было горьким, но мало-помалу я осознала, что неразумно и жестоко насильно выхватывать бедное существо из его стихии. А еще чуть погодя мне стало радостно при мысли о том, что, быть может, он вернулся в родное море.
Глава 11. БОЛЬШАЯ ОХОТА
Осенью я вернулась домой, с душой и сердцем, переполненными радостными воспоминаниями. Перебирая в памяти разнообразие впечатлений от пребывания на Севере, я и поныне поражаюсь этому чуду. Казалось, это было начало всех начал. К моим ногам легли сокровища нового прекрасного мира, я наслаждалась новизной удовольствий и знаний, получаемых на каждом шагу. Я вживалась во все. Я ни минуты не пребывала в покое. Моя жизнь была полна движения, как у тех крохотных насекомых, что вмещают весь свой век в один день. Я повстречала множество людей, разговаривавших со мной, чертя знаки на моей руке, после чего совершалось чудо!.. Бесплодная пустыня, где я прежде жила, вдруг расцвела, как розарий.
Несколько последующих месяцев я провела с семьей в нашем летнем коттедже, расположенном в горах, в 14 милях от Таскамбии. Неподалеку находился заброшенный карьер, где когда-то добывали известняк. Три игривых ручейка стекали от горных ключей вниз, сбегая веселыми водопадами с камней, пытающихся преградить им путь. Вход в карьер зарос высокими папоротниками, которые сплошь покрывали известняк склонов, а местами преграждали потокам путь. Густой лес поднимался до самой вершины горы. Там росли и огромные дубы, и роскошные вечнозеленые деревья, стволы которых напоминали мшистые колонны, а с ветвей свисали гирлянды плюща и омелы. Еще там росла дикая хурма, от которой струился, проникая в каждый уголок леса, сладкий аромат, неизъяснимо радующий сердце. В нескольких местах от дерева к дереву протянулись лозы дикого мускатного винограда, создавая беседки для бабочек и других насекомых. Какое наслаждение было затеряться летними сумерками в этих зарослях и вдыхать свежие изумительные запахи, поднимавшиеся от земли на исходе дня!
Наш коттедж, имевший вид крестьянской хижины, стоял в необыкновенно красивом месте, на вершине горы, среди дубов и сосен. Маленькие комнатки располагались по обе стороны длинного открытого холла. Вокруг дома была широкая площадка, по которой свободно гулял горный ветер, напоенный душистыми ароматами леса. Большую часть времени мы с мисс Салливан проводили на этой площадке. Там мы работали, ели, играли. У задней двери дома росла огромная орешина, вокруг которой было построено крыльцо. Перед домом деревья стояли так близко к окнам, что я могла коснуться их и почувствовать, как ветерок колеблет их ветви, или поймать листья, падающие наземь под осенними резкими порывами ветра.
В Ферн-Кворри — так называлось наше имение — приезжало множество гостей. По вечерам у костра мужчины играли в карты и беседовали об охоте и рыбной ловле. Они рассказывали о своих замечательных трофеях, о том, сколько диких уток и индюков они в последний раз подстрелили, что за «зверскую форелищу» поймали, как выследили хитрейшую лисицу, одурачили ловкого опоссума и нагнали быстрейшего оленя. Наслушавшись их историй, я не сомневалась, что попадись им лев, тигр, медведь или еще какой-нибудь дикий зверь, ему было бы несдобровать.
«Завтра в погоню!» — гремел в горах прощальный клич друзей перед тем, как разойтись на ночь. Мужчины укладывались прямо в холле, перед нашими дверями, и я ощущала глубокое дыхание собак и охотников, спавших на импровизированных постелях.
На рассвете меня будил запах кофе, постукивание ружей, снимаемых со стен, и тяжелые шаги мужчин, расхаживающих по холлу в надежде на самую большую удачу в этом сезоне. Я также могла почувствовать топот коней, на которых они приехали из города. Кони были привязаны под деревьями и, простояв так всю ночь, громко ржали от нетерпения пуститься вскачь. Наконец охотники садились на коней, и, как поется в старинной песне, «бравые охотники, звеня уздечками, под щелканье хлыстов, уносились, гикая и громко вопя, вперед пуская гончих псов».
Позднее мы начинали готовиться к барбекю — жаркому из дичи на открытой решетке над углями. Огонь разжигали на дне глубокой земляной ямы, поверх нее крест-накрест клали большие палки, мясо навешивали на них и поворачивали на вертелах. Вокруг костра сидели на корточках негры и отгоняли длинными ветками мух. Аппетитный запах мяса пробуждал во мне дикий голод, задолго до того, как приходило время садиться за стол.
Когда суета приготовлений к барбекю была в самом разгаре, возвращалась охотничья компания. Они появлялись по двое, по трое, усталые и разгоряченные, лошади были в мыле, утомленные собаки тяжело дышали… Все мрачные, без добычи! Каждый утверждал, что видел, по крайней мере, одного оленя почти рядом. Но как бы ретиво ни гнались за зверем собаки, как бы точно ни прицеливались ружья — хрустнул сучок, или щелкнул курок, и оленя как не бывало. Им везло, подозреваю, в точности как маленькому мальчику, сказавшему, что почти видел кролика, потому что видел его следы. Скоро компания забывала о своем разочаровании. Мы усаживались за стол и принимались не за оленину, а за обычную свинину или говядину.
В Ферн-Кворри у меня был свой пони. Я назвала его Черным Красавцем, потому что прочла книжку с таким названием, и он очень походил на ее героя блестящей черной шерсткой и белой звездочкой на лбу. Я провела множество счастливейших часов, катаясь на нем.
В те утра, когда кататься мне не хотелось, мы с моей учительницей отправлялись бродить по лесам и позволяли себе потеряться среди деревьев и лоз, следуя не по дороге, а по тропкам, проложенным коровами и лошадьми. Часто мы забредали в непроходимые заросли, выбраться из которых могли только в обход. Мы возвращались в коттедж с охапками папоротников, золотарника, лавра и роскошных болотных цветов, встречающихся только на Юге.
Иногда я отправлялась с Милдред и маленькими двоюродными сестрами собирать плоды хурмы. Сама я их не ела, но любила их тонкий аромат и обожала выискивать их в листьях и траве. Еще мы ходили за орехами, и я помогала малышам раскрывать их скорлупу, высвобождая крупные сладкие ядрышки.
У подножья горы проходила железная дорога, и мы любили наблюдать за проносящимися поездами. Случалось, отчаянные паровозные гудки вызывали нас на крыльцо, и Милдред взволнованно сообщала мне, что корова или лошадь забрели на железнодорожные пути. Примерно в миле от нашего дома железная дорога пересекала глубокое узкое ущелье, через которое был перекинут решетчатый мост. Идти по нему было очень трудно, так как шпалы располагались на довольно большом расстоянии друг от друга и были такими узкими, что, казалось, идешь по ножам.
Однажды мы с Милдред и мисс Салливан потерялись в лесу и, после многочасового блуждания, так и не смогли найти обратной тропинки. Внезапно Милдред указала своей маленькой ручкой вдаль и воскликнула: «Вот же мост!» Мы предпочли бы любой другой путь, но уже смеркалось, а решетчатый мост позволял срезать дорогу. Я должна была нащупывать ногой каждую шпалу, чтобы сделать шаг, но не боялась и шла хорошо, пока издали не донеслось пыхтенье паровоза.
«Я вижу поезд!» — воскликнула Милдред, и в следующую минуту он задавил бы нас, если бы мы не спустились вниз по перекладинам. Он пронесся над нашими головами. Я ощутила горячее дыхание машины на своем лице, чуть не задохнувшись от гари и дыма. Поезд грохотал, решетчатая эстакада тряслась и раскачивалась, мне показалось, что вот сейчас мы сорвемся и упадем в пропасть. С невероятным трудом вскарабкались мы опять на пути. Домой мы добрались, когда совсем стемнело, и обнаружили пустой коттедж: вся семья отправилась разыскивать нас.
Глава 12. МОРОЗ И СОЛНЦЕ
После первого моего визита в Бостон я почти каждую зиму проводила на Севере. Как-то я побывала в одной из деревень Новой Англии, окруженной замерзшими озерами и обширными заснеженными полями.
Я вспоминаю свое изумление, когда открыла, что чья-то таинственная рука обнажила деревья и кусты, оставив лишь кое-где случайный сморщенный листок. Птицы улетели, их опустевшие гнезда на голых деревьях были полны снега. Земля словно онемела от этого ледяного прикосновения, душа деревьев спряталась в корнях и там, свернувшись клубочком в темноте, тихо уснула. Вся жизнь словно отступила, затаилась, и даже когда светит солнце, день «съежился, замерз, как будто стал он стар и обескровлен». Пожухлая трава и кусты превратились в букеты сосулек.
А потом настал день, когда зябкий воздух возвестил о грядущем снегопаде. Мы выбежали из дома, чтобы ощутить первое прикосновение к лицу и ладоням крохотных первых снежинок. Час за часом плавно падали они с небесных высот на землю, разглаживая ее все ровнее и ровнее. Снежная ночь опустилась над миром, и наутро знакомый пейзаж едва можно было узнать. Все дороги замело, не осталось ни вехи, ни приметы, нас окружал белый простор со вздымавшимися среди него деревьями.
Вечером поднялся северо-восточный ветер, и снежинки заклубились в яростной круговерти. Мы сидели вкруг большого камина, рассказывали смешные сказки, веселились и совсем позабыли, что находимся посреди унылого безлюдья, отрезанные от остального мира. Ночью ветер свирепствовал с такой силой, что нагнал на меня смутный ужас. Балки скрипели и стонали, ветви окружавших дом деревьев бились в окна и стены.
Три дня спустя снегопад прекратился. Солнце пробилось сквозь тучи и засияло над бескрайней белой равниной. Сугробы самого фантастического вида — курганы, пирамиды, лабиринты — возвышались на каждом шагу.
Сквозь заносы были прокопаны узкие тропинки. Я надела теплый плащ с капюшоном и вышла из дома. Морозный воздух обжег мне щеки. Частью по расчищенным тропинкам, частью преодолевая небольшие сугробы, нам с мисс Саливан удалось добраться до соснового леса за широким пастбищем. Деревья, белые и неподвижные, стояли перед нами, как фигуры мраморного фриза. Не пахло сосновыми иголками. Лучи солнца падали на ветки, осыпавшиеся щедрым бриллиантовым дождем, когда мы их касались. Свет был так пронзителен, что проникал сквозь завесу мрака, окутавшую мои глаза…
Шли дни, и сугробы от солнечного тепла постепенно съеживались, но не успели они растаять, как пронеслась другая снежная буря, так что в течение всей зимы мне так и не пришлось ощутить под ногами голую землю. В промежутке между вьюгами деревья подрастеряли свой бриллиантовый покров, и подлесок совсем обнажился, но озеро не таяло.
Той зимой любимым нашим развлечением было катание на санках. В некоторых местах берег озера круто вздымался. По этим откосам мы и съезжали. Мы садились на санки, мальчишка хорошенько подталкивал нас — и в путь! Вниз, между сугробами, перескакивая рытвины, мы неслись к озеру и затем по его сверкающей поверхности плавно катили к противоположному берегу. Что за радость! Что за блаженное безумие! На один неистовый счастливый миг мы рвали цепь, приковывающую нас к земле, и, взявшись с ветром за руки, ощущали божественный полет!
Глава 13. Я БОЛЬШЕ НЕ МОЛЧУ
Весной 1890 года я научилась говорить.
Мое стремление издавать понятные другим звуки всегда было очень сильным. Я старалась производить голосом шумы, держа одну руку на горле, а другой осязая движение губ. Мне нравилось все способное шуметь, мне нравилось ощущать мурлыканье кошки и лай собаки. Еще я любила держать руку на горле певца или на рояле, когда на нем играли. Перед тем как лишиться зрения и слуха, я быстро выучилась говорить, но после болезни враз перестала разговаривать, потому что не могла себя слышать. Я днями сидела на коленях у матушки, держа руки на ее лице: меня очень развлекало движение ее губ. Я тоже двигала губами, хоть и позабыла, что такое разговор. Близкие рассказали мне, что я плакала и смеялась и какое-то время издавала звуки-слоги. Но это было не средством общения, а потребностью упражнять голосовые связки. Тем не менее, было слово, которое имело для меня смысл, значение которого я помню до сих пор. «Вода» я произносила как «ва-ва». Однако даже оно становилось все менее внятным. Я совсем перестала пользоваться этими звуками, когда научилась рисовать буквы пальцами.
Я давно поняла, что окружающие пользуются способом общения, отличным от моего. Не подозревая, что глухого ребенка можно научить говорить, я испытывала неудовлетворение от методов общения, какими пользовалась. Тот, кто целиком зависит от ручной азбуки, вечно чувствует скованность и ограниченность. Это чувство стало вызывать у меня досаду, осознание пустоты, которую следует заполнить. Мысли мои бились, как птицы, стремящиеся лететь против ветра, но я настойчиво повторяла попытки пользоваться губами и голосом. Близкие старались подавить во мне это стремление, страшась, что оно приведет меня к тяжелому разочарованию. Но я не поддавалась им. Вскоре произошел случай, который привел к прорыву через эту преграду. Я услышала о Рагнхильде Каата.
В 1890 году миссис Лэмсон, одна из учительниц Лоры Бриджмен, только что вернувшаяся из поездки в Скандинавию, пришла навестить меня и рассказала о Рагнхильде Каата, слепоглухонемой норвежской девочке, которая сумела заговорить. Не успела миссис Лэмсон закончить рассказ об успехах Рагнхильды, как я уже загорелась желанием их повторить. Я не успокоюсь, пока моя учительница не повезет меня за советом и помощью к мисс Саре Фуллер, директрисе школы Хораса Манна. Эта очаровательная и милая леди сама предложила меня обучать, к чему мы и приступили 26 марта 1890 года.
Метод мисс Фуллер был следующим: она легонько провела моей рукой по своему лицу и дала мне почувствовать положение своего языка и губ в то время, когда она производила звуки. Я с пылким рвением стала подражать ей и в течение часа выучила артикуляцию шести звуков: М, П, А, С, Т, И. Мисс Фуллер дала мне в общей сложности одиннадцать уроков. Я никогда не забуду удивления и восторга, которые почувствовала, произнеся первое связное предложение: «Мне тепло». Правда, я сильно заикалась, но то была настоящая человеческая речь.
Душа моя, чувствуя прилив новых сил, вырвалась из оков на волю, и посредством этого ломаного, почти символического языка потянулась к миру познания и веры.
Ни одно глухое дитя, пытающееся выговорить слова, никогда им не слышанные, не позабудет упоительного изумления и радости открытия, охвативших его, когда оно произнесло свое первое слово. Только такой человек сможет по-настоящему оценить пыл, с которым я разговаривала с игрушками, камнями, деревьями, птицами или животными, или мой восторг, когда Милдред откликалась мне на зов, или собаки слушались моей команды. Неизъяснимое блаженство — заговорить с другими крылатыми словами, не требующими переводчика! Я говорила, и счастливые думы летели на волю вместе с моими словами, — те самые, которые так долго и так тщетно пытались освободиться из-под власти моих пальцев.
Не стоит полагать, что за такой короткий срок я действительно смогла заговорить. Я научилась только простейшим элементам речи. Мисс Фуллер и мисс Салливан могли понимать меня, но большинство людей не поняло бы ни одного слова из ста, произнесенных мною! Неправда и то, что, выучив эти элементы, я проделала остальную работу сама. Если бы не гений мисс Салливан, если бы не ее настойчивость и энтузиазм, я не продвинулась бы так далеко в овладении речью. Во-первых, мне приходилось работать день и ночь, чтобы меня могли понять хотя бы самые близкие; во-вторых, мне постоянно была необходима помощь мисс Салливан в усилиях четко артикулировать каждый звук и сочетать эти звуки тысячью способов. Даже теперь она каждый день обращает мое внимание на неправильное произношение.
Все учителя глухих знают, каково это, что за мучительный труд. Мне приходилось использовать чувство осязания, чтобы уловить в каждом отдельном случае вибрации горла, движения рта и выражение лица, причем очень часто осязание ошибалось. В таких случаях мне приходилось повторять слова или предложения часами, пока я не ощущала правильное звучание своего голоса. Моим делом было практиковаться, практиковаться, практиковаться. Усталость и уныние нередко угнетали меня, но в следующий момент мысль о том, что скоро я попаду домой и покажу своим родным, чего достигла, подгоняла меня. Я пылко воображала себе их радость от моих успехов: «Теперь моя сестренка меня поймет!» Эта мысль была сильнее всех препятствий. В экстазе я вновь и вновь повторяла: «Я больше не молчу!» Меня изумляло, насколько легче оказалось говорить, а не рисовать знаки пальцами. И я перестала пользоваться ручной азбукой, лишь мисс Салливан и некоторые друзья продолжали применять ее в беседах со мной, как более удобную и быструю, чем чтение по губам.
Пожалуй, здесь я объясню технику пользования ручной азбукой, которая озадачивает людей, редко соприкасающихся с нами. Тот, кто читает мне или говорит со мной, рисует знаки-буквы у меня на руке. Я кладу свою руку на руку говорящего, почти невесомо, чтобы не затруднять его движения. Положение руки, меняющееся каждый миг, так же легко ощущать, как и переводить взгляд с одной точки на другую, — насколько я могу это себе представить. Я не ощущаю каждую букву отдельно, так же, как вы не рассматриваете отдельно каждую букву при чтении. Постоянная практика делает пальцы чрезвычайно гибкими, легкими, подвижными, и некоторые мои друзья передают речь так же быстро, как печатает хорошая машинистка. Разумеется, подобная передача слов по буквам не более осознанна, чем при обычном письме…
Наконец счастливейший из счастливых моментов настал: я возвращалась домой. По дороге я говорила без умолку с мисс Салливан, чтобы совершенствоваться до последней минуты. Не успела я оглянуться, как поезд остановился на станции Таскамбия, где на платформе ждала меня вся моя семья. Глаза мои и теперь наполняются слезами, когда я вспоминаю, как прижала меня к себе матушка, трепещущая от радости, как воспринимала она каждое произносимое мною слово. Маленькая Милдред, вереща от восторга, схватила меня за другую руку и поцеловала, что же касается отца, то он выразил свою гордость долгим молчанием. Сбылось пророчество Исайи: «Холмы и горы запоют пред вами, и деревья будут рукоплескать вам!»
Глава 14. СКАЗКА О ЦАРЕ МОРОЗЕ
Зимой 1892 года ясный небосклон моего детства был вдруг омрачен. Радость покинула мое сердце, и на долгое время им овладели сомнения, тревоги и страхи. Книги утратили для меня всякое очарование, и даже сейчас мысль о тех ужасных днях леденит мое сердце.
Корнем, из которого произросли неприятности, послужил мой маленький рассказ «Царь Мороз», написанный и отосланный мистеру Ананьосу в Перкинсовский институт слепых.
Я написала этот рассказ в Таскамбии, после того, как научилась говорить. Той осенью мы оставались в Ферн-Кворри дольше обычного. Когда мы там были, мисс Салливан описывала мне красоты поздней листвы, и эти описания, должно быть, воскресили в моей памяти рассказ, который когда-то мне прочли, и я запомнила его бессознательно и почти дословно. Мне-то казалось, что я все это «выдумываю», как говорят дети.
Я села за стол и записала свою выдумку. Мысли текли легко и плавно. Слова и образы слетались к кончикам моих пальцев. Фразу за фразой чертила я на брайлевой доске в восторге сочинительства. Теперь, если слова и образы приходят ко мне без усилий, я воспринимаю это как верный признак того, что они не родились в моей голове, а забрели в нее откуда-то извне. И я с сожалением прогоняю этих подкидышей. Но тогда я жадно впитывала все, что читала, без малейшей мысли об авторстве. Даже теперь я не всегда уверена, где пролегает граница между моими собственными чувствами и мыслями и тем, что я вычитала в книгах. Полагаю, это происходит из-за того, что многие мои впечатления приходят ко мне при посредстве чужих глаз и ушей.
Закончив писать свой рассказ, я прочитала его моей учительнице. Вспоминаю, какое удовольствие испытывала я от наиболее красивых пассажей и как сердилась, когда она меня прерывала, чтобы поправить произношение какого-то слова. За обедом сочинение было прочитано всей семье, и родные были поражены моим талантом. Кто-то спросил меня, не прочла ли я это в какой-нибудь книжке. Вопрос очень меня удивил, так как я не имела ни малейшего предположения, чтобы кто-то читал мне нечто подобное. Я сказала: «О нет, это мой рассказ! Я написала его для мистера Ананьоса, ко дню его рождения».
Переписав опус, я отправила его в Бостон. Мне было кем-то предложено заменить название «Осенние листья» на «Царь Мороз», что я и сделала. Я несла письмо на почту с таким чувством, словно лечу по воздуху. Мне и в голову не приходило, как жестоко заплачу я за этот подарок.
Мистера Ананьоса «Царь Мороз» привел в восторг, и он опубликовал рассказ в журнале Перкинсовского института. Счастье мое достигло необозримых высот… откуда я вскоре была сброшена наземь. Я ненадолго приехала в Бостон, когда выяснилось, что рассказ, похожий на моего «Царя Мороза», появился еще до моего рождения под названием «Морозные феи» в книге мисс Маргарет Кэнби «Бёрди и его друзья». Оба рассказа настолько совпадали по сюжету и языку, что стало очевидно: мой рассказ оказался настоящим плагиатом.
Нет ребенка, которому бы довелось больше меня испить из горькой чаши разочарования. Я себя опозорила! Я навлекла подозрения на самых моих любимых! И как могло это случиться? Я ломала себе голову до изнеможения, стараясь вспомнить все, что читала до того, как сочинила «Царя Мороза», но не могла припомнить ничего похожего. Разве что стихотворение для детей «Проказы Мороза», но его я точно в своем рассказе не использовала.
Сначала мистер Ананьос, очень расстроенный, поверил мне. Он был необычайно добр и ласков со мной, и на короткое время тучи рассеялись. Чтобы успокоить его, я старалась быть веселой и нарядиться покрасивее к празднику дня рождения Вашингтона, состоявшемуся вскоре после того, как я узнала грустную новость.
Я должна была представлять Цереру на маскараде, который устраивали слепые девочки. Как хорошо я помню изящные складки своего платья, яркие осенние листья, венчавшие мою голову, злаки и плоды в моих руках… и, среди веселья маскарада, гнетущее ощущение надвигающейся беды, от которого сжималось сердце.
Вечером накануне праздника одна из учительниц Перкинсовского института задала мне вопрос по поводу «Царя Мороза», и я ответила, что мисс Салливан много рассказывала мне о Морозе и его чудесах. Учительница расценила мой ответ как признание, будто я помню историю мисс Кэнби «Морозные феи». Она поспешила сообщить свои умозаключения мистеру Ананьосу. Он в это поверил, или, по меньшей мере, заподозрил, что мисс Салливан и я намеренно украли чужие светлые мысли и передали ему, чтобы добиться его расположения. Меня вызвали отвечать перед комиссией по расследованию, состоявшей из учителей и сотрудников института. Мисс Салливан велено было меня оставить одну, после чего меня стали расспрашивать или, вернее, допрашивать с настойчивой решимостью заставить меня признаться, будто я помню, как мне читали «Морозные феи». Не умея выразить это словами, я в каждом вопросе ощущала сомнения и подозрения, и к тому же чувствовала, что добрый друг мистер Ананьос глядит на меня с упреком. Кровь стучала у меня в висках, сердце отчаянно билось, я едва могла говорить и отвечала односложно. Даже сознание того, что все это — нелепая ошибка, не уменьшало моих страданий. Так что когда мне, наконец, позволили покинуть комнату, я находилась в таком состоянии, что не замечала ни ласки моей учительницы, ни сочувствия друзей, говоривших, что я храбрая девочка и что они мною гордятся.
Лежа той ночью в постели, я плакала, как, надеюсь, плачут немногие дети. Мне было холодно, мне казалось, что я умру, не дожив до утра, и мысль эта меня утешала. Я думаю, что если бы подобная беда пришла ко мне, когда я стала постарше, она сломила бы меня непоправимо. Но ангел забвения унес прочь большую долю печали и всю горечь тех грустных дней.
Мисс Салливан никогда не слышала о «Морозных феях». С помощью доктора Александра Грэхема Белла она тщательно расследовала эту историю и выяснила, что у ее подруги миссис Софии Хопкинс, у которой летом 1888 года мы гостили на мысле Код, в Брюстере, был экземпляр книги мисс Кэнби. Разыскать ее миссис Хопкинс не смогла, но вспомнила, что, когда мисс Салливан уезжала на каникулы, она, пытаясь меня развлечь, читала мне разные книжки, и сборник «Берди и его друзья» среди этих книг был.
Все эти чтения вслух тогда не имели для меня никакого значения. Даже простого начертания знаков-букв было тогда достаточно, чтобы развлечь ребенка, которому почти нечем было развлекаться. Хотя я не помню ничего об обстоятельствах этого чтения, не могу не признать, что всегда старалась запомнить побольше слов, чтобы по возвращении моей учительницы выяснить их значение. Ясно одно: слова из этой книжки неизгладимо запечатлелись в моем сознании, хотя долгое время об этом никто не подозревал. И я — меньше всех.
Когда мисс Салливан вернулась в Брюстер, я не заговорила с ней о «Морозных феях», видимо, потому, что она сразу начала читать со мной «Маленького лорда Фаунтлероя», который вытеснил из моей головы все остальное. Тем не менее факт остается фактом, однажды мне читали книгу мисс Кэнби, и, хотя прошло много времени и я о ней забыла, она вернулась ко мне так естественно, что я не заподозрила в ней дитя чужого воображения.
В этих моих несчастьях я получила много писем с выражением сочувствия. Все мои самые любимые друзья, за исключением одного, остались доныне моими друзьями.
Сама мисс Кэнби написала мне: «Когда-нибудь, Елена, ты сочинишь замечательную сказку, и она послужит многим помощью и утешением». Этому доброму пророчеству не суждено было сбыться. Я больше никогда не играла словами ради наслаждения. Более того, с тех пор меня вечно мучает страх: а вдруг то, что я написала, не мои слова? Долгое время, когда я писала письма, даже к матушке, меня охватывал внезапный ужас, и я вновь и вновь перечитывала написанное, чтобы убедиться в том, что не вычитала все это в книжке. Если бы не настойчивое ободрение мисс Салливан, думаю, я прекратила бы писать вообще.
Привычка усваивать понравившиеся мне чужие мысли и затем выдавать их за свои проявляется во многих моих ранних письмах и первых попытках сочинительства. В сочинении о старых городах Италии и Греции я заимствовала красочные описания из многих источников. Я знала, как любит мистер Ананьос античность, знала о его восторженном восхищении искусством Рима и Греции. Поэтому я собрала из разных прочитанных мною книг все стихи и истории, какие только могла, чтобы доставить ему удовольствие. Говоря о моем сочинении, мистер Ананьос сказал: «Мысли эти поэтичны по своей сути». Но я не понимаю, как мог он предположить, что слепой и глухой одиннадцатилетний ребенок способен был их придумать. Тем не менее, я не считаю, что лишь потому, что я не сама сочинила все эти мысли, мое сочинение было совсем лишено интереса. Это показало мне самой, что я могу выразить свое понимание красоты в ясной и живой манере.
Эти ранние сочинения были некоей умственной гимнастикой. Как все юные и неопытные, путем впитывания и подражания, я училась перелагать мысли в слова. Все, что мне нравилось в книжках, я вольно или невольно усваивала. Как сказал Стивенсон, молодой писатель инстинктивно копирует все, чем восхищается, и меняет предмет своего восхищения с поразительной гибкостью. Только после многих лет подобной практики великие люди научаются управлять легионом слов, распирающих им голову.
Боюсь, что во мне этот процесс еще не закончился. С уверенностью могу сказать, что я далеко не всегда в состоянии отличить собственные мысли от прочитанных, потому что чтение стало сутью и тканью моего разума. Получается, что почти все, что я пишу, — лоскутное одеяло, все сплошь в безумных узорах, вроде тех, которые у меня получались, когда я училась шить. Эти узоры составлялись из разных обрывков и обрезков, среди которых встречались прелестные клочки шелка и бархата, но преобладали лоскутья более грубой ткани, далеко не столь приятные на ощупь. Так же и мои сочинения состоят из неуклюжих собственных заметок с вкраплениями ярких мыслей и зрелых суждений прочитанных мною авторов. Мне кажется, что главной трудностью сочинительства является то, как языком ума, образованного и ясного, изложить наши запутанные понятия, смутные чувства и незрелые мысли. Ведь мы и сами представляем собой всего лишь сгустки инстинктивных порывов. Пытаться их описать — все равно, что стараться сложить китайскую головоломку. Или сшить то же красивое лоскутное одеяло. В голове у нас имеется рисунок, который мы хотим передать словами, но слова не влезают в заданные границы, а если влезают, то не соответствуют общему узору. Однако мы продолжаем стараться, поскольку знаем, что другим это удалось, и мы не хотим признать свое поражение.
«Нет способа стать оригинальным, им нужно родиться», — сказал Стивенсон, и хоть, может, я не оригинальна, но все же, надеюсь, однажды мои собственные мысли и переживания выйдут на белый свет. А тем временем я буду верить, надеяться и настойчиво трудиться, и не позволю горькой памяти о «Царе Морозе» мешать моим стараниям.
Это грустное испытание пошло мне на пользу: оно заставило меня задуматься о некоторых проблемах сочинительства. Единственное, о чем я жалею, — так о том, что оно привело к утрате одного из моих самых драгоценных друзей, мистера Ананьоса.
После публикации «Истории моей жизни» в «Домашнем журнале для женщин» мистер Ананьос заявил, что считал меня невиновной в истории с «Царем Морозом». Он писал, что комиссия по расследованию, перед которой я тогда предстала, состояла из восьми человек: четырех слепых и четырех зрячих. Четверо из них, по его словам, решили, будто бы я знала о том, что мне прочли рассказ мисс Кэнби, четверо других придерживались противоположной точки зрения. Мистер Ананьос утверждал, что сам он отдал голос в поддержку благоприятного для меня решения.
Как бы то ни было, какую бы сторону он ни поддерживал, но когда я вошла в комнату, где мистер Ананьос так часто держал меня на коленях и, позабыв о делах, смеялся моим шалостям, я почувствовала враждебность в самой атмосфере, и последующие события подтвердили это мое первое впечатление. В течение двух лет мистер Ананьос, казалось, верил, что мы с мисс Салливан невиновны. Затем он явно изменил свое благоприятное мнение, не знаю почему. Не знаю я также деталей расследования. Я так и не узнала даже имен членов этого судилища, которые со мной почти не разговаривали. Я была слишком возбуждена, чтобы замечать что-либо, слишком испугана, чтобы задавать вопросы. Право же, я едва помню, что говорила тогда сама.
Я представила здесь такой подробный рассказ об истории со злополучным «Царем Морозом», потому что она стала весьма важной вехой в моей жизни. Для того, чтобы не оставалось никаких недоразумений, я постаралась изложить все факты, как они мне представляются, не думая ни о том, чтобы защитить себя, ни о том, чтобы переложить вину на кого-то другого.
Глава 15. ЧЕЛОВЕКУ ИНТЕРЕСЕН ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК
Лето и зиму, последовавшие за историей с «Царем Морозом», я провела со своей семьей в Алабаме. С восторгом вспоминаю я этот приезд. Я была счастлива.
«Царь Мороз» был позабыт.
Когда земля покрылась красно-золотым ковром осенних листьев, а зеленые гроздья мускатного винограда, увивавшие беседку в дальнем конце сада, солнце превратило в золотисто-коричневые, я начала набрасывать беглый очерк моей жизни.
Я все еще продолжала с чрезмерной подозрительностью относиться ко всему, что пишу. Мысль о том, что написанное мною может оказаться «не совсем моим», терзала меня. Никто не знал об этих страхах, кроме моей учительницы. Мисс Салливан утешала меня и помогала любым способом, который только могла придумать. В надежде восстановить мою уверенность в себе она убедила меня написать для журнала «Спутник юности» краткий очерк моей жизни. Было мне тогда 12 лет от роду. Оглядываясь на муки, которые я претерпела при сочинении этого маленького рассказа, могу сегодня лишь предположить, что какое-то провидение пользы, могущей проистечь из этого предприятия, заставило меня не бросить начатое.
Поощряемая моей учительницей, понимавшей, что если я буду настойчиво продолжать писать, то вновь обрету почву под ногами, я писала робко, боязливо, но решительно. До поры написания и провала «Царя Мороза» я жила бездумной жизнью ребенка. Теперь мои мысли обратились вовнутрь, и я узрела невидимое миру.
Главным событием лета 1893 года была поездка в Вашингтон на инаугурацию президента Кливленда, а также посещение Ниагары и Всемирной Выставки. При таких обстоятельствах мои занятия постоянно прерывались и откладывались на много недель, так что связно рассказать о них почти невозможно.
Многим кажется странным, что я могла быть потрясена красотами Ниагары. Они всегда интересуются: «Что для вас значат эти красоты? Вы же не можете видеть волны, накатывающиеся на берег, или слышать их рокот. Что же дают они вам?» Самый простой и очевидный ответ — все. Я не могу постичь их или дать им определение, так же, как не могу постичь или дать определение любви, религии, добродетели.
Летом мы с мисс Салливан посетили Всемирную Выставку в сопровождении д-ра Александра Грэхема Белла. С искренним восторгом вспоминаю я те дни, когда тысячи детских фантазий стали реальностью. Каждый день я воображала, что совершаю кругосветное путешествие. Я видела чудеса изобретений, сокровища ремесел и промышленности, все достижения во всех областях человеческой жизни прошли под кончиками моих пальцев. Мне нравилось посещать центральный выставочный павильон. Он походил на все сказки «Тысячи и одной ночи» вместе взятые, столько там было чудесного. Вот Индия с ее причудливыми базарами, статуями Шивы и богов-слонов, а вот страна пирамид, сосредоточенная в макете Каира, далее — лагуны Венеции, по которым мы катались в гондоле каждый вечер, когда фонтаны освещались иллюминацией. Еще я поднималась на борт корабля викингов, находившегося неподалеку от маленькой пристани. Я уже побывала на борту военного корабля в Бостоне, и мне было теперь интересно посмотреть, как устроен корабль викингов, представить себе, как они, бестрепетно встречая и шторм, и штиль, пускались в погоню с криком: «Мы владыки морей!» — и сражались мышцами и разумом, полагаясь только на себя, вместо того чтобы уступить место тупой машине. Так бывает всегда: «человеку интересен лишь человек».
Неподалеку от этого корабля находилась модель «Санта-Марии», которую я также осмотрела. Капитан показал мне каюту Колумба и его конторку, на которой стояли песочные часы. Этот маленький инструмент произвел на меня наибольшее впечатление: я представила себе, как усталый герой-мореплаватель смотрел на падающие одна за другой песчинки, в то время как отчаявшиеся матросы замышляли его убить.
М-р Хигинботам, президент Всемирной Выставки, любезно дал мне разрешение дотрагиваться до экспонатов, и я с ненасытной пылкостью, подобно Пиззарро, захватившему сокровища Перу, принялась перебирать и ощупывать все чудеса ярмарки. В разделе, представлявшем Мыс Доброй Надежды, я познакомилась с добыванием алмазов. Где только было возможно, я трогала машины во время работы, чтобы получить более точное представление о том, как драгоценные камни взвешивают, гранят и полируют. Я опустила руку в промывочную машину… и нашла там единственный алмаз, как пошутили гиды, когда-либо найденный на территории Соединенных Штатов.
Д-р Белл повсюду ходил с нами и в своей обаятельной манере описывал наиболее интересные экспонаты. В павильоне «Электричество» мы осмотрели телефоны, фонографы и другие изобретения. Д-р Белл объяснил мне, каким образом можно пересылать по проводам сообщение, презирая расстояние и обгоняя время, как Прометей, укравший огонь небес. Мы посетили также павильон «Антропология», где меня заинтересовали грубо отесанные камни, простые памятники жизни невежественных детей природы, чудом уцелевшие, тогда как многие монументы царей и мудрецов рассыпались во прах. Еще там были египетские мумии, но от прикосновения к ним я уклонилась.
Глава 16. ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
До октября 1893 года я изучала различные предметы самостоятельно и беспорядочно. Я читала об истории Греции, Рима и Соединенных Штатов, учила французскую грамматику по книжкам с выпуклым шрифтом, и так как уже немножко знала французский, то часто забавлялась, составляя в уме короткие фразы с новыми словами, по возможности игнорируя при этом правила. Я также попробовала без посторонней помощи освоить французское произношение. Конечно, было нелепо браться за такую большую работу моими слабыми силами, но это развлекало в дождливые дни, и таким путем я приобрела достаточное знание французского, чтобы с удовольствием читать басни Лафонтена и «Мнимого больного».
Я также потратила значительное время на улучшение своей речи. Я читала и пересказывала вслух мисс Салливан отрывки из моих любимых стихотворений, а она исправляла мое произношение. Однако лишь в октябре 1893 года, справившись с усталостью и волнениями от посещения Всемирной Выставки, я начала получать уроки по специальным предметам в отведенные для них часы.
В это время мы с мисс Салливан гостили в Халтоне (Пенсильвания), в семье м-ра Уильяма Уэйда. Их сосед, м-р Айрон, был хорошим латинистом; он дал согласие на то, что я стану заниматься под его руководством. Я вспоминаю на редкость милый характер этого человека и его обширные знания. В основном он учил меня латыни, но часто помогал и с арифметикой, которую я находила скучной. М-р Айрон прочел мне также «In memoriam» Теннисона. Я много читала книг до этого, но никогда не рассматривала их с критической точки зрения. Впервые я поняла, что означает узнавать автора, его стиль, как я узнаю пожатие дружеской руки.
Поначалу я неохотно учила латинскую грамматику. Мне казалось нелепым тратить время, анализируя каждое встречающееся слово (существительное, родительный падеж, единственное число, женский род), когда его значение ясно и понятно. Но красота этого языка стала доставлять мне истинное наслаждение. Я развлекалась, читая отрывки на латыни, выхватывая отдельные слова, которые понимала, и стараясь догадаться о смысле всей фразы.
По-моему, нет ничего прекраснее, чем мимолетные, ускользающие образы и чувства, которые преподносит нам язык, когда мы только начинаем с ним знакомиться. Мисс Салливан сидела рядом со мной на уроках и чертила на моей руке по буквам все, что говорил м-р Айрон. Я только-только начала читать «Галльскую войну» Цезаря, когда пришла пора возвращаться в Алабаму.
Глава 17. ДУЮТ ВЕТРА С ЧЕТЫРЕХ СТОРОН
Летом 1894 года я приняла участие в съезде Американской ассоциации поддержки обучения глухих устной речи, происходившем в Чотокве. Там было решено, что я отправлюсь в Нью-Йорк, в школу Райта-Хьюмейсона. Я поехала туда в октябре, в сопровождении мисс Салливан. Эта школа была выбрана специально для того, чтобы использовать высшие достижения в области вокальной культуры и обучения чтению по губам. Кроме этих предметов, в течение двух лет я изучала в школе арифметику, географию, французский и немецкий.
Мисс Рими, моя учительница немецкого, умела пользоваться ручной азбукой, и, после того, как я приобрела некоторый словарный запас, мы с ней при каждой возможности разговаривали по-немецки. Через несколько месяцев я могла понимать почти все, что она говорила. Еще до окончания первого года учебы в этой школе я с восторгом читала «Вильгельма Телля». Пожалуй, в немецком я преуспела больше, чем в других предметах. Французский давался мне хуже. Его я изучала с мадам Оливье, не знавшей ручной азбуки, поэтому ей приходилось давать мне объяснения устно. Я с трудом могла читать по ее губам, так что мое продвижение в этом было куда медленнее. Тем не менее, мне вновь довелось прочитать «Мнимого больного», и это было забавно, хотя не так увлекательно, как «Вильгельм Телль».
Прогресс мой в освоении устной речи и чтения по губам оказался не таким быстрым, как учителя и я надеялись и ждали. Я стремилась говорить, как другие люди, и учителя считали, что это вполне возможно. Однако, несмотря на упорную и тяжкую работу, цели своей мы не вполне достигли. Полагаю, мы слишком высоко метили. Я продолжала относиться к арифметике как к сети ловушек и капканов и балансировала на грани догадок, отвергая, к вящему неудовольствию учителей, широкую дорогу логических рассуждений. Если мне не удавалось догадаться, каким должен быть ответ, я делала поспешные выводы, и это, вдобавок к моей тупости, усугубляло трудности.
Впрочем, хоть эти разочарования временами и приводили меня в уныние, я с неослабевающим интересом продолжала другие занятия. Особенно привлекала меня физическая география. Какая радость была узнавать тайны природы: как, согласно яркому выражению из Ветхого Завета, дуют ветра с четырех сторон небес, как пары восходят ввысь от четырех концов земли, как реки пробивают путь сквозь скалы, и горы корнями опрокидываются, и каким образом человек может преодолеть силы, большие, чем он.
Два года в Нью-Йорке были счастливыми, я оглядываюсь на них с истинным удовольствием. Особенно запомнились мне ежедневные прогулки, на которые отправлялись мы в Центральный парк. Я всегда радовалась встрече с ним, любила, когда мне его всякий раз описывали. Каждый день из девяти месяцев моей жизни в Нью-Йорке парк был по-разному красивым.
Весной нас водили на экскурсии по всяким интересным местам. Мы плавали по Гудзону, бродили по его зеленым берегам. Мне нравились простота и дикое величие базальтовых столбов. Среди мест, которые я посетила, были Вест Пойнт, Тарритаун, дом Вашингтона Ирвинга. Там прошлась я по воспетой им «Сонной лощине».
Преподаватели Райт-Хьюмейсонской школы постоянно думали о том, каким путем обеспечить своим ученикам преимущества, которыми пользуются те, кто не лишен слуха. Они всеми силами стремились максимально пробудить немногие дремлющие воспоминания малышей и вывести их из темницы, куда их загнали обстоятельства.
Еще до того, как я покинула Нью-Йорк, светлые дни были омрачены второй величайшей печалью, которую я когда-либо испытала. Первой была смерть отца. А вслед за ним умер м-р Джон Сполдинг из Бостона. Лишь те, кто знал и любил его, могут понять, какое значение имела для меня дружба с ним. Он был необыкновенно добр и ласков со мной и мисс Салливан, да и всех остальных делал счастливыми, в своей милой ненавязчивой манере…
Пока мы чувствовали, что он с интересом следит за нашей работой, мы не теряли бодрости и мужества. Его уход образовал в нашей жизни пустоту, которая никогда больше не заполнилась.
Глава 18. МОИ ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
В октябре 1896 года я поступила в Кембриджскую школу для молодых леди, чтобы подготовиться к поступлению в колледж Рэдклифф.
Когда я была маленькой, во время визита в Уэллсли, я изумила своих друзей заявлением: «Когда-нибудь я поступлю в колледж… и непременно в Гарвард!» Когда меня спросили, почему не в Уэллсли, я ответила, потому что там только девочки. Мечта поступить в колледж постепенно переросла в жгучее желание, которое побудило меня, несмотря на открытое противодействие многих верных и мудрых друзей, вступить в состязание с девушками, обладающими зрением и слухом. К тому времени, как я покинула Нью-Йорк, это стремление стало ясной целью: было решено, что я отправлюсь в Кембридж.
У тамошних преподавателей не было никакого опыта обучения подобных мне учеников. Единственным средством моего с ними общения было чтение с губ. В первый год мои занятия включали английскую историю, английскую литературу, немецкий язык, латынь, арифметику и сочинения на свободные темы. До тех пор я никогда не изучала систематически курс какого-то предмета, но была хорошо натаскана в английском мисс Салливан, и моим преподавателям скоро стало ясно, что по этому предмету мне никакой особой подготовки не требуется, кроме как критического анализа книг, предписанных программой. У меня было также основательно начато изучение французского, я полгода изучала латынь, но лучше всего, несомненно, была знакома с немецким языком.
Однако, несмотря на все эти преимущества, в моем продвижении в науках возникли большие сложности. Мисс Салливан не могла переводить мне ручной азбукой все требуемые книги, было очень трудно своевременно получать учебники, исполненные выпуклой печатью, хотя мои друзья в Лондоне и Филадельфии прилагали все силы, чтобы это ускорить. Какое-то время мне приходилось самой переписывать по Брайлю мои латинские упражнения, чтобы заниматься с остальными девушками. Преподаватели вскоре достаточно освоились с моей несовершенной речью, чтобы отвечать на мои вопросы и исправлять мои ошибки. Я не могла делать в классе записи, но писала сочинения и переводы дома на особой пишущей машинке.
Каждый день мисс Салливан отправлялась со мной в классы и с бесконечным терпением писала по буквам на моей руке все, что говорили учителя. В часы домашних занятий ей приходилось объяснять мне значения новых слов, читать и пересказывать мне книги, которых не существовало в выпуклой печати. Нудность этой работы трудно себе представить. Фрау Грёте, учительница немецкого, и м-р Джилман, директор школы, были единственными преподавателями, которые изучили пальцевую азбуку, чтобы заниматься со мною. Никто не понимал лучше дорогой фрау Грёте, насколько медленно и неумело она ею пользовалась. Но по доброте сердца она дважды в неделю на специальных уроках старательно писала у меня на руке свои объяснения, чтобы дать передышку мисс Салливан. Хотя все были очень ко мне добры и полны готовности помогать, только ее верная рука превращала скучную зубрежку в удовольствие.
В тот год я закончила курс арифметики, освежила латинскую грамматику и прочла три главы «Записок о Галльской войне» Цезаря. По-немецки я прочитала, частью собственными пальцами, частью с помощью мисс Салливан, шиллеровские «Песнь колокола» и «Платок», «Путешествие по Гарцу» Гейне, «Минну фон Барнхельм» Лессинга, «О государстве Фридриха Великого» Фрайтага, «Из моей жизни» Гете. Я получала огромное удовольствие от этих книг, особенно от чудесной лирики Шиллера. Мне жаль было расставаться с «Путешествием по Гарцу», с его жизнерадостной шутливостью и прелестными описаниями холмов, покрытых виноградниками, ручьев, журчащих и сверкающих на солнце, затерянных уголков, овеянных легендами, этими седыми сестрами веков давно прошедших и чарующих. Так написать мог лишь тот, для кого природа есть «чувство, и любовь, и вкус».
Часть года м-р Джилман занимался со мной английской литературой. Мы вместе прочитали «Как вам это понравится?» Шекспира, «Речь о примирении с Америкой» Берка и «Жизнь Самуэля Джонсона» Маколея. Тонкие объяснения и обширные познания м-ра Джилмана в литературе и истории облегчили мою работу и сделали ее намного приятнее, чем это могло быть, если б я только механически читала записи классных уроков.
Речь Берка дала мне больше понимания политики, нежели я могла почерпнуть из любой другой книги об этом предмете. Ум мой будоражили картины того тревожного времени, передо мной проходили события и характеры, находившиеся в центре жизни двух противоборствующих наций. По мере того как разворачивалось мощное красноречие Берка, я все больше и больше поражалась, как могли король Георг и его министры не услышать предостережения о нашей победе и своем неминуемом унижении.
Не менее для меня интересной, хоть и совсем по иному, была «Жизнь Самуэля Джонсона». Мое сердце тянулось к этому одинокому человеку, который среди трудов и одолевавших его жестоких страданий тела и души всегда находил доброе слово, протягивал руку помощи бедным и униженным. Я радовалась его успехам, я закрывала глаза на его ошибки и удивлялась не тому, что он их совершал, но тому, что они его не сокрушили. Однако, несмотря на блеск языка Маколея и его изумительную способность излагать обыденное свежо и живо, я временами уставала от его постоянного пренебрежения истиной ради большей выразительности и от того, как навязывает он читателю свое мнение.
В кембриджской школе я впервые в жизни наслаждалась обществом зрячих и слышащих девочек моего возраста. Я жила вместе с несколькими из них в небольшом уютном домике, рядом со школой. Я принимала участие в общих играх, открыв для себя и для них, что слепой тоже может резвиться и дурачиться на снегу. Я ходила с ними на прогулки, мы обсуждали наши занятия и читали вслух интересные книжки, поскольку некоторые из девочек научились разговаривать со мной.
На Рождественские каникулы ко мне приехали моя матушка и сестра. М-р Джилман любезно предложил Милдред учиться в его школе, так что она осталась со мной в Кембридже, и последующие счастливые шесть месяцев мы не расставались. Я радуюсь, вспоминая наши совместные занятия, в которых мы помогали друг другу.
Я держала предварительные испытания в колледж Рэдклифф с 29 июня по 3 июля 1897 года. Они касались познаний в области немецкого языка, французского, латыни и английского, а также греческой и римской истории. Я успешно прошла испытания по всем предметам, а по немецкому и английскому «с отличием».
Возможно, следует рассказать, каким образом проходили эти испытания. Студенту полагалось пройти экзамены за 16 часов: 12 отводилось на проверку элементарных знаний, еще 4 отводилось знаниям повышенным. Экзаменационные билеты выдавались в 9 утра в Гарварде и доставлялись в Рэдклифф посыльным. Каждый кандидат был известен только по номеру. Я была № 233, но в моем случае анонимности не получалось, так как мне разрешили пользоваться пишущей машинкой. Было сочтено целесообразным, чтобы во время экзамена я находилась в комнате одна, так как шум пишущей машинки мог помешать другим девочкам. М-р Джилман зачитывал мне все билеты с помощью ручной азбуки. Во избежание недоразумений у дверей был поставлен дежурный.
В первый день проходил экзамен по немецкому. М-р Джилман сел рядом со мной и сначала прочел мне билет целиком, затем фразу за фразой, а я повторяла вопросы вслух, чтобы удостовериться, что правильно его поняла. Билеты были трудными, и я очень волновалась, когда печатала ответы на машинке. Затем м-р Джилман прочитывал мне то, что я написала, опять-таки с помощью ручной азбуки, при этом я делала нужные, по моему мнению, поправки, и он их вносил. Должна сказать, что в дальнейшем таких условий во время экзаменов у меня больше никогда не было. В Рэдклиффе никто не читал мне ответов после того, как они были написаны, и возможности исправить ошибки мне не предоставлялось, разве что я заканчивала работу задолго до истечения отведенного на нее времени. Тогда в оставшиеся минуты я вносила те исправления, что могла вспомнить, печатая их в конце ответа. Я успешно выдержала предварительные экзамены по двум причинам. Во-первых, потому что никто не перечитывал мне мои ответы, а во-вторых, потому что я проходила испытания по предметам, отчасти знакомым мне до занятий в кембриджской школе. В начале года я там держала экзамены по английскому, истории, французскому и немецкому языкам, для которых м-р Джилман использовал гарвардские билеты предыдущего года.
Все предварительные экзамены проходили подобным же образом. Самым трудным был первый из них. Так что я запомнила день, когда нам привезли билеты по латыни. Вошел профессор Шиллинг и сообщил мне, что я удовлетворительно выдержала экзамен по немецкому. Это меня в высшей степени ободрило, и я печатала дальше свои ответы твердой рукой и с легким сердцем.
Глава 19. ЛЮБОВЬ К ГЕОМЕТРИИ
Свой второй год пребывания в школе я начала исполненная надежд и решимости добиться успеха. Но в первые же несколько недель столкнулась с непредвиденными трудностями. Д-р Джилман согласился с тем, что весь этот год я буду заниматься главным образом точными науками. Так что я с энтузиазмом взялась за физику, алгебру, геометрию и астрономию, а также за греческий и латынь. К несчастью, многие нужные мне книги не были переведены в выпуклую печать к моменту начала занятий. Классы, в которых я занималась, были слишком многолюдны, и преподаватели не могли уделять мне повышенное внимание. Мисс Салливан пришлось читать мне все учебники ручной азбукой и вдобавок переводить слова учителей, так что впервые за одиннадцать лет ее милая рука не в состоянии была справиться с непосильной задачей.
Упражнения по алгебре и геометрии нужно было писать в классе и там же решать задачи по физике. Этого я не могла делать, пока мы не купили брайлевскую доску для письма. Лишенная возможности следить глазами за начертанием на классной доске геометрических фигур, я должна была накалывать их на подушке прямыми и кривыми проволочками, концы которых были загнуты и заострены. Мне приходилось держать в уме буквенные обозначения на фигурах, теорему и заключение, а также весь ход доказательства. Надо ли говорить, какие трудности я при этом испытывала! Теряя терпение и мужество, я проявляла свои чувства способами, о которых мне стыдно вспоминать, особенно потому, что этими проявлениями моего огорчения потом попрекали мисс Салливан, единственного из всех добрых друзей, кто мог сгладить шероховатости и спрямить крутые повороты.
Тем не менее, шаг за шагом трудности мои стали сходить на нет. Прибыли книжки с выпуклой печатью и другие учебные пособия, и я с новым рвением погрузилась в работу, хотя нудные алгебра и геометрия продолжали сопротивляться моим попыткам уяснить их себе. Как я уже упоминала, у меня совершенно не было способностей к математике, тонкости различных ее разделов не были объяснены мне с должной полнотой. Особенно досаждали мне геометрические чертежи и диаграммы, никоим образом я не могла установить связи и отношения между различными их частями, даже на подушечке. Только после занятий с м-ром Кейтом смогла я получить более-менее ясное представление о математических науках.
Я уже начинала упиваться своими успехами, когда произошло событие, все вдруг изменившее.
Незадолго до того, как прибыли мои книжки, м-р Джилман стал пенять мисс Салливан, что я слишком много занимаюсь, и, несмотря на мои бурные возражения, уменьшил объем заданий. В самом начале занятий мы согласились, что, если понадобится, я стану готовиться к колледжу пять лет. Однако успешные экзамены в конце первого года показали мисс Салливан и мисс Харбо, заведовавшей джилмановской школой, что я без труда смогу закончить подготовку в течение двух лет. М-р Джилман сначала согласился на это, но, когда задания стали вызывать у меня затруднения, стал настаивать на том, чтобы я оставалась в школе три года. Меня такой вариант не устраивал, я хотела поступать в колледж со своим классом.
17 ноября я плохо себя чувствовала и не пошла в школу. Мисс Салливан знала, что мое недомогание не очень серьезно, однако м-р Джилман, услышав об этом, решил, что я на грани психического срыва, и внес изменения в расписание, которые сделали невозможным для меня сдачу выпускных экзаменов вместе с моим классом. Разногласия между м-ром Джилманом и мисс Салливан привели к тому, что матушка забрала меня и Милдред из школы.
После некоторой паузы было договорено, что я продолжу занятия под руководством частного преподавателя, м-ра Мертона Кейта из Кембриджа.
С февраля по июль 1898 года м-р Кейт приезжал в Рентэм, в 25 милях от Бостона, где мы с мисс Салливан жили у наших друзей Чемберленов. М-р Кейт осенью занимался со мной по часу пять раз в неделю. Каждый раз он объяснял мне то, что я не поняла на прошлом уроке, и давал новое задание, а с собой уносил греческие упражнения, которые я выполняла дома на пишущей машинке. На следующий раз он возвращал их мне исправленными.
Так шла моя подготовка в колледж. Я обнаружила, что заниматься одной гораздо приятнее, чем в классе. Не было ни спешки, ни недоразумений. У преподавателя хватало времени объяснить мне то, чего я не понимала, так что я училась быстрее и лучше, чем в школе. Математика все еще доставляла мне больше трудностей, чем другие предметы. Я мечтала, чтобы она была хоть вполовину сложнее, чем литература. Но с м-ром Кейтом было интересно заниматься даже математикой. Он побуждал мой ум быть всегда наготове, учил рассуждать четко и ясно, делать выводы спокойно и логично, а не прыгать сломя голову в неизвестность, приземляясь невесть куда. Он был неизменно ласков и терпелив, какой бы тупой я ни казалась, а временами, поверьте, моя тупость истощила бы долготерпение Иова.
29 и 30 июня 1899 года я держала выпускные экзамены. В первый день я сдавала элементарный курс греческого и повышенный латыни, а назавтра — геометрию, алгебру и повышенный курс греческого.
Руководители колледжа не разрешили мисс Салливан зачитывать мне экзаменационные билеты. Одному из преподавателей Перкинсовского института для слепых, м-ру Юджину К. Вайнингу, поручили перевести их мне. М-р Вайнинг был мне незнаком и мог общаться со мной лишь посредством пишущей машинки с азбукой Брайля. Надзиратель за проведением экзаменов также был посторонним и не предпринимал никаких попыток общаться со мной.
Брайлева система хорошо служила, пока дело касалось языков, но когда дошла очередь до геометрии и алгебры, начались трудности. Я была знакома со всеми тремя буквенными системами брайлевой азбуки, применяемыми в США (английской, американской и нью-йоркской точечной). Однако алгебраические и геометрические знаки и символы в этих трех системах отличаются друг от друга. Я, занимаясь алгеброй, пользовалась английским брайлем.
За два дня до экзамена м-р Вайнинг прислал мне написанный брайлем экземпляр старых гарвардских билетов по алгебре. К своему ужасу, я обнаружила, что он написан американским стилем. Я немедленно известила об этом
м-ра Вайнинга и просила его разъяснить мне эти знаки. Я получила обратной почтой другие билеты и таблицу знаков и засела за их изучение. Но в ночь перед экзаменом, воюя с каким-то сложным примером, я поняла, что не могу различить корни, скобки квадратные и круглые. И я, и м-р Кейт были очень встревожены и преисполнены дурных предчувствий относительно завтрашнего дня. Утром мы приехали в колледж пораньше, и м-р Вайнинг подробно объяснил мне систему американских символов Брайля.
Самой большой сложностью, с которой мне пришлось столкнуться на экзамене по геометрии, оказалось то, что я привыкла, чтобы условия задачи мне писали на руке. Печатный «брайль» меня запутал, и я никак не могла уяснить себе, что от меня требуется. Однако, когда я перешла к алгебре, стало еще хуже. Знаки, которые я только что выучила, и которые, как мне казалось, запомнила, смешались в моей голове. Кроме того, я не видела, что печатаю на машинке. М-р Кейт слишком полагался на мои способности решать задачи в уме и не тренировал меня в письменных ответах на билеты. Поэтому я работала очень медленно, снова и снова перечитывая примеры, силясь понять, что от меня требуется. При этом я совсем не была уверена, что правильно читаю все знаки. Я еле держала себя в руках, чтобы сохранить присутствие духа…
Но я никого не виню. Члены руководства колледжа Рэдклифф не сознавали, насколько осложнили они мой экзамен, и не понимали трудностей, с которыми пришлось мне столкнуться. Они невольно поставили на моем пути дополнительные препятствия, и я утешалась тем, что сумела преодолеть их все.
Глава 20. ЗНАНИЕ — СИЛА? ЗНАНИЕ — СЧАСТЬЕ!
Борьба за поступление в колледж завершилась. Однако мы сочли, что мне будет полезно еще год позаниматься с м-ром Кейтом. В результате моя мечта осуществилась лишь осенью 1900 года.
Я помню мой первый день учебы в Рэдклиффе. Я ждала его много лет. Что-то, бывшее гораздо сильнее уговоров друзей и молений моего собственного сердца, побуждало меня испытать себя мерками тех, кто видит и слышит. Я знала, что встречу немало препятствий, но пылко рвалась их преодолеть. Я глубоко прочувствовала слова мудрого римлянина, сказавшего: «Быть изгнанным из Рима означает всего лишь жить вне Рима». Отлученная от столбовых дорог знания, я была вынуждена совершать свое путешествие нехожеными стезями — вот и все. Я знала, что найду в колледже много подруг, которые думают, любят и борются за свои права так же, как и я.
Передо мной открывался мир красоты и света. Я ощущала в себе способность познать его в полной мере. В чудесной стране знаний, казалось мне, я буду так же свободна, как любой другой человек. На ее просторах люди и пейзажи, сказания и обычаи, радости и горести станут для меня живыми ощутимыми передатчиками реального мира. В лекционных залах жили духи великих и мудрых, а профессора казались мне воплощением глубокомыслия. Изменилось ли мое мнение потом? Этого я никому не скажу.
Но вскоре я поняла, что колледж — вовсе не тот романтический лицей, которым он мне представлялся. Грезы, радовавшие мою юность, поблекли при свете обычного дня. Постепенно я начала сознавать, что поступление в колледж имеет свои неудобства.
Первое, что я испытала и испытываю до сих пор, это недостаток времени. Раньше у меня всегда находилось время подумать, поразмышлять, остаться наедине со своими мыслями. Я любила сидеть вечерами одна, погружаясь в сокровенные мелодии моей души, слышимые лишь в минуты тихого покоя, когда слова любимого поэта вдруг тронут потаенную сердечную струну, и она, дотоле немая, отзовется сладостным и чистым звуком. В колледже не оставалось времени предаваться подобным мыслям. В колледж идут учиться, а не думать. Входя во врата учения, любимейшие радости — уединение, книги, игру воображения — оставляешь снаружи, вместе с шорохом сосен. Наверное, мне следовало утешаться тем, что я коплю на будущее сокровища радости, но я достаточно беспечна, чтобы предпочитать нынешнее веселье запасам, собранным на черный день.
В первый год я изучала французский, немецкий, историю и английскую литературу. Я прочла Корнеля, Мольера, Расина, Альфреда де Мюссе и Сен-Бева, а также Гете и Шиллера. По истории я двигалась уверенно, быстро обозрев целый период истории, от падения Римской империи до XVIII столетия, а по английской литературе занималась разбором мильтоновских поэм и «Ареопагитики».
Меня часто спрашивают, каким образом я приспосабливалась к условиям занятий в колледже. В классной комнате я практически была одинока. Преподаватель словно говорил со мной по телефону. Лекции быстро писали мне на руке, и, разумеется, в погоне за скоростью передачи смысла индивидуальность лектора часто терялась. Слова неслись по моей руке, как собаки, преследующие зайца, которого им далеко не всегда удавалось догнать. Но в этом отношении, думаю, я не слишком отличалась от девушек, стремившихся все законспектировать. Если ум занят механической работой улавливания отдельных фраз и перенесения их на бумагу, по-моему, не может оставаться внимания на размышления о предмете лекции или о манере преподнесения материала.
Я не могла делать записи во время лекции, потому что руки мои были заняты слушанием. Обычно я, придя домой, записывала то, что запомнила. Я писала на машинке упражнения, ежедневные задания, контрольные, полугодовые и заключительные экзаменационные работы, поэтому преподавателям не составляло труда разобраться в том, как мало я знаю. Когда я начала изучать латинскую просодию, я придумала и объяснила преподавателю систему знаков, которыми обозначала различные размеры и ударения.
Я пользовалась пишущей машинкой Хаммонда, так как убедилась, что она лучше всего может быть приспособлена под мои специфические нужды. С этой машинкой можно использовать сменные каретки с разными символами и буквами, в соответствии с характером работы. Без этого я, вероятно, не смогла бы учиться в колледже.
Очень немного книг, нужных для изучения разных дисциплин, печатается для слепых. Отсюда возникала необходимость иметь гораздо больше времени для приготовления домашних заданий, чем требовалось другим студенткам. Ручной азбукой все передавалось медленнее, и понимание ее требовало несравненно большего напряжения. Случались дни, когда пристальное внимание, которое я должна была уделять мельчайшим подробностям, ужасно меня угнетало. Мысль о том, что я обязана потратить несколько часов на чтение двух-трех глав, в то время как другие девушки смеются и поют, танцуют и гуляют, вызывала у меня яростный протест. Однако вскоре я брала себя в руки, и моя веселость возвращалась ко мне. Потому что, в конце концов, любой, кто хочет получить истинные знания, обязан карабкаться на гору в одиночку, а раз к вершинам знания нет широкой дороги, я должна проходить путь зигзагом. Я буду оступаться, натыкаться на препятствия, впадать в ожесточение и приходить в себя, стараясь потом сохранить терпение. Я буду топтаться на месте, медленно волочить ноги, обнадеживаться, становиться все увереннее, лезть все выше и видеть все дальше. Еще одно усилие — и я коснусь сияющего облака, синей глубины небес, вершины моих желаний. И в этой своей борьбе я не одинока. М-р Уильям Уэйд и м-р И.И.Аллен, глава Пенсильванского института по обучению слепых, доставали мне множество нужных книг. Их отзывчивость дарила мне, кроме практической пользы, также ободрение.
В последний год своего пребывания в Рэдклиффе я изучала английскую литературу и стилистику, Библию, политическое устройство Америки и Европы, оды Горация и латинские комедии. Класс по изучению композиции английской литературы доставлял мне самое большое удовольствие. Лекции были интересными, остроумными и
увлекательными. Преподаватель м-р Чарльз Таунсенд Коупленд преподносил нам шедевры литературы во всей первоначальной свежести и силе. За краткое время урока мы получали глоток вечной красоты творений старых мастеров, не затуманенных бесцельными интерпретациями и комментариями. Вы могли насладиться тонкостью мысли. Вы всей душой впитывали сладостные громы Ветхого Завета и, забывая о Яхве и Элохиме, отправлялись домой, ощущая, что пред вами блеснул луч бессмертной гармонии, в которой пребывают форма и дух, а истина и красота, как новая почка, дают росток на древнем стволе времени.
Год этот был счастливейшим, потому что я изучала предметы, особенно мне интересные: экономику, литературу елизаветинской эпохи и Шекспира под руководством профессора Джорджа К. Киттреджа, историю и философию под руководством профессора Джозайи Ройса.
При этом колледж вовсе не являлся некими современными Афинами, как мне представлялось издали. Там не встречаешься лицом к лицу с великими мудрецами, даже не ощущаешь живого соприкосновения с ними. Они там присутствуют, это верно, однако в каком-то мумифицированном виде. Мы должны были каждый день извлекать их, замурованных в стенах здания науки, разбирать по косточкам и подвергать анализу, прежде чем убедиться, что имеем дело с подлинными Мильтоном или Исаией, а не с ловкой подделкой. По-моему, ученые часто забывают, что наше наслаждение великими произведениями литературы в большей степени зависит от наших симпатий, чем от понимания. Беда в том, что лишь немногое из их вымученных объяснений застревает в памяти. Разум отбрасывает их, как ветка роняет перезрелый плод. Ведь можно все знать о цветах и корнях, стебле и листьях, обо всех процессах роста и не чувствовать прелести бутона, свежеомытого росой. Вновь и вновь я нетерпеливо вопрошала: «К чему тревожить себя всеми этими объяснениями и предположениями? Они мечутся туда-сюда в моих раздумьях, словно слепые птицы, беспомощно бьющие по воздуху своими слабыми крыльями». Я не хочу этим отвергать тщательное изучение прославленных трудов, которые нам вменяют в обязанность прочесть. Я возражаю лишь против бесконечных комментариев и противоречивой критики, которые доказывают лишь одно: сколько голов, столько умов. Но когда прекрасный преподаватель, вроде профессора Киттреджа, интерпретирует творения мастера — это как прозрение слепого. Живой Шекспир — тут, рядом с вами.
Бывают, однако, моменты, когда мне хочется отмести половину того, что полагается выучить. Потому что перегруженный ум не в силах оценить сокровище, приобретенное дорогой ценой. Невозможно, по-моему, прочесть в один день четыре или пять различных книг на разных языках о совершенно различных предметах и не упустить из вида конечной цели, ради которой это все делается. Когда читаешь торопливо и нервно — имеется в виду подготовка к письменным контрольным и экзаменам, — голова забивается кучей бесполезного хлама. В настоящее время память моя так перегружена непонятной смесью всяческих знаний и идей, что я отчаиваюсь, смогу ли когда-нибудь разложить их по полочкам. Когда теперь я попадаю в эту захламленную область, которая еще недавно была царством моего разума, я чувствую себя слоном в посудной лавке. Тысячи обломков и осколков разнообразных знаний барабанят по мозгу, как градины, а когда я пытаюсь убежать от них, гоблины тем для сочинений и русалки различных ученых дисциплин бросаются за мной в погоню, пока я не начинаю в изнеможении мечтать — да простится мне это грешное желание! — чтобы идолы, которым я поклонялась, рассыпались в мелкие кусочки.
Главным мучением в колледже для меня были экзамены. Хотя я за свою жизнь встречала, не уклоняясь, лицом к лицу, много подобных испытаний и побеждала в них, заставляя грызть землю, но они вновь и вновь поднимали бледные лица и с угрозой смотрели мне в глаза, и я ощущала, что мужество покидает меня, сочась из кончиков пальцев. Дни перед этими жуткими испытаниями я проводила в попытках начинить голову туманными формулами и неудобоваримыми датами — пища весьма неаппетитная — пока желание, чтобы все эти учебники и науки погрузились в глубины морские, не становилось непреодолимым.
Вот этот страшный час наступает, и вам очень повезло, если вы ощущаете, что сможете в нужный момент вызвать из памяти стандартный ответ, который спасет вас в вашем отчаянном усилии. Но до чего же странно и досадно, что как раз в те минуты, когда память и способность тонко разбираться в понятиях нужны вам более всего на свете, эти свойства покидают вас, устремляясь далеко прочь! Факты, которые вы с такой тщательностью копили, куда-то деваются именно в нужный момент.
«Расскажите коротко о Гусе и его трудах». Гус? Кто он такой и что он такого сделал? Имя вроде бы знакомое. Вы тщетно перерываете свой запас исторических фактов, будто роетесь в мешке с лоскутками, выискивая наощупь обрывок шелка. Вы уверены, что этот самый Гус где-то в вашем мозгу, поближе к макушке… вы видели его там, когда просматривали раздел о начале Реформации. Но куда он подевался? Вы процеживаете мешанину революций, смут и ересей, но Гус… где он? Ау! Просто поразительно, сколько вы помните вещей, отсутствующих в экзаменационном билете. В полном отчаянии вы хватаете мешок и опорожняете одним махом. И вот в уголке скромненько сидит этот ваш искомый Гус и безмятежно думает свою думу, не подозревая, какую навлек на вас катастрофу.
Именно в этот момент инспектор объявляет, что ваше время истекло. С чувством глубочайшего отвращения вы запихиваете массу ненужного хлама в угол и отправляетесь домой с головой, полной революционных идей об отмене божественного права профессоров задавать вопросы без согласия вопрошаемых.
Мне сейчас пришло в голову, что последние две или три страницы я заполнила рассуждениями, которые неминуемо навлекут на меня насмешки. Ах, я их заслужила: сваленные мною в кучу метафоры теперь вышагивают, посмеиваясь, мимо меня, тыча пальцами в слонов, побиваемых градом, в бледных русалок научных прений и в прочие неописуемые существа! Пусть издеваются! Все эти словеса точно описывают состояние, в котором я живу. Я подмигну им всем разок с усмешкой, а потом заявлю, что ныне мои представления о колледже изменились.
Романтический ореол развеялся, но во время перехода от мечты к реальности я узнала много такого, что осталось бы неизвестным мне, если б я не получила этот опыт. Одной из таких неизвестных мне ранее вещей стала бесценная наука терпения, которая нас учит, что образование следует получать так, словно мы отправились на прогулку по красивым местам: неторопливо, с благодарностью гостеприимно распахнутым навстречу разнообразным впечатлениям. Тогда знание заполняет вашу душу незаметно, беззвучной волной углубляющейся мысли. «Знание — сила», — говорили древние. Скорее, знание — счастье, потому что глубокие обширные знания — это умение отличать истину от фальши, возвышенное от низменного. Узнать и воспринять мысли и дела, ставшие вехами на пути человеческого прогресса, — значит почувствовать сквозь века биение чьего-то сердца. И если человек не ощущает в этих пульсациях стремления ввысь, он поистине глух к музыке самой жизни.
Глава 21. МОИ ДРУЗЬЯ КНИГИ
До сих пор я, стремясь бегло рассказать о себе, почти ничего не говорила о том, насколько сильно зависела от книг — не только из-за мудрости и удовольствия, которые они доставляют, но и потому, что я черпала из них знания, которые другие получают с помощью глаз и ушей. Воистину, книги для меня значили гораздо больше, нежели для других.
Первый рассказ я прочитала в мае 1887 года, когда мне было семь лет, и с того дня жадно поглощала все печатные страницы, до которых могли добраться мои нетерпеливые пальчики. Как я уже упоминала, в ранние годы моего обучения регулярных занятий со мною не велось, и читала я вне каких-либо программ и правил.
Сначала у меня было несколько книжек с выпуклым шрифтом: хрестоматии для начинающих, сборник сказок для детей и книжка о Земле под названием «Наш мир». Думаю, других и не было, потому что эти я перечитывала вновь и вновь, пока слова не стерлись совсем, и как я ни нажимала пальцами на страницу, различить их не могла. Иногда мне читала мисс Салливан. Она рисовала у меня на руке по буквам коротенькие сказки и стишки, доступные моему пониманию. Однако я предпочитала сама заниматься чтением, а не быть слушательницей.
По-настоящему я начала читать во время моего первого визита в Бостон. Мне позволяли каждый день проводить часть времени в институтской библиотеке, и я бродила от шкафа к шкафу, снимая книги с полок, до которых могла дотянуться. Правда, понимала я тогда смысл всего лишь одного-двух слов на странице, но меня завораживали сами слова, а не смысл прочитанного. По-видимому, мой ум, очень восприимчивый в тот период, удержал сотни отдельных слов и целых предложений, о значении которых я не имела ни малейшего представления. Впоследствии, когда я стала говорить и писать, эти слова и фразы вдруг вырывались у меня, совершенно естественно, и друзья поражались богатству моего словарного запаса. Должно быть, я успела просмотреть отрывки из многих книг (в ту пору я ни одну книжку не дочитывала до конца) и сотни стихотворений, точно так же не понимая в них ни слова. Это продолжалось, пока я не открыла для себя повесть «Маленький лорд Фаунтлерой», первую значительную книжку, которую прочитала осознанно.
Как-то моя дорогая учительница нашла меня в уголке библиотеки, старательно вчитывающуюся в страницы «Алой буквы» Хоторна. Мне было тогда 8 лет. Я помню, как она меня спросила, нравится ли мне маленькая Перл, и объяснила некоторые вызывавшие у меня недоумение слова. Затем она сказала, что принесла мне чудесную книгу о маленьком мальчике, которая, она уверена, понравится мне больше, чем «Алая буква». Мисс Салливан пообещала прочесть ее мне грядущим летом, однако мы приступили к чтению лишь в августе: первые дни моего пребывания на берегу океана были так насыщены открытиями и волнениями, что я решительно забыла о существовании книг.
Затем моя учительница уехала на некоторое время погостить к друзьям в Бостон. Когда она вернулась, мы первым делом принялись за «Маленького лорда Фаунтлероя». Я отчетливо вспоминаю место, где мы читали первые главы этой увлекательной детской повести. Стоял теплый августовский день. Мы сидели в гамаке, который медленно раскачивался между двумя величественными соснами неподалеку от дома. Перед этим мы поспешили побыстрее вымыть посуду после завтрака, чтобы для чтения осталось как можно больше времени. Когда по колено в высокой траве мы торопились к гамаку, кузнечики, вереща, прыгали вокруг нас и цеплялись к нашей одежде. Помню, как учительница настаивала, чтобы мы всех их отцепили до того, как усядемся, что показалось мне ненужной тратой времени. Гамак был усыпан сосновыми иголками. Теплое солнце светило сквозь ветки сосен, в воздухе пахло тонким ароматом смолы и хвои. С благовонным запахом сосен смешивалась соленая терпкость моря. Перед тем, как начать чтение, мисс Салливан объяснила мне вкратце, о чем эта повесть, а по мере того, как читала, давала объяснения незнакомым словам. Поначалу таких слов было много, и чтение постоянно прерывалось. Вскоре, однако, я стала вникать в описываемые события и так увлеклась повествованием, что уже не замечала отдельных непонятных слов и с нетерпением выслушивала пояснения, необходимые по мнению мисс Салливан. Когда ее пальцы устали, я впервые остро ощутила свою обездоленность. Я взяла книгу в руки и попыталась нащупать буквы с отчаянной тоской, которую никогда не смогу забыть.
Впоследствии, по моей горячей просьбе, м-р Ананьос заказал эту книгу в выпуклой печати, и я читала и перечитывала ее, пока не выучила почти наизусть. На протяжении всего детства «Маленький лорд Фаунтлерой» был моим милым и добрым спутником. Я привожу все эти подробности, рискуя показаться скучной, потому что они резко отделили мое новое состояние от прежних смутных и бессвязных попыток чтения.
С «Маленького лорда Фаунтлероя» я веду отсчет своего настоящего интереса к чтению. В течение двух последующих лет, дома и находясь в Бостоне, я прочитала множество книжек. Не помню точно, сколько их было и в какой последовательности я с ними знакомилась, но в их числе были: «Греческие герои», «Басни» Лафонтена, «Чудо-книжка» Хоторна, «Библейские сказания», диккенсовская «История Англии для детей», «Рассказы из Шекспира» Лэмба, «Тысяча и одна ночь», «Путь паломника», «Робинзон Крузо», «Семья швейцарских робинзонов», «Маленькие леди» Олькотт и «Хайди», прелестная короткая повесть, которую я потом с удовольствием прочла на немецком. С неослабевающим удовольствием я читала их в перерывах между уроками и игрой. Я до сих пор не знаю, хорошо или плохо все эти книги написаны: я никогда об этом не задумывалась. Их авторы положили к моим ногам свои сокровища, и я приняла их так же естественно, как принимаются в дар солнечный свет и любовь друзей.
Я очень любила «Маленьких леди»: они давали мне ощущение родства с девочками, которые могут говорить, слышать и видеть. Моя жизнь была ограничена обстоятельствами, но, стоило мне заглянуть под обложку, я узнавала новости о мире за пределами моего кругозора.
Мне, признаться, не особенно нравились «Путь паломника» (который я так и не дочитала) и басни Лафонтена. Я прочла их сначала в английском переводе, а потом на французском и получила не слишком много удовольствия. Несмотря на живые описания и прекрасный язык, истории о животных, которые говорят и поступают, как люди, никогда меня не привлекали. К тому же Лафонтен редко, точнее почти никогда, не обращается к высшим нравственным чувствам. Он взывает к рассудку и себялюбию. Во всех его баснях красной нитью проходит мысль, что человеческая мораль проистекает только из любви к себе, и если эта любовь к себе направляется и сдерживается рассудком, то счастье последует обязательно. Насколько же я могу судить, себялюбие есть корень всякого зла. Конечно, я могу ошибаться, потому что у Лафонтена было гораздо больше возможностей наблюдать за людьми, чем было, есть и будет у меня. Я возражаю не столько против басен циничных и сатирических, сколько против тех, в которых важным истинам поучают нас мартышки и лисички…
При этом я обожаю «Книгу Джунглей» и сборник «Дикие животные, которых я знал». Я испытываю искренний интерес к животным, когда они действительно животные, звери, а не карикатуры на людей. Нельзя не сочувствовать их любви и ненависти, не смеяться их забавным приключениям, не грустить над их горестями. А если в этих книгах присутствует мораль, то она выражена так тонко, что мы не сознаем нравоучительности…
Древняя Греция оказывает на меня какое-то таинственное, завораживающее действие. В моем воображении языческие боги и богини по-прежнему бродят по земле и ведут разговоры с людьми. Я полюбила всех этих нимф, героев и полубогов — конечно, не таких жестоких и алчных, как Медея и Язон. Я часто размышляла над тем, почему боги допускали свершение героями таких преступлений и затем наказывали их за порочность. Тайна эта до сих пор мной не разгадана. Я часто думаю о том, отчего
Боги немотствуют,
пока Порок с усмешкой
крадется по Времени чертогам.
После «Илиады» Греция стала для меня воплощением рая. Я была знакома с историей Трои до того, как прочитала Гомера в оригинале, и поэтому, едва я овладела грамматикой, отдельные слова не доставили мне трудностей. Великая поэзия, существуй она на греческом или на английском, не нуждается в иных переводчиках, кроме отзывчивого сердца. Как хотелось бы эту простую истину донести до тех, кто своими разборами по косточкам и тяжеловесными комментариями отвращает нас от великих произведений! Для того, чтобы понять и оценить прекрасное стихотворение, совсем не нужно умение произвести грамматический разбор его строк или дать определение составным частям каждого слова. Знаю, что мои ученые наставники обнаружат больше сокровищ в «Илиаде», чем когда-либо сумею отыскать я… но я не жадная. Меня не тревожит мысль, что другие умнее. Но все же никакие скрупулезные исследования не позволят им оценить меру наслаждения этим замечательным эпосом. Я тоже этого не могу. Когда я читаю строфы «Илиады», я ощущаю, как дух мой воспаряет над тесными оковами обстоятельств моей жизни. Мои физические ограничения забываются, высший мир весь раскрывается мне навстречу, и вся широта, весь простор небес принадлежат мне!
«Энеида» глубокого восхищения во мне не вызывает, хотя мое почтение к ней вполне искренне. Словесная живопись Вергилия иногда просто изумительна, но его римские боги и люди движутся сквозь колеблющиеся, вроде занавесей, страсти и борения, любовь и жалость, как изящные фигуры елизаветинского маскарада, меж тем как в «Илиаде» они, набрав полную грудь воздуха, скачком одолевают преграду и с песней бросаются дальше. Вергилий безмятежен и прелестен, словно мраморный Аполлон в лунном свете, в то время как Гомер — юноша, залитый ярким солнцем и с ветром, запутавшимся в волосах.
Я начала читать Библию задолго до того, как могла ее понимать. Теперь мне кажется странным, что было время, когда душа моя была глуха к ее чудесной гармонии. Однако я вспоминаю дождливое воскресенье, когда от нечего делать я попросила двоюродную сестру почитать мне истории из Ветхого завета. Она, хоть и не думала, что я что-то пойму, стала писать у меня на руке историю Иосифа и его братьев, которая почему-то показалась мне не слишком интересной. Необычный язык и повторы делали рассказ нереальным и далеким, как земля Ханаанская, в которой происходили события. Я задремала и вдруг оказалась в земле Нод, незадолго до того, как в шатер Иакова пришли братья, и принесли одежды многоцветные, и сообщили свою мерзкую ложь! Не могу понять, почему истории древних греков были для меня в детстве полны очарования, а библейские сказания совсем не интересны. Разве что в этом сыграло роль мое знакомство в Бостоне с несколькими греками и их вдохновенные рассказы о родной стране, в то время как я не встречала ни одного еврея или египтянина, а потому заключила, что все истории о них, вероятнее всего, выдуманы.
Какими же словами описать мне восторг, который испытала я, начав, в конце концов, понимать Библию? Годами читала я ее со все возрастающим ощущением радости и полюбила, наконец, как никакую другую книгу. Вместе с тем в Библии встречаются сюжеты, против которых восстает все мое существо, так что я порой сожалею о необходимости, заставившей меня прочесть ее от начала и до конца. Не думаю, что знания, почерпнутые мной из историй Священного Писания, компенсируют неприятные подробности, к которым насильно было привлечено мое внимание. С моей точки зрения, и в этом я присоединяюсь к м-ру Хауэллу, литература древности должна быть очищена от всего безобразного и варварского, хотя при этом я, как многие другие, возражаю, чтобы великие произведения сокращались или адаптировались.
Есть нечто поражающее и внушающее почтительный ужас в простоте и страшной прямоте книги Эсфири. Что может быть драматичнее сцены, когда Эсфирь предстает перед своим жестоким господином? Она знает, что жизнь ее в его руках, что некому защитить ее от его гнева. И все же, побеждая страх, она обращается к нему, побуждаемая благороднейшим патриотизмом, одержимая единственной мыслью: «Если суждено мне погибнуть, пусть я погибну, но если суждено мне жить, жить должен и мой народ».
А история Руфи? Мы не можем не любить Руфь, такую верную и добросердечную, когда стоит она среди колеблемых ветром колосьев, вместе с другими жницами. Ее бескорыстная светлая душа сияет, как звезда в ночи жестокого и мрачного века. Любовь, подобную любви Руфи, способную подняться над противоборствующими верованиями и глубоко укоренившимися национальными предрассудками, трудно отыскать на всем белом свете.
Библия дает мне глубокое утешительное сознание того, что «вещи видимые преходящи, а невидимые — вечны»…
С первого момента, как я начала по-настоящему любить книги, не могу припомнить времени, чтобы я не любила Шекспира. Не помню, когда именно познакомилась я с книгой Лэмба «Рассказы из Шекспира», но знаю, что сначала читала их с детским пониманием и детским удивлением. Самое большое впечатление на меня произвел «Макбет». Одного раза хватило мне, чтобы запомнить навсегда каждую подробность этой истории. Долгое время духи и ведьмы следовали за мной во снах. Я отчетливо видела кинжал и белую ручку леди Макбет: жуткие кровавые пятна на ней были для меня так же реальны, как для потрясенной королевы.
Вскоре после «Макбета» я прочитала «Короля Лира» и никогда не забуду своего ужаса от сцены, в которой Глостеру выкалывают глаза. Яростный гнев овладел мною, пальцы отказывались двигаться дальше. Я долго сидела, окаменев, и кровь стучала в моих висках, а вся ненависть, на какую я, ребенок, была способна, сосредоточилась в моем содрогнувшемся сердце.
Примерно в одно и то же время я познакомилась с Шейлоком и Сатаной, так что эти два персонажа слились для меня воедино. Я помню, что жалела обоих. Смутно я сознавала, что они не могут быть хорошими, даже если захотят, потому что никто не хочет им дать шанс измениться. Даже сейчас я не могу от всего сердца осудить их. Бывают минуты, когда мне кажется, что Шейлоки, Иуды и даже Дьявол — сломанные спицы великого колеса Добра, которое в надлежащий час будет исправлено.
Кажется странным, что первое знакомство с Шекспиром было для меня таким неприятным. Пьесы светлые, милые, полные причудливой фантазии, которые теперь я предпочитаю перечитывать, поначалу не произвели на меня впечатления, возможно, потому, что в них отражались радости жизни обычного ребенка. Но «на свете нет ничего капризней, чем память детская: кто может угадать, что сохранит она, что потеряет?»
С тех пор я много раз перечитывала пьесы Шекспира, некоторые куски из них знаю наизусть, но не могу назвать, какую люблю больше других. Мои предпочтения меняются в зависимости от настроения. Стихи и сонеты доставляют мне ту же чистую радость, что и пьесы. Однако, при всей моей любви к Шекспиру, читать его произведения с пространными и многозначительными комментариями о смысле отдельных строк — труд утомительнейший. Я старалась запомнить все интерпретации, но в итоге чувствовала лишь досаду. Так что я заключила сама с собой договор: даже не пытаться делать это. Нарушила я его только однажды, когда изучала Шекспира под руководством профессора Киттреджа. Я знала, что в Шекспире многое остается для меня непонятным, и рада была видеть, как постепенно спадали покров за покровом, открывая мне новые горизонты мысли и красоты.
Кроме поэзии, я всегда обожала историю. Я прочитала все исторические работы, которые смогла заказать, от каталога сухих фактов и еще более сухих дат до бесстрастной, но живописной «Истории английского народа» Грина, от «Истории Европы» Фримена до «Средневековья» Эмертона. Первой книгой, которая дала мне понимание ценности истории, была «История мира» Суинтона, полученная в подарок на тринадцатилетие. Из нее я узнала о том, как великие правители, земные титаны, сокрушали царства и решительным словом открывали врата счастья для миллионов одних и закрывали для миллионов других людей, как разные нации преуспевали в искусстве и науке, прокладывая дорогу векам грядущим, как падали и поднимались цивилизации, словно Феникс, возрождаясь из пепла прогнивших эпох. Я узнала, как посредством свободы, терпимости и просвещения великие и мудрые открыли путь спасения всему миру.
Изучая программу колледжа, я познакомилась с французской и немецкой литературой. Немецкая ставит силу выше красоты, а истину выше обычаев и условностей. Когда немецкий поэт говорит, он делает это не для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, а потому что сердце его разорвется, если не найдет выхода мыслям, сжигающим душу.
Мне нравится, что в немецкой литературе всегда есть нечто большее, чем то, что бросается в глаза. Но главное ее достоинство для меня заключается в признании возрождающей силы жертвенной женской любви. Эта идея пронизывает всю немецкую литературу и мистически выразилась в «Фаусте» Гете:
В несовершенстве преходящем мира
Сменяются эпохи и кумиры,
Теряем то, что прежде отыскали…
Но Женская душа ведет нас вверх и дале.
Из всех читанных мною французских писателей больше всего я люблю Мольера и Расина. Есть также замечательные места у Бальзака и у Мэриме, которые поражают читателя, как резкий порыв морского ветра. Виктором Гюго я восхищаюсь, глубоко ценю его гений, блеск и романтичность, хоть он и не является моим литературным пристрастием. И Гюго, и Гете, и Шиллер, и другие великие поэты великих наций — глашатаи вечных чувств и истин. Мой дух почтительно следует за ними в те области, где Красота, Истина и Добродетель сливаются воедино.
Боюсь, я слишком много места уделила моим друзьям-книгам, а ведь упомянула только самых любимых авторов, из чего легко можно было бы заключить, что круг моих друзей ограничен и возвышен. Это был бы неверный вывод. Я люблю многих авторов по самым разным причинам: Карлейля за суровую мощь и презрение к фальши, Вордсворта за то, что он показывает нам единство человека и природы. Я нахожу изысканное удовольствие в странных находках Гуда, в причудливости и ощутимом аромате ландышей и роз в лирике Херрика. Мне близок Уиттиер своей увлеченностью и высокой нравственностью. Я была с ним знакома, и добрые воспоминания о нашей дружбе удваивают удовольствие, которое доставляют мне его стихи. Я люблю Марка Твена. Да кто его не любит? Боги тоже любили его и дали ему мудрое сердце, а потом, чтобы он не стал пессимистом, озарили его душу радугой любви и веры. Я люблю Скотта за его непосредственность, дерзость и всеобъемлющую честность. Я люблю всех писателей, которые, подобно Лоуэллу, бурлят солнечным оптимизмом, в чьих творениях бьют фонтаны радости и доброты, чередуясь со всплесками праведного гнева и утешительной росой сочувствия и жалости.
Одним словом, литература — моя Утопия, моя страна Блаженства. Здесь я не чувствую себя обездоленной. Барьеры, которые встают между мной и людьми, не отделяют меня от благословенного сладостного общения с друзьями-книгами. Они говорят со мной без смущения и неловкости. Все, чему я научилась, и то, чему учили меня, кажется до нелепости незначительным в сравнении с «необозримой любовью и небесной благодатью» книг.


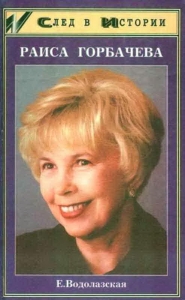

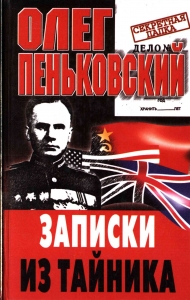
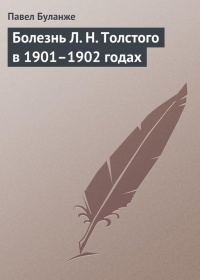



Комментарии к книге «История моей жизни», Елена Адамс Келлер
Всего 0 комментариев