ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
АУДИЕНЦИЯ
МАДРИДЕ не было карет. Кардиналу-легату пришлось отправиться на аудиенцию верхом. Для него раздобыли белого мула, кардинал сел боком, по-женски, сверкающее одеяние ниспадало длинным шлейфом. Его плоская пурпуровая шапка купалась в мелком ледяном дожде. Старик Фабио Фумагалли, каноник святого Петра, вел под уздцы его мула. Сзади и по бокам месили грязь люди его свиты, трое духовных лиц низшего ранга и множество слуг — все они уныло посматривали на свои чулки, перепачканные выше икр. Святейшие особы высоко подбирали подолы обеими руками, по примеру крестьянских женщин, и вспоминали о красоте и удобстве римских мостовых.
В странную столицу их прислали. Обыкновенное рыночное местечко избрал себе резиденцией этот король. Здесь едва ли обитало хотя бы пятнадцать тысяч христиан. Почти все дома были глиняные, одноэтажные, такие низенькие, что кардинал, восседая на своем муле, мог без труда коснуться рукой крыш. И это была столица полумира. Из этой грязной дыры Испания управляла Бургундией, Лотарингией, Брабантом, Фландрией и сказочными золотыми царствами за океаном. Отсюда получали наказы испанские вице-короли в Неаполе, Сицилии и Милане. Еще только три силы с трудом противостояли властителю, обосновавшемуся здесь: король французский, республика Венеция и держава святого отца. В одежде и нравах всюду преобладало испанское; всесветная мода исходила отсюда.
Редкие в этот дождливый ноябрьский день прохожие падали ниц перед всадником в кардинальской одежде. Но, вскинув глаза, смущались. Ехал юноша. Под пурпуровым ободком мерцало узкое, бледное, болезненное лицо.
Кардиналу Джулио Аквавиве было двадцать два года. Папа прислал его сюда вестником святейшего соболезнования по поводу смерти наследника престола Дон Карлоса: очень странная миссия, ибо ни для кого не было тайной, что здесь отец был причастен к смерти сына.
Почти месяц ехала делегация из Рима в Мадрид. Море волновалось, всюду крейсировали разбойничьи суда берберийцев. Духовные особы достигли берега полумертвыми. Их поселили без всяких удобств. Кардинал-легат проводил бессонные ночи, сидя на своей влажной жесткой постели в мадридской нунциатуре, и кашлял.
За время долгого, томительного плавания еще углубился мрачный смысл его прибытия: теперь ему предстояло соболезновать также и по поводу смерти королевы. Прекрасной, кроткой Елизавете Французской было всего лишь двадцать пять лет. После Марии Португальской и Марии Английской это была третья покойница на супружеском ложе Филиппа. Все, к чему прикасалась его рука, было осуждено на увядание и гибель.
Итак, достаточно предлогов для приезда, — предлогов потому, что тайная и истинная цель была иная. Между христианнейшим королем — щитом веры, мечом, карающим еретиков, — и Ватиканом царил раздор. Сын Карла V лежал во прахе перед господом и чистым учением, но отнюдь не перед папой. «Для Испании нет папы», — заявил на открытом заседании президент его совета. Двадцатидвухлетний болезненный посланец прибыл с чрезвычайно серьезными поручениями.
Постоянный нунций ничего не добился. Аудиенции давались ему редко, его постоянно отсылали на путь переписки. Король Филипп любил путь переписки. Неслышно и упорно ютился он среди бумаг. Насколько скупо он говорил, настолько же охотно и методично писал. Молитва и документы — в этом была его жизнь.
Папа надеялся, что его траурный посол достигнет того, в чем было отказано его чиновнику. В трагические минуты явится юноша перед королем, быть может, найдет он путь к его чувствам, к его отягощенной душе. Аквавиву любили в Риме. Сам Пий, неумолимый старик доминиканец в триедином венце, любил его. Быть может, полюбится он и Филиппу.
Постоянный нунций был преисполнен язвительности. Вначале он поселил больного в своем доме, без всяких удобств, никто не заботился о его здоровье, спутников его совсем не кормили.
В конце концов каноник Фумагалли учинил скандал. Это был белобородый крестьянин из Романьи, могучего телосложения, более похожий на солдата, чем на священника, и привыкший с юных лет дружески служить дому Аквавивы. Он тоже любил высокого саном, нежного и благочестивого юношу. Он имел короткий и отнюдь не почтительный разговор с домохозяином. После этого все пошло на лад.
Но скоро нунций утолил свою язвительность, наблюдая, как праздно затягивается пребывание непрошенного постояльца. Уже три недели был он здесь. На почтительный запрос, когда будет угодна траурная аудиенция, сперва не последовало вовсе никакого ответа, и только через несколько дней пришло из государственной канцелярии предложение выразить соболезнование письменно. Письменно — общепринятое слово, но для князя церкви, с такими опасностями ехавшего целый месяц, — едва переносимое оскорбление. Однако ничего другого не оставалось, как только просить вторично. Не мог же он уехать обратно в Рим и сообщить наместнику Петра: твоего посланца даже в дом не пустили. Когда доступ, наконец, милостиво открылся, равновесие уже было нарушено плачевнейшим образом. И в этом была цель.
Достигли королевского замка. Но духовный кортеж не мог найти входа. Угловато-громоздкий, похожий на крепость, Альказар был окружен лесами. Под дождем стучали молотками рабочие. Дома Филиппа постоянно достраивались.
Они обогнули все зубчатое нагромождение. У задних ворот легат слез со своего мула. Вход охраняли копьеносцы в гигантских шляпах, желтых камзолах и желто-красных шароварах. Они не понимали ни слова. Это были немцы. Наконец на крики слуги спустился по крутой лестнице человек в одежде священника и заговорил по-латыни. Отсюда не было входа в королевские покои. Пришлось снова усесться и возвратиться к фасаду в лесах.
Свита осталась в помещении стражи, внизу. Здесь было холодно, через крохотные, заслоненные бревнами окна даже и теперь, в полдень, едва проникал свет. «Увеселительная прогулка! — сказал Фумагалли, державший на коленях мокрую шапку легата. — Его высокопреосвященство помрет у нас за эту поездку!»
Кардинал, — у него кололо в боку, — медленно взбирался по темным лестницам. Дурно пахло в этом средневековом замке-дворце. Придворный сторонкой продвигался вперед, все выше. «Очевидно, король Испании сидит на крыше и там ожидает меня», — подумал Аквавива, потому что он был жизнерадостен, хоть и носил пурпур, — веселый, общительный мальчик при всей своей благочестивой разумности.
Теперь они достигли верхнего этажа и сперва шли открытым зубчатым переходом, где бушевал северный ветер и откуда был виден во всем его ничтожестве глинисто-грязный городок и дальше — голое, печальное плоскогорье Кастилии. Потом начались низкие и длинные залы, скудно обставленные двумя-тремя ларями. Повсюду — духовенство в сутанах или орденских одеждах, беседующее группами, бездейственно глазеющее. Потом четырехугольная комната, полная вооруженных людей. Офицер, бряцая, отдал честь. В следующем помещении, совершенно пустом проходе, придворный оставил его: доложить о прибывшем.
Прямо над головой Аквавивы громко и без отголосков колокол пробил полдень. Дверь раскрылась. Камергер впустил его.
В комнате было светло. Через высокие окна, слева и справа, лился бледный известковый свет на письменный стол, за которым работал король Филипп. Он отодвинул в сторону бумаги и встретил вошедшего прямым взглядом своих больших, выпуклых, несказанно спокойных глаз. Тот склонился и, по придворным обычаям, ожидал обращения. Но обращения не последовало. Таким образом он имел время рассмотреть владыку крещеного мира, о котором шло столько разговоров.
То, что он увидел, поразило его, и он даже успел понять почему. Филипп сидел без шляпы, как он не был изображен ни на одном из многочисленных портретов и как, стало быть, непривычно было его себе представить. Тут увидел кардинал, как белокур он был: светло-белокурые шелковистые завитые волосы, чуть-чуть темней — борода, обрамлявшая большой одухотворенный рот. Очень нежная и красивая форма носа, фарфоровая прозрачность белой кожи, преобладающее впечатление изнеженности и изящества. Только тяжелый выступ лба привносил в грациозное целое неопределенно-угрожающую черту.
Одет он был в черный бархат. Даже брыжи исчезли в эти дни печали, на груди висел и слабо мерцал орден Золотого руна на цепочке из темных драгоценных камней.
«Начать мне самому?» — подумал Аквавива и отметил с неприятным чувством, что лицо его и руки горят от смущения. Беспомощно обвел он взглядом королевскую комнату. Там почти нечего было разглядывать. Стены покрыты гобеленами. Тяжелая и простая мебель. Сбоку возле Филиппа стоял столик с маленьким распятием и двумя серебряными ящиками с мощами.
— Молодого священнослужителя посылает мне святой отец, — произнес приличествующе-тихо вежливый и совершенно пустой голос на ломаном итальянском. — Изложите ваше поручение.
— Святой отец, ваше величество, посылает вам привет свой и свое апостольское благословение. Мое поручение состоит в том, чтоб изъяснить вам, с каким глубоким душевным участием принял святейший известие о смерти вашего инфанта Дон Карлоса и что он возносит каждодневные неустанные мольбы об усопшем.
— Слишком большая честь для этого принца, — произнес тусклый голос.
Аквавива онемел. Этого никак нельзя было предвидеть. Пускай при всех христианских дворах говорили без обиняков об этом волнующе-печальном событии, — сам король, по всеобщему твердому убеждению, должен был все затушевать двумя-тремя напыщенными фразами. Ведь у него был достаточно веский повод.
Этот принц родился калекой и полусумасшедшим. Так как он был наследником полумира, всему миру был известен каждый его шаг — от самой колыбели. Всему миру было известно о его кормилицах, которые умирали от того, что младенец прокусывал им груди, о животных, которых мальчик сажал на вертел и жарил живыми, о придворных, которых он приказывал кастрировать, о взрывах ярости, спазмах крика, эпилептических припадках. Даже перед отцом не мог обуздать себя этот полузверь. Что он поклялся его убить, это еще можно было стерпеть. Но в прошлое рождество стал известен его план: бежать и встать во Фландрии во главе еретиков. С таинственной быстротой узнали об этом и в Риме. Папа ужаснулся. Он был успокоен. Принца уже арестовали в Мадриде. Он умер. По поводу этой смерти выражал соболезнование Аквавива.
— Святой отец, — с усилием продолжал он, — соизволил назначить траурное богослужение. Оно состоялось 5 сентября в соборе святого Петра. Дабы воздать высшую честь наследнику столь могущественного престола, святейший собственной особой присутствовал на этом торжестве. Осмелюсь указать, ваше величество, что доныне подобная честь оказывалась лишь королям.
— Лишь королям, — повторил король, вдруг перейдя на уверенную латынь. — Я благодарю святого отца. Господь возложил на меня бремя: хранить незапятнанной истинную веру, беречь правосудие и мир и, по истечении кратких лет моей жизни, оставить в нерушимом порядке доверенные мне государства. Все зависело прежде всего от качеств моего преемника. Но господу было угодно, в наказание за мои грехи, наделить принца Дон Карлоса столь многими и тяжкими недостатками, что он оказался совершенно неспособен к правлению. Достанься ему в наследство государство, оно оказалось бы в опасности. Он не имел права жить. Сядьте!
Последнее слово было произнесено совершенно тем же тоном, что и предыдущие. Юный кардинал, оглушенный и ослепленный таким обилием неожиданной, режуще-ясной откровенности, понял не сразу.
— Садитесь же! — повторил король.
В комнате стояла всего лишь одна низенькая скамья, без спинки. Аквавива придвинул ее. Садясь, он услышал живое шуршание своих шелков — это его немного ободрило.
— Ваше величество, я повинуюсь. Но не сидя следовало бы мне излагать мое второе поручение. Святой отец не мог сам дать мне его, но я знаю, что его сердце шлет мне его из-за моря. Совсем недавно господь призвал к себе также и ее величество королеву, лучшую, благочестивейшую, благороднейшую душу, и вот…
— Хорошо, кардинал. Есть еще что-нибудь?
В вежливом голосе прозвучал запрет. Король любил эту веселую, добрую, прелестную француженку.
— Остаются дела, ваше величество.
— Дела? Разумеется, ведь папа имеет постоянного доверенного при моем дворе.
На щеках у Аквавивы появились два круглых пятна, пурпурных, как его одеяние.
— Постоянный нунций уже давно разлучен с особой святого отца. Его святейшество просит выслушать мои слова, как непосредственно исходящие из его уст.
— Я слушаю с полным вниманием, — сказал Филипп.
Порыв ветра с грохотом обрушил дождь на оконные стекла. Оба прислушались. Когда шум затих, король прибавил медленно и точно:
— Его святейшеству известно, — и это всегда будет неизменно, — что я скорей отрекусь от своей короны, нежели позволю посягнуть на то, чем владел до меня император и король, мой отец и повелитель.
«Отрекусь от своей короны…» Это была цезарева латынь, каждое слагаемое фразы — словно четырехугольный камень. Это не было пустым красноречием. «Если б мой сын, — сказал однажды этот же самый человек, — был еретиком, я собственными руками сложил бы ему костер». У него еще не было сына, когда он так сказал… Эта прямая, тяжелая и медленная душа готова была на всякую крайность. Не через римскую святость, — на собственном пути снизошла на него, облеченного властью, божья воля. Испанство и истинная вера были для него одно. Был он тяжко обремененный управитель бога, его земное королевское бытие с невиданной полнотою власти было лишь узким преддверием вечности, от которой ни на миг не отводил он взора. Там, в пустынных предгорьях Сиерры, уже росла чудовищная усыпальница, Эскуриал, каменная греза его благочестия, раскинувшаяся в бесформенной своей наготе посреди нагого ландшафта. Замок могущества, казарма веры и кладбищенский храм, где мечтал он собрать всех мертвецов своей семьи. Он был красивый, изящный сорокалетний мужчина. Но уже существовали подробнейшие распоряжения о тридцати тысячах заупокойных месс, которыми все ополчение испанских священников однажды обеспечит его душе путь к блаженству.
Во все века не было папы, более близкого по духу этому королю, чем старик, сидевший теперь на троне Петра, монах-аскет, некогда великий инквизитор — угрюмое, тусклое подобие Филиппа по ту сторону Южного моря. И с ним-то не ладил король.
Речь шла не о малом. Грозило отпадение. Независимая испанская церковь. Предвестия не оставляли сомнений.
Джулио Аквавива заговорил. Склонив свою больную голову в алой шапочке, искоса приковавшись взором к фигуре животного на ковре, развертывал он ватиканские жалобы перед христианнейшим государем, скромно начиная с извинимого, наименее значительного, потом искусно повышая тон — удивление, огорчение, ужас, наделяя каждый период благочестивыми комплиментами по адресу короля, высоко и все выше превознося его заслуги, чтобы тут же тем глубже скорбеть и жаловаться. Он собрал воедино все, что имел, — весь разум, всю силу веры, проникновенность и, бессознательно, все трогательное очарование болезненной юности. Все было поставлено на карту. Мгновение было решающим. Едва ли оно повторится. Джулио говорил теперь на латинском языке, на великолепной латыни, из почтения к королю, который только что воспользовался этим наречием.
Трений было весьма много. Папа от всей души желал их устранить. Он любил и почитал короля, в нем одном видел опору против еретичества, столь устрашающе поднимавшегося повсюду. С какой христианской радостью узнал он еще недавно, что глава фландрской ереси, граф Эгмонт, был всенародно казнен в Брюсселе, невзирая на заслуги этого еретика и победы, некогда одержанные им. Несомненно, и теперь все злоупотребления и обиды были делом рук подчиненных слуг, его величеству все это не было известно.
Так, совершенно недопустимым был образ действий испанского вице-короля в Неаполе, герцога Алькала. Он оскорблял святейший авторитет. Он заставлял священников, посланцев Ватикана, ждать целыми днями у черного входа. Допуская их, наконец, к себе, он принимал их лежа в постели, причем лежал, как сообщали, не всегда один.
Филипп сидел со слегка отвисшей нижней губой и молча смотрел в пустоту.
Здесь, в стране, было не лучше. Всего лишь год тому назад папа запретил бои быков. Устроителям их грозило отлучение. Убитых в боях запрещалось хоронить по церковному обряду. Но их хоронили по церковному обряду. Но священники не отлучали виновных. Но сборища становились все многолюдней и протекали с еще большим блеском, чем прежде. И все это происходило на глазах у короля.
Аквавива поднял глаза и сделал почтительно-выжидающую паузу.
Филипп ответил. Правда, всего лишь несколько слов. Но случилось нечто странное: Аквавива не понял. Что-то в речи короля звучало чуждо, жестоко-ускользающе. «Не брежу ли я, — подумал Аквавива. — Но нет! Голова как будто совершенно ясна…» Переспросить он не мог. Он продолжал.
Это были частности. Но апостольский суд — разве с ним вообще считались в Испании? А как обстояло дело с финансами? Разве король не облагал духовенство по собственному благоусмотрению и разве чудовищные суммы не обогащали испанскую государственную казну, вместо того чтобы поступать в римскую главную кассу католического христианства? Господу богу известно, известно это и королю, — как далек святой отец от забот о собственных своих потребностях. Наместник Христа жил, как нищенствующий монах. Хлебная похлебка и полстакана вина в полдень, вечером немного фруктов. Его одежда настолько обветшала, что это вызывало нарекания. Но он нуждался в деньгах для управления порученным ему огромным царством душ. Он просил своего возлюбленного и великого сына помнить об этом.
Снова король произнес несколько фраз. Кардинал снова не понял. Он так напряженно вслушивался, что даже приоткрыл пересохший рот. Его добрые глаза подернулись слезами — стыда, досады и беспомощности. И на этот раз король заметил, что его не понимают. Аквавиве показалось, будто слабый отблеск улыбки скользнул по выхоленным чертам. Это могло только показаться. Но, ради всех святых, что и на каком языке говорил этот король?
Несомненно, это была какая-то странная разновидность латыни, потому что речь не была итальянской, хотя звучала сходно и отдельные слова были понятны, — все равно кардиналу некогда было над этим раздумывать. Это значило бы сражаться на колеблющейся, уходящей из-под ног почве. В этот миг благочестивого мальчика Аквавиву охватила несказанная тоска по его ватиканским покоям, по его маленькой, сумрачной, всегда хорошо натопленной домашней капелле, где он так любил молиться перед прекрасным изображением богоматери, работы умбрийца Перуджино. То были хорошие часы.
Но святой отец повелел ему сойти в чистилище, — вперед же, смелее сквозь пламя!
Он выпрямился. Голос его зазвучал металлом. Предстояло, наконец, изложить главнейшее дело. Речь шла о несчастном архиепископе Толедском, первом прелате страны, Бартоломе Карранса, обвиненном испанской инквизицией в склонности к лютеранству. Одной только испанской инквизицией, — Аквавива это подчеркнул. Никогда Рим не верил в вину достойнейшего человека. Сам папа, строжайший из строгих, не считал его виновным.
Если бы дело разбиралось в курии, злосчастный старик был бы давно освобожден. Но испанские судьи упорствуют, и тому причиной строгий наказ короля. Тем временем разоряется толедское епископство, первое и богатейшее в Испании, и государство конфискует его громадные доходы — все, без остатка. Не сам святой отец, не он — его легат, но глаза мира могут увидеть в этом истинную причину королевской неумолимости.
Как бы то ни было, Аквавива встал: этого требовал момент — дольше терпеть нельзя. Святой отец предписал ему в этом пункте величайшую ясность. Речь идет о решающем столкновении между богословием испанским и римским. Вопрос теперь в том, что изберет христианнейший государь: щит веры, карающий меч еретиков, достохвальную покорность или попрание святейшего авторитета и учреждение независимой испанской церкви, другими словами вероотступничество. Папа заявляет с полной ясностью, что в последнем случае он не остановится ни перед чем, вплоть до предания анафеме!
Молчание. Молчание. Ни вспышки, ни единого жеста, ни малейшей дрожи в белых чертах. Вежливо слушающее лицо, взгляд вкось — мимо кардинала — на стенной ковер.
— Папский престол, — торжественно сказал Аквавива, — выносит решение, обратное решению инквизиции. Архиепископ должен возвратиться в Толедо. Папа настаивает на оправдательном приговоре. Карранса его заслужил. И, — с необычайным эффектом внезапной мягкости и теплоты, — не только долг христианина, преданного католика взывает к вашему милосердию, но и сыновний долг, ибо император и король, отец ваш и повелитель славной памяти Карл, скончался в монастыре Юсте на руках епископа Карранса.
Теперь все было сказано. Аквавива глубоко вздохнул своей узкой грудью. Хорошая речь, с верным повышением, с нужной резкостью — вплоть до угрозы проклятьем, и в заключение полный человечности призыв. Это требовало ответа. Это было не для канцелярий. Здесь трудно было уклониться на путь переписки. Кардинал ждал.
Ждал и король. Потом заговорил, по-прежнему тихо, не подымая глаз. И Аквавива не понял. «Imperator et rex, dominus meus et pater…»[1] — услышал он вначале, но снова ускользнуло куда-то наречие, видоизменилось — да где же были его уши? Филипп говорил с ним по-испански, — конечно, это был совершенно особый испанский язык, как он смутно догадывался. Это было так. Испанец, незаметно и последовательно коверкая свой язык, затушевывал языковые и небные звуки, «о» перекрашивал в «у», создавая таким образом издевательскую псевдолатынь, смысл которой временами почти схватывался собеседником и все же постоянно от него ускользал. Бесспорно, мастерская игра.
Джулио готов был расплакаться.
Зачем пустился он в путь, не зная языка! Но кто бы мог думать, что это понадобится! В светском мире еще царил итальянский язык, а латынь была неотъемлемым достоянием духовенства. Знание этих языков было достаточным оружием в любой миссии Европы. Но, разумеется, не против этого человека.
Ему вспомнилось, что рассказал ему вчера шопотом французский посол: как король долгие часы следил за агонией своего сына через отверстие в тюремной стене, невидимый и невозмутимо спокойный. Вчера он не поверил ни одному слову господина Фуркево; сегодня он верил.
Филипп говорил. Он говорил очень обстоятельно, с тонкими модуляциями в голосе, по-прежнему тихо, но с изящными, выразительными кадансами, с очевидным спокойным удовольствием. У него было время. Он дал себе время. Несчастному мальчику в красной мантии казалось, что он будет говорить до вечера. Мимо его ушей с шумом и свистом проносился поток слов, время от времени оттуда всплескивалось то или иное полупонятное слово, — его шатало, он едва не запрокидывался на своей скамейке, ведь он был к тому же еще нездоров. Наконец вежливый голос закончил по-итальянски:
— Вот все, что я могу сказать, кардинал. Больше я вас не задерживаю.
Незаметным движением он позвонил. Дверь раскрылась, и появился камергер, чтоб проводить посетителя.
Дождь перестал. Светило бледное, почти зимнее солнце Старик Фумагалли повел мула под уздцы. Озабоченно смотрел он на своего господина и питомца, смертельно бледного и изнеможенно поникшего в своем женском седле.
— У тебя такой утомленный вид, милый сын, — обратился он к кардиналу. В счастливые и в очень дурные минуты звал он его всегда на «ты», как мальчика.
— Устал я, — отозвался тот со своего мула.
— Надо тебе уехать отсюда, Джулио. Плох для тебя этот климат.
— Уеду, как только меня позовут.
— Чего еще ждать! Что тебе тут делать?
— Учить испанский язык. Найди учителя!
УЧИТЕЛЬ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
— Вся передняя полна, ваше преосвященство, — сказал Фумагалли, войдя в комнату. — Там сидит дюжина парнишек, все самого голодного и жалкого вида.
— Дюжина учителей! Откуда они взялись?
— Из гуманистических школ. Их шесть или семь в этой коровьей деревне. Я разослал туда записки.
— Очень практичный поступок, — сказал Аквавива.
— Желал бы я все-таки знать, зачем еще вам понадобился испанский язык?
Кардинал взглянул на него:
— Еще, говоришь ты, Фабио, еще! Ты думаешь, я недолго проживу, да?
— Еще — в том смысле, что вы взрослый человек и князь церкви! — испуганно воскликнул Фумагалли.
— Я расскажу тебе одну историю. Слушай! В вечер перед казнью мудреца Сократа в тюрьму пришел его друг и застал там учителя музыки, который обучал заключенного новой песне на лире… «Как, — воскликнул друг, — ты завтра умрешь, а сегодня еще разучиваешь песню?» И Сократ сказал: «Когда же я выучил бы ее, если не сегодня, милый ты мой?»
— При чем тут смерть? Пустячный кашель! Тепло ли тебе?
Аквавива сидел в кресле, тщательно укутанный, рядом с ним, сияя жаром, стояла бронзовая чаша с углями, круглая и большая, укрепленная на трех львиных лапах, изумительной работы. Эту красивую вещь принес Фумагалли, забрав ее без спросу в спальне апостольского нунция.
— Мне тепло, — сказал Аквавива. — Что же касается испанского языка, то не исключена возможность второй аудиенции, и тогда приятно будет удивить короля двумя-тремя испанскими цитатами.
Фабио опустил веки. Так вот и всегда говорит он о короле подозрительное добродушие! Он ничего не рассказывал. Но здоровье его ухудшилось со дня приема.
— Вторая аудиенция! Не думаю. Он сидит у себя в Эскуриале и сторожит своих каменщиков.
— Все равно. Без испанского не обойтись. Он очень важен и для ватиканской переписки. Святой отец будет доволен.
— Как угодно его преосвященству. Так я впущу парочку этих птиц.
— Но только не парочку, Фабио! Впускай по одному!
Передняя была полна человеческих испарений. Число претендентов почти удвоилось. Это были по преимуществу молодые люди, плохо кормленные и не лучше мытые. В своих студенческих воротниках из грубого черного сукна, они сидели рядом на покрытой бархатом каменной скамье, вертели шапки в руках и обменивались недоброжелательными взглядами. Кому достанется неслыханный выигрыш в этой лотерее?
Взгляд Фумагалли приковался к существу, представлявшему разительный контраст со всей этой дурно проветренной юностью. Он подошел к мужчине, который поднялся со своего места и теперь стоял перед ним, рослый, седой, безбородый, в ниспадающей темной шелковой мантии и высоком берете.
— Не по ошибке ли здесь ваша милость? — спросил он учтиво, так как одежда незнакомца свидетельствовала о больших ученых степенях. — Сегодняшний прием преследует особую цель.
— Цель известна мне, ваша честь, и именно потому я сюда явился.
Фумагалли сделал приглашающий жест и направился к двери. В ту же минуту рядом с ученым оказался студент, стройный ловкий юноша, с живыми глазами, одетый как все, — может быть, немного опрятней, — и неуверенно двинулся вслед за ними.
— Ты пока останься здесь, — сказал человек в мантии. — Ты только все испортишь.
Студент послушно вернулся на свое место, со всех сторон обжигаемый злобными взглядами из-за протекции, которой он посмел воспользоваться.
— Ваше преосвященство, — чинно доложил Фабио, — среди ожидающих находился также и этот господин. Мне показалось справедливым пригласить его первым.
Ученый отрекомендовался.
Это был дон Хуан Лопес де Ойос, имя небезызвестное, как он скромно прибавил, доктор вальядолидского университета и начальник школы языка и искусства — знаменитейшей во всей Испании. Он не умолчал и об этом.
— Ваше посещение — честь для меня, — сказал Аквавива и указал на кресло. — Я способен ее оценить. Но я не смею поверить, чтобы человек вашей учености взял на себя элементарное преподавание.
— Ваше преосвященство, нетрудно было предвидеть, что явится большое число кандидатов. Я вызвался проводить сюда одного из моих питомцев в надежде оказать ему помощь своей рекомендацией. Счастье слепо, — прибавил он, заметив тень легкой досады на лице кардинала, — я взял на себя смелость немного приоткрыть ему глаза.
— Ваша милость желает открыть глаза мне, говоря без метафор. Но я вижу отлично, — и Аквавива засмеялся.
Гуманист почтительно усмехнулся:
— Молодой человек, пришедший со мной, робок, ему свойственно хранить под спудом свой свет. Когда его хвалят, он готов возражать, — он не смог бы достойно отрекомендоваться вашему преосвященству. А так как он одарен…
— Ему достаточно знать испанский язык.
— Знать испанский язык! Вот в том-то и дело! Испанский язык знает лишь тот, кто знает латынь. А как он знает латынь! Вот доказательство.
Он извлек из складки докторской мантии две тетради in quarto[2] и поднес их кардиналу на ладонях своих затянутых в черное рук.
— Что это такое? — спросил Аквавива, не беря писаний.
Он уже оборонялся внутренне от школьной лисицы, от образцового латиниста, которого ему старались навязать.
— В первой тетради, — ответил Ойос, — напечатано стихотворение, которое доставило моему ученику первую награду на открытом поэтическом турнире, — первую, ваше преосвященство, хотя в нашей стране ее обычно получают лишь юноши высокого происхождения или располагающие сильной протекцией. Во второй…
— Ограничимся первой! Быть может, вашей милости угодно будет прочитать стихи вслух?
— С радостью, — сказал гуманист. — Это, разумеется, глосса.
— Глосса?
Столь безмерное невежество изумило Ойоса.
— На наших поэтических состязаниях, — разъяснил он несколько высокомерно, — кандидатам обычно дается тема в стихотворной форме. Их задача — тут же ее развить и истолковать в безупречных строфах. При этом повторяются строки темы. — И он прочел:
Не грусти я о былом, Вновь счастливцем стал бы я, Воплотись мечта моя, Вновь впорхнуло б счастье в дом.— Тема, повидимому, непостоянство?
— А вот — глосса, — сказал Ойос.
Упорхнувши неприметно, Счастье нежное ушло. Не зови, не сетуй тщетно, Не связать ему крыло. Пусть к моленьям безответно, На престоле золотом Восседает — что мне в том! Сердцем все ж не унываю. Вновь счастливцем стал бы, знаю, Не грусти я о былом.— Ужасно! — заметил по-латыни же Фумагалли.
Гуманист обернулся, уязвленный в самое сердце. Потихоньку от него Аквавива бросил на друга строгий взгляд.
— Мне только показалось, — пояснил каноник, — что здесь имеются несомненные противоречия. Или счастье — птица, имеет крылья и реет по воздуху, или оно — властелин и сидит на престоле. Но все сразу…
— В искусстве, сударь мой, это отнюдь не считается противоречивым. Искусство постоянно видоизменяет свой сюжет, и каждое новое мгновение наделяет его новым цветом и блеском. Это элементарный закон, — заключил он с состраданием. — Разрешите продолжить, ваше преосвященство?
— Пожалуйста!
Не прельщен я гордой славой, Жаждой власти не томим, Чужд мне жребий величавый Блеском суетным своим. Мира жду от бытия: Радость кроткую струя, Пусть меня омоет светом. В неподдельном блеске этом Вновь счастливцем стал бы я.— Достаточно, — сказал кардинал. — Я убедился.
— Но это же еще не закруглено! Двух строф не хватает.
— Они, конечно, стоят на той же высоте, маэстро Ойос. Но чем вы мне докажете, что этот бойкий латинист сумеет дельно преподавать испанский язык?
— Доказательство во второй книге. — И он так настойчиво протянул Аквавиве второй томик, что тому пришлось его взять.
Он был отпечатан на превосходной бумаге, и на переплете красовался заглавный рисунок: королевский катафалк, весь усеянный гербами, эмблемами, фигурами и надписями, окруженный свечами и развевающимися знаменами.
— То, что, ваше преосвященство, держите в руках, есть не что иное, как официальный отчет о погребении безвременно почившей королевы. Он вышел вчера. Траурная ода, избранная славнейшими судьями, также принадлежит перу молодого человека, которого я рекомендую и чьи стихи вон тот господин называет ужасными.
— Не принимайте этого так трагически! Забудьте об этом. Что же касается оды…
— То она написана по-испански, и вы, ваше преосвященство, не можете ее прочесть. В этом доверьтесь моему авторитету: она написана на чистейшем, красочнейшем верхнекастильском наречии, изобилующем сравнениями и изящнейшими фигурами и не имеющем ничего общего с повседневной речью.
— Ах, так!
— Само происхождение обязывает моего питомца к изяществу формы. Он из хорошей семьи, знатен, идальго…
Ректор оглянулся на Фумагалли, безучастно смотревшего в окно, и наклонился вперед в своем кресле: — Он носит имя и состоит в ближайшем родстве… — он закончил шопотом.
— В самом деле? — сказал Аквавива. — Это интересно и радует меня.
— Могу я его позвать?
— Прошу вас об этом, маэстро Ойос.
Гуманист распрощался. Аквавива отпустил его тактичным жестом, средним между приветствием и благословением.
Было слышно, как он воскликнул в передней: — Мигель! Его преосвященство ждет тебя! — и тотчас же удалился через противоположные двери.
Юноша с живыми глазами вошел в комнату. Когда он выпрямился после глубокого поклона, на лице его вдруг отразилось — чрезвычайно комично величайшее изумление. Оно было понятно: юноша ожидал увидеть седовласого патриарха, а оказался лицом к лицу со сверстником. Рот его приоткрылся, а сверкающие глаза стали совсем круглыми. Даже его благородный нос производил комическое впечатление, — словно он один был прежде всего завершен на неоформившемся лице и лишь впоследствии к нему стало присоединяться все остальное.
— Приблизьтесь же, — сказал кардинал и почувствовал, что смех щекочет ему горло. — За вас с энтузиазмом ходатайствовал ваш ректор.
— Маэстро Ойос очень добр ко мне, ваше преосвященство. Он знает, что я беден, и хочет мне помочь.
Голос был вполне сложившийся и хотя не глубок, но звучен и полон мужественной теплоты.
— Вы поэт, как мне известно, — Аквавива высоко поднял тетрадку с катафалком.
— Именно поэтому я и не уверен, ваше преосвященство, что окажусь хорошим учителем языка. Когда тебя заставляют писать по любому поводу латинские и испанские стихи, в конце концов теряешь естественность. Поэзия и повседневное обращение — две разные вещи.
— Другими словами: вы считаете, что мне следовало искать учителя не среди студентов? Он покраснел.
— Пока я там дожидался, мне и в самом деле подумалось, что любой ювелир или оружейник был бы полезней вашей милости.
— Садитесь же, — сказал кардинал.
Юноша сел.
— Вы говорите так, словно вовсе не желаете занять это место.
— Я пламенно этого желаю, ваше преосвященство, это было бы несравненным счастьем. Но я ужасно боюсь разочаровать вас.
— Однако у вас есть и преимущества. Оружейник или кто там еще говорит на языке простонародья. Вы же происходите из прославленной семьи, вы знатны…
— Как так?
— Ну, ваш учитель не мог ошибиться. Вы — идальго.
— О господи!
— Что, между прочим, означает это слово? Звучит оно гордо.
— Filius de aliquo[3] — сын достойного человека, звучит оно действительно гордо. Но оно ничего не означает.
Идальго может быть каждый. Например, каждый живущий в резиденции короля согласно указу.
— Ваш оружейник тоже считался бы идальго?
— Тоже считался бы, ваше преосвященство.
Фумагалли из своего угла качнул бородой. Он был побежден и незаметно сделал кардиналу одобрительную гримасу. Но Аквавива оставил ее без внимания.
Несмотря на молодость, он, по своему положению, слишком часто соприкасался с корыстью и придворной лестью. Юноша был чересчур простосердечен. Это могло быть притворством.
— Если мы придем к соглашению, — сказал он совершенно серьезно, — вам придется в скором времени покинуть свою страну. Не скрою от вас, что ваше место при моем дворе будет весьма незначительным. Не более пажа или камердинера. Не создавайте себе никаких иллюзий.
— Я был бы счастлив поехать в Рим, ваше преосвященство.
— Ваше происхождение и родство также не дали бы вам никаких привилегий. Вы, конечно, не имеете понятия о том, сколько людей в Риме кичатся родством с архиепископами. Город переполнен подобными людьми.
— Теперь я перестаю понимать вашу милость, — смущенно сказал юноша.
— Оставьте притворство! — Между бровями Аквавивы легла нетерпеливая складка. — Ведь ваш учитель сказал мне, что вы племянник архиепископа.
— Какого архиепископа?
— Архиепископа Таррагонского Гаспара Сервантеса.
— Но об этом следовало бы знать и мне, ваше преосвященство.
— Значит, это неправда?
— Я с ним незнаком, я ничего о нем не знаю.
Скептическая складка исчезла с лица Аквавивы. Он обменялся взглядом с каноником. Тот шагнул к двери, раскрыл ее и объявил:
— Место уже занято, господа студенты! Его преосвященство очень сожалеет.
Топот, говор. Они ушли, оставив после себя тяжелую атмосферу зависти и запахов тела. Фумагалли распахнул окна.
ВЫСОКОЧТИМЫЕ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ…
«Дону Родриго де Сервантес Сиаведра и его супруге донье Леоноре из рода де Кортинас.
в Алькала́ де Энарес,
дом возле гостиницы Де ла Сангре де Кристо.
Высокочтимые, дорогие родители!
Едва три месяца прошло с тех пор, как вы благословили меня в путь при прощании, но у меня такое чувство, словно это было многие годы тому назад. За это время ваш сын увидел и испытал так много нового, что не сумеет даже отдаленно передать всего в этом письме. Каждодневно благодарю бога за его великую милость, открывшую мне уже в юные годы огромный мир, полный таких чудес, о каких еще совсем недавно я и помышлять не осмеливался.
Капитан папской швейцарской гвардии, едущий в Испанию, взял на себя доставку этого письма. Мне кажется, что он добрый и честный человек, поэтому я доверяю ему также и вексель на сорок реалов, которые вам выплатит банкирская контора в Мадриде. Так как от вас туда всего три часа езды, думаю, что кто-нибудь из вас вскоре сможет отправиться за деньгами. Сумма невелика, и я прошу вас видеть в ней лишь начало. Может быть, господу будет угодно, чтоб я разбогател и смог положить конец вашей нужде. Каждый день видишь здесь людей, несравненно низших по воспитанию, нежели ваш сын, и достигших, однако, большого благосостояния.
Прошу и вас найти случай послать мне весточку и еще раз благословить. Сообщите мне также, как поживают мои сестры Андреа и Луиса и любимый брат мой Родриго, особенно же о том, осуществил ли он свое намерение и поступил ли на королевскую военную службу. Я бы очень хотел, чтоб это осуществилось, ибо поговорка, бывшая в ходу у нас дома, кажется мне выражающей истину:
Три вещи церковь, море, дворец. Избери одну — и нужде конец.Если же вы спросите, как адресовать все эти вести в огромный город Рим, чтобы они достигли меня, ответ прозвучит достаточно величественно, а именно — в ватиканский дворец. Да, это так: в одном здании и под одною кровлею с наместником Петра живет ваш сын, хотя кровлю эту не следует понимать буквально, потому что у Ватикана много кровель и в нем более тысячи комнат. Он сам по себе — целый город, и не маленький, строившийся веками и без особого порядка, так что и живущие там дольше меня находят дорогу не без труда. Я занимаю, разумеется, наихудшую из этих бесчисленных комнат. Она находится на самой вершине башни, некогда возведенной папой Пасхалисом, и в ней больше крыс, нежели удобств. Постоянно говорят о том, чтобы разрушить башню и построить на ее месте нечто лучшее, но постоянно мешают дурные времена, не хватает денег, и все остается по-старому.
Не лучше обстоит дело и с церковью святого Петра, которая вот уже пять лет, с самой смерти мастера Буонаротти, достраивается чрезвычайно небрежно.
Громадный купол, который должен быть воздвигнут над главным алтарем, до сих пор стоит в лесах, рабочие на них появляются редко, а между тем планки помоста гниют и местами обрушиваются.
Но прежде всего вас, наверное, интересует, видел ли я собственными глазами папу настолько близко, чтоб вам его описать. Пока это случилось всего два раза. В первый раз мне показали из окна, когда он прогуливался с двумя орденскими братьями в одном из внутренних садов. Его одежда не отличалась ни роскошью, ни богатством. Он был в белой мантии, даже не очень чистой, шел с обнаженной головой и опирался на палку. Это старец лет шестидесяти пяти, совершенно лысый, с длинной белоснежной бородой, на вид очень худой и с лицом, внушающим страх.
Сразу видно, что с ним шутки плохи и что это надежный защитник святой нашей веры. Он не пропускает ни одного заседания инквизиции, для еретиков не хватает тюрем, и за один прошлый год шестеро осужденных умерло на костре, двое — на виселице. Вторично видел я папу, когда он служил святую мессу в церкви святого Петра. Служил он ее не перед главным алтарем, — это бывает лишь четыре раза в году, — но пылали семь огромных золотых светильников и стены были затянуты пурпуром. Папа сам раздавал причастие и при этом держал себя совершенно иначе, чем множество присутствовавших там прелатов, которые восседали вокруг с покрытыми головами и непринужденно беседовали. Придя пораньше, я смог обстоятельно разглядеть все подробности. Церковная утварь была самая обычная, только на чаше бросилось мне в глаза незнакомое приспособление, состоящее из трех золотых трубочек. Позднее мне сообщили под строжайшей тайной, что его назначение — оберегать папу от яда. Впрочем, сам он причащал лишь немногих избранных, потом священнодействие перешло в руки кардиналов: Сарачено, Сербеллони, Мадруццо и моего обожаемого господина кардинала Аквавивы.
Это был один из немногих случаев, когда мой господин мог оставить свои покои. С его здоровьем совсем неладно: оно не выдержало тяг остей морского плавания и мадридской зимы. Многие считают, что ему осталось жить месяцы, в лучшем случае несколько лет, и сам он говорит с величайшей невозмутимостью о своей близкой смерти. Он неописуемо кроток и дружески приветлив, и если судьба его действительно неизбежна, он, разумеется, беспрепятственно достигнет блаженства. С неослабным прилежанием вершит он, прикованный к креслу, дела многочисленных своих должностей, к которым недавно присоединилась еще одна, особо почетная: ему доверена большая свинцовая печать, и ни одна папская грамота не покидает дворца, не будучи скреплена его рукой. Испанским своим урокам, ради которых он взял меня с собой, уделяет он меньше времени, чем мне бы хотелось, так что я часто бываю целыми днями свободен и могу идти, куда мне вздумается. Тогда я бесцельно брожу, пополняя собой чудовищную армию тунеядцев и бездельников, населяющую Ватикан и кардинальские дворы, причем каждый из этих бездельников таинственным образом ухитряется делать вид, будто он необходим.
Я сам отчетливо вижу, как мало я был нужен кардиналу в Риме, потому что, вздумай он здесь поискать испанского учителя, он нашел бы не одного, а пятьдесят. Город переполнен испанцами: испанские священники, испанские монахи и путешественники встречаются в количестве, поистине изумляющем, наша одежда очень распространена, и у самих римлян она все более входит в моду и даже многие нищие просят милостыню по-испански.
Таким образом, весь избыток своего свободного времени я употребляю на прилежное созерцание города. Рим, разумеется, велик, но видно, что когда-то он был несравненно обширней, потому что за тысячелетней городской стеной, доныне стоящей, имеются большие пространства, вовсе незастроенные или загроможденные развалинами. Великолепные дворцы чередуются с жалкими хижинами, заселенными беднотой. Посреди театров и храмов древних цезарей нелепо торчат сторожевые башни христианского рыцарства, так что здесь перемешаны все времена. На каждом шагу видны следы кровавых боев, которые происходили здесь в старину. Во многих старых домах, в целях обороны, вовсе нет лестниц, и жители спускаются из окон на канатах. Еще и теперь здесь не вполне безопасно. Выйти за черту города считается подвигом, и когда пилигримы пускаются в предписанный обход семи наружных базилик, их сопровождает вооруженная охрана.
Церковь для Рима — это все, и, говоря по чести, здесь нет никаких иных занятий. Даже в Мадриде, который несравненно меньше и невзрачней, видишь больше торговли и деловой суеты. Здесь этого вовсе нет, так что изумленно спрашиваешь себя: как же ухитряются утолять свои нужды все эти люди? Улицы выглядят совершенно одинаково в воскресный и будничный день, и можно подумать, что главное занятие римлян — бесцельные прогулки. Невероятным кажется мне число карет, в которых неторопливо катаются знатные люди. В этих экипажах часто бывают устроены сверху круглые отверстия, чтобы удобней было смотреть и разглядывать прекрасных дам в окнах. В остальном же все выглядит совсем по-деревенски: между замком святого Ангела и Ватиканом пасется скот, и всего лишь три дня тому назад я наблюдал, как через площадь святого Петра проходила черная свинья с пятью забавными поросятками.
В Риме все говорят, что жизнь здесь очень изменилась и что раньше она была много веселей и роскошней. С тех пор как собор отцов в Триенте вынес свои строгие решения, и особенно при нынешнем папе, все стало благочестивей и проще. Даже карнавальные празднества, прежде тянувшиеся неделями, ограничены теперь немногими днями. То, что я видел, показалось мне ребячеством. Увеселения состояли главным образом в состязаниях в беге, и нередко очень странных. Состязающиеся бежали совершенно голыми, подстрекаемые толпой. Один раз бежали дети, потом старики и, наконец, длиннобородые евреи, что вызвало много смеха.
Вполне, впрочем, понятно, что в эти суровые дни святой отец смотрит с неудовольствием на необузданность и шумные увеселения. Слишком велики его заботы о делах нашей веры. Как слышно, султан снова готовится к нападению, и его ближайшая цель — остров Кипр, который принадлежит венецианцам и считается последним оплотом христианства в той части моря. Говорят об устрашающих зверствах, учиняемых неверными над христианскими пленниками. Большие надежды возлагает святой отец на союз против султана, в который должны войти все католические короли и даже Московия. Сейчас переговоры как будто приостановились. А война уже носится в воздухе, и с каждой неделей на улицах Рима все больше людей с отважной военной осанкой, стекающихся сюда отовсюду Если дойдет до этого, то, разумеется, и наш Родриго примет участие в почетных боях, и временами мне кажется достойной зависти участь, которую он избрал.
Это письмо писал я ночью и не без спешки, потому что на рассвете швейцарский капитан уже покинет город. Поэтому простите меня за то, что без особого порядка смешал здесь важное со случайным. От всего сердца желаю вам здоровья и спокойствия и душевно молю господа, чтобы он взял вас под свою милостивую защиту.
С благодарностью и сыновней любовью целую ваши руки. Мигель де Сервантес Сааведра.Рим, среда третьей недели великого поста, 1569. Когда кто-нибудь из вас отправится в Мадрид получать по векселю, пусть окажет мне услугу и осведомится у книгопродавца Пабло де Леон на улице Франкос, хорошо ли раскупается моя идиллия „Филена“, сбыт которой он взял на себя. Вы знаете, что многие знатоки ее хвалили.
Мигель».ВЕНЕЦИАНКА
Он ходил в черных одеждах своей родины, и покрой его платья мало чем отличался от духовного облачения.
— Так-то, сыночек, — сказал ему Фумагалли, — скоро ты пробреешь себе тонзуру и получишь небольшой приход. Иначе зачем бы и жить тебе в этом доме!
И он добродушно давал ему советы. При этом сам он никак не мог сойти за образец для внешности духовного лица. С грохотом расхаживал он в скрипучих сандалиях, и его церковное одеяние ниспадало наподобие военного плаща.
Для юного Мигеля вера в церковь и благочестие были естественны, как дыхание. В своих блужданиях по городу он частенько заходил помолиться в одну из церквей. В них не было недостатка: различные по времени сооружения, по размерам и красоте, они возвышались на каждом углу. Но вскоре он избрал себе божий дом, к которому его влекло неизменно.
Это была Санта Мария ад-Мартирес, прозванная народом «Санта Мария Ротонда», издревле же имевшая еще иное название… Площадь, на которой она стояла, была не очень велика и не отличалась особенной красотой беспорядочный круг маленьких жалких домишек, слева непосредственно примыкавших к церкви. Пятнадцать столетий подняли уровень площади, и теперь к входу приходилось спускаться по скверной лестнице. Но уже под могучими гранитными колоннами портика ему становилось странно легко, и с неизменным возвышенным трепетом вступал он в громадное здание. Каждый раз он подолгу простаивал, глубоко дыша, в середине чудовищного круга, прежде чем подойти для христианской молитвы к одному из боковых алтарей.
— Смотри-ка, Пантеон! — сказал Фумагалли, глядя на юношу прищуренными глазами. — Именно его облюбовал ты, сынок?
Они сидели вдвоем в комнате каноника, большом помещении, украшенном четырьмя гобеленами, изображавшими альпийский поход Ганнибала. В окно был виден один из дворов-колодцев Ватикана.
— Сам не знаю, святой отец, отчего мне там так по душе. Молитвы и благочестия можно достигнуть в любом божьем доме, но надо сперва призвать эти блага, сосредоточиться, да и слова священника и музыка делают свое. Но здесь! Не нужно ни слов, ни песнопений: само здание будит благоговейные мысли. Нигде не бывает мне так хорошо, так небесно-легко и свободно, как здесь. Кажется, словно сейчас устремишься к небу, ввысь, в свет, что врывается внутрь через просторное, великолепное, сверкающее отверстие. А могучее круглое здание, охватывающее тебя с такой безупречной полнотой, с такой силой, — оно словно вечный закон. Закон и свобода сочетаются здесь. Думаю, что ничего равного нет в целом мире.
— Да, да, мой Мигель, значит Пантеон! А я вот слышал, что господь пребывает в самой бедной, самой тесной сельской церкви, равно как и в твоем круглом соборе с колоннами и олимпийским оком.
— Конечно, — сказал Мигель.
— Конечно! Вот весь его ответ. Но скажи-ка мне: уж не за тем ли привезли двадцать восемь колесниц с костями мучеников в этот языческий храм, чтоб теперь ты испытывал столь странно приятные чувства? Свобода и закон, и голубой эфир, и высь, и свет — разве тебе самому не кажется все это немножко подозрительным? Похоже на то, что прежние обитатели оказались сильней всех двадцати восьми повозок.
Он засмеялся, встал и, громыхая боевыми сандалиями, зашагал взад и вперед по комнате, среди своих ганнибаловых ковров. Взгляд Мигеля смущенно следовал за ним.
Но у юноши не было причин отказаться от своего пристрастия. Санта Мария ад-Мартирес была местом высокой святости, и даже праздник всех святых вел свое начало со дня перевезения мощей в этот храм. Возражения каноника не могли быть серьезными, он просто шутил. Но все-таки Мигель немного сократил пребывание под небесным оком и теперь спешил сначала преклонить колена перед своим алтарем.
Молитвенных скамей там не было. Преклонялись на древнем полу из мрамора и порфира.
Когда он однажды встал и собрался уходить, какая-то женщина — до сих пор он вовсе не замечал ее присутствия — вдруг подняла голову. К нему обернулось несколько широкое, яркое, чувственное лицо, с выражением упрямым и в то же время зовущим. Он удалился с подобающей поспешностью. Но на следующий день, в этот же самый час, был в церкви. Она молилась на прежнем месте.
Дома, в Испании, он не знал женщин, да, собственно, и не видел их. Испанские дамы не показывались. А если случалось увидеть одну из них издали, — она представлялась как бы упакованной в наглухо закрытую, подбитую ватой, пружинно-твердую одежду, волосы неизменно спрятаны, уши погружены в жесткие брыжи.
Не то было здесь, в этой духовной столице, полной холостяков. Сколько ни проповедовал аскетический папа, какие ни издавал законы об одежде и нравах, многое еще уцелело от жизнерадостности прежних лет. Как ни укоренялась испанская мода, римские женщины сумели придать мадридской одежде нечто женственно-свободное и легкомысленное. Цветной, податливый шелк обрисовывал стан, брыжи превращались в просторный кружевной воротник, изящно окружающий голову с непокрытыми естественно вьющимися волосами, которые были как можно золотистей. Щедро показывали шею и выгиб грудей.
Он решился было пойти вслед за своею красавицей. При выходе из церкви, под колоннами, мужество его покинуло. Она исчезла в путанице переулков над рекой.
На третий день он был на месте задолго до срока. Молитвенное созерцание не давалось ему. Он встал и начал прохаживаться взад и вперед по храму, не в силах себя сдержать. Редкие богомольцы обращали на него недовольные взгляды. Она не пришла. Она не пришла и в следующие дни. Она больше не приходила. Крючок засел в его теле. Курносое, широкое, приманчиво-яркое лицо представлялось ему идеально прекрасным и все прекраснее с каждою ночью.
Была осень, когда он однажды отправился к банкиру, в свое время выдавшему ему первый вексель на получение денег в Испании. Теперь это было уже в четвертый раз. Его больной господин, почти совершенно отказавшийся от уроков, изыскивал, однако, предлоги неоднократно повышать ему содержание, и с радостным сердцем нес он теперь в контору целых десять талеров. Это была уже значительная сумма. Дома родителям выплатят восемьдесят реалов; на эти деньги в сельской Алькала скромная семья может просуществовать несколько недель.
Окрыленным шагом миновал он мост Ангела и вскоре свернул влево на Виа ди Тор Сангвиньа. Здесь жил его сиенский банкир, в очаровательном старинном домике, всего в три окна шириной, с двумя колонками внизу при входе и веселой лоджией во втором, последнем, этаже. Контора была во дворе, путь туда вел через темный коридор. Кругом лежали почтовые мешки и тюки — сиенец занимался не только денежным делом, но и доставкой товаров. Мигель весело закончил свою честную операцию, тщательно сложил расписку и вышел.
Двор был пуст и тих. Случайно он поднял взгляд на внутреннюю стену дома. Он оцепенел. Там, вверху, во втором этаже, он увидел ее. В светло-зеленом домашнем платье, стояла она у одного из раскрытых окон. Быть может, это жилище сиенца, и она — его жена. Он не мог отвести глаз, наполнившихся слезами от возбуждения и напряженности созерцания. Она показалась ему неясно манящим силуэтом. В коридоре ему пришлось прислониться к стене. Потом он взял себя в руки, покачал головой, осуждая свою слабость, и решительно вышел на улицу.
Она появилась снова. Она перебежала к противоположным окнам. Она стояла посреди своей лоджии. Слегка наклонившись вперед, опершись раскинутыми руками о каменный карниз, так что свесились просторные зеленые шелковые рукава, она смотрела прямо на него. Ее яркое, сияющее лицо улыбалось.
Прежде чем он смог обо всем этом пораздумать, кто-то коснулся его руки. Его догнала женщина средних лет, одетая как служанка, и без всяких околичностей, как если бы речь шла о самом обычном, предложила ему следовать за нею. Госпожа ожидает его.
Он спотыкался на темной лестнице, женщине пришлось его поддерживать. Потом она исчезла, и в маленькой прихожей, где не было окон и горели две лампадки, он оказался лицом к лицу с молельщицей из Пантеона.
— Я часто вас замечала, — сказала она, улыбаясь, с акцентом, который не был римским и показался ему покоряющим, — пора нам, наконец, познакомиться. — И она жестом пригласила его пройти дальше, в большую комнату, которую обнаружил откинутый занавес.
Здесь царил полный дневной свет. В комнате стояли два кресла, туалетный столик, посредине — кровать, широкая и великолепная, с золототканным покрывалом из белого шелка.
Юный Мигель еще ни разу не бывал в римских жилищах, ему не привелось обменяться словом ни с одной женщиной этого города, если не считать нескольких служанок и лавочниц. Его жизнь протекала в мужской атмосфере Ватикана. Он не имел возможности сравнивать и судить.
Женщина почувствовала необычное. Она была смущена.
— Вы священник? — сказала она вопрошающе, когда они уселись в кресла друг против друга, и неопределенно указала на его одежду.
Мигель поспешно ответил с таким усердием, словно он сидел на испытании. Но вскоре его ободрил звук собственного голоса. Он говорил очень хорошо, слово плавно подчинялось ему, когда он был воодушевлен. Он едва осмелился воспользоваться ее добротой, он отлично сознает, что недостоин, но слишком уж явен был перст судьбы в том, что ее, — единственную, кого он увидел, запечатлел в своем сердце, потерял, искал, — он теперь снова обрел именно в том из бесчисленных домов Рима, куда его привело случайное дело.
И тут им овладел порыв.
Он изобразил встречу в Санта Мария Ротонда, на тысячелетних плитах, под небесным оком, свое бессилие сосредоточиться в молитве с тех пор, как он ее увидел однажды, то мгновение, когда она исчезла в путанице переулков над рекой, свое отчаяние, когда он больше ее не встретил. И вдруг, и вдруг! непостижима судьба, бесконечно счастье!
Он говорил в упоении. От ее легко одетого, мягкого тела шел аромат, пьянивший его иначе, чем привычный ладан, — дыхание молодой, цветущей плоти, с едва ощутимой примесью острых духов.
Вдруг она резко поднялась и заявила, что теперь он должен идти.
— И никогда больше не приходить? — спросил он почти беззвучно.
Она задумалась и посмотрела на него испытующе. И вдруг, совершенно необъяснимо, смех еще больше смежил ее сияющие раскосые глаза, раздвинулся обольстительный рот, белое горло напружилось, она крепко сжала обе его руки.
О да, приходить он может, но только в определенные часы, утром, всегда только утром, и только по вторникам: во всякое другое время это было бы рискованно. И, провожая его к выходу, она прибавила еще несколько неопределенных фраз, смысл которых он смог упорядочить и уяснить себе только дома, в своей ватиканской башне. Из них, по-видимому, следовало, что она была вдовою купца и жила в уединении, ожидая нового выгодного замужества, которое подготовлялось и ни в коем случае не должно было подвергаться опасности.
Когда он явился во вторник, с первым ударом колокола, белокурая, видимо, была не в духе. Вероятно, не выспалась. Она почти не дала себе труда скрыть досадливое раскаяние по поводу бессмысленного приключения и строила злобные гримасы юному Мигелю, пытавшемуся занимать ее почтительным разговором. И вдруг, без всякого перехода, она прервала беседу, поднялась, бросилась на ложе и с грубым нетерпением призвала его к любви. Впрочем, дорогое шелковое покрывало было предусмотрительно снято с кровати заботливо сложенное, оно висело на скамье.
Юный Мигель был неопытен. Презрительно, с небрежной улыбкой в опущенных уголках рта, принимала она его ласки. Он же ничего не видел в своем неистовстве, иначе его протрезвило бы ее выражение. Но вскоре она перестала смеяться.
Он был новичком. Но он был рожден для страсти. Верный инстинкт указал ему дорогу к наслаждению. Было мгновение, когда она уперлась руками в его плечи, удивленно заглянула ему в глаза, словно увидела его впервые:
— Опомнись! Ты же убьешь себя и меня!
Когда он потом отдыхал рядом с нею, в ее объятиях, она не переставала его разглядывать.
— Ты удивительный, маленький учитель, — сказала она с уважением.
Лицо рядом с ней мгновенно и неожиданно похорошело. Это больше был не мальчик, бедный полумонашек, но мужчина с твердо очерченным ртом и сверкающими жизнью глазами. Крылья благородного носа двигались медленно и сильно. Густые и спутанные каштановые волосы мягко лежали на лбу.
Это было начало. Мигель теперь жил лишь от объятия до объятия. Пронизывающее блаженство переполняло ему сердце и нервы. Его дружелюбие било через край. Он мог бы обнять ослика, который волок крестьянскую тележку. Он искал утоления своим силам в бесконечных прогулках по Риму; не заботясь о разбойничьем сброде, подстерегавшем там путников, рыскал он по меланхолически чарующим и пустынным окрестностям. Кто протягивал ему руку, ощущал в пожатии электрический ток.
— Что с тобою случилось, сынок? — говорил Фумагалли. — Будущему священнику подобает шествовать чинно. Ты же порхаешь по священным лестницам, словно ты в танцевальном зале.
Он был не в духе. Он бранился. Святой отец надумал запретить духовенству ношение бороды. Фумагалли гордился своей крестьянской бородищей, единственной оставшейся еще в соборе святого Петра. «Подчиниться? Ни за что!» — разъяснял он каждому, кто выражал готовность слушать, он лучше сбросит с себя мантию. В шестьдесят лет менять лицо, — ну, уж нет! Сколько он видел, сам папа носит бороду. Ведь выдумают же!
Мигель успокаивал его с любовью: он располагал неисчерпаемой сокровищницей доброты и сердечности. «До этого дело не дойдет», — заявлял он убежденно. Вся история с запрещением — холостой выстрел, ему это известно из достоверных источников. Через месяц все забудется.
— Спасибо тебе, сынок! — пробормотал каноник. — Ты умеешь утешить. Но разве не позорно жить в таком нелепом подчинении? Можно бы заниматься и чем-нибудь другим на этой обширной земле! — Он не сказал, чем именно.
Гина была венецианкой — вот все, что узнал от нее юный Мигель, кроме ее имени, даже недели спустя. Она говорила мало, эти утренние часы были сплошным пыланием. Не встретив особого сопротивления, добился он разрешения приходить дважды в неделю, теперь еще и по пятницам. Часто заставал он ее заспанной, в неубранной комнате и не расположенной к любви. Он бранил ленивицу, соню, она жмурилась загадочно и коварно. Но пламя его было неодолимо. Ее влекло к нему с тою же ненасытностью, что и в часы объятий. Случалось, что он задавал вопросы с едва скрываемым страхом, потому что ведь свадьба могла вдруг оказаться совсем близкой и все погубить. Тяжело было думать об этом, тяжело было думать и об ущербе, греховно наносимом им простодушному жениху. Он никогда бы не решился облегчить себя исповедью, ибо невозможно было ему отказаться от этого греха. Но бог милосерден, он не отвергнет его из-за страсти, огонь которой был непобедим.
Ответа он не получал. Гина прижимала его к своей белой груди и душила вопросы. Да и не лучше ли было так? Потому что упади свет реального бытия на их отношения, что сказал бы он сам? Что ей обещать, что рассказать о собственном будущем? Правда, его переполняли безмерные и бесформенные надежды. В своей башне он мечтал, что любимая разделит с ним почести и славу поэта, воина, даже открывателя новых земель, но только, разумеется, не священника. Очевидно было, что он никогда не сможет отказаться от нее, от тела и аромата, от голоса, от смеха. Он не жил, пока не узнал ее.
Но, может быть, она ждала? Ждала лишь единого слова, чтобы разбить все оковы? Быть может, досада накоплялась в ее сердце оттого, что он молчал? Недаром была она замкнута, порой пугающе молчалива. Быть может, он губил все тем, что не говорил?
Но когда он однажды решился сломить молчание и заговорил о будущем и о жизни вместе, когда было произнесено слово «брак», — действие оказалось ужасающим. Гина залилась смехом — таким, какого он раньше от нее не слышал: смехом невеселым, звучавшим резко и холодно, язвительным, злобным и неудержимым.
— Жениться хочешь на мне, монашек! — произнесла она, наконец, дребезжащим голосом. — Хочешь жить со мной в своей башне, кормить меня крысиным мясом и поить водой? Ну, можно ли выдумать что-нибудь глупее! — И разговор закончился, как всегда, в огне ненасытных поцелуев.
Нет, он ничего о ней не знал. Одно лишь делало ее разговорчивой Венеция, родной город. Она была достаточно благочестива и с готовностью воздавала божие богу. Мигель это знал. Но она ненавидела Рим, его торжественность, его чопорное существование, непомерное число священников и грязных монахов, процессии кающихся, терзающих себе спины под пение псалмов, холодные праздные улицы, несмолкаемый колокольный звон, развалины, лежащие вокруг. И она описывала Венецию, родину. Густонаселенный, кипучий мировой город посреди живого сплетения вод, сверкающая Пьяцца, где так восхитительно гулять вечерами, переулки и площади, залитые нежным сиянием. Поток знатных путешественников из всех стран, пленительная пестрота изящных одежд, достойные люди, приезжающие не для молитв и покаяния, но ради общения, ради того, чтоб веселиться среди веселых и тратить деньги на прекрасные вещи. Она становилась красноречивой, описывая сутолоку на Риальто, множество разукрашенных гондол с нарядными женщинами, гордо покоящимися на подушках.
— Там красив каждый бедняк-гондольер, — восклицала она, — и все римские кардинальские мантии я охотно отдала бы за его алые штаны! А карнавал: весь великолепный город — сплошной праздник на много недель; день и ночь — маскарад, смеющийся вихрь удовольствий, пьяцца Сан-Марко — вечный бал, каждый дворик — потаенная ложа. Все — веселье, беззаботность, дружелюбие. И властвует там не изуверствующий нищий монах, а правительство, благосклонно разрешающее радости жизни, никогда не вмешивающаяся, кротчайшая полиция…
— Что ты все поминаешь полицию? — перебил он, потому что не в первый раз слышал от нее это слово. — Какое тебе дело до полиции? Разве римская тебя обижает? — И он засмеялся.
Она странно на него посмотрела и сердито умолкла.
Это было во вторник.
Когда он пришел в пятницу, держа в руках сверточек с шелковым платком, который собирался ей подарить, ему не отперли. Он постучался, сперва рукой, потом громче — бронзовой колотушкой. Все было тихо. Пока он медлил, предчувствуя дурное и еще не в силах уйти, мимо него, в полутьме, проскользнула ее служанка. Он не видел ее с того дня, как она провела его с улицы. Он остановил ее: где госпожа?
— Уехала, — язвительно сказала она, — вы же видите.
— Куда? — произнес он. — К своему жениху? Она выходит замуж?
Она оглядела его с головы до пят, словно экзотического зверя.
— Ну еще бы! Разумеется, выходит замуж. За принца!
— Не дурачьтесь! Говорите толком. — Он вытащил из кармана деньги. — Где она живет? Могу я ее видеть?
— О да, видеть вы ее можете и очень даже свободно. Знаете вы Португальскую арку?
Он покачал головой.
— Тогда спросите людей. Там вы ее наверняка застанете.
— А когда?
— Вечером, конечно. Попозже! — И она направилась к лестнице.
— Но в каком же доме? — крикнул он вслед.
— Сами увидите.
День был нескончаемо долог. И несчастной судьбе его было угодно, чтобы именно в этот вечер его пригласили на урок. Это случалось теперь очень редко. Обычно Аквавива пользовался услугами его пера: поручал ему переписывать и приводить в порядок бумаги. Испанские уроки, когда они имели место, заключались в совместном чтении. Так и сегодня: он уселся против кресла своего господина, и они принялись читать по двум отпечатанным экземплярам произведение испанца Лопе де Руэда. Это была прославленная «Армелина», комедия, которую юный Мигель привык считать образцовым трудом и которая даже внушала ему тайное честолюбивое желание когда-нибудь попытать свои силы на театре.
Но сегодня все казалось ему грубым и надуманным. Чего стоили все эти волшебные снадобьями любовные напитки, о которых там шла речь, рядом с адским раствором, пылавшим в его жилах! Столь пустые слова мог произносить лишь тот, кто никогда не испытывал ничего похожего. Мысли его разбегались, он не в силах был заботиться об усовершенствовании произношения и акцента кардинала, оставлявших желать лучшего.
— Вы не вполне отдаетесь занятиям, дон Мигель, — дружески заметил Аквавива и закрыл книгу. — И вы дурно выглядите. У вас что-нибудь неладно?
Мигель извинился: вторжение зимы ежегодно давало себя знать. Это уже прошло.
— При этом в Риме она все же мягче, чем в вашем Мадриде. Но, может быть, у вас неблагополучно с жилищем? Хорошо ли отапливается ваша комната в башне?
— С этим все обстоит прекрасно, — заверил Мигель, растроганный заботливостью больного господина.
Кардинал, наконец, отпустил его.
Был десятый час. Новая неудача. Все ворота вокруг дворца был заперты и строго охранялись. С недавних пор каждый, кто покидал ночью папский замок, обязан был иметь письменный пропуск. Дважды пытался Мигель вступать в переговоры, но швейцарская стража не пожелала его понять и наотрез отказала ему на гортанном немецком наречии. Он кинулся обратно, блуждая по лестницам и переходам, пробегая садами, галереями, дворами, и где-то на самых отдаленных задворках нашел, наконец, маленькую Порта Постерула, которая не охранялась и была не заперта. Она выходила на глинистый пустырь.
Он обогнул могучую громаду, преодолел ограды и рвы и молчаливыми переулками Борго выбрался на мост святого Ангела. Отсюда он побежал вдоль реки. Немощеная набережная была совершенно темна, сырая декабрьская ночь была безлунна, хотя и тепла. Он миновал Тибрскую гавань — две убогие барки стояли на якоре, на одной из них поблескивал зеленый фонарик. Собака корабельщика залаяла на торопливый шаг.
Он немного отклонился от реки, как ему было указано. Прямая улица, которой он теперь шел, была Рипетта. Вдруг он споткнулся и упал, больно обо что-то ударившись. Оглядевшись, он понял, что с ним случилось. Поперек улицы лежал древний обелиск, разбитый на четыре громадных осколка. Ему описывали это место, он приближался к цели.
Справа от него поднялось из темноты причудливое круглое строение, он узнал его по описаниям: это была гробница императора Августа. Из отверстия наверху в ночи кивали деревья. Крошечные низкие переулки обвивались вокруг гиганта.
Где-нибудь здесь.
Это была местность, где селились бедные чужестранцы. У каждой национальности были свои улицы. Отсюда и названия мест: Греческий двор, Славонский переулок, Португальская арка. Мелькали недобрые лица. Мигель расспрашивал, ему отвечали неохотно и скупо. Впрочем, все это было несущественно, лишь одно его мучило: как могла она поселиться в таком окружении! Он остановился.
Португальская арка оказалась некрасивой кирпичной стеной с двумя новыми деревянными пристройками, позади которых был виден кривой переулок.
Здесь горел огонь. В кольца, вделанные в стены одноэтажных домиков справа и слева, были воткнуты факелы, фантастически озарявшие ночную суету. Мигель шел, как в страшном сне. Женщины толпились целыми стаями, десятками, одетые по-разному, некоторые очень роскошно, многие — в серых дешевых плащах. Они расхаживали, болтая, они окликали мужчин, которые, согнувшись, испытующе рыскали среди них. Многие окна были освещены, слышались ругань и смех.
Вдруг он очутился перед нею. Свет факелов кроваво сиял на ее широком и плоском белом лице. Она стояла с четырьмя другими. Она увидела его, кивнула и закричала:
— Посмотрите-ка на этого: вон он идет! Он хочет жениться на мне. Он поп, но хочет на мне жениться. Смелее же, дон Мигель, не стесняйтесь! Здесь вы можете жениться на мне днем и ночью. Только в серальо это дороже, чем в городе. По одному скудо за каждую свадьбу!
И, гордая поднявшимся вокруг одобрительным смехом, она и в самом деле направилась к своей двери. Дверь оказалась рядом.
Он отпрянул. Он не в силах был отвести взгляда. Какой-то пьяный пошатнулся на пороге одной из дверей и сильно его толкнул. Мигель нашел щель между двумя домами, отступил туда, спотыкаясь, и очутился в просторном ветреном поле.
Он чувствовал себя так, будто увидел смерть.
ЛИХОРАДКА
Документ прошел через его собственные руки…
Естественно было, что столь ревностный папа, как Пий, ненавидел свободные нравы своей столицы. В каждой слабости видел он смертный грех, был недоступен никаким увещаниям, не знал иных средств, кроме безжалостной строгости. В самом начале своего понтификата он объявил смертельную кару за нарушение супружеской верности. С большой неохотой заменил он ее позднее бичеванием и пожизненной тюрьмой. От этого не спасали ни знатность, ни заслуги.
Он решил искоренить племя куртизанок. Правда, далеко было то время, когда свободно живущие женщины неограниченно властвовали над римским обществом, когда в их салонах происходили блистательные встречи кардиналов, послов и художников и добиться доступа к ним было труднее, чем папской аудиенции.
Но космополитический склад святого города, безбрачие его правителей не допустили уменьшения числа продажных женщин и в более трудные времена. И теперь у них были лоджии на виднейших улицах, в квартале прелатов и придворных, банкиров и богатых бездельников на Виа Джулиа, Виа Сикстина, на Канале ди Понте. Они жили в почете, и все, что было торгового в Риме, существовало только благодаря им.
Для Пия они были отродьем дьявола. Охотнее всего он сжег бы их всех на одном костре. Он не долго терпел. Появился немногословный указ, изгонявший женщин: в шесть дней им предписывалось покинуть Рим, в двенадцать дней — христианское государство. Этим очищалась святая столица, прославлялся закон и водворялся мир.
Но мира-то и не последовало. Последовала смута. Полное отчаяние охватило всех, кто занимался ремеслами и торговлей. Купцы, открывшие женщинам кредит, объявили себя разоренными. Откупщики таможенного сбора заявили во всеуслышание, что государственная казна в будущем понесет двадцать тысяч дукатов ежегодного убытка — так сильно сократится ввоз предметов роскоши, когда будут изгнаны куртизанки. Это означает, что Риму предстоит обезлюдеть. Население неизбежно уменьшится на одну четверть. И зачем это все, зачем?! Но никто не осмеливался говорить более внятно. Духовный суд стоял на страже и прислушивался.
Депутация из сорока наиболее почтенных горожан явилась к папе на аудиенцию. Их красноречие было тщетно. «Они или я», — сказал монах. В священном Риме, где пролилось столько крови мучеников, где покоятся останки стольких святых, где средоточие христианской веры и престол наместника Петра, нет места блудницам. Он или они; скорее он перенесет свою резиденцию в какое-либо менее оскверненное место, нежели потерпит и впредь осквернение. Господа могут удовольствоваться этим.
Но этим отнюдь не удовольствовались. Прошение следовало за прошением. Напрасно вмешивались в дело кардиналы более свободных воззрений. Послы Флоренции и Португалии и даже Испании пытались заступиться и получили строжайшие назидания.
Выселение началось. Домовладельцы и торговцы ломали руки. Женщины собрались в путь: кто побогаче — на лошадях, в портшезах и каретах, остальные — на мулах и ослах. Одни направлялись в Геную, другие в Неаполь, большинство в Венецию. Они везли с собой все, что имели. Но они недалеко уехали. Государство святого отца, даже вблизи столицы, кишело разбойничьими шайками. Они нагло окружали засадами жалкие дороги, полиция их почти не тревожила. Большая часть женщин, уныло следовавших по этим дорогам, была зверски ограблена, многие были убиты. Те, которым удалось спастись, в полном смятении и отчаянии вернулись в Рим.
Это заставило отнестись мягче к тем, которые еще не успели уехать: им позволили остаться. Однако центр города и вообще все дома, где обитали почтенные горожане, были от них очищены. Им отвели гетто, самый запущенный и отдаленный квартал возле гробницы Августа. Элегантные гетеры, читавшие Катулла и говорившие на четырех языках, были заперты вместе с грубыми потаскушками. Ни днем ни ночью ни одна не смела покинуть серальо под угрозой бичевания.
Так было три года тому назад. Никто, кроме самого папы, не склонен был стоять на страже этого закона. Чиновники смотрели сквозь пальцы. Запрет был нарушен, обойден, канул в вечность. Вскоре в тех переулках осталось лишь наиболее грубое скопище женщин. Остальные, покровительствуемые своими почитателями, жили, расселившись по-новому в превосходных лоджиях. Возрождался прежний порядок, правда в формах более скромных. Куртизанки показывались только в своих окнах. Если же они покидали дом, чтобы пройтись среди мужчин, то шли в церковь. Хождение в церковь извиняло многое.
Но этой зимой доминиканцу был сделан донос, вновь преисполнивший его яростным гневом. Он потребовал точного отчета, увидел, как обстоит дело, и снова принялся за свое.
Были составлены списки. Удар обрушился сразу: методично, час за часом, отряды полиции врывались в жилища, хватали ничего не подозревавших и сгоняли их всех в одно место. Домовладельцам, которые осмелились бы впредь скрыть одну из них, грозила пожизненная тюрьма. Гетто возле могилы Августа повелено было обнести стеной. Папа окружил плотское наслаждение чумным кордоном.
Юный Мигель Сервантес держал этот список в собственных руках и сам передал его кардиналу, скрепившему указ свинцовой печатью. Он не обратил внимания на список — какое ему было до него дело! Теперь листок был снова у него перед глазами, он видел его чудовищно увеличенным, со всеми росчерками писца. «Девушки Панада, Тоффоли, Скаппи, Цукки, Цоппио…» Регина Тоффоли — это была она.
Его природа склонилась под жесточайшим натиском стыда и скорби, она подалась — он заболел. Однажды, еще ребенком, в родной Алькала он испытал нечто похожее, когда два больших и сильных мальчугана напали на него, связали ему руки и выпороли беззащитного. Тогда, как и теперь, была сильная лихорадка при ослаблении важнейших жизненных функций, — по ощущениям вполне сносное состояние: не было никаких болей, и ласковый бред уводил его от действительности.
Так лежал он на жесткой постели в своей каморке. Никто не заботился о нем. Тупоумный прислужник два раза приносил ему ненужную еду. Увидев, что она остается нетронутой, он перестал приходить.
На пятый день Фумагалли заметил исчезновение своего питомца. Он перепугался, увидев его лежащим на соломенном матраце, с раскаленной головой и неестественно сияющими глазами, и рядом с ним кувшин с питьевой водой сомнительной чистоты. В нетопленной комнате, в которой дуло из четырех окон, царил ледяной холод.
Каноник завернул больного в шерстяное одеяло, взял его на руки, как спеленатое дитя, и понес лестницами и гулкими коридорами вниз, в свою комнату. Теперь Сервантес покоился, отвернувшись от света, на удобном ложе, среди ганнибаловых ковров.
Пришел врач, доктор Ипполито Беневольенти, высоколобый, торжественный, облаченный в тончайшее черное сукно. Он смотрел и исследовал, выслушивал и выстукивал. На это ушло немало времени.
— Горячка, — объявил он наконец.
— А уж я думал, не роды ли! — насмешливо сказал каноник.
Обиженный ученый прописал лекарства и удалился. Фумагалли раскинул походную кровать. Он ни на час не покидал своего сынка. Он мыл его и укутывал теплыми пеленками. Обнаружив, что живот у него твердый и вздутый, он поставил ему клистир с примесью масла, ромашки и аниса, и это оказало свое действие.
На третий день начались головные боли. Каноник налепил Мигелю два мастичных пластыря на виски. На четвертый день лихорадка утихла, на пятый исчезла.
Фумагалли сам спускался на кухню и отведывал супы. Ничто его не удовлетворяло, он выплеснул две тарелки, повара трепетали.
Однажды, вернувшись с дымящимся бульонам, он застал Мигеля в слезах. Он поставил миску в теплое место. Он дал ему выплакаться.
— Ешь, — сказал он потом. — Перестань мудрствовать. Все позади. Мир велик. — Он никогда ни о чем не расспрашивал.
Соседний колокол пробил двенадцать.
— Мне надо идти, — сказал Фумагалли. — Читать мессу. Я получил выговор.
— Так спешите же, отец мой! Ne fiat messa serius quam una hora post meridiem,[4] — процитировал Мигель со слабой улыбкой.
— Но зато после почитаем мы, — крикнул Фумагалли в дверях, — и совершенно другое!
Под этим «другим» он разумел излюбленное свое чтение: Комментарии Цезаря.
Мигель знал книгу, а каноник помнил ее почти наизусть. Неторопливо читал он своим низким голосом. Сервантес лежал и слушал. Кровь его утихала под размеренный топот галльских легионов. Со скал на гобеленах отважно и прямо глядела голова пунийца ему в лицо.
Он выздоровел и захотел встать. Каноник не разрешил. Старику нравилось ухаживать за больным.
Все чаще говорили они о предстоящих военных событиях. Фумагалли приносил известия. Речь шла о турках, о Кипре, о Средиземном море.
С трудом осуществлялось единение христианских государств. Все пылали благочестивым гневом, но медлили, хитрили и были крайне расчетливы. Франция окончательно отказалась, император в Вене колебался, остальные Филипп, папа и Венеция — торговались из-за снаряжения каждой галеры, из-за каждой отправки зерна. Филипп был прежде всего чрезвычайно сребролюбивым союзником. Он все бесконечно отсрочивал, взвешивал и не давал ответа. Он требовал платы за каждую поддержку богоугодного начинания.
Он затевал торг из-за каждого лишнего сухаря для гребцов.
Но положение становилось все опаснее с каждой уходящей неделей. Пала Никозия на Кипре, та же участь ожидала столицу Фамагусту; Крит, Корфу и Рагуза были под непосредственной турецкой угрозой.
Было, наконец, решено, что дальше медлить нельзя; папа взял на себя шестую часть военных расходов, Венеция — две шестых, Испания — половину.
Когда, сообщив об этом, каноник обрушился на скряг и промедлителей, выздоравливающий Мигель почти не слушал его. Для него не существовало этой печальной и смешной действительности. Он отворачивался от нее сокровеннейшей глубиной своего естества. Его действительностью были вера и геройство в их нерушимом сиянии. И воинственный крестьянин в церковной мантии был не таким человеком, чтобы это в нем порицать.
В эти дни пришло долгожданное письмо из родительского дома в Алькала́. Кроме обстоятельных советов и благословений, в нем были также вести о брате Родриго. Родриго действительно стал солдатом. Он доблестно сражался с последними испанскими маврами в диких горах к югу от Гранады и собирался перейти во флот, чтобы последовать за своим полководцем и принять участие в решительном бою с султаном. Кто был этот полководец? Дон Хуан Австрийский. Блестящее имя! Для Мигеля — пустой звук. Он спросил священника. Тот охотно ответил. Удивительно было, что он это знал, — знать было опасно.
— Это сын императора Карла, сынок, — горячо рассказывал он. — Совсем еще юноша, не старше тебя. Сводный брат твоего Филиппа, суди его бог. Мать была немка. Красив он, говорят, как ангел, и мечтает лишь о победах. Само собой понятно, что твой Филипп хотел сделать из него кардинала. Но теперь он генерал-адмирал и идет против турок, и если все выйдет так, как затеял глава нашего дома, то будет крестовый поход, и Дон Хуан завоюет гроб Господень.
Душа юного Мигеля была вспаханным полем. Каждое слово всходило. Человек фантазии, чувственного воображения, он вдруг увидел перед собой императорского сына в белом сиянии, прекрасные черты слились воедино с чертами пунийца, смотревшего на его ложе из-под шлема времен Возрождения, с развевающимся султаном. О, только бы поскорее покинуть Рим и последовать за этими знаменами! Рим стал ему ненавистен после случившегося. И не суждено ему было стать священником, как и тому, кто отверг кардинальскую шапку. Он выздоровел и принял решение.
Фумагалли сообщил подробности о падении Никозии. Защитникам венецианской твердыни было обещано свободное отступление. Но турки нарушили уговор, и двадцать тысяч безоружных людей пали жертвой их зверств.
Это было чудовищно. Мигель воспламенился как набожный христианин и человек сердца. Он больше не колебался и не задавал вопросов.
Не думал он и о насилиях, чинимых над иноверцами его родной Испанией, о пытках, изгнаниях, казнях, со времен Изабеллы и Фердинанда сотни тысяч раз свирепствовавших над маврами и иудеями. Тогда повелевал бог, и сомнение было грехом. Избиение христиан — это совсем другое.
В тот день ему впервые разрешили встать.
Но Фумагалли следовало повременить со своим рассказом. Он помертвел, увидев его действие. Лихорадка вернулась. Бурный рецидив. Больной метался и кричал. Фумагалли пришлось обеими руками удерживать его в постели.
— Нельзя же всему так буквально верить, — сказал старик, когда припадок прошел, — люди ведь тоже лгут.
Но было уж слишком поздно.
ПАРАД ФЛОТА
Полководец не появлялся. Уже два месяца стояли корабли венецианцев и папы под Мессиной. Было там и несколько испанских галер, ожидавших прибытия остальных. Они встали на якорь поодаль, ради предотвращения ссор. Когда солдаты различных войск встречались на берегу, в переулках и кабаках веселого портового города, дело всегда кончалось кровопролитием. Говорили, что король Филипп нарушил договор, Дон Хуан Австрийский еще и не думал отправляться в путь. Ожидавшие зарастали здесь плесенью, а турки тем временем плыли в Адриатику. Наступил конец августа. Дон Хуан с кораблями не появлялся. Приходилось думать, что и не появится.
Но он был в пути. Только галеры его плыли медленно. Он не спешил. Он проводил время в празднествах. Сперва месяц в Генуе, где он содержал блистательный двор в палаццо Дориа. Все женщины были влюблены в адмирала. Потом месяц в испанском Неаполе, где было еще шумней. Турниры и балы чередовались с церковными торжествами. Полководцу вручался жезл, и освещалось знамя христианской Лиги. Это требовало приготовлений. На выработку порядка церемонии в Санта-Кьяра ушло три дня.
Смутные вести дошли, наконец, до слуха мессинских вождей — папского военачальника Колонны и седого Венца, командовавшего венецианскими кораблями. Солдаты ничего не знали. Они ругались. Была служба, и служба утомительная, а к этому никто не был привычен. К чему были эти упражнения в стрельбе и фехтовании? Ведь каждый умел рубить и колоть. Ведь каждый знал, что такое морской бой: надо было причалить к вражескому кораблю, перекинуть абордажный мостик и перебить неверных. В этом и состояло все искусство. К тому же, как обычно, задерживалось жалованье, береговые удовольствия становились все менее доступными. Корабли же постоянно требовали ухода, приходилось смолить, конопатить и в кровь обдирать руки на такелаже. А Дон Хуан не появлялся.
«Маркеза» была дрянным старым суденышком Через каждые два дня приходилось вычерпывать воду, ведра не стояли на месте. Солдаты любили ее командира, капитана Диего де Урбина, полнокровного человека с широким лицом, добродушно выглядывавшим из-под железного чепчика. Каждую свою команду начинал он с обращения: «Господа солдаты!» Но командовал он много. Быть может, старался утомить своих людей, чтобы сделать их неспособными на буйство.
Тесно было жить на крошечном корабле. Полтораста солдат спали вповалку в низеньком трюме. Не каждому удавалось встать во весь рост. Дышать было трудно. Так как постоянно ходили слухи, что в порт прокралась чума, многие пили снадобье, считавшееся спасительным: водку, настоенную на чесноке. Напиток этот им, по-видимому, нравился. Все было пропитано вонью.
Здесь жил Мигель де Сервантес и чувствовал себя превосходно. Римского полумонашка нельзя было узнать. Он раздался в кости, загорелое лицо весело глядело из-под железной каски, он отпустил усы и сам заботливо подстригал их ножницами каждую неделю.
Он долго простоял со своей ротой под Неаполем. Скверное было время. Солдаты, в большинстве отъявленный сброд, преступники, нырнувшие под знамена от карающих рук правосудия, с ненавистью почуяли тоньше организованную натуру. Каждый день приходилось ему защищаться. Он защищался. Он раздавал тумаки и еще больше их получал, с поразительной игрой фантазии усвоил их речь, знал множество историй и прибауток, считался добрым товарищем и не был выскочкой. Последняя дикая сцена разыгралась здесь, под Мессиной. Водилась за Мигелем одна слабость, казавшаяся всем остальным отталкивающе-смехотворной: он читал. Он постоянно прятал у себя под одеялом несколько печатных томиков. Один из них нашел он как-то раскрытым и скотски перепачканным. Это был «Цезарь», которого на прощанье подарил ему Фумагалли, превосходный экземпляр, с прекрасным посвящением. На первой, теперь испорченной, странице было написано: «Si fractus illabatur orbis impavidum ferient ruinae»,[5] — изречение, достаточно, впрочем, языческое для духовного лица.
Случилось это вечером. При свете масляной лампады все, теснясь, спешили улечься.
— Кто это сделал? — спросил Сервантес.
Ответил многоголосый хохот, потому что поступок был всем известен: виновник учинил его открыто, и в этом видели великолепную шутку.
Встал и он сам; полуголый, выпятив волосатую грудь, подошел он к оскорбленному. Это был гигант, тупоумный полузверь, североиспанец, крестьянский парень родом из Галиссии.
— Ты нагадил, ты и вылижешь, — сказал Сервантес. Он не успел еще раздеться и был в кожаном колете с черными рукавами. Тот вместо ответа плюнул ему под ноги. Стало тихо, все наблюдали с величайшим любопытством.
— Не хочешь, так я тебя заставлю! — И он изо всех сил ударил его по губам обесчещенным классиком, еще и еще раз.
Книга разлетелась в клочья.
Тот кинулся на Сервантеса, оба в полумраке повалились на нары, худощавый Сервантес исчез под четырехугольным туловищем парня.
— Дело пахнет трупом, — оживленно заметил кто-то.
Но Сервантесу посчастливилось. Падая, он ударил крестьянина кулаком в подбородок, в то место — чуть-чуть пониже и наискосок, которое знает и высоко ценит каждый опытный боец. Это была случайность, но действие оказалось внушительным. Галлего лежал, закатив глаза и раскинув руки. Поднялся одобрительный смех. Обесчещенный том Мигель сунул под голову упавшему вместо подушки, вымыл руки в ведре и улегся спать.
Наутро стало известно, что полководец здесь. Ночью прибыл он из Неаполя. Весь богатый город был на ногах. Он славился своими празднествами, даже сам император Карл, избалованный приемами, однажды соизволил отметить, что нигде его так не чествовали, как в Мессине. Береговая улица мгновенно разукрасилась, пурпурный бархат протянулся от дворца к дворцу. Лес флагов вспыхнул в солнечном небе. Над гаванью зазвучал многоголосый колокольный звон. Из цитадели непрестанно гремела пальба.
Но с кораблей никого не отпускали на берег. На полдень был назначен парад флота. Все занимались чисткой кораблей, оружия, самих себя.
Дон Хуан Австрийский прибыл с сорока девятью галерами. Едва различимые, стояли они в заливе.
Но совсем близко, посреди бухты, бросил якорь адмиральский корабль. На корме его, перед капитанским мостиком, был воздвигнут громадный золотой крест, а на мачте развевалось знамя Лиги, врученное вице-королем в Неаполе, освященное в Санта-Кьяре. Ребячливые солдаты, а с ними и Сервантес, то и дело прерывали чистку, глазели, обсуждали каждую подробность. Штандарт был из голубого плотного шелкового штофа. Вверху, посредине, — гигантское изображение спасителя на кресте. Непосредственно в ногах у него — рельефный герб папы, справа — герб Испании, слева — Венеции. Золотые цепи вились вокруг эмблем, и с переплетений их тяжело и массивно спускался четвертый гербовый щит: императорского сына и адмирала.
Им надлежало смотреть. Им это велели. Потому что в четвертом часу пополудни, когда они стояли, выстроившись на своих палубах, когда были приспущены все паруса и выровнены длинные весла и адмиральский корабль медленно проплыл мимо них под грохот пушек, — весь блеск династии был явлен каждому из них в безупречно-блистающем облике, перед каждым из этих тупых и грубых наемников была раскрыта самая суть воинствующего изящества столетия.
Образ был создан специально для них, им надлежало хранить его, он им вперед оплачивал тягостный труд, раны и гибель. С этим образом в сердце предстояло им умирать. Кому суждено остаться в живых и вернуться домой, тот однажды призовет этот образ в зимнюю хижину, где рассказчика будут слушать с разинутыми ртами. Навсегда запомнил его и Сервантес. Когда он был уже стар и мудр, а Дон Хуан мертв, рано устраненный из мира ядом, — и тогда еще жил этот образ, и Сервантес говорил о нем и рисовал его мощными красками, хотя и улыбался при этом.
Только гребцы не видели его. Посаженные настолько глубоко, чтобы выпуклый край корабля закрывал от них море, полунагие и закованные, по трое в ряд гнули они спины на своих скамьях: преступники, военнопленные и еретики, превращенные в полузверей, ни днем ни ночью не видящие ничего, кроме спины впереди сидящего. Надсмотрщик с бичом прогуливался между ними и стегал по своему усмотрению. Белобородые старики были среди них. Они сидели здесь с тех самых пор, как впервые поплыла древняя галера. Они одни ничего не видели.
Дон Хуан Австрийский стоял на высоко изогнутом капитанском мостике своего судна, подле креста, под голубым штандартом. Немного позади, по правую его руку, Колонна — римлянин с яйцевидной лысой головой, в темной броне от шеи до пят; по левую — досточтимый Себастиано Венский в золотой мантии венецианского главного капитана. Оба с обнаженными головами, как Дон Хуан.
Он был белокож, светловолос, с тонкими чертами лица. Отброшенные назад мягкие волосы развевались вокруг юной его головы. Дерзко загибались кверху усы. Но что должно было каждого захватить, что, видимо, изучалось и комбинировалось неделями, — это была его одежда. У каждого солдата тотчас же явилось сознание, что подобное он видит впервые и более не увидит за всю свою чреватую опасностями жизнь. Один панцырь был чудом. Это был декоративный панцырь из серебра, отполированный до сверкания и спереди на груди замыкавшийся выпуклым ободком, в котором ослепительно преломлялось сицилийское солнце. Из шейной брони выбивались белые, как цветок, искусно нагофрированные брыжи и огибали бритый подбородок.
Светлошелковые рукава, обшитые золотыми розетками, изящно обрисовывали руки. Но особенно великолепно выглядела нижняя половина Дон Хуана Австрийского. Пугающе-тугое шелковое трико, без единой складочки, доходило почти до бедер, а выше шарообразно вздувались короткие модные штаны из красного атласа и золотой парчи, покроем, буфами и сквозным шитьем напоминающие женскую юбочку. В руке красавец держал освященный жезл полководца, поверх брони висело Золотое руно. Он улыбался и не двигался. Он стоял, как бы отлитый из цветного гипса, очевидно в целях воздействия, но, быть может, и потому также, что малейшее движение грозило нарушить гармонию его роскошного одеяния. Нелегко было так стоять.
Грубый военный народ смотрел упоенно. Это было явление почти божественное и положившее конец всяческим сомнениям. Да и роскошь эта оказывала честь каждому. Не флоту здесь делали смотр, но полководцу. Ведь под эгидой поистине изящнейшего полубога предстояло завтра выйти в бой!
Но это случилось еще не скоро. Корабли остались в порту. Ожидались подкрепления. Продолжались упражнения и стрельба, на судах стучали молотками, конопатили и чинили паруса; адмирал же развлекался в Мессине балами, банкетами и приключениями. Была середина сентября. Многие считали, что в этом году время уже упущено.
Наконец состоялось богослужение. Каждый солдат получил причастие от капуцинов и иезуитов, стаями сопровождавших флот. Начиналось серьезное.
Два дня спустя пристали к албанскому берегу, против Корфу. Новая проволочка. Между адмиралами вспыхнул раздор. Когда Дон Хуан захотел, на этот раз серьезно, осмотреть соединенный флот, ему было, под всевозможными предлогами, отказано в повиновении. Венец же, вспыльчивый не по летам и крайне раздраженный заносчивыми выходками принца, повесил сгоряча двух-трех нагло взбунтовавшихся испанцев. Дон Хуан увидел в этом посягательство на права, ему одному принадлежащие, и привлек генерала Республики к военному суду. Восстание венецианцев. Уже их галеры угрожающе окружили флагманское судно Дон Хуана, мессинское зрелище было всеми забыто. Вмешался римлянин Колонна. Возбуждение улеглось. Шел октябрь.
К концу четвертого месяца корабль-гонец привез известие о падении Фамагусты. Кипр принадлежал туркам. Их флот был в полной боевой готовности и собирался несколько южнее Мессины, в Коринфском заливе. Решение было принято.
Командиры получили предписания. Каждый собрал своих солдат.
На палубе ветхой «Маркезы» выстроились сто пятьдесят человек. Капитан Урбина заговорил.
— Господа солдаты! — начал он. Его добродушное лицо под шлемом было еще краснее, чем обычно. Держать речь было трудно. Но события говорили сами за себя.
Итак, Кипр стал языческим, полумесяц царил в тех морях, султану была открыта дорога к христианским городам.
Опившийся изверг Селим тянул свое запретное вино пополам с человеческой кровью. Отважные защитники Фамагусты были позорно изрублены, женщины изувечены, детей кучами разбивали о стены на глазах у матерей. Вот какая опасность грозила Венеции, Риму, испанским городам, если не положить предела!
И в заключение капитан рассказал о самом ужасном…
Турки знали и ненавидели мужественного Брагадино, голову и сердце венецианцев. Они решили выделить его из числа безыменных жертв и после долгого совещания измыслили для него неслыханную пытку.
Несчастный был ободран заживо. Из кожи его сделали чучело, одели его в венецианское должностное платье, привязали к коровьей спине и проволокли по улицам Фамагусты. Могучая натура страдальца долго сопротивлялась — он прожил целый день. Так видел он собственное свое позорное шествие.
— Вот, господа солдаты, — закончил капитан Урбина, — каковы враги ваши. Разите их, убивайте их, час битвы настал!
Весть о чудовищном событии, истинная или преувеличенная, оказала свое действие. Возмущение охватило даже тупоумнейших.
Мигеля шатало, когда они расходились. Он перегнулся через борт, его стошнило.
Близился вечер. Он с трудом сошел по ступенькам и бросился на ложе. Он дрожал. Он закрыл глаза, изо всех сил стараясь отогнать услышанное. Зубы его стучали. С отчаянием понял он, что лихорадка зажигается в его крови. С рабских скамеек над его головой неслись проклятия. Щелкал бич. Потом все смолкло.
Когда пришли остальные, чтоб устроиться на ночь, он лежал без сознания. Он метался и буйствовал. Он бредил и кричал. Его воображение облекало ужасное в непереносимую осязательность.
— К оружию! — кричал он. — Месть Господня!
Никто не мог заснуть. В конце концов они уложили его на соломенном мешке под лестницей, где оказался уголок в пять футов длиной и в три шириной. Люк был открыт. Туда проникал свежий воздух. Так отплыл он в бой.
ЛЕПАНТО
Он раскрыл глаза: полуденное солнце обожгло ему лицо. Он не знал, где он и что с ним. Была полная тишина, корабль стоял неподвижно. Лихорадка исчезла, но слабость была так велика, что он не мог сжать руку в кулак.
Сделав тяжкое усилие, он приподнялся, встал на колени и высунул голову в люк. Внезапно наступила полная, ослепительная ясность.
Готовился бой. Два флота стояли друг против друга, каждый был тщательно разбит на эскадры. Все было так беззвучно и неподвижно, что казалось нарисованным. Могло ли быть действительностью это видение, словно созданное ради игры, старательно вымеренное и многоцветное, над зеркальными бликами моря, под небом из голубого стекла? Сама природа затаила дыхание, чтобы не помешать битве.
Глаза болели от солнца, но он продолжал смотреть. Этот боевой порядок был таким ясным, таким простым, словно его выдумал аккуратный ребенок. Так как люк был на носу корабля, а «Маркеза» стояла почти в центре, он видел все, как из театральной ложи.
То, что он видел перед собой, могло быть только турецким флотом. Его расположение напоминало выгнутый полумесяц с выступающей вперед серединой. Точно соответствующим полукругом выстроилась перед ним армада христианских народов, тесно сплотились галеры, устремив на врага острые клювы. Вот эти, по левую сторону, были венецианские, судя по львиным штандартам и более тонким веслам. Но перед ними, повернув бока к туркам, стояли сомкнутым рядом корабли иного типа. Это были шесть галеасов республики святого Марка, пресловутые боевые гиганты в пятьдесят метров длиной с многочисленным экипажем и тридцатью литыми пушками на каждом, с такими тяжелыми веслами, что семь человек с трудом управляли одним веслом. Эти неповоротливые чудовища Мигель уже успел разглядеть под Корфу и знал также, что их очень высмеивал рыцарственный адмирал. Они не способны двигаться, неспособны даже повернуться, так передавали его слова; возводить подобные плавучие крепости — значило поносить господа бога, и что станется со славой и честью христианского боя, когда мы откроем пальбу из ста восьмидесяти пушек, вместо того чтоб мужественно биться грудь с грудью! Мигель вполне понял суждение Дон Хуана. Эти галеасы поистине не имели ничего общего с честью и испанским рыцарством. Но и они стояли здесь, ожидая и тая до времени смерть.
Повсюду у бортов были выстроены солдаты, как на параде. Они стояли шлем к шлему, щиты и брони сверкали, свет преломлялся в мечах и наконечниках копий — можно было подумать, что они готовятся к сухопутному бою. Паруса были зарифлены, знамена подняты на мачты. Все пожирали глазами врага, столь доступного для ненависти, для захвата.
Его корабли строением не отличались от западных. Но флот этот был пестрее в варварском своем великолепии. Золотились тройные гигантские килевые фонари, золотом и серебром мерцали на бортах изречения пророка, начертанные таинственными знаками, лес знамен овевал армаду, весь в полосах и звездах, весь переливающийся дикими красками Азии. Каждый фонарь, каждое древко знамени венчал полумесяц, пластически вонзавшийся в сияющий воздух.
Как и у христиан, всюду толпами теснились войска, в тюрбанах с перьями и пестро вздувающихся одеждах, вооруженные кривыми саблями, пиками, топорами, окованными металлом палицами; у многих луки и стрелы.
Но адмиральский корабль их, стоявший в центре, был выдвинут далеко вперед и со всех сторон почтительно окружен водой. Сервантес, щурясь, разглядел его во всех подробностях. Старик под знаменем пророка, в зеленом тюрбане и серебряном одеянии, с увенчанным полумесяцем жезлом в правой руке, был, по-видимому, их главный начальник, Капудан-паша. Он смотрел прямо перед собой — на флагманское судно христиан. Там стоял в ослепительном вооружении Дон Хуан Австрийский.
У Мигеля от непрерывного верчения головой болела шея, глаза болели от света. Мысли его разбегались.
Это была Коринфская бухта, место, назначенное заранее. Здесь падет удар, здесь все решится. Какое поле битвы! Берег по правую сторону, в расстоянии не более мили, был Пелопоннес, а влево, в нескольких часах плавания находились Дельфы. Он думал об этом — один из несметных тысяч. Он думал о большем. В этих водах лежал Акциум. Они должны были миновать его этой ночью, пока он томился в бреду. Снова вершилась судьба мира, как некогда… Октавиан вел силы Запада; силы Востока — Антоний; здесь был зенит, здесь столкнулись они. Но Клеопатра бежала, вслед за ней бежал и Антоний, погребая державу в лоне египтянки. Ныне здесь снова метали жребий Восток и Запад, полумесяц и крест.
Он откинулся назад, смертельно измученный слабостью. Он был, несомненно, единственным среди бесчисленных обитателей обоих этих флотов, способным размышлять в роковое мгновение. Но и, бесспорно, единственным, кто бездействовал в этот день, решавший судьбу тысячелетий, кто был ничтожнее женщины, простертый на своем ложе и бессильный протянуть руку за шлемом и щитом, лежавшими рядом с ним. Поистине бог поразил его этими приступами болезни, а последний припадок лишил его существование всякого смысла. Он оказался негодным бойцом, как и негодным священником, несчастный, не удостоенный небом достигнуть славы и блаженства, уготованных воинам.
И как бы в подтверждение, с палубы сквозь тонкие доски послышался голос. Это был голос священника. Сервантес различал каждое слово. Всем отпускались грехи. Палуба задрожала: там все преклонили колена. В это мгновение склонилось сорок тысяч бойцов на двухстах кораблях и слушало весть, дарующую прощение всем их грехам и раскрывающую двери блаженства каждому, кто ныне падет в бою за веру. Сервантес лежал, сложив на груди измученные лихорадкой руки, и сквозь веки его сомкнутых глаз пробивались слезы бессильной тоски, бессильного гнева. Священник говорил сперва по-латыни, затем перешел на испанскую речь. Потом — тишина. Он услышал, что солдаты встают. Прогремел пушечный выстрел. Адмиральский корабль подал знак. И тотчас же над семью кораблями забушевали крики: «Victoria! Victoria! Viva Cristo!»[6]
Галера поплыла. Началось.
Вой, визг и грохот светопреставления обрушился в трюм. Тысячеголосый пронзительный возглас «Алла-иль-Алла!», в то же мгновение проглоченный громом стожерлого залпа. Это были галеасы. Треск сталкивающихся весел, бряцанье оружия и топот солдат на палубе, призывные возгласы и окрики команды. Люк захлебнулся пороховым дымом. Кораблик покачнулся, лег набок, снова поплыл.
Мигель повернулся лицом вниз, зажал уши руками. Но тотчас же снова вскочил: его неодолимо тянуло к люку. Игрушечный порядок исчез, перед ним была дикая сумятица разгоревшейся битвы. Но тут, слева от себя, он увидел венецианское флагманское судно.
Отражая натиск эскадры, оно пробивалось к вражескому центру. Старик, стоявший на высоком капитанском мостике, под львиным штандартом, главный их капитан, был Ве́нец. К нему приковался взгляд Сервантеса, расширенный и неподвижный. Но он не видел ни властного лба старика, ни могучих его бровей, ни того, как странно вздрагивала его белая борода при возгласах команды. Он не видел его лица. Он видел только его одежду: поверх панцыря золотую мантию, плоский берет на голове. Это уже не был капитан Венец: это был Брагадино, замученный. Ему принадлежало это платье, должностное платье венецианца. Не корабль это плыл — ковыляло громадное животное с безглазой куклой на спине, которую тащили с криками перед кровавым взором умирающего.
Томительная волна сострадания, ужаса и жажды мщения поднялась в его крови. Сердце его готово было остановиться под непосильным бременем. Но оно забилось сильнее… жилы больного напряглись, он не был больше обессиленным, вышедшим из строя, неспособным к битве! Он встал на колени, нахлобучил шлем, схватил длинный меч и щит и бросился наверх.
«Маркеза» еще не вступила в бой. Солдаты еще стояли тесным строем среди гребущих рабов, занося оружие и высматривая. Кораблик был узкий, в пять шагов шириной, люди занимали проход между скамьями, самые скамьи, маленький кровельный помост на носу, под корзинообразным плетением капитанского мостика. Там помещался капитан Урбина. Сервантес протиснулся вперед. Честное лицо Урбины отливало синевой, шлем сидел на нем косо.
— Ты здесь зачем! — заорал он на запоздавшего. — Ты ведь болен. Пошел обратно в трюм!
Оглушительный треск поглотил его слова. Весла сломались Борт ударился о борт. «Маркезу» взяли на абордаж… Спереди через край перегнулись тюрбаны. Турки взбирались на палубу. Все кинулись туда — рубить и колоть, отдавливая руки воющим рабам. Нападающие срывались в море. Срывались и испанцы, борьба продолжалась в волнах, никто не думал о спасении и бегстве. Один турок, плывя на спине, натягивал лук. Сервантес заметил, что он целит в него. Просвистела стрела, рядом кто-то упал с простреленным глазом. В то же мгновение был убит веслом и стрелок. «Маркеза» освободилась и поплыла.
Неистовство и уничтожение вокруг. Ни закона, ни плана. Беспорядочное и яростное убийство. С пятисот судов одновременно стреляют пушки, мортиры, аркебузы. Корабли непрестанно берутся на абордаж, по пять, по десять раз каждый. Дым шести галеасов затемняет небо. Рыцарски или нет — они хозяйничают полновластно. Полдень превратился в ночь. Искры сшибающихся мечей и щитов, палиц, алебард и кинжалов сверкают, как гроза. Никто больше не знает, где враг, где брат.
На турецком корабле развевается знамя спасителя, египтянин командует римской галерой. Взбудораженное море покрыто кровавой пеной. Уже многие корабли охватил пожар, иные тонут, весла свистят над обломками, трупами и насмерть сцепившимися бойцами.
Исступленные призывы Христа и Аллаха, крики боли, щелкание бичей по спинам рабов, разжигающий визг свистков и рев труб.
«Маркезу» отнесло в свободные воды. Здесь вокруг нее роятся лишь слабейшие суденышки, фелюги, тартаны, немного труда стоит их отогнать. Отсюда виден центр битвы.
Там происходит нечто решающее. Адмиральские корабли сцепились вплотную, сами полководцы втянуты в дело. Высоки борта их кораблей, трудно через них перелезть. Через них перелезают снова и снова. Солдаты Капудана-паши — султанская гвардия, янычары, всем известны их приметные шапки. Беспощадно вгрызаются кривые сабли. Отборное войско Дон Хуана аркебузцы. Но им нет никакой пользы от искусного обращения с огнестрельным оружием, они хватаются за холодное. Сражается среди них и адмирал в серебряной броне. Он и теперь в изящных брыжах, но от шелкового трико пришлось отказаться: оно бы лопнуло. Он рубит и колет и упивается уничтожением. Не полководец он — убивающий мальчик. Сервантес умеет видеть. Он видит все.
Вдруг подымается ужасающий крик. «Маркеза» атакует. Урбина потерял рассудок! Он затеял напасть на плавучий замок! Он подплывает к высокой раззолоченной галере с пурпурным штандартом на носу — это флагманское судно Александрии. Его он хочет взять на абордаж! Но «Маркеза» невысока, едва перекинуты доски, как турки целыми глыбами обрушиваются на ее палубу. Затевается побоище. И какое побоище! Исступление и дикая толчея, Сервантес в общей куче, и слепо разит его меч. Рядом с его головой вдруг появляется голова недавно наказанного Галлего. Он смеется. Он убивает, сверкая своими клыками. Он кричит Сервантесу нечто зверски-дружеское — славная резня, лучше не надо! И Сервантеса радует, что его признал этот скот, и он стыдится своей радости. Безжалостен бой. «Святая матерь божья!» — стонет раненый. «У бога нет матери, собака!» — кричит мусульманин и приканчивает его. «Краткая теология!» — успевает подумать Сервантес. Вдруг в него вгрызается боль, раздирает его, он роняет щит. Это рука, левая. Она раздроблена пулей, она повисла, словно кровавый лоскут. Ему некогда думать о руке. Товарищи уже на вражеском судне.
Найдя незащищенное место, солдаты взбираются незаметно, вслед за ними взбегает по доске и Сервантес, истекая кровью, с мечом в правой руке. Он ничего больше не чувствует. Среди вооруженных теснятся нагие люди: с гребцов сорвали цепи, дали им оружие, вернули им свободу, и они упоенно кинулись в смерть.
Бьются грудь с грудью. Где сломалось оружие, убивает кулак. Турки рядами низвергаются в море. Их пурпурный флаг сорван со штока, с криком размахивает им испанец, в горло кричащему вонзается кинжал, окровавленную ткань хватают другие.
— Victoria! — кричат они. — Victoria! Слава Христу! — Корабль взят.
— Это значит — отомстить за мучеников! — Мигель говорит громко, прислонясь к турецкому борту. Рука, обмотанная тряпкой, пылает адским огнем. Но на душе у него светло и ясно, на душе у него легко. Вокруг еще стреляют, это ему безразлично… И тут две пули, почти одновременно, поражают его в грудь. Первая — пустяк, он тотчас же это сознает, она ударяется приглушенно, едва пробивает, колет. Но вторая впивается в тело. Он успевает подумать: не в сердце. Он поникает у борта, но оглушительный вопль победы еще раз приподымает ему веки… Вдалеке он видит кровавую бородатую голову на длинном копье, — это голова Капудана-паши. Он убит. Дон Хуан убил его. Конец!
Такова была битва в Греческом море, получившая свое имя от местечка Лепанто, в древности называвшегося Наупактос. Она длилась три часа. Десять тысяч оттоманов пало, восемь тысяч было взято в плен, захвачено сто галер, разбито пятьдесят, богатая добыча пушек и знамен. Двенадцать тысяч рабов-христиан было освобождено от турецких цепей. Победа была полная.
Папа проливал слезы радости в Ватикане, ему уже мерещился христианский Иерусалим. Венеция, освободившись от гнета, с удвоенным рвением предалась мирскому веселью. Один король Филипп остался холоден: кровь турок была дешевле крови еретиков, к тому же честь победы принадлежала Дон Хуану.
Нимб полумесяца померк, могущество его было повержено, царству его приходил конец. Но ничего не было сделано. Лига распалась. Лепанто не имело последствий.
В «ЧЕРНОЙ ШЛЯПЕ»
Ему лечили грудь и руку в бараках Мессины и Реджио. С грудью хирургам не пришлось много мудрить — она зажила сама. Но левая рука Сервантеса превратилась под ножами живорезов в неподвижный и бесчувственный обрубок.
Не было никаких средств заглушить боль. Перед тяжелыми операциями больных напаивали допьяна и таким путем затемняли их сознание. Сервантес брезгал этим, он наблюдал, как ножи рылись в его теле. Чудом спасся он от столбняка. Товарищи его мерли, как осенние мухи.
Долгие месяцы тянулось выздоровление. Позади госпиталя в Реджио был маленький апельсиновый сад, там сидел он на солнце и читал. Больничный духовник, иезуит, раздобыл ему Плутарха и Фукидида, обе книги в латинским переводе; Сервантес охотно беседовал с братьями о своем любимом предмете. День битвы могучими ударами резца сформировал его душу, лихорадка более не возвращалась, лихорадка, которую он непомерным усилием сбросил с себя в тот день. Дух его был спокоен в силен, в бою он так близок был к смерти, так пригляделся к ее неистовству, что она стала для него привычной и больше не пугала его. Изумительно было, что он еще жил, поистине нежданный подарок; из жестокой резни он вынес, впридачу к жизни, крепкую, ровную жизнерадостность. Это чувствовал каждый.
Капитан Урбина часто навещал больного и вручал ему, от имени полководца, почетные денежные подарки, сперва пятнадцать дукатов, потом двадцать, потом еще десять. Сервантес подозревал, что Дон Хуану ничего не было известно об этих приношениях. Оказалось, что Урбина, самый младший отпрыск ученой и воспитанной семьи, сбившийся на путь военщины, питает к нему дружеские чувства. В свое время он пытался уберечь Мигеля от битвы, и военное самообладание больного не могло не произвести на него впечатления.
— Я рассказал про это полководцу, — сообщал он, — я много раз ему про это рассказывал. Он вскоре вас посетит. — Но Дон Хуан не приходил. Он был занят, он блистал. — Он даст вам рекомендательное письмо, — говорил Урбина, — он мне обещал. Я перечислил ему ваши заслуги.
— Но какие же заслуги. Дон Диего?
— Не говорите вздора! Мы оба это знаем. Рекомендательное письмо будет адресовано королю. С ним вы вернетесь в Испанию, король сделает вас капитаном и даст вам роту.
Это было бы, конечно, большой удачей. Должность капитана считалась чрезвычайно доходной. Это обеспечило бы существование отцу, матери и сестрам.
Вести из дому звучали смутно и малоутешительно. Правда, одна из сестер была навсегда пристроена: она постриглась в монахини. Мигель попытался представить ее себе в одежде монахини-кармелитки, но черты ее расплылись и исчезли. Он ничего не знал о военных скитаниях брата Родриго. Ходили толки о жизни старшей сестры. Андреа много раз меняла мужей и не жила больше в родительском доме. Не существовало больше и самого родительского дома. Маленькое поместье в Алькала было продано, — за долги, как догадывался Мигель. Вести приходили из Мадрида, из Севильи, из Вальядолида.
Отец, в юности немного изучавший право, решил, по-видимому, попытать счастья на этом поприще и стал чем-то вроде судебного советчика и ходатая. Это давалось ему не легко, потому что в каждом письме были жалобы на все усиливающуюся глухоту. Мать молчала. Сервантеса мучила невозможность обеспечить стареющим людям беззаботный закат.
Наконец его отпустили как выздоровевшего. Остаток руки болтался у него в рукаве, это производило странное, но отнюдь не отталкивающее впечатление. Рука была похожа на обломок скалы.
Какое счастье, что это левая! Щит можно было привязать к руке… Готовились новые военные действия против турок. Быть может, ему еще удастся схватить счастье за холку в новом, более славном деле.
Но прошли времена боевых успехов для него и для Дон Хуана. Беспорядочно и неудачно развертывались последующие операции в Средиземном море, проводились по мелочам и всегда с недостаточными средствами. Подымали кулак для удара, но медлили его обрушить. Или наносили удар, но надо было ударить вторично, а этого не случалось, и враг вставал почти невредимым. Уже давно возродился магометанский флот. В Наваринской бухте представился случай окружить его и уничтожить; но несогласованность расслабляла каждое начинание, и христианская армада вернулась ни с чем.
Полководец беспокойно метался, подстегиваемый своим тщеславием. Он завоевал Тунис. Он завоевал его для себя, он желал там царствовать и через Ватикан сообщил о своем желании Филиппу. Филипп испугался. Сам не любивший войн, он смотрел с подозрением на своего заносчивого сводного брата. Он прежде всего отдал предусмотрительное распоряжение по своим канцеляриям при переписке отнюдь не именовать Дон Хуана Австрийского «высочеством», но лишь «превосходительством». Потом постепенно лишил его денежной и военной поддержки. Через год Тунис был снова потерян, теперь уже навсегда.
Дон Хуан устремил свои взоры на европейские государства. Он хотел властвовать. Он стал добиваться от Венецианской республики, чтобы в благодарность за его заслуги та уступила ему в суверенное владение часть своих островов. Ответ гласил, что Венеция заключила с Портой мир. Турки окрепли, берберийские разбойничьи государства снова дерзко рыскали по Средиземному морю. Корсары обшаривали все берега, облагали данью приморские города, захватывали корабли и людей, увозили богатую добычу в свои африканские гнезда.
Королевским войскам платили редко и скупо. Обременительными гостями были они в прекрасных городах Италии. Так как новых походов не предвиделось, войсковые части начали распадаться и солдаты были предоставлены самим себе. Толпами бродили они по полуострову, доблестные на вид, честные на словах, но хвастливые, презиравшие чужую жизнь и собственность, угрюмые и распутные. Любить их было не за что.
В это время король Филипп отозвал своего генералиссимуса с Южного моря. В неясных выражениях указывалось на некоторые задачи в Ломбардии. Время не предусматривалось, сборным пунктом войск назначалась Генуя. К этим войскам принадлежал также и полк Фигероа, в который был зачислен Сервантес.
Было мало радости тащиться с полком; без особого труда выхлопотал он себе разрешение проехать из Неаполя в Геную одному. Крайне стесненное полковое управление охотно избавило себя от лишнего рта.
Быстро была найдена лошадь. Неаполитанский торговец маслами, едущий в Рим, с удовольствием принял предложение военного сопровождать его по ненадежным дорогам. То рядом с ним, то поодаль, неторопливо скакал Сервантес на добром коне по древней Via Appia.[7] К четвертому полудню он уже ехал высокой насыпью, пересекающей голубоватый пар Понтийских болот. Лохматые головы буйволов подымались справа и слева из ядовитой травы. К вечеру в золотом летнем воздухе стояли перед ним холмы и купола Рима.
Вернув купцу его лошадь, Сервантес пустился пешком через весь город. У него колотилось сердце. Только теперь он осознал, как рад был он повидаться с каноником Фумагалли и приветливым Аквавивой. Не ради ли этого и поехал он один, проселочными дорогами?
Во дворце все ворота были раскрыты настежь. Никого не интересовал приезжий воин, никто его не опрашивал. При теперешнем папе в Ватикане царила свобода общения. Он лихо надвинул свой шлем, засунул за пояс кинжал и устремился вверх по знакомым лестницам, спеша по-военному обнять сурового старика. Духовные особы, спускавшиеся ему навстречу, оборачивались и пожимали плечами.
Это была та самая дверь. Он распахнул ее одним толчком и остановился. С молитвенной скамьи возмущенно поднялся незнакомый священник, молодой, остроносый, с пергаментным лицом и церемонно осведомился о причине посещения. Сервантес пробормотал извинение. Он окинул взглядом комнату. Ганнибаловы ковры висели на прежних местах.
Священник ничего не знал. До него в этих стенах жил чиновник индекс-конгрегации. Он никогда не слышал даже имени каноника.
Сервантес направился к апартаментам Аквавивы. Он робко постучал. Никто не отозвался. Все было пусто, двери смежных комнат стояли раскрытыми настежь. Царил безжизненный порядок.
Привратник, наконец, рассказал чужому солдату. Никого не осталось в живых. Каноник Фумагалли немногим пережил строгого папу, а за десять дней до него скончался кардинал. Он был похоронен в Латеране.
Привратник порылся в своей конторке.
— У меня, господин солдат, еще хранится листочек, — приветливо сказал он, — они раздавали такие после его смерти. Но вы его тоже навряд ли прочтете: тут по латыни написано.
— Все-таки дайте, — сказал Сервантес.
«Vix credi potest, — прочел он затуманенными глазами при свете масляного ночника, — quanto cum maerore totius urbis decesserit tantam sibi benevolentiam et gratiam ab omnibus comparaverit, morum suavitate ad vitae innocentia».[8]
— Истинно так: кроток он был и полон невинности, — произнес он затем и протянул обратно листок. — Блаженство ему уготовано.
— Amen, — сказал привратник.
Сервантес прошел галереями и темнеющими дворами, ища башню, в которой когда-то жил. Он увидел перед собой развалины.
Башню снесли. Долго стоял он там. В сгущающейся ночи развалины были похожи на гигантскую разрушенную колонну — могильный памятник древних.
Хотя ворота теперь, по-видимому, не охранялись, он все же пробрался к маленькой Порта Постерула, выходящей на глинистый пустырь. Он обогнул дворцовое здание, преодолел ограды и рвы и выбрался на мост Ангела тихими переулками Борго… Он нашел ночлег на ближайшем постоялом дворе и, не зажигая света, бросился на кровать в своей каморке.
На следующее утро, совсем рано, отправился он пешком дальше, на север. Он шел налегке. Маленький кожаный мешок висел у него за плечами, там же болтался и шлем, издали похожий на котелок. Меч и щит он оставил в обозе и только заткнул за пояс пистолет и кинжал. Голову он защитил от солнца платком, завязанным узелками, он срезал себе палку и размахивал ею, как посохом.
Он шел не спеша. Он видел Витербо с его красивыми колодцами, скалистое Бользенское озеро, строгую и величественную Сиену. На десятый день он остановился на перекрестке в Тоскане. Направо была Флоренция, до нее оставалось не более пяти часов ходьбы. Но не туда лежал его путь. Он немного отдохнул и пораздумал под тенистым платаном. Потом снова взял мешок и посох, переправился через Арно и двинулся дальше наискось, к морю.
Прекрасен и мирен был край, расстилавшийся перед ним в вечереющем свете. Мелкие очертания холмов, покрытых каштанами и шелковичными деревьями, лозы на склонах, долина, возделанная как сад. Просторно и беспечно раскинулись кругом крестьянские дворы и виллы; было видно, что войны давно не опустошали этой земли. Дорога вилась с холма на холм. Была лунная ночь, одиноко шагающий солдат устал. Вдруг он оказался перед стеной с воротами. Над бойницами склонялся лес; позади не было видно ни домов, ни башен. Перед воротами, при свете факела сидели за столом солдаты и играли в кости. Это были немецкие ландскнехты — Сервантес узнал их по платью.
Они равнодушно преградили ему путь и указали в пояснение на его военное платье. Он понял, что сюда не пускают вооруженных чужестранцев. Объясниться словами было трудно. Он, смеясь, вытащил из-за пояса свой пистолет и с театрально-беспомощным жестом нацелился в городскую стену. Они поняли, рассмеялись и пропустили его.
Внутренний вал густо зарос деревьями, это и был тот лес, позади которого прятались башни. Он шел тщательно вымощенными узкими улицами. Они были пустынны. Он пересек подобие канала и оказался на противоположном краю города.
В домике, стоявшем немного поодаль, светился еще огонек сквозь ставни вровень с землей. Над дверью торчала кованая рука с металлической шляпой, мерцающей в лунном свете черным, недавно подновленным лаком, вывеска гостиницы.
Он постучался. Только на четвертый удар, наконец, открыли, со свечкой в руке вышла хозяйка, молоденькая полная женщина с испуганным личиком.
Он попросил пристанища.
— Очень уж поздно, господин солдат, — боязливо сказала она.
— Вот именно! Очень поздно. Поэтому всем пора спать.
Все еще колеблясь, она впустила его и проводила по лестнице наверх.
— Не принесете ли вы мне хлеба и стакан вина? — сказал он уже в комнате. Она кивнула.
— Вы испанец? — спросила она в дверях.
— Похоже на то, что они вам не по вкусу.
— Мы мало знаем их. Редко сюда заходят. Был один в прошлом году. Только тот был совсем другой.
— Какой же?
— Важный.
Он предполагал утром двинуться дальше. Но остался.
Ему превосходно спалось в чистой и мягкой постели — давно уж он так не спал. Ни в одной из дорожных гостиниц не видел он стеклянных окон и умывальников.
Сойдя вниз, он заметил, что «Черная шляпа» почти примыкала к городской стене. Один лишь садик отделял дом от обсаженного деревьями внутреннего вала. Там были вбиты в землю два каменных стола с каменными же скамьями. Сервантесу подали утреннюю похлебку.
— Вы тут совсем близко от неприятеля, — обратился он к сидевшей против него хозяйке. — Когда придет неприятель, он спрыгнет прямо к вам в садик.
— О, к нам они не придут. Нас защитит венский император.
— Будем надеяться!
— Нам даны и свои вольности, — гордо сказала она. — У нас никогда не было инквизиции.
Окруженное стеною местечко, в которое попал Сервантес, оказалось городом Луккой. Это была мирная самоуправляющаяся община, подобие республики или герцогства без герцога, под протекторатом римского императора. Его ландскнехты играли в кости под факелом у ворот.
Пришли дети: девочка лет восьми-девяти и мальчик года на два моложе. Это были красивые, чистенькие создания, похожие на хозяйку.
— Вот уж сразу видно, кто их выкормил, — сказал Сервантес, — тут вам трудно будет отказаться.
— А вот и ошиблись, господин солдат. Мой только младшенький. Девочка, — она нагнулась к нему и зашептала, — дочка моей сестры, умершей в Маасе четыре года тому назад.
— О!
— Чем лучше человек, тем раньше его теряешь. Какой хороший был у меня муж…
— Вы уже вдова? Такая молоденькая?
— В семнадцать вышла замуж, он так и не увидел маленького. А теперь мне двадцать четыре. Жизнь уже кончилась, — она задумчиво вздохнула.
— Еще бы, еще бы! В двадцать четыре года — чего еще ждать!
Она неопределенно улыбнулась. Что-то необычайно приветливое, доверчивое исходило от всей ее маленькой фигурки. Едва встав с постели, она уже успела опрятно одеться и тщательно подобрать свои медные, слегка вьющиеся волосы.
Мальчик взобрался на скамейку. Он стоял рядом с матерью и пристально разглядывал левую руку Сервантеса.
— Что это у тебя? — спросил он вдруг, со страхом и любопытством указывая на скалистый обрубок. — Неужто рука?
Мать зарделась пламенем.
— Ну кто же так спрашивает, Доменико! — сердито крикнула она.
— Оставьте его… Твои две лапки, конечно, красивей, — сказал он ребенку и ласково обнял его правой рукой.
— Чего вы только не пережили! Вы нам должны рассказать.
— Кровавые истории — на что вам они!
— Нынче бы вечером. Ведь вы еще не уйдете?
— Хорошо, я останусь, — сказал Сервантес.
Он не ушел и на третий и на пятый день. Легкая и веселая жизнь, наполненная мирным трудом, захватила его своим очарованием.
— Вы слишком доверчивы, госпожа хозяйка, — сказал он как-то. — Откуда вы знаете, что я смогу заплатить?
— Если у вас вышли деньги, вы мне оставите пистолет и кинжал.
— Тогда уж мне совсем не уйти!
— Тогда оставайтесь, — тихо сказала она.
Впрочем, жизнь в «Черной шляпе» была дешева. Стакан легкого, освежающего вина стоил всего лишь сольдо. Поэтому и дело шло превосходно, шинок всегда был полон людей. Но по вечерам, когда становилось тихо, соседи сходились слушать Сервантеса.
— Вот это называется рассказывать, госпожа Анжелина, — заметил как-то каретник Динуччи, когда Сервантеса не было в комнате. — Все словно в руки берешь, словно нюхаешь, не знаю, понятно ли я выражаюсь. Это вам не прошлогодний испанец!..
— Не напоминайте мне о нем, мастер Динуччи! Мне и теперь еще жаль своих денег. Каждый день бывало подавай ему петушка, а то и двух, а потом ушел и оставил мне в ящике пару рваных чулок, вот и вся плата.
— Так и вижу, как он сидит бывало у вас в садике весь в лентах и позументах. Поверить ему, так он побывал во всех городах, вплоть до Перу, участвовал во всех боях и перебил собственной рукой больше неверных, чем их наберется во всей Африке. Только бывало и слышишь: «Я, я, я», словно он король какой-нибудь. А слыхали вы, чтобы дон Мигель хоть раз сказал «я»? Можно подумать, что он не знает этого слова по-итальянски.
— Выпейте стаканчик за его здоровье, — благодарно сказала Анжелина, это я вас угощаю. — И она налила ему до краев.
Бесхитростные люди упивались рассказами Сервантеса и ненасытно требовали от них все большей пестроты, все большего буйства. Печатные вести не доходили до них. Больше всего занимали их фантазию алжирские морские разбойники. Какое счастье, что соседнее побережье негостеприимно и бедно! Сюда не заплывал ни один.
Сервантесу приходилось рассказывать об их кораблях, маленьких и легких, с могучими парусами. Когда не было ветра, они гребли быстрее молнии. Рабы на веслах умирали от изнеможения, трупы выбрасывались в море. По ночам пираты бесшумно скользили в темноте и появлялись внезапно, как смерть. Неслыханные богатства увозили они домой. Мачты на их галиотах и фелюгах были полые и доверху набиты золотом — цехинами и дублонами. Все это была христианская кровь, превращенная в монеты. Сервантес знал все наиболее прославленные и страшные морские имена: Джафер из Дьеппа, Гассан Венециано, Дали-Мами. Всех же славнее был Хай-реддин Барбаросса, бейербей и властитель Африки.
Но веселье и нескончаемый смех вызвал его рассказ о янычарах солдатах султанской гвардии, людях свирепо отважных, но причудливых по обычаям и одежде.
— Они живут все вместе в своих казармах, похожих на монастыри. Женщин туда не пускают. Они сами стряпают и ведут общее хозяйство. По-видимому, еда для них важнейшее, потому что их доблести и чины определяются кухней. Главным поваром у них называется тот, кто у нас был бы полковником, есть у них вертельщики, подавальщики жаркого, хлебопеки и кухонные мальчики. Носят они поварские колпаки различных фасонов, украшенные перьями цапли. А знамя их суповой горшок.
— Суповой горшок, — восклицали слушатели, — настоящий обыкновенный суповой горшок?
Больше всех кричали дети, которых невозможно было уложить в постель. Они сидели у него на коленях.
Это было двумя часами позже, в его комнате. Еще горела свеча. Окно было раскрыто, журчал водоем. Анжелина заснула, нежно округлая рука с раскрытой ладонью свесилась с узкого ложа. От вьющихся ее волос шел аромат апельсиновой воды, к которому примешивался, едва уловимо и неприятно, запах жареного. Взгляд Сервантеса упал на его шлем, лежавший на самом краю стола, — расшалившейся Анжелине вздумалось его примерить; рыжеватые локоны, выбивающиеся из-под железной шапки, и обнаженная юная грудь напомнили ему тогда образ сельской полубогини на аллегорическом рисунке. Сервантес улыбнулся и тихонько поправил ее подушку.
Уже две недели прожил он здесь.
— А когда мы поженимся? — спросила она сегодня впервые, так, мимоходом и вскользь, словно речь шла о давно решенном.
И в самом деле: чего еще лучшего ждать? Он приобретал доверчивого, нежного друга, домашнее довольство, скромное благосостояние. Трактирщик в Лукке, равноправный гражданин крошечного государства, кротко сгибающегося под бурями времени, — правда, с иными мечтаниями в сердце вышел он в путь. Но уже шесть лет кружило его по свету, и до сих пор не сумел он выручить из нужды своих домашних. Церковь, море, дворец — он задумался над этим тройственным обещанием счастья. На нем пословица не оправдалась. На военной службе он не продвинулся. Письмо Дон Хуана к королю, обещанное добрым Урбиной, до сих пор не написано. И никогда не будет написано. А без протекции военные возможности были ничтожны. Чтоб обычным путем стать капитаном, надо было десять лет прослужить в прапорщиках, а он еще не был даже прапорщиком. Мечтал он когда-то и о поэтической славе. Он задумчиво усмехнулся. Строфы легко и благозвучно лились из-под его пера, и маэстро Ойос не мог нахвалиться. Это было далеко позади. Каждый испанский юноша умел так сочинять. Пожалуй, всего умнее было бы пробрить тонзуру и добиваться бенефиции. Но в Риме никого не осталось. С этим тоже было покончено.
Он потушил свечу своим нечувствительным обрубком и заснул подле Анжелины. Он редко видел сны. Сегодня он видел сон. Он стоял перед своей ватиканской башней в Риме, низко свисали облака, гремел гром, ночь озарялась синими молниями. Башня, уже накренившаяся, вдруг обрушилась с оглушительным грохотом, закрутился вихрь осколков и пыли. Но он стоял, не дрогнув под ливнем камней. И звучали слова из сверхчеловеческих уст, напутствие Фумагалли: «Si fractus illabatur orbis…» — «Если земля расколется, обломки погребут бесстрашного…»
Он вскинулся на ложе. Уже начинался рассвет. Железный чепец лежал на полу, откатившись к постели. Проснулась и Анжелина. Она схватила его за руку. У нее были испуганные глаза.
— Мне приснилось, будто тебя застрелили, — прошептала она.
— Шлем упал. Поспи еще немножко!
Спустя два часа он стоял перед ней в садике, уже снаряженный в дорогу.
— На что тебе калека, нищий-солдат? — сказал он. — Ты стоишь лучшего, и ты его найдешь.
Она уцепилась за него, она плакала навзрыд, не тревожась о том, что их могут видеть. Она обняла его и целовала в грудь, в губы. Он поспешил уйти. Он не оглянулся. Он вышел через соседние, северные ворота.
Он остановился лишь по ту сторону. Но уже ничего не было видно — ни домов, ни церквей. Высокие густые деревья внутреннего вала спрятали город. У ворот вокруг барабана сидели ландскнехты и играли в кости, хотя и был ранний утренний час.
Крупно шагал он в это августовское утро и вскоре достиг моря. Он рассчитывал на четвертый день быть в Генуе, со своим полком.
Но когда, на второй, он оставил позади гавань Специю и шел прямым, не обсаженным деревьями шоссе, вдали показался полк, маршировавший ему навстречу. Когда солдаты приблизились, он различил испанскую одежду, а вскоре и флажок, который нес передний: это были его товарищи.
Обменялись приветствиями и краткими расспросами, Из ломбардского дела ничего не вышло, они пробирались проселками обратно в Неаполь. Прескучно было это беспорядочное и бесцельное шатание взад и вперед. Он присоединился к ним и зашагал в строю. Задние затянули гимн в честь богородицы, но никто не знал дальше второй строфы, к пение оборвалось. Близился полдень, крутилась едкая пыль. Сервантес закашлялся, он переменил место и пошел впереди. Теперь он маршировал рядом со знаменем.
Знамя нес рослый, широкоплечий парень, на добрую голову выше Сервантеса. Тот молча шагал рядом с ним. Вдруг он почувствовал, что на него накидываются и изо всех сил обнимают. Весь отряд приостановился.
— Да, конечно же, это он! — орал знаменосец, и его бас дрожал от восторга.
— Кто он, ко всем турецким свиньям! — яростно крикнул Сервантес и вырвался. Тут он узнал своего брата Родриго.
«EL SOL»[9]
В Неаполе ничего не происходило. Город был переполнен бездельничающими войсками. Каждый день рождал слухи о грядущих военных подвигах, и все эти слухи таяли, как мыльная пена. Король Филипп забыл про восток. Еретические Нидерланды были шипом в его теле. Голландия и Зеландия уже дерзко грозили отпадением прямо в лицо могущественной испанской монархии.
В кипучем южном городе проводил Сервантес печальные летние дни. Деньги его приходили к концу. Правда, беды в этом не было: брат Родриго позвякивал неистраченным еще ломбардским жалованьем. Тот ни о чем не тревожился. Он ничего не жалел для брата. С первого же дня он привязался к Мигелю с детским благоговением, находил несравненными его подвиги и предсказывал ему великое будущее. Мигелю трудно было не улыбаться, когда он смотрел на брата.
— Я — это ты, но только изданный в одну двенадцатую листа, — сказал он ему как-то: книготорговое сравнение, едва ли понятное необразованному Родриго.
Прапорщик был похож на своего брата, только больше и грубее его телом и чертами; кустарником нависли высокие брови, орлиный нос выдвигался утесом.
Через месяц Сервантесу наскучило.
— Я еду, Родриго, — заявил он. — Корабль, надеюсь, подоспеет.
Родриго тотчас же согласился.
— Едем, — сказал он, — это решено, Мигель. Скажи мне только куда.
— В Испанию. Домой. Поедешь?
Это было банкротство. После шести лет отсутствия и пяти лет военной службы он возвращался домой, став калекой, без единого дуката в кармане, обреченный на то, чтобы обивать пороги мадридских канцелярий, показывать свой обрубок и вымаливать какое-нибудь местечко. О высочайшей рекомендации больше не было речи. Когда он встречался с Урбиной, красное лицо капитана становилось еще краснее и он сконфуженно отводил глаза.
Отъезд, впрочем, налаживался. Была середина сентября. Двадцатого три галеры отправлялись в Испанию, — удача: корабли редко отваживались пускаться порознь в опасное море. Сервантес пошел проститься с капитаном. Тот был в полном замешательстве.
С раннего утра братья дежурили на дамбе, неподалеку от которой стояли на якоре суда. Им предстояло плыть на самом маленьком из трех, именовавшемся несколько хвастливо: «El sol». Багаж их был ничтожен: оружие и два кожаных мешка. Толпились тут и другие путешественники, пестрое общество. Преобладали военные, но были и чиновники вице-короля, едущие на родину, купцы, священники, женщины, дети. Возбужденно болтали и смеялись. Разносчики навязывали свой товар из-за свойственного этим людям нелепого заблуждения, будто путешественнику недостаточно в дороге и собственного скарба. Оглушительно шумели два музыканта — барабанщик и флейтист. Некоторые господа еще успевали побриться на открытой пристани.
Тотчас за дамбой стоял могучий древний арагонский замок.
Там жил вице-король, и туда почетным гостем вернулся Дон Хуан Австрийский. Далеко позади осталось Лепанто, еще дальше — парад флота, когда Сервантес впервые увидел императорского сына в изящнейшем его великолепии.
Справа, по ту сторону небольшого бассейна, тесали и стучали молотками. Там рос новый военный арсенал. Сервантес поймал себя на том, что он смотрит с некоторой завистью на каменщиков. Что-то воздвигалось под их руками, они были нужны!
Пушечный выстрел с крепости острова возвестил полдень. На галерах взвились флаги. Путешественники начали грузиться. Высоко стояло в небе ясное солнце, но над бухтой стлался мягкий пар. Каменные стены далекого Сорренто лежали в голубой тени.
— Чего мы ждем, брат? — сказал Родриго и встал. — Идем на корабль.
Сервантес бессознательно медлил сделать последний шаг. Покинуть итальянскую землю — значило для него навсегда расстаться с надеждами. Он повернулся сидя и засмотрелся на вздымающийся уступами город. Долго он так сидел. Они были уже почти последними.
Вдруг увидел он, что из-за угла замка и через площадь, теперь почти пустую, к ним торопливо приближается человек в военной одежде. Он защитил глаза рукой и узнал капитана. Тот еще издали что-то кричал и размахивал бумагой, шлем сидел на нем косо, как в день Лепанто.
Трубачи на галерах прогудели первый сигнал. Гребец махал веслом. Подбежал торжествующий красный Урбина.
Так как все было тщетно и крайний час наступил, он решил отбросить все военные правила. В начищенной броне, в шарфе и с орденским крестом на груди направился он к замку арагонского короля. Но тут мужество его покинуло. Почти два часа пробродил он перед триумфальной аркой, служившей входом со стороны суши. Медные створы ворот были закрыты, в левом торчало пушечное ядро, и Урбина мучительно раздумывал над тем, как оно туда попало.
Когда прозвучал полуденный выстрел, дольше нельзя было медлить. Урбина нашел полководца в его салоне, пасмурно сидящим за поздним завтраком. Полководец помнил капитана. Он знал, зачем тот пришел. Опять этот Сервеедра, или как там его зовут, в четвертый раз пристают к нему с докучными просьбами, как будто это так приятно — адресоваться к царственному брату в Эскуриал!
Тусклыми глазами, под которыми уже появились мешки, смотрел он на офицера. Тот положил свои листки на уставленный кушаньями стол, между тарелками. Ради удобства он сам заготовил рекомендательные письма и даже в двух изложениях: пространном и кратком. Он представил их Дон Хуану на выбор. Почтительно, но настойчиво возобновил он свою петицию. Сегодня, сейчас отплывает тот доблестный герой, за которого он просит? Его, лично его обидит полководец, оскорбит его честь, воскликнул он, дрожа от волнения, если это ходатайство снова будет отвергнуто.
Ответа не последовало. Императорский сын апатично жевал. Тогда капитан Урбина решился на крайнее. Дрожащими руками снял он с шеи свой кавалерский крест Сант-Яго и швырнул его на документы, между кислыми и острыми блюдами.
Молодой властитель поднял глаза, всматриваясь в честное и возмущенное лицо. Потом, вздохнув, кивнул слуге и услужливо поданным пером подписал ближайший документ.
Случайно это оказался краткий.
— Теперь не мешайте мне есть, — глухо сказал он, — и чтоб я вас больше не видел!
Но когда Урбина вышел и, радуясь, как жених, сбегал по лестнице, ему навстречу подымался с военной свитой домохозяин и вице-король, испанский гранд. Капитан был захвачен полетом успеха, все ему казалось легко. Он преклонил колено перед удивленным правителем, поднес к его глазам неподписанную рекомендацию и поразительно кратко изъяснил свое дело.
— Охотно, — сказал гранд, — только попрошу вас пройти со мной в комнату.
Ему польстило, что его ходатайство считали чуть ли не равноценным рекомендации царского адмирала.
Всего этого так и не узнал Сервантес. Трубы проревели вторично. Он схватил свернутые бумаги здоровой рукой, и слезы полились по его лицу. Родриго почтительно стоял подле, он тоже был счастлив, но отнюдь не изумлен: само собой разумелось, что все так заботились о благополучии Мигеля.
— Храни вас святая дева! — сказал капитан. И это было все.
Вовремя поднявшийся южный ветер погнал маленькую эскадру верным путем, мимо мыса Мизенум, проливом Проциды. Но вскоре наступил штиль. Бок о бок скользили три суденышка вдоль итальянского берега, к северу. Без нужды пересекать открытое море казалось безумием.
Это было медленное, но веселое путешествие. Каждый радовался возвращению на родину, на борту «Солнца» не было, казалось, ни одного несчастного. Даже гребцы были свободными матросами, они пели в такт на своих скамьях.
Счастливейшим из всех был прапорщик Сервантес. Он никак не мог досыта насладиться чтением документов, заключавших в себе честь и будущее его брата. Он знал их наизусть, он их цитировал каждому. «Солдат, доныне безвестный, но достойный всеобщего почитания благодаря своей доблести, разумности и беспорочному поведению», — неустанно повторял купцам, монахам и женщинам его восторженный бас.
Тот, кого так величали, обычно тихонько сидел близ капитанского мостика и читал. Лишь когда корабль приблизился к Тоскане, оторвался он от книги и долго смотрел на берег. Немногими милями глубже лежал обнесенный стеной городок императора с деревьями на валу.
Показалась Генуя, потом несколько дней тянулась сверкающая полоса Лигурийского побережья с зубчатой стеной Приморских Альп над ней.
Это было на шестую ночь. Ни единого ветерка. И все же завтра в полдень они предполагали достигнуть Марселя, а еще через день — испанской земли.
Братья лежали рядом на палубе, завернувшись в своя плащи. Родриго уже спал. Когда Сервантес поворачивался на правый бок, чтобы также попытаться заснуть, на груди у него хрустели письма к королю Филиппу. Это было богатство, это было спасение близких, это была, может быть, слава. Ворота жизни раскрылись перед ним.
Но в полдень с юго-запада налетел шторм.
МЕРТВЫЕ КОРОЛИ
Траурные процессии двигались по всей Испании: с севера к центру, с запада к центру, с юга к центру. Король Филипп ожидал их.
Как давно уже стремится он жить, соединившись со смертью. Слишком медленно возводится этот дворец-монастырь для усопших его дома. Местность мрачна и уединенна, суровые скалистые горы цепенеют, безжалостны опустошительные бури. Двенадцать лет здесь строят. Двенадцать лет король Филипп наблюдает за стройкой. Мадрид видит его редко. Он ждет.
Сперва в ближайшей деревушке. Там, в одной из хижин, в тесноте ютятся монахи. В каморке они устроили часовню, нарисовали крест на известковой стене, над алтарем, протянули одеяло, потому что дождь протекает сквозь ветхую крышу. Комнатка так узка, что во время мессы причетник задевает ногами коленопреклоненного короля.
Не лучше живет и он сам, первый властелин этой земли. В доме священника нет окон и нет камина. Сиденьем служит единственная деревянная скамья о трех ножках.
На исходе восьмого года монахи переселяются в неоконченный замок, с ними и король Филипп. Сырое новое здание губительно для его подагрического тела. Гранды его свиты пребывают в полном отчаянии, сами монахи тайно ропщут. Монахи любят быть среди своих.
Из нескольких скудно обставленных комнат, по соседству с временным храмом, исходят бумаги, вершащие судьбы двух полушарий. Движение и шум стройки вокруг. Всюду еще запустение. Каменные кладки густо зарастают ярой жесткой, упрямой сорной травой, почти не поддающейся выпалыванию. Груды строительного камня. Тяжелые телеги, запряженные двадцатью-сорока быками, волокут его сюда из каменоломен. Ни визг двухколесных кранов, ни стук на лесах, ни скрежет пил, ни кузнечные молоты, ни резцы каменотесов, ни топоры дровосеков в соседнем лесу — ничто не мешает ожидающему королю.
Но все чересчур затягивается. Закончены лишь восточный и южный приделы чудовищного четырехугольника. Медленно движется работа над погребальным храмом, которому предстоит сводом своим осенить мертвецов. Тогда он повелевает оставить все работы и спешно возводить склеп. Желание его неодолимо. Не может он дольше ждать.
Часами сидит он за своим столом, изучает карты и таблицы миль, методически набрасывает планы перевозок. Широко разбросаны обиталища мертвецов его дома. Столько-то и столько-то дней займет переход, там-то и там-то надлежит ожидать, здесь провести ночь, на том перекрестке процессия соединится с процессией, в таком-то месте все они сольются в одну, в такой-то день, наконец, совершится прибытие усопших и их встретит король. Заботливо выбирает он вельмож, которым поручает сопровождение усопших. Герцог Алькала, записывает он, герцог Эскалона, архиепископы Саламанки, Хаэна, Саморы. Им придется платить за неизмеримую честь, каждый поезд содержится на средства избранного предводителя. Неслыханное соединение мистического томления с расчетливостью.
У него есть причины быть расчетливым. Испания скудеет кровью. Несмотря на власть над миром, земля его иссыхает. Все совершается во имя бога.
Король не заботится о том, понимает ли его мир. Нет мира, кроме дома Габсбургов. Ни одного из чужестранных суверенов не титулует он величеством. Величие принадлежит лишь его собственному дому. Лишь мертвецы, которых ждет он, — величества.
Они прибывают из соборов и монастырей, где они почивали, из Андалузии, из Эстремадуры, из Старой Кастилии, из Мадрида. Среди них нет ни одного, кто был бы счастлив при жизни. Потустороннему принадлежит этот дом, земная жизнь и земная радость чужды ему. Прибывает Иоганна, мать императора, подарившая роду своему скорбь и безумие. Прибывает императрица, мать Филиппа. Прибывают королевы Венгрии и Франции, сестры императора, в чужих краях опиравшиеся на его власть. Прибывают молодые королевы, жены Филиппа, жертвы слишком раннего материнства. Прибывают царственные дети, родившиеся не для жизни. Прибывает Дон Карлос, полузверь, оправданный смертью, снова ставший желанным отцу, который запретил ему жить. Прибывает из монастыря Юсте сам император Карл.
Длинны пути, плохи дороги. Ожидающему в Эскуриале известен каждый верстовой знак, который минует каждый поезд в каждый час. Он сам тщательнейшим образом составил каждую процессию, назначил число возглавляющих ее знатных людей, число нищенствующих монахов и капелланов. Было установлено церемониальное отличие между трупами, и к каждому был приставлен почетный эскорт, какого он был достоин. К такому-то инфанту восемнадцать пажей, к такой-то королеве — двадцать четыре. Он рассчитал, сколько локтей крепа пойдет на траурные попоны лошадей. На золотой парче, покрывающей гробы, должны возлежать геральдические обручи различной формы, строго установленной законом и рангом.
Тощее необозримое плоскогорье выжжено солнцем. Народ празднует и толпится на пыльных улицах. Все города разукрашены трауром, каждая беднейшая деревушка, всего лишь груда камней, вывесила обшитые крепом красно-желтые флаги. Ночуют в церквах, под похоронное пение и молитвы. Сопровождающие лежат без сна на каменных плитах и кутаются в плащи.
Потом ожиданию наступает конец. Приходит известие: они соединились, они приближаются. Сумрачный и непогожий день. Над Эскуриалом низко стелются разорванные облака. Король выходит из незаконченного портала незаконченного гигантского склепа.
Широкая площадь еще не вымощена, земля изрыта, яра не выкорчевана. Воздвигнут грандиозный катафалк, весь — черный бархат и золотая парча. Три ступени ведут к нему. Длинный помост ожидает гробы. Балдахин покоится на вызолоченных колоннах.
Король подходит к помосту совершенно один. Он в торжественнейшем одеянии. На нем берет и пышное облачение Золотого руна: раскрытая сутана с отворотами, на которых рельефным шитьем многократно повторяется изображение агнца. В руках у него распятие. Его взгляд устремлен поверх выжженной степи, безрадостного сердца его страны Мили и мили расстилаются перед ним — вплоть до далеких Толедских гор. Посредине неопределенным белесоватым пятном мерцает его город — Мадрид.
Уже доносится траурная музыка, слышится пение молитв. Уже приближается первое шествие, взбираясь горной дорогой.
Показывается орлиный штандарт. Гроб Карла V, колыхаясь, вздымается первым.
Король Филипп преклоняет колена. Это осыпанное драгоценными камнями распятие держал в руках император, умирая в Юсте. Хочет и он умереть, не расставаясь с ним.
В этот час он отчитывается перед отцом. Ах, руки обвивающие его крест, уже не в силах связать воедино царство Божие на земле. Прошли навсегда те прекрасные, благочестивые времена, когда всю Европу сочетало единство веры. Страшные дела допустил бог, безрадостен стал его мир. Повсюду смута, ложная вера, безумие. Англия, Германия, Север давно осуждены на вечные муки, в габсбургских Нидерландах глубокий духовный мятеж, король Франции готов заключить мир с еретиками. Габсбургское же море, и юг, и восток отданы языческому пророку — от Атлантики до гроба Господня и от гроба Господня до Вены.
Но он не страшится отчета. Он всегда был готов всем пожертвовать богу. Во имя чистого учения его держава враждует со всеми государствами, его люди заносят кинжал над головами изменивших правителей, лучшие провинции превращены в пустыни, опустошена государственная казна, сожжены и навсегда изгнаны мавританская промышленность и иудейская мудрость.
Вскоре он останется совсем один, с мертвецами своего рода, с единственными, кому он не чужд, в замке веры, в котором они поселяются ныне.
Из незаконченных недр начинает звучать орган. Раздаются салюты собравшихся войск. Из ворот, у которых нет еще створов, выходит приор с крестом. Пение из недр сливается с псалмами приближающихся.
Вот короли собрались на широком плато перед могильным замком, который, зияя, протягивает к ним бесформенные руки. Король Филипп стоит под накрапывающим дождем и наблюдает за церемонией, сопровождающей снятие ларей с колесниц и их расстановку на возвышении. Неумолчно звучат залпы, органная музыка, звон и пение, архиепископы в сутанах и митрах благословляют мертвых. Ладанный чад низко стелется в дождливом воздухе.
Свершилось. Длинной лентой, в строго установленном порядке гробы покрывают громадный помост. Каждый усопший поименован инициалом и золотым гербом. Но посредине, величественно обособленный, тяжело возвышается гроб с закованной в нем короной, с императорским знаменем у изголовья, облаченный в погребальный покров, густо затканный орлами мирового могущества.
В тяжелом упоении стоит наследник. О, если бы продлить это мгновение! Это высочайшее мгновение его жизни. Никогда впредь, даже и в склепе, не сможет он так обнять их единым взглядом, — их, с кем он связан узами крови, призвания и судьбы. Этот парад мертвецов наконец-то утоляет его, утоляет восторженную веру, утоляет также и его глубокую, болезненную, ненасытную жажду порядка. Порядок дает одна лишь смерть.
Но вдруг, словно первобытный хищный зверь из своей пещеры, с гор, завывая, низвергается ураган.
Он бич этой угрюмой местности. Монахи боятся его, они видят в нем воплощение сатаны, защищающего от растущих башен свое уединенное царство. Но никогда еще так не свирепствовала дьявольская сила, как в этот день.
Роскошь и порядок разрушены в один миг.
Короны катятся, сломано знамя; срываясь, улетают покровы. Могучий балдахин вздувается, как парус в открытом море, и лопается, с треском обрушиваются золотые колонны. От щегольского катафалка остается лишь обнаженный помост. Полотнища щелкают и свистят; ловить их опасно: они могут убить. Под гигантскими кулаками уничтожаются в воздухе символы величия Габсбургов. Лохмотья с коронами и орлами уносятся через каменистое поле в лес. «Парчовые цветы расцвели у нас в лесу», — скажут весной дровосеки, отдыхая в полдень под каменными дубами.
Митры архиепископов покатились в грязь. Облачение ордена сорвано с плеч короля Филиппа. Тщедушная худая фигурка в черной нижней одежде одиноко борется с бурей среди голых гробов.
ДАЛИ-МАМИ
Буря примчалась из Испании.
Они миновали Марсель и устье Роны. На одном из выступов суши показалась деревушка с серой церковью, напоминающей крепость своими зубчатыми стенами и подобием сторожевой башни. Боцман назвал местность: «Les Saintes Maries».
Здесь налетел на них зюйд-вест. Он налетел с такой силой, что маленькая эскадра была разрознена в одно мгновение. «Солнце» осталось без спутников. Холодный, косой, хлещущий ливень вымел палубу. Все загрохотали по узкой лесенке вниз. Наверху остался лишь капитан с двумя помощниками. Гребцы прикрыли головы плащами и, согнувшись, изо всех сил налегли на весла, потому что маленький кораблик почти неодолимо относило к берегу. Становилось все пасмурней, сверкнула молния, загрохотал гром.
В корабельном, чреве царила сумятица. Людей то высоко подкидывало, то швыряло вниз, то вдруг пол вставал ребром, так что все катились друг на друга, женщины стонали, дети жалобно плакали. Воздух становился все тяжелей…
Резкий толчок. Удар. Наткнулись на утес! Это был конец. Но тотчас же раздался второй удар, еще ужаснее первого и с противоположной стороны. Несколько мужчин кинулось на палубу, с ними Сервантес. Они туда не добрались. Лестница уже была занята, торчали пистолетные дула, прогремел выстрел, один испанец покачнулся, покатился обратно вниз, увлекая за собой остальных. Трюм наполнился плачем и воплями.
Никто не сопротивлялся. Ни у кого не было при себе оружия. А у кого было, тот не мог им воспользоваться из-за тесноты. Сервантесу удалось выбраться на палубу. Там его тотчас же повалили, связали и оттащили в сторону, как бычью тушу. Тут же купался в собственной крови капитан «El sol», несколько мертвых матросов висело на веслах. Буря утихла, моросил тонкий дождь. Палуба была переполнена вооруженными с головы до ног корсарами, которые переругивались между собой.
Под палубой выстрелы, топот и крики. Потом из люка вынырнул пассажир со связанными за спиной руками, за ним другой, третий. Родриго не было видно. Командовал коренастый хромой человек в тюрбане с застежкой, в набухшей от дождя богатой одежде. В руке у него была странная палица, род гибкой трости с набалдашником, которой он щедро подкреплял свои приказания.
Связанный Сервантес с трудом приподнялся и кинул быстрый взгляд за край корабля. «El sol» был дважды взят на абордаж: два корабля держали его крюками и дреками с бакборта и штирборта. Неподалеку стоял третий капер. Они, очевидно, прятались в одной из извилистых бухт Ронской дельты и напали оттуда.
Дождь перестал, пробилось солнце. Хромой командир заслонил глаза рукой и огляделся. В это мгновение раздался пушечный выстрел. Сервантес знал, что на одном из испанских судов были две маленькие пушки. Хромой выкрикнул приказание. Пленников начали перегонять по сходням на разбойничьи корабли.
Так как это шло чересчур медленно, прибегли к быстрейшему способу: связанных хватали за плечи и за ноги, раскачивали и перекидывали. Так полетел и Сервантес. Он с треском ударился затылком о весельную скамью и распростерся в беспамятстве.
Когда он пришел в себя, корабль был в спокойном движении. Сервантес лежал неподалеку от киля; кругом рядами перевязанных тюков валялись товарищи его по судьбе, многие разбились до крови. Погода была ясная и приветливая. Хромой стоял возле мачты, зажав подмышкой свою трость. В руках он держал тетрадь и что-то в нее записывал, корча досадливые гримасы. У него было жирное, белое, отнюдь не восточное лицо, на котором зловеще выделялось отвисшее веко.
Рядом с Сервантесом, справа, тихо лежал иезуитский священник со шрамом на лбу и с ясно-сосредоточенным взглядом; по другую сторону — изящная дама средних лет, жена мадридского придворного чиновника. Прическа ее развилась, и грим размазался пятнами по мокрому лицу. Хотя именно этого ожидали и боялись, но во всем событии было нечто до такой степени неправдоподобно-безумное, что Сервантес, к величайшему собственному изумлению, вдруг ощутил щекотку смеха. Он не мог удержаться. Он засмеялся, согнувшись в своих оковах. Соседи недоумевающе обернулись.
Прошел день, прошел вечер. Все молчали. «Тюкам» не дали никакой еды. Маленькое судно распустило все свои несоразмерно-громадные паруса. Плыли без света. «Все это я совершенно точно описывал в Лукке», — подумал Сервантес. Кораблик летел открытым морем, держа курс на юг. Дня через три они будут в Алжире… Справа лежит испанский берег. Там ожидали его славное будущее и почет. Письма шелестели у него на груди. Предельным усилием он заставил себя перестать об этом думать. Тогда вернулась тревога за Родриго. Но чувство полной готовности ко всему успокоило его наконец. Была прохладная звездная ночь, и клонило ко сну. Он потихоньку высвободил из петли левую руку и смог улечься поудобнее. В иных обстоятельствах полезно быть одноруким. Он заснул. Он спал совсем неплохо.
Утром их разбудили пинками. Их начали грабить, и грабить весьма методически. Двое пиратов обшаривали беззащитных, двое других подставляли громадный мешок, куда запихивалось все без разбора: деньги, шапки, украшения, пряжки, платки, табакерки, кушаки и перчатки. Хромой капитан наблюдал за происходящим и заботился о том, чтобы ни один талер, ни одно запястье не ускользнули.
Один из подручных, в зеленой рубахе и черной шапке, встал на колени над Сервантесом. Тот дул ему в лицо, отгоняя зловонное дыхание. Здесь дело закончилось быстро. Корсар презрительно поднял руку со своей добычей. Сервантес прикусил себе язык, когда драгоценные бумаги исчезли в необъятном мешке. Из осторожности он не произнес ни слова.
Жену чиновника, его соседку, заставили встать. Она стонала и вывертывалась, когда обыскивающий беспощадно шарил по ее телу. Ее жалобы звучали не совсем естественно, она и теперь манерничала. Но Сервантес вдруг не вынес долее своего бессилия. Ради этой совершенно чужой комедиантки он странным образом потерял самообладание и рассудок и связанными ногами изо всех сил толкнул корсара так, что тот смехотворно растянулся на палубе возле дамы. Разбойник яростно вскочил, готовый накинуться на обидчика, но хромой, оскалив свою белую рожу, грубо на него прикрикнул и приказал ему поторапливаться с работой.
Немного погодя он с заметной симпатией оглянулся на Сервантеса.
Один из команды роздал пищу: каждому серый сухарь, выпеченный, по-видимому, из смеси ячменя с овсянкой, и впридачу пригоршню черных оливок. Пленникам ослабили узы, некоторые встали на ноги и потягивались, что не слишком нравилось вооруженным до зубов пиратам.
Сервантес, которому скудный завтрак показался не таким уж плохим, взглянул на соседнюю даму, жеманно грызшую свой сухарь. К испугу своему он заметил, что ее перепачканное лицо строит ему нежные гримасы. При этом она жалобно вздыхала. Он встал со своего места, решив отправиться на поиски Родриго.
Он узнал его издали: Родриго, целый и невредимый, но с не развязанными еще ногами, сидел под канатной сеткой капитанского мостика. Добрый юноша протянул к нему руки. Но два палубных стража грубо препроводили Сервантеса на прежнее место. Он уклонился от непосредственного соседства с дамой и уселся у бортовой стенки между иезуитом и аркебузцем из Сардинии.
Великолепный ветер нес их к скалистому островку. В глубине заливчика, на меловом побережье показался красивый город, уже совершенно мавританского вида.
— Ибиса, — заметил иезуит. — Отсюда мы быстро доплыли бы до родины.
Сервантес кивнул. Ему представилось, как он высадился бы в Валенсии, коснулся бы испанской земли, поцеловал бы ее. Слезы подступили к глазам. Он сделал усилие и одолел их.
Не в его обычаях было наблюдать за самим собой. Но одно он твердо знал: что с ничтожной неприятностью ему было трудней совладать, чем с большой. Какая-нибудь обида, незначительная досада или огорчение могли мучить его целыми днями. Но когда настигал его рок, когда совершалось истинное несчастье, он склонял голову, платил сполна и оставался спокоен. Его жизнь не окончится в алжирских цепях, он поклялся себе в этом, он это знал.
Был спокоен и иезуит. Он имел основания, для него все это было лишь приключением. Орден не выдаст его. Через месяц пришлют выкуп — для духовенства существовала твердо установленная расценка, тариф. Он болтал. Между прочим, он назвал имя хозяина корабля. Хромой был Дали-Мами, албанец. Они попались в руки к знаменитейшему из этой гильдии, впрочем и к одному из самых жестоких. Иезуит обратил внимание Сервантеса на рабов-гребцов, на бедняков, не имеющих меновой ценности и обреченных сидеть здесь до самой смерти. Один из них был без ушей, другой без глаза, — следы мимолетного раздражения Дали-Мами. Иезуит не брался решать, справедлив ли был общеизвестный рассказ, будто этот самый реис однажды приказал отрубить руку нерасторопному гребцу и отрубленной рукой избить всю команду. Во всяком случае, это казалось правдоподобным: зверства почти не имели границ. Но печальнее всего было то, что и этот Дали-Мами и все почти его товарищи родились христианами — в Греции, Далмации, Италии и что именно эти ренегаты свирепствовали куда ужаснее турок и мавров. Неизмерима кара, ожидающая вероотступников-палачей на том свете…
Тут подошел к Сервантесу человек из экипажа и с изумляющей вежливостью предложил ему встать и следовать за ним. Он подвел его к главной мачте. На деревянном ящике был приготовлен обед: стакан вина и большой кусок холодного копченого мяса.
— Это послал вам реис, — сказал матрос, — мясо и вино, которое вы, верно, пьете, потому что вы христианин. — Он оскалился. Казалось маловероятным, чтобы разбойничий король вез с собой вино исключительно для захваченных в плен католиков. — Кроме того, реис просит вам передать, что вы можете свободно прогуливаться по кораблю.
Задумчиво выпил Сервантес крепкое красное вино, проглотил несколько кусочков мяса и решил предложить добрую половину Родриго.
Прапорщик развеселился. Он с благодарностью принялся за еду. Его, казалось, нисколько не удивило внимание, оказанное Сервантесу, он многозначительно и горделиво усмехался, поводя своими лесистыми бровями. Сервантес почуял недоброе.
— Ну, рассказывай, — сказал он, нахмурившись, — что все это означает: мясо, вино и твой таинственный вид.
Его предположение оправдалось. Произошло непоправимое. При опростании мешка были найдены документы. Реис приказал выкрикнуть имя Сервантеса, и как раз неподалеку от капитанского мостика, где сидел Родриго в своих ножных кандалах. Тот вызвался. Нет, он не дон Мигель, это его брат, который тоже находится на корабле. Совершенно верно: воин об одной руке. А что это за человек, они могут судить по письмам; о первом встречном не стал бы главнокомандующий всех христианских войск писать испанскому королю. Добрый совет им — поостеречься тронуть хоть один волосок на голове дона Мигеля де Сервантеса Сааведры! Какой же чин у этого Мигеля, — был тотчас же задан вопрос, — о котором переписывались вожди христиан? Родриго сделал таинственный вид. Он туманно дал им понять, что они имеют дело с человеком высокой знатности, с грандом, несущим исключительные государственные обязанности. И это, полагал Родриго, несомненно могло пойти только на пользу. Мигель будет им очень доволен.
— Несчастный человек! — воскликнул Сервантес, но тотчас же раскаялся, положил брату руку на плечо и прибавил: — Впрочем, ты желал мне добра.
Хромого не было на палубе. Сервантес отправился на поиски и был к нему допущен. Он сидел за столиком в крошечной каюте и писал.
— Вы гранд, мне это уже известно, — сказал он не без благосклонности. — Ваше дело, надо думать, быстро уладится.
— Я не гранд, с меня нечего взять.
Дали-Мами не счел нужным спорить.
— Две тысячи дукатов, согласны? Пустячная плата за такого человека, как вы.
— Ну, еще бы! Можете получить ее хоть завтра.
— Во всяком случае, не позже, чем через месяц. Хотите сейчас написать? Будет надежно доставлено.
— Послушайте меня, капитан, — повторил Сервантес, — вы заблуждаетесь. Я не гранд, я не богат, у меня нет друзей, которые могли бы меня выкупить. Я совершенно нищий солдат в чине ефрейтора.
— Очень правдоподобно! Адмирал пишет королю об ефрейторе.
— Прочитайте письмо. Там все указано.
— Как так? — Дали-Мами взял листок со стола. — Здесь только настойчивая, теплая рекомендация, ничего про солдата, ничего про бедность.
— Это одно письмо. Прочитайте более подробное, от вице-короля.
— Ах, вице-король тоже писал? И все это об ефрейторе? Ловко вы устраиваете свои дела!
— Прочитайте второе письмо!
— Второго здесь нет. Пустые увертки!
— Поищите его.
— Мне достаточно первого.
— Вы осел! — крикнул Сервантес. — Толстокожий, тупой, упрямый осел!
Ему вдруг показалось предпочтительней быть тут же на месте зарубленным, чем влачить долгие годы в корсарском рабстве, ожидая двух тысяч червонцев, которые не придут никогда.
Вскочил и реис. Злобно сузив глаза и выпятив губы, он схватил свой гибкий прут. Но тотчас же снова сел и только глубоко перевел дух.
— Теперь вы полностью себя удостоверили, — удовлетворенно сказал он, так дерзить может только очень важная особа. — Его голос звучал прямо-таки слащаво.
Сервантес ушел. О Родриго, Родриго! Но уже смутная радость прорастала в его сердце, он радовался судьбе, так сурово игравшей с ним. У него хватило внутренней свободы спросить себя самого: не заслужил ли он этой судьбы? Не расплачивался ли он теперь за жестокость, с какой оттолкнул при прощании в Лукке доброту и любовь, подобно тому как пловец отталкивает ногою челнок, дружелюбно принесший его к берегу? Если так, он дорого расплачивался. Брошенный в неведомое почти на глазах у родины, гибель из-за того, что было долгожданным залогом счастья, братняя любовь — могила всех надежд, — он тонул в темном море, челнока больше не было. Ну что ж, он готов! Силен тот, кто разучился бояться смерти.
К четвертому полудню под лучезарным небом встала перед разбойничьими кораблями высокая пирамида белых домов-коробок, с увенчанным цитаделью пиком: город Алжир. Пристающих встретили почетным салютом и радостными криками: прибытие кораблей с добычей было праздником. «К Бадистану! К Бадистану!» — вопили и распевали полунагие ребятишки.
Бадистан находился у самого моря, возле большой мечети. Это была красивая площадка, деловито огороженная кольями и уставленная столиками для денежных расчетов: рынок рабов. Пленников раздели, вся толпа приняла участие в оценке их качеств, выросла гора одежды. Царил полный порядок; это было привычное, законное дело. Роздали скудное платье. Сервантес, испанский гранд, покровительствуемый правительством, получил то же, что и остальные: грубую рубаху, неуклюжие штаны, подобие короткого кафтана, пару туфель и красную шапку. Впридачу бросили маленькое шерстяное одеяло. Это было все.
Потом началась торговля. Турки, иудеи и мавры осматривали товар, щупали плечи и ноги.
Сервантеса отвели в сторону. Он был непродажный. Полицейские в длинных зеленых мантиях и белых войлочных тюрбанах, громыхая подбитыми железом туфлями, отвели его и троих товарищей по судьбе в ближнее баньо.[10]
Его поглотило большое сводчатое полутемное помещение, в котором пахло сыростью и гнилью. Потом зеленые старательно обременили его цепями и кандалами. Он понял, что и этим отличием обязан он своему брату Родриго. Ему и впредь будут доставлять возможно больше неприятностей. Тем ревностнее он станет добиваться высылки двух тысяч дукатов.
ГОРОД АЛЖИР
Пиратское королевство Алжир — отнюдь не призрачное видение, так как оно триста лет противостояло великим государствам, — по необычайности своей не имело ничего равного себе в истории. Это было сочетание дикой фантастики с процветающей торговлей. Трезво рассказанная страшная сказка.
В белом каменном треугольнике, в тесной, зловонной путанице домов-коробок, под раскаленным солнцем жило пятьдесят тысяч человек. Дерзновеннейшая смесь текла в их жилах.
В древнейшие времена по этой стране скитался бербер, черный нумидиец, близкие родственники которого обитают на Ниле и в Сенегале. Первыми высадились на ее берега финикийцы; торговали, селились, строили. Потом над бербером и пунийцем стал править римлянин. Африканская провинция сделалась хлебным амбаром, овощной, масляной и винной кладовой его империи. Здесь говорили по-латыни. Здесь говорили по-гречески, когда, позднее Цезарь управлял из Византии.
Но римская слава уже не была защитой. Появились германцы, завоевывали города и разрушали колонны, но сами были разбиты, рассеялись и растворились в смешении. Они умели побеждать, но не беречь завоеванное. При первом же натиске арабских сил, вскоре после смерти пророка, восторжествовал ислам. Он распространился далеко вокруг, захватил Испанию, обрел в ней прекраснейшее из своих царств и превратился в культуру. Но на африканской земле бились насмерть его секты. Римское благословение еще не было ниспровергнуто. Арабская кровь была всего лишь каплей в смесительном чане. И вот на заре нового тысячелетия новые чудовищные толпы воинственных кочевников-дикарей ворвались в страну из восточных пустынь, грабя, топча, истребляя. Десять лет длилось кровавое празднество. Цивилизация погибла, хлебный амбар опустел Северная Африка зачахла навсегда. Национальная победа была полная: арабская речь стала господствующей, берберийская услужливо обтекала ее, а голоса финикийцев, римлян, эллинов лишь смутно пробивались родниками на дне.
Итак, замысловато перемешанное воинственное население, голодная пустынная область, тысяча миль скалистых побережий на Южном море, цветущие земли в достижимой дали — история африканских разбойничьих государств началась.
Испании надлежало пресечь зло в самом его начале. Она изгнала мавров, была хозяйкой в собственном доме, владела сокровищами Индии. Она и произвела нападение. Береговые города сдавались, наскоро учреждались монастыри, мечети переделывались в храмы, всюду оставлялись гарнизоны. Но этим дело и кончилось. Африка была забыта. Войска оказались без провианта, без боевых припасов. Одна за другой были потеряны гавани, дольше всех держался Оран.
Что касается Алжира, там был укреплен скалистый риф в расстоянии окрика от берега. На этом островке, который был «шипом в сердце Алжира», сидел, ожидая своей гибели, испанский дворянин с горсточкой солдат.
Ее принес Хайреддин Барбаросса. Он взял скалу, перебил гарнизонную стражу, до смерти запорол дворянина, разрушил крепость, протянул дамбу до материка и создал надежную гавань, в будущем главную базу для всех корсаров.
Африку преподнес он на ладони в подарок константинопольскому султану. И стал его капудан-пашой и бейер-беем. Он командовал турецким войском. Сам он был христианином по крови — ренегат из европейских отбросов.
Европейцами были и «короли», с недавних пор правящие в Алжире. Были ими и корсары-реисы, разбойничья аристократия этого города. Были ими и янычары султана, их офицеры и генералы. Были ими и высшие чиновники константинопольского сераля, многие вице-короли, визири и адмиралы в громадном турецком царстве.
По повелению самого великого султана ежегодно привозились христианские мальчики из всех покоренных стран. Их забирали в самом нежном возрасте. Забирали только красивейших и сильнейших. Они быстро забывали родителей и родину, не желали знать иной отчизны, кроме казармы или сераля. Ни один не стремился обратно. Они становились ревностными приверженцами новой воинственной веры.
Стекались сюда и толпы добровольных изгнанников, подростков и взрослых. Под полумесяцем собиралось все, что сбилось с пути, все, что было гонимо разочарованием или жаждою приключений. Турками «становились». Это была карьера. Здесь не знали предрассудков. Здесь не было родовой знати, чьи притязания стоят поперек дороги талантам и отваге людей низшего происхождения. Любой чин, любая удача были доступны каждому. Этими ренегатами держалось все царство. Родиться мусульманином не считалось преимуществом, это скорее отнимало право на лучшее.
В могучих цепях держало людей дикое очарование воинственной религии. Хайреддина Барбароссу, сына греческого гончара, тщетно пытался переманить на свою сторону сам Карл, великий император, властелин крещеного мира. Он предложил ему союз, испанские войска, суверенитет, если он покинет султана. Барбаросса не изменил. И когда римский император с шестьюстами кораблями приплыл в Алжир, это разбойничье гнездо имело дерзость сопротивляться. Он высадился. Он приказал штурмовать. Его славнейший рыцарь знаменосец Мальтийского ордена вонзил свой кинжал в ворота Востока, закрывшиеся перед ним. Они закрылись на столетия, Алжир был неприступен.
Назначаемые султаном правители титуловались по-разному: «ага́», «дей» или «паша́»; народ величал их «королями». В действительности короли эти были арендаторами. Они арендовали пиратское дело, опираясь на полки янычар. Ящики и мешки с золотом постоянно отправлялись в Босфор. С королем соперничала гильдия реисов, кораблевладельцев и разбойничьих капитанов — подлинное третье сословие Алжира.
Ибо все это государство было купеческим заведением, где торговали человеческой жизнью и награбленным добром. Прекратись пиратские поездки, все умерли бы от голода. Здесь ничего не производили. Окрестные земли лежали в запустении. «Ввоз» был необходим.
Корона и гильдия строжайше согласовали свои права и обязанности. Добыча делилась тщательнейшим образом.
Ни в одной торговой конторе Антверпена или Аугсбурга не было более точного ведения счетных книг. С окровавленными еще руками обсуждали тарифы и цены. Грабили города, обирали корабли, крали без разбору, пригоняли людей, как скот; но двенадцать процентов со всего этого, и не одиннадцать или тринадцать, принадлежали королю. Также, разумеется, и двенадцать процентов с выкупной платы.
Со всего христианского мира стекался человеческий товар на этот странный рынок. Пленники насчитывались тысячами, с момента ввоза каждый становился предметом многообразной наживы. На Бадистане сильного мужчину покупали за пятнадцать дукатов в ожидании выкупных трехсот. Но до тех пор капитан должен был приносить проценты. И раба отдавали внаймы, он становился слугой или вьючным животным, а владелец получал за это три дуката в месяц. Некоторых он оставлял у себя в доме, и это считалось большой удачей. При каждодневном общении трудно относиться к человеческому существу, как к товару, — завязываются отношения. Нелегко ударить человека кнутом, если дети только что сидели у него на коленях.
Но особенным счастьем считалось попасть в дом к иудею. Здесь немыслимо было дурное обращение, строгость очень редка. Иногда, прожив несколько недель в иудейском доме, раб становился там своим человеком.
В трех баньо ютились рабы, принадлежащие королю и городскому управлению. Их участь была достойна сожаления. Их чрезвычайно скудно кормили и гоняли в цепях на тяжелую работу: на стройки и рытье земляных укреплений, на мельницы, в гавань. Если выкуп задерживался, их участь становилась еще более беспросветной. Негодный материал выбрасывался на скамьи гребцов. Но вместе с ними в баньо помещались также и пленники с положением и достатком или с воображаемым положением и с воображаемым достатком, — из которых зверским нажимом старались возможно скорее выжать большие суммы.
Среди чиновников и рабов свободно разгуливали монахи-тринитарии, способствующие делу выкупа. Собирать освободительную «милостыню» было издавна задачей их ордена. Они также доставляли письма пленников, они работали рука об руку с их семьями; перед их деловым значением охотно смирялся фанатизм ренегатов. Короли и капитаны обращались с этими монахами, как крупные купцы со своими торговыми представителями.
Разбойничий город был, бесспорно, средоточием религии. На его крошечном пространстве жалось более ста мечетей. Но где говорила выгода, там умолкала вера. В высшей степени не одобрялось, если раб переходил в ислам. Этому препятствовали. Плоть стоила дороже души.
Но величайшим преступлением был побег. Как? Товар заявлял свои права на самостоятельность! В этих случаях жадность и жестокость объединялись и зверски карали каждую попытку. Прежде всего устрашение; тут уж не экономили материала. Стенные крючья за воротами постоянно были щедро украшены головами христиан. Алжирские коршуны кормились там много столетий.
Все это имело, разумеется, государственный смысл. Ибо за счет этих несчастных людей, голодных и избитых, которые, горбясь под цепями, отрабатывали проценты со своего выкупа или плесневели в баньо за счет того, что у них было и еще будет украдено, жили государство, город, религия и каждый отдельный обитатель Алжира.
Жили король, дей, ага́, паша́ в своем замке со знаменем полумесяца и громадным золотым корабельным фонарем на крыше. Жили капитаны в домах нижнего города или в своих загородных виллах, в нагих, неприветливых стенах которых прятались такие прохладные дворы с водоемами, роскошные покои, мерцающие пестрым мрамором, фаянсом и деревянной резьбой. За их счет жили кади, муфтии, мюэккиты, имамы и кятибы, которые судили, спорили о вере, молились, распевали и предавались размышлениям в шести больших и ста малых мечетях. Жили за их счет янычары в своих казармах-монастырях, избранные воины, которым их кухонные шапки и женские юбочки придавали полунелепый, полуторжественный вид. За их счет жил шьющий, красящий, кующий, сапожничающий, жарящий, пекущий, ремесленный люд, расположившийся в открытых лавочках вдоль длинной портовой улицы. За их счет жило все тунеядческое кровосмесительное население спутанных, кривых и скользких лестниц-переулочков пирамидально взгромоздившейся касбы.
Тысячи выброшенных на этот берег блудниц в цветистом рубище, бряцавших жестью украшений и жавшихся в каждой щели, в каждых воротах, готовясь разбойнически напасть на прохожих-разбойников; стая гибких и надушенных юношей-подростков, соперничавших с ними и дороже стоивших. Жили за их счет и многочисленные иудеи, изгнанные из Испании и терпимые здесь, мрачно приметные черным своим одеянием среди переливчатого сверкания одежд.
Столь же многоцветной, как платье, была и речь, звучавшая в этих переулках, причудливо-визгливый городской жаргон, в котором испанские, итальянские, португальские слова вступали в причудливое супружество с арабскими и турецкими. Греческие, готские, финикийские отзвуки примешивались к этой linqua franca,[11] чаще же всего берберийская речь — речь диких нумидийских всадников Югурты.
Легко и весело жилось в разбойничьем городе. Всегда можно было увидеть много разнообразного. Шествие короля и его телохранителей или парад янычар под рев труб, дудок и кларнетов. Каждодневные бичевания перед замком, едва над Большой мечетью взовьется белый флаг, возвещающий полдень, забавно-многообразные казни у Западных и Восточных ворот. Шумно справлявшиеся праздники, день Хиджры, рождение пророка, великий праздник барана, веселая ночь огней, завершающая месяц поста. Никогда не пустел Бадистан, и в гавани постоянно было движение: приплывали корабли с добычей, корабли с золотом отплывали в Босфор. Беззаботно пожирали коровье или баранье рагу с обжигающими пряностями, запивали его крепкой запретной фиговой водкой и равнодушно смотрели за дверь, где рылись в отбросах, ища поживы, исполосованные обитатели баньо.
Так жил жестокий, торгашеский и сумасбродный мир, в который случайной жертвой был занесен Мигель Сервантес, верующий человек, полный отваги, фантазии и сострадания.
РАБ ДОН МИГЕЛЬ
Слово бессильно изобразить гениальность мужчины, равно как и красоту женщины: ему дано лишь утверждать их присутствие.
Человека преследовали неудачи, он был соучастником больших начинаний, но остался в тени. Он искалечен и нищ. Уже готовы раскрыться ворота в более светлое будущее, но железные створы захлопываются перед ним. Человек безвестен, ничтожен, он нуль среди толпы, и участь его — погибнуть в цепях. А тем временем с ним происходит нечто большое и загадочное. Его существо излучает горячую и светлую силу, обнимающую каждого, кто к нему приближается, пробуждающую доверие и склонность, как пробуждает апрельское солнце цветы в бурой пустыне, — силу, которая покоряет самих палачествующих торгашей. И это таинственное человеческое величие хранит его среди бесконечных опасностей, чтобы однажды появился на свет плод его жизни.
Счастье его, — если это было счастье, — началось с того, что несколько дней спустя его забрали из сырого склепа. Его перевели в верхний этаж баньо. Здесь легче дышалось. Продольная стена помещения была совершенно открыта, без перил и карнизов.
Но куда же все-таки он попал? Трехэтажный сарай, расположенный четырехугольником вокруг двора, посредине которого лепетал фонтан. Солнце стояло высоко, двор был пуст, белый песок слепил глаза. Никто не показывался в открытых коридорах по сторонам и напротив. Сервантес прохаживался, звеня цепями. Внутренняя стена состояла из ниш, в каждой имелись стенное кольцо и солома. Это напоминало стойла. Кое-где шевелились скорченные фигуры, стоял смутный шум, похожий на позвякивание лошадиной сбруи.
Ниши заполнились лишь на закате. Людей пригнали с работы. Был роздан серый хлеб и водянистая похлебка. Потом рабов стали заковывать на ночь. На это ушел целый час. Стражникам, по-видимому, было приказано испортить сон некоторым пленникам особенно хитроумными и тяжелыми узами.
Сервантес сидел в своем углу и уже протягивал ноги и руки в ожидании двойных ночных цепей. Но зеленые прошли мимо. Он улегся и сладко уснул.
Он подскочил, проснувшись от прикосновения чего-то холодного, и увидел перед собой Дали-Мами в изящнейшем городском бурнусе и со своим неразлучным прутом в руке. В тюрьме было совсем светло.
— Хорошо спали, дон Мигель, это меня радует. Хотя в Мадриде, под балдахином, было бы все же удобней. Не кричите! Я знаю: у вас нет кровати с балдахином и вы не гранд. Но если вы еще раз посмеете назвать меня ослом, я, к сожалению, буду вынужден вас убить, несмотря на убытки. Я позволяю это лишь раз.
Он через плечо отдал приказ своим телохранителям. Один из них исчез и почти тотчас вернулся с короткой и легкой цепью, выкованной наподобие запястья.
— Носите это на ноге, дон Мигель. Это всего лишь примета, как видите. Все остальное снимается. Дни, проведенные внизу, надеюсь, вас вразумили, как может быть здесь у нас! Стоит ли такой особе, как вы, голодать здесь с двумя центнерами железа на теле, когда почет и дамы ожидают ее при мадридском дворе? Так напишите же пять писем взамен двух: если у одного друга не найдется двух тысяч наличными, их вышлет другой. А пока развлекайтесь в Алжире!
Это ему и в самом деле позволили. Будучи обеспечен скудным ночлегом и едой, он мог целыми днями бродить, позванивая своим несколько неуклюжим ножным украшением, и разглядывать окружающее. Такой свободой он был обязан, разумеется, не одному чину, который ему приписывали. В трех баньо сидело немало знатных господ, обремененных цепями и неослабным надзором. Тут сыграло роль подобие хмурой симпатии к нему со стороны Дали-Мами. Сервантес пожал плечами, подумав об этом, и пустился на поиски брата — в кипучий мир.
Он нашел его уже на следующий день в одном из домов Нижнего города, поблизости от Баб-Азума. Здесь, в полутемном длинном коридоре, ведущем с улицы до внутренний двор, возник перед ним могучий силуэт, напоминающий Родриго, черный на светлом фоне. Человек пилил дрова, беззаботно насвистывая.
Сервантес помедлил одно мгновение. Потом он вошел под резной навес, опускавшийся над входом, и окликнул брата.
Прапорщик весело рассказал о своих похождениях. Его купил на Бадистане еврейский врач, пожилой господин, вдовец, давнишний здешний житель, его раб недавно умер.
— Отличная еда, мой Мигель. И иудейская собака превосходно ко мне относится, да и не собака он вовсе, это только так говорится. Он знает испанский язык, я уже рассказал ему про тебя.
— Ты бы, Родриго, не рассказывал обо мне всем и каждому! Это вовсе не так уж полезно.
В это время из внутреннего двора вышел доктор Соломон Перес, в шапочке, из-под которой на висках выбивались серебряные локоны, и в длинном черном шелковом кафтане.
— Меня вызвали, — сказал он на чистом кастильском наречии. — Вам придется отнести мой ящик с лекарствами, Родриго! — И его выпуклые темно-карие глаза внимательно оглядели Мигеля Сервантеса. — Вы брат моего сожителя, это безошибочно выдают ваши черты. Как встретил вашу милость Алжир?
При этом учтивом приветствии душу Сервантеса полоснуло чрезвычайно смешанное чувство — почтительность иудея разжалобила, рассмешила, умилила и пристыдила его. Как при вспышке молнии, вынырнула перед ним на мгновение из ночи времен чуждая ему судьба этих изгнанников. Что должны были пережить предки этого ученого человека, если он так говорил с рабом!
Он уже раскрыл было рот для обычного протеста. Но его остановило в высшей степени необычное для него побуждение практической рассудительности.
Было ли разумно всюду и полностью разрушать легенду о себе? Она приносила пользу. Она дарила свободу передвижения. Она давала время обдумать уже смутно зарождающиеся планы. Зачем ему хоронить себя в куче самого дешевого человеческого товара!
Он сказал:
— Благодарю вас, господин доктор. Я устроился сносно.
И мне радостно видеть своего брата в доме ученого. Знание смягчает душу.
— Иногда оно порождает высокомерие и бесчувственность, — сказал Соломон Перес и покачал головой.
Прапорщик вынес из дому объемистый ящик с лекарствами. Сервантес смотрел, как они удалялись, — впереди изящный старик в шелковой мантии, следом за ним брат в красной шапке раба, с черным сундуком на ремнях за плечами. Они свернули налево, вверх, вдоль городской стены, по направлению к касбе, и скоро исчезли из глаз.
Неделей позже Сервантес уже в совершенстве освоился со всеми закоулками города. Уже на многих ступеньках сидел он в созерцании и разговорах. И неожиданно нашелся ему заработок.
Сколько рабов жило в Алжире? Тысяч пятнадцать? Десять, во всяком случае. У всех была потребность писать на родину. Но мало кто умел писать. Существовали, правда, специальные писцы, но они не владели даром слова, к тому же дорого брали, и письма у них получались холодные и сухие.
В тени подковообразных арок или у стены сидел Сервантес и писал за бессловесных. Под его быстрым пером каждая весть, каждая жалоба оживала, делалась осязаемо правдивой и соответствовала диктующему и тому, кто получал послание. Он постоянно требовал, чтобы ему сперва описали далеких друзей, каждого из них как бы вызывал силой своего воображения, и судьбы многих тесно обступали его.
Все ему доверялись, ходили за ним по пятам по всем переулкам. И когда он, по прошествии месяца, выбрал себе постоянное место, оно порой осаждалось целыми толпами. За труд он брал мелкую монетку, да и то лишь от добровольно дающих.
Место это находилось по ту сторону стены, против ворот Баб-эль-Уед. При выходе из них, влево, на возвышении тотчас же бросался в глаза крошечный монастырь с могилой святого, убежище Абдуррахмана. Здесь под высоким, старым, уединенно возвышающимся кипарисом сидел Сервантес и писал свои письма к андалузским крестьянам, маллоркским рыбакам, итальянским горожанам, покровителям, в канцелярии и монастыри.
Временами он оставался один. Тогда он отдыхал, смотрел и думал. Баб-эль-Уед и городская стена густо заросли кустарником, и это, по известным причинам, было хорошо. Позади зеленой холмистой местности видел он море. Море его жизни, по которому носился он вслепую из края в край…
В начале года вдруг наступили холода. Тогда провел он несколько недель «дома», в баньо, жался в своем углу или присаживался к соседним нишам. Слух его наполняли однообразные жалобы. Потом вдруг вспомнилось ему излюбленное занятие его юных лет, и он принялся писать стихи. Теперь писалось иначе: не было ни прежнего тщеславия, ни поощряющих наград на поэтических турнирах, ни маэстро Ойоса, ревностно прославлявшего своего ученика и видевшего в нем будущего Боскана или Гарсиласо. В Испании, он это знал, могуче расцветала новая литература, а с недавних пор неслыханным успехом пользовались также и театральные представления. Но он был от всего отрезан. Он хотел лишь скоротать время в своем плену и припомнить старое. У него созрела мысль воплотить в цикле историю своих последних лет, — этих лет, столь заполненных, что они казались столетием.
Так как последовательный порядок казался безразличным, он начал с трохеической элегии на смерть кроткого Аквавивы. Стихи лились легко и безмятежно, потом он их перечел и разорвал свои листки. Все было риторично и пусто, это писание отнюдь не трогало и не передавало тихого очарования мальчика в пурпуре. Но, может быть, лучше удастся героическое? Он набросал оду на победу при Лепанто. Ямбы неслись. Звон и блеск. В тот день он был доволен. А ночью, проснувшись, припомнил четыре строки:
Господь, взмахнувший праведной десницей, Чтоб государя наградить сторицей, Спешит вручить, печась о славных, славе, Подобный стяг Филипповой державе.И вдруг осознал, что они, почти слово в слово, заимствованы из оды поэта Эрреры. В утренних сумерках он посмотрел свое произведение, но уже без вчерашней уверенности. Все показалось ему хвастливым и напыщенным, привкус безвкусицы лежал у него на языке.
— Что с вами, дон Мигель? — спросил подошедший к его нише валенсийский священник. — Так рано, а вы все пишете и пишете!
— Я пишу стихи, досточтимый отец. Это все-таки лучше, чем заниматься ловлей вшей.
Но даже это казалось ему сомнительным.
Когда, уже в феврале, снова засияло мягкое, почти весеннее солнце, он вернулся на свое место возле убежища Абдуррахмана. Редко ел он свою похлебку в баньо. Он ничего не стоил. Его оставляли в покое. Он перестал разрушать веру в свое происхождение и положение. Теперь он даже всячески питал ее и поддерживал ей жизнь. Он оставлял на виду письма, в которых обсуждал с воображаемыми деловыми друзьями в Мадриде возможность уплаты выкупа и даже их мнимые ответы. Письма временами исчезали. Дали-Мами, просматривая их по вечерам, облизывался в ожидании жирного куска. Что две тысячи дукатов, громадная сумма, могли быть доставлены не без трудностей, казалось только естественным.
На самом же деле Сервантес, разумеется, ничего не предпринял. Да и кто бы мог его выкупить! Родители и родственники, которым он был бессилен помочь в их нужде, тревога за которых грызла его постоянно?!
Но они тем не менее действовали старательно и уже давно. Родриго писал о выкупе, хотя это было ему строжайше запрещено. Каждый монах-тринитарий, уплывавший за море, увозил с собой несколько его писем, орфографически спорных, но настойчивых. Ему-то живется сносно, говорилось там, а вот с Мигелем — одно несчастье! Никто в Испании и понятия не имеет, как ужасно баньо. Брата необходимо выручить как можно скорее, это во всеобщих интересах. И он вновь и вновь коварно расцвечивал славное будущее Мигеля. У него разыгралась фантазия. Он даже лгал, что мало соответствовало его прямой натуре. Громоздкое украшение на ноге у Мигеля превратилось в железные кандалы и тяжелые цепи.
Глухому судебному ходатаю Сервантесу, его тихой жене, дочери-монахине и другой, постоянно меняющей мужей, казалось, что сын их и брат влачит лямку, истекая потом и изнемогая в цепях. Собственные послания Мигеля, звучавшие утешительней, они приписывали его гордости и нежеланию их тревожить.
Они продавали все, что только было возможно; они старательно копили деньги; сестра Луиса добивалась вспомоществования у своих настоятельниц; сестра Андреа не покупала больше платьев и украшений, но самоотверженно берегла реалы, которые дарили ей любовники; они подавали петиции, они целыми днями просиживали в прихожих королевских канцелярий, они питались почти только луком и хлебом.
Но жалки были суммы, набиравшиеся с таким трудом. Они даже не решались назвать их Мигелю. Да и Родриго запретил это строжайшим образом.
Сервантес ни о чем не знал. Ему жилось неплохо. Он мог бы быть доволен.
Он не был доволен. С недавних пор. Каждый день усугублял его томительную тревогу. Он страдал. С тех пор как наступила весна, ужас, гнев и страдание терзали его непрестанно.
В тот день, накануне Лепанто, его свалило в лихорадке одно лишь известие о кипрских зверствах. Теперь он постоянно видел подобное собственными глазами. Время было суровое, он был сыном времени и был суров к себе самому. Но был он человеком чувства и фантазии, мучительно обреченным чувствовать чужие мучения. А видел он слишком много.
Повсюду система наказаний была ужасающе жестока. Сжигали на кострах, колесовали, вешали, четвертовали, раздирали на части, привязывали к лошадям. За несколько украденных грошей падала с плахи рука.
В любом христианском городе сотнями пресмыкались калеки правосудия. Тем более здесь, в этой сточной яме Старого Света, куда, пенясь, низвергались его подонки и где бесновалась единственная в мире смесь алчности, фанатизма и жестокости. Казнь, увечье, пытка были повседневной забавой, вопли замученных — привычными звуками, вроде ослиных криков и позвякиваний водоносов, избиения по приговору, почти всегда приводившие к смерти, — таким же постоянным учреждением, как рынок. Стоило лишь в полдень пройти мимо Дженины, где обитал король, чтобы увидеть на площади нагих, распростертых преступников. Двое зеленых держали каждого за ноги и за шею, двое других размеренно били тяжелыми палками, выкрикивая число ударов: сто пятьдесят, двести пятьдесят, четыреста. Потом кровавая, изуродованная туша оттаскивалась в сторону. В половине второго спускался белый флаг на Большой мечети — тогда наступал перерыв до следующего полудня.
С недавнего времени в Алжире правил новый король. Паша Рамдан был отозван, и его место занял итальянский ренегат, некогда звавшийся Андрета, теперь же именовавший себя Гассан Венециано, — несомненно, один из страшнейших людей столетия. Громадными денежными подачками вельможам стамбульского сераля и женам султана добился он своего назначения и стремился теперь с процентами возместить убытки, хозяйничая в арендованном королевстве. Горе пленнику, отважившемуся на побег! Были введены новые, медленные, продуманные пытки. У нового властелина был особый вкус к делу устрашения. Страной управляло воплощение холодной, сладострастной, методичной жестокости. Порой ужасались даже мавры и турки. Мало удовольствия доставляли ему обычные казни: повешение, отсечение головы, сожжение. Он изобрел изысканные процедуры: сажать на кол. Когда в тело преступника продольно вгоняли заостренный прут, король бился об заклад со своими телохранителями, какое место пронзит железный наконечник, показавшись на свет: глаз, рот или щеку. Поводов для подобных увеселений всегда было достаточно. Однажды он увидел отряд рабов на какой-то работе, изъявил неудовольствие и приказал тут же всем отрезать уши. Будучи настроен юмористически, он велел навязать им на лбы кровавые ушные раковины и под пронзительную янычарскую музыку протащить хороводом вокруг площади перед Джениной.
Впрочем, жесток он был не только с христианскими рабами. Он наводил ужас на свою полицию, злостными придирками восстановил против себя гильдию реисов, был ненавидим во всей Северной Африке, — но в то же время и чтим за свою дикую храбрость, которая так же не имела границ, как и его зверства.
У него была наружность сказочного морского разбойника: рослый, худой и бледный, со скудно растущей красно-рыжей бородой и сверкающими, налитыми кровью глазами. Те, кому случалось приближаться к нему, уверяли, что от него исходит запах крови.
Таков был человек, с которым вступил в борьбу однорукий раб Мигель Сервантес и которого он в известном роде одолел.
Прежде всего Гассан, разумеется, согнал его с излюбленного места под кипарисом. Неграмотные клиенты больше не находили его. Слишком оживленным стало теперь лобное место перед воротами Баб-эль-Уед. Не помогало и то, что зеленый кустарник скрывал ворота и стену. Постоянно слышался крик жертв, в воздухе носился запах горелого мяса или разлагающихся трупов, которые запрещено было погребать. У всех на виду, ради всеобщей острастки, здесь гнили те, кто был достаточно отважен и несчастен, чтобы решиться на бегство из этого ада. Но именно оно стало целью Сервантеса. Ужас уже не повергал его на ложе болезни — то время давно прошло Бежать он хотел, увлечь с собой на свободу возможно больше товарищей, — и там, в христианском мире, поднять людей на штурм ада.
ТРИ ПРЕДАТЕЛЯ
Город Оран принадлежал Испании. Туда было двенадцать дней езды. Но для беглеца был закрыт этот ближайший путь вдоль моря, тщательно охранявшийся. Дальними обходными дорогами, глубоко ныряя к югу и лишь потом возвращаясь к берегу, мог надеяться безумный смельчак в три недели достигнуть Орана. Но это никому еще не удавалось.
Тропинок не было, одни лишь скалистые горы, выжженные пустыни, разбойничьи племена кругом. Проводник был необходим.
К весне Сервантес нашел одного. Это был отчаянный субъект смешанной португальско-мавританской крови, уже двадцать лет обитавший здесь, знавший вдоль и поперек королевства Фец и Тлемсен, как и оазисы алжирского юга; тощий и подвижной, не очень-то красивый на вид, с землистым лицом, отливавшим во впадинах зеленым, и с очень коротким носом, свернутым на сторону ударом чьего-то зверского кулака, к тому же немолодой.
Опасный провод одиннадцати пленников был его последним доходным предприятием, потом он собирался «все это» бросить: что именно — оставалось неясным. В свои лохмотья он зашил десять долговых расписок; десять потому, что Сервантес, будучи монашески-нищим, не взял на себя никаких обязательств, разве что Родриго сделал это тайком за обоих. Возвышаясь своей громадной фигурой над всем отрядом беглецов, с радостным сердцем шагал он подле любимого брата по каменистым осыпям и руслам высохших рек — на юго-запад.
На четвертый день напряжение сделалось ощутимым для скудно питаемых тел. Со скалы на скалу, под горячим по-летнему солнцем, ни тени, ни селения, где можно было бы освежиться и отдохнуть, неожиданно — глинистая пещера и перед ней ребятишки со вздутыми животами и воспаленными глазами, таращившимися вслед путникам, или вынырнувший из-за уступа неподвижный и мрачный вооруженный всадник в пестрых лохмотьях.
На шестой день у них вышли припасы. Перед хижинами, в низине, паслись овцы. Их сторожили женщины. Попытались выторговать одно животное:, но столковаться не удалось, денег или не знали, или не придавали им цены. Пришлось забрать ягненка даром. Все заранее радовались пиру.
К вечеру устроили привал над обрывом высокой Меддады. По всему склону горной цепи взбирались, горделиво сторонясь друг друга, гигантские кедры одинакового роста. На одинаковой высоте они простирали вширь свои игольчатые кроны, так что сплошная кровля возносилась как купол.
— Где мы? — спросил Сервантес тощего. — Что это была за местность, вокруг которой ты нас сегодня обводил с такими предосторожностями?
Вожак скосил глаза над кривым носом.
— Местность называется Тениет-эль-Хад, дон Мигель, и живут там свирепые, враждебные кабилы.
И он отошел.
Ягненок жарился на костре из кедровых веток, смола трещала, изливая крепкий аромат. Все теснились у огня, потому что весенние ночи в горах были холодны.
Жаркое не совсем поспело, мясо приходилось отдирать от костей.
Европейские господа чавкали и облизывали пальцы. Вскоре все улеглись спать под деревьями, закутавшись кто как мог. Слабый молочный свет полнолуния заливал высокую Меддаду и плыл по ясному ночному небу.
Утром, потягиваясь и оттирая застывшие члены, они заметили отсутствие вожака. Кричали, рыскали, толпились беспомощно, еще не решаясь взглянуть в злые глаза несчастью, пока один из одиннадцати, мурийский купец, не испустил крика, обшаривая свое платье, не кинулся потом осматривать место, на котором спал, и не объявил, наконец, в отчаянии, что его обокрали. Кожаный мешочек с дублонами, который он носил на голой груди, сокровище, убереженное непомерными усилиями, исчезло, вместе с ним исчез и зеленолицый. Небольшая, но ощутимая добыча показалась ему милее всех вместе взятых долговых расписок. И он покинул их среди бездорожной пустыни, в шести днях пути от Алжира, в пятнадцати от Орана, беспомощных, голодных и безоружных.
Поднялись вопли и жалобы. Каждый утверждал, что он первый заметил неблагонадежность проводника, что он всегда был против безумного предприятия. Товарищи по несчастью готовы были вступить в драку. Но тут общее недовольство перекинулось на Сервантеса, как на истинного зачинщика и организатора, единственно кому они должны быть благодарны за такого ловкого проводника.
Все это совершенно верно, заявил он тотчас же, и именно поэтому естественнее всего было бы возложить на него ответственность за путешествие и следовать за ним дальше на запад. Кедровые горы, — он видел это на картах, — лежат на том же самом уровне, что и их цель. Надо лишь неотступно следовать за солнцем, — оно безошибочно приведет их к стенам Орана.
Но для всех существовал один лишь путь: назад. Шесть дней знакомого пути казались им предпочтительнее дальнего странствия в неизвестное, и они надеялись заслужить прощение покаянным возвратом.
Через четверть часа они ушли. Братья стояли у обрыва под крайними деревьями и смотрели вслед девяти.
— Вдвоем мы пойдем гораздо быстрей, — сказал прапорщик, которого восхищала мысль бежать на свободу вдвоем с обожаемым братом. — Идем же! Чего мы ждем?
Но Сервантес молчал и медлил с решением. Возвращавшиеся беглецы уже давно исчезли за поворотом горы.
— Невозможно, Родриго, — сказал он наконец, — придется вернуться и нам.
Прапорщик был не из тех людей, которые все понимают с полуслова. На этот раз он понял.
— Они не поблагодарят тебя, мой Мигель.
— Разумеется, нет.
И это было все.
Прием в рабовладельческом городе был не слишком дружелюбен. Но так как товар, исчезновение которого с яростью обнаружили и который уже считали пропавшим, сам покаянно вернулся на свое место, с ним обошлись предельно мягко. Более суровая работа, худшее ложе, незначительные побои — этим все и ограничилось, тем более, что их ввели в соблазн. Все девятеро единодушно назвали Сервантеса, как подстрекателя. Ему было присуждено триста ударов — и это было равносильно смерти.
Но Дали-Мами не исполнил приговора. Он приказал прочно заковать своего однорукого раба в баньо; Сервантес сидел в своем углу, обвитый и увешанный железом, как невеста розами. Много раз появлялся реис, с видом знатока постукивал своей тростью по цепям и кандалам и держал мрачно-увещательные речи к мятежнику. Но на пятый день с него сняли все цепи… Вовремя побега его платье превратилось в лохмотья. Перед ним лежало новое, чистое и даже не заплатанное: рубаха, штаны, кафтан, туфли и шапка. Забыли только символическое запястье. В остальном все было по-прежнему.
Ухудшилась, к сожалению, участь славного Родриго. У доктора Соломона Переса был уже другой слуга, и прапорщика перевели на общественные работы. Мигель как-то увидел его: голый, как и все остальные, он копал землю под раскаленным солнцем на постройке нового бастиона близ окраины касбы.
— Недолго, Родриго, недолго! — шепнул он ему. Прапорщик улыбнулся, полный доверия. Родриго был закреплен на год. Громыхая цепями, вставал он каждое утро со своей соломы, полный нетерпеливой надежды, что именно сегодня Мигель совершит чудо освобождения. Но когда его поманила свобода, он отказался.
Прибыли два тринитария с выкупными деньгами. Семейство Сервантес прислало триста дукатов. Мигель испугался. Его ясно работающая фантазия представила ему, скольких лишений и унижений стоила эта сумма его родным. Но, во всяком случае, для брата она означала возвращение на родину.
Родриго решительно заупрямился. Эти триста дукатов — первый взнос за Мигеля, и ничего более. «То есть как это первый?» — почти прикрикнул на него Мигель. Он верно, забыл, что Дали-Мами требует две тысячи дукатов. А как ему кажется, откуда мог бы прийти еще хоть один червонец? Он ни за что не расстанется с братом, заявил прапорщик, и не для него эти деньги.
Мигель взглянул в его кроткое и упрямое лицо и снова опустил глаза в голубую тень. Был жаркий майский полдень, и они сидели рядом под высокой стеной, примыкавшей к укреплениям вокруг касбы. Ноги Родриго были закованы. В этот час землекопы отдыхали, потому что их надсмотрщики не выносили зноя. Море слепило глаза. На Большой мечети близ гавани только что взвился белый флаг. Начались каждодневные истязания.
Мигель поднял голову. Прошло не больше минуты. Но наблюдатель, более острый, чем Родриго, заметил бы, что за это мгновение он на что-то решился.
— Ты возьмешь эти деньги, Родриго, — твердо сказал он. — Ты вернешься в Испанию. Мне нужно, чтобы ты был там. Если ты все сделаешь с умом, через несколько месяцев буду и я на свободе.
— Ну, слушаю, — сказал не без недоверия прапорщик…
Уехал он только в августе. Так много времени отняли формальности. Уже в самое последнее мгновение корабль был обыскан от палубы до трюма. Ничего подозрительного не обнаружилось.
И все же происходило что-то неладное. Рабы пропадали. Не помногу сразу — каждую неделю один или двое. Непонятно было, куда они исчезали. Подозрение падало на Мигеля Сервантеса, но тот всюду разгуливал с самым безобидным видом, писал свои письма, рассказывал всем, как он рад освобождению брата.
Пропавшие без вести были недалеко.
Всего лишь в часе ходьбы к западу от города, между морем и холмами, расстилался участок земли, называвшийся Эль-Гамма, область наводнений и растительного изобилия. Одному из высших городских чиновников вздумалось расчистить эту глушь и разбить здесь, вдоль берега, сад, настоящий тропический парк, полный пальм, бамбуков, дроков и мирт. Хозяин почти никогда не посещал своего отдаленного имения. Садовником и сторожем туда был послан один француз, южанин, беспечный малый, Жан из Наварры, который большей частью спал в своей дощатой хижине и предоставлял растениям божьим пожирать друг друга и множиться, как им хотелось.
С этим добродушным тунеядцем столковался Сервантес. Если у него есть желание вновь увидеть родную страну, он приглашается взойти вместе с ними на испанский корабль, который в одну из ближайших ночей подплывет к парку, посланный Родриго.
Место было выбрано с толком. В потаеннейшей части парка имелась естественная пещера, впоследствии еще расширенная рукой человека. В эту пещеру стекались беглецы, стекались по капельке, незаметно. Им было строжайше наказано никогда не покидать днем своего темного приюта. Жан из Наварры был их часовым.
Но как прокормиться? В саду, кроме немногих кореньев и ягод, не росло ничего съедобного. Каждый боялся полного опасностей пути в город и обратно. Все были счастливы, когда самый юный из них, флорентинец, вызвался, наконец, через каждые два дня пускаться в рискованное путешествие. Это был красивый и дерзкий юноша, которого все звали Дорадор, хотя никто не побился бы об заклад, что он действительно знал искусство золотильщика. Судя по его словам, в Тунисе он много раз менял религию, но никто не знал ничего достоверного.
Теперь их было пятнадцать в пещере. Сервантес, за которым неотступно следили, должен был исчезнуть последним. Днем освобождения могло быть двадцатое сентября, так рассчитали они с Родриго. В ночь на двадцатое он покинул город. Пробираясь между холмами к саду, он вдруг вспомнил, что именно двадцатого сентября он отплыл на «El sol» из Неаполя. Он отогнал тягостное предчувствие.
Прошел день, прошла ночь, и еще семь дней и ночей. Корабль не появлялся. У брата не хватило решимости? Несчастье постигло корабль? Уже без надежды бодрствовали они последнюю ночь. Это была лунная ночь на двадцать восьмое сентября. И тут, в одиннадцатом часу, показался корабль.
Увидевшие его упали на колени. Он скользил по совершенно спокойному морю, маленький одномачтовый люгер, с такой незначительной осадкой, что мог причалить к самому берегу. Сервантес мысленно похвалил брата за это, а также за выбор знающего побережье моряка, который с такой уверенностью правил к берегу.
Все простирали руки, подавали знаки, но в полном молчании. Им уже казалось, что они слышат плеск весел в лунной воде.
Вдруг поднялся многоголосый вопль, гортанный, угрожающий и дикий. Невозможно было различить, откуда он прозвучал: с воды или с земли, из уст бессонно таящихся здесь людей.
Корабль удалялся. Кричать они не осмеливались. С остановившимся сердцем смотрел каждый вслед исчезавшему спасителю.
— Друзья, он вернется, — произнес голос Сервантеса, — он ждет удобной минуты.
Но прошло три мучительных дня, пока он вернулся. Пришлось еще раз послать золотильщика за едой. Его не было с ними, когда вновь появился люгер, на заре, перед восходом солнца. Корабль осторожно крейсировал, ожидая знака. На форштевне неясно виднелся силуэт рослого человека без шапки.
Всем не терпелось подать знак и поскорее взойти на борт. Каждая минута была дорога.
— А Дорадор? — спросил Сервантес.
— Но раз его нет!
— Его нет потому, что он рискует за нас своей жизнью, сегодня уже в двадцатый раз.
Но разве они не были правы? Пусть лучше один погибнет, чем все. Ему самому не терпелось подать знак, он изнемогал от нетерпения… Все же он сдержался, этому воспротивилась его фантазия: он представил себе, как золотильщик, запыхавшись, проберется в сад с хлебом, с их хлебом, в руках. Он не найдет никого. Все пусто: пещера, сад и залив, а пятнадцать негодяев уплывают на волю.
Они с ропотом обступили его:
— До каких пор еще ждать?
— Пока солнце не встанет. Он никогда не приходил поздней.
— Дайте хотя бы знак! Знак — еще не отплытие.
— Знак — именно отплытие. Моряк отчалит, как только мы взойдем на борт.
— Он, значит, разумнее вас, — грубо сказал один.
Обидчик был прав. Откуда взялось у него это стремление дойти до крайности, бросить вызов судьбе? У него не было на это права! А теперь он уже и не мог…
Потому что они сами подали знак. Они замахали руками. Они его не послушались. Сервантес перевел дух. Он огляделся. Жан из Наварры бежал из хижины со своим узелком: он решил ехать вместе с ними.
Вдруг в глубине сада послышался треск ломаемых сучьев и топот многих людей. Это был Дали-Мами с ротой вооруженных. Его вел Дорадор в нарядном тюрбане.
Давно ли он затеял предательство, разочаровался ли в предприятии, или вдруг проснувшаяся злая воля толкнула его на такую гнусность, кто мог это знать! Дерзко красовался он подле Дали-Мами, который молча наслаждался происходящим. Это было поистине великолепное зрелище!
Ярость беглецов обратилась против Сервантеса. Столь велика была их ненависть к тому, кто ради верности предателю толкнул их под нож, что они почти позабыли об изменнике, почти даже не испугались. Сжав кулаки, с дикими глазами, неистовствуя и проклиная, они обступили Сервантеса. Тот отстранил исступленных.
— Тебя я готов убить, — сказал он Дорадору, и было в лице этого обреченного на смерть и хрупкого человека нечто такое, что флорентинец скользнул за спины вооруженных и спрятался в чаще.
— Ты никого больше не убьешь, — сказал Дали-Мами. — Перед петлей тебе отрубят и правую руку. А твоим сообщникам — левую, чтоб впредь они были похожи на своего главаря.
— Увечить других — лишний убыток. Вам нет в этом надобности. Ни один человек не отважится на бегство, когда я умру.
Это было сказано с убежденной и убеждающей серьезностью. Он сдался. Ему ничего не удавалось. Он больше не верил в свою звезду.
Он погубил всех этих людей своим упрямством. И впредь он поступил бы так же… Сегодняшнее событие приподняло покров, и перед ним возник в неясных очертаниях закон его жизни. И такая жизнь больше не была ему нужна.
Реис подал знак. Беглецов окружили и погнали к выходу.
Вслед за ними прошмыгнул золотильщик в новом тюрбане, торопясь за вожделенной наградой.
Реис остался с двумя телохранителями. Задумчиво прохаживался он перед молчаливо ждущим Сервантесом, изящно помахивая своей гибкой тростью.
— Что ваш чин, Мигель, и ваша торговая стоимость — вздор, — сказал он, наконец, — это я знаю уже давно. Я только делал вид, что верю этой басне. Но вы еще можете высоко взлететь.
— Вы разумеете виселицу. Я это знаю.
— Один из величайших корсаров, Хорук Барбаросса, брат Хайреддина, был одноруким, как вы!
Сервантес молчал.
— Почему вас тянет к своим? Что вам делать в Испании? Наденьте тюрбан! Я вас освобожу. Я вам дам корабль. Ваша одна рука хорошо вам послужит. Соглашайтесь!
И он протянул ему руку.
Сервантес не взял ее.
— Что вам мешает? Ваш бог? До сих пор он был не особенно милостив к вам. Ваш король? Он вас не знает. Ваши товарищи? Вы сейчас видели, как они оскорбляли вас. Поверьте мне, все эти людишки только на то и созданы, чтобы им проламывать головы.
— Что будет с моими товарищами, реис? Вы их пощадите?
— Оставьте вы этих гадин! Подумайте! Я дважды не стану упрашивать.
Он взглянул в лицо Сервантесу, повернулся, свистнул своим людям, как свищут собак, и ушел, не прибавив ни слова.
Сервантес остался в саду один. Море было пустынно. Люгер ушел в море.
В ближайшие дни Сервантес узнал, что один, самый невинный из всех, Жан из Наварры, все же поплатился жизнью. Его подвесили за ногу. Дали-Мами и чиновник, хозяин садовника, прогуливались взад и вперед перед виселицей и наблюдали, как собственная кровь душила беднягу.
Жизнь Сервантеса в последующие годы была своеобразна, даже удивительна. Многократно достойный смерти в глазах алжирских правителей, он оставался на свободе, и ни один волосок с его головы не упал. Никто не принуждал его к работе. Он жил по-прежнему в баньо. Он мог подолгу пропадать и ночевать где угодно, хоть под звездами; при возвращении стража приветствовала его, как докучного знакомца.
Многоразлично было его общение: рабы всех христианских наречий, матросы реисов, разукрашенные женщины под арками ворот, солдаты, духовенство, ремесленники, чиновники, торгующие и ученые иудеи. Его знали дети. О нем говорили. Что его щадил ужасный Дали-Мами, что он питал к нему своего рода мрачную привязанность, казалось до того удивительным, что многие шептали о колдовстве. Они были не так уж далеки от истины.
У него был заработок, особенно с тех пор, как некоторое количество христианских купцов получило привилегии селиться и вести торговлю в стране.
Торговые дома Валтасара Торреса и Онофре Экзарке были крупнейшими. Так как они вели сложную переписку, их очень выручали услуги Сервантеса.
Он мог быть доволен. Но его сердце не умело уживаться с ненавистью. До сих пор еще не мог он привыкнуть к мучениям вьючных ослов в этой стране. Когда ему случалось встречать в кривом переулке такого крошку с пузатым всадником на спине, который был тяжелей своего животного и обрабатывал ему колючей палкой уже загноившиеся бока, вся кровь бросалась ему в голову, и он готов был ввязаться в драку. Как же он мог спокойно смотреть на зверства короля Гассана, возраставшие с каждым днем? Виселицы никогда не стояли пустыми, земля перед Баб-эль-Уедом превратилась в кровавое болото, наемных палачей не хватало, их число пришлось увеличить, «почти все христиане здесь без ушей, и счастье, если у кого уцелели оба глаза», — писал в эти дни домой один неаполитанец.
Одиночный побег теперь, вероятно, удался бы Сервантесу, потому что никто за ним не следил. Но его целью оставалось освобождение многих. Неудачи его не отпугивали. В этом он искал оправдания своему бытию, плачевно протекавшему без славы и без следа.
Ровно два года спустя после последней попытки предпринял он новую. И теперь, как тогда, шел роковой месяц сентябрь.
Поселившимся здесь торговым людям контракты их строжайше запрещали всякое покровительство христианским рабам; если они нарушали это условие, право их на поселение, их имущество и даже жизнь подвергались опасности. Но купец Онофре Экдарке, валенсиец, богатейший из всех, не устоял против влияния своего однорукого секретаря. Он снарядил для него корабль.
Теперь это не был убогий, маленький люгер, но целый фрегат, стройный, вооруженный, достаточно поместительный, чтоб предоставить кров шестидесяти испанским беглецам. Он прибыл из Картагены и должен был встать на якорь у мыса Матифу, в пяти часах от Алжира — там, где некогда император Карл посадил на корабли свое разбитое войско и сам взошел на палубу последним.
В этом году рамадан совпал почти полностью с христианским сентябрем. Действовать было решено в ночь на двадцать девятое, завершающую месяц поста, ид-ас-сагир, в ночь огней и празднеств. Когда с наступлением темноты начнется великое пиршество, когда насытившиеся, еще пылая от наслаждения, толпами повалят в мечети, чьи распахнутые ворота изливают желтый огонь свечей, повалят, упиваясь гнусаво-пронзительной музыкой и выкрикивая святое имя губами, сальными и блестящими от жирного медового теста, тогда нетрудно будет поодиночке или группами выбраться из шумного разбойничьего города, перелезть через стены, переплыть залив или даже выйти из ворот, безобидно гуляя. Соберутся все на левом берегу Харраша, в часе ходьбы.
Все хранилось в величайшей тайне. В утро, накануне ночи огней, предполагалось каждого оповестить сигналом, что все готово и нет опасности. Этот счастливый сигнал должен был дать всем сам Мигель Сервантес. Все, работая, ждали с ранней зари.
Люди ждали напрасно. Знак не был подан. Никто не видел Сервантеса. Вечером никто не покинул города.
Предательство снова вмешалось в игру, предательство, столь чуждое Сервантесу, что он постоянно забывал о нем в своих расчетах.
Тот, кто его на этот раз совершил из зависти и злобы, был испанец ученого звания, доктор Хуан Бланке де Пас, некогда саламанкский монах-доминиканец. Он был блекло-желт лицом и отвратительно пузат; его вид, взгляд — все вызывало чувство унылой неприязни. Тошнотворны и двусмысленны были его слова, тошнотворен и недвусмыслен запах, шедший изо рта и сопровождавший их. Свойством своим он был известен даже в этом городе, полном немытых рабов, и когда кто-нибудь говорил о Вонючем, каждый знал, о ком шла речь. При этом его мучило неутолимое желание нравиться и приобретать друзей. Он злобно ненавидел Сервантеса, привлекательного, расторопного человека, окруженного всеобщим удивлением. Лишь для того чтобы предать, вмешался он в планы бегства. В предпоследний день он сообщил все, что знал, королю Гассану-Венециано.
Мигель, предупрежденный друзьями из Дженины, — он имел их повсюду, пробрался задними переулками к дому купца Экзарке. Экзарке чуть не умер от испуга.
Все его достоинство, все благообразие богатого господина мгновенно покинули его.
— Кому известно мое имя? — было его первое слово. — Кому, кроме вас? Вы мне клялись, что его никто не узнает.
— Никто его и не знает, дон Онофре.
— Вы клянетесь в этом святой девой и своим спасением?
— Не тревожьтесь!
— Не тревожьтесь! Да вы сами выкрикнете мое имя, когда они начнут вам дробить руки и ноги или вытягивать их из суставов.
Он закрыл лицо обеими руками и прислонился к стене. Сервантес ждал.
— Это свыше сил человеческих, — услышал он, наконец, слабый голос. Вы не сумеете молчать. Исчезните!
— Исчезнуть? Как так, Онофре?
— Именно так. Я пойду к реису. Я заплачу, что он требует. Вы будете выкуплены, вместе с вами исчезнет и опасность. Вы мне оставите расписку в этих деньгах.
— Это была бы ложная расписка, Онофре. Я никогда не смог бы расплатиться. Да это и бессмысленно. Ведь подобный поступок как раз и навлечет на вас подозрение.
— Вы не хотите? — спросил Экзарке с лицом, поглупевшим от изумления и страха. — Чего же вы тогда хотите? Издохнуть под пыткой?
— Онофре, до этого не дойдет.
До этого не дошло. Он спрятался. Он нашел убежище в самом сердце города, в оживленнейшей его части, на торговой улице. Здесь он три дня сидел в подвале у одного еврейского штопальщика, которому когда-то оказал услугу, и раздумывал над своей участью.
Разве, в сущности, не прав был Экзарке, когда он казался поглупевшим от удивления? Что заставляло его вечно ходить по острию, вновь и вновь, и с каждым разом все ожесточеннее бросать вызов судьбе? Откуда эта непостижимая уверенность, что и теперь он не погибнет, что все минует, не коснувшись его? Где то неизвестное, ради которого он был храним? Он наклонился над самим собой, как над водой, и ничего не увидел в глубине.
Ему было тесно в норе. Над головой торговались заказчики, и несметное семейство его хозяина вело слишком выразительные разговоры. Дважды в день ему приносили перенасыщенную пряностями еду; каморка его насквозь пропахла луком.
Принявшись за только что спущенный ему полуденный завтрак, он вдруг задержал кусок во рту, потому что из переулка донеслось к нему громкое выкрикивание его имени, сопровождавшееся скрипучей трещоткой публичного глашатая:
— Разыскивается раб Мигель Сервантес. Он повинен в преступлении, и тот, кто его укрывает, поплатится жизнью…
Снова трещотка — и тишина.
Приподнялась дверь в потолке. На светлом фоне четко обрисовалась круглая голова и бородка хозяина-еврея.
— Я слышал, Элиас, — сказал Сервантес, — я ухожу.
Наверху он прощальным и как бы благословляющим жестом коснулся головок двух старших мальчиков — коснулся почетно искалеченной левой рукой — и мгновение спустя стоял у всех на виду перед Джениной.
Площадь была окружена вооруженными стражниками короля Гассана. Его схватили. Ему связали руки за спиной. Ему накинули петлю на шею, как приговоренному к виселице. Он был втащен внутрь и тотчас же приведен к Гассану-Венециано.
В глубине громадного внутреннего двора, где било три фонтана, под средними колоннами узкой его части королю было приготовлено ложе из желтых и зеленых кожаных подушек. Подле него, по бокам, стояли Дали-Мами, на этот раз без трости, и придворный чиновник, звание которого Сервантес определил по необычайной его одежде: это был ага двух лун. Позади таился в тени арки тот, кто его предал, — Вонючий.
Король Гассан был одет с изысканной простотой: белый бурнус из обыкновенной ткани, желтые туфли, феска, обмотанная белым тюрбаном без всяких пряжек. Он подчеркнуто не желал умалять впечатление, производимое его особой. Своими сверкающими, налитыми кровью глазами он спокойно разглядывал стоявшего перед ним слабого на вид человека. Потом, высоко вскинув брови, он перевел взгляд на Дали-Мами, пожал плечами, словно хотел сказать: только-то и всего? — и начал допрос.
Тотчас же обнаружилось, что доминиканец преувеличил: он сообщил королю, что фрегат мог вместить двести рабов и что именно столько готовилось к бегству.
— Значит, ты, наглый ты вор, — сказал Гассан, — собирался украсть у нас чудовищную сумму в сорок тысяч дукатов?! Сознаешься?
— Негодяй, предавший меня, — сказал Сервантес, — раздул число, чтобы повысить себе награду. Фрегат мог вместить шестьдесят пленников.
— Значит, ты признаешь себя виновным?
Сервантес нагнул голову. Веревка соскользнула с его шеи, петля упала к ногам. Подскочил слуга, чтобы снова надеть ее на Сервантеса, но Гассан прогнал его кивком.
— Ты назовешь нам имена всех этих шестидесяти. Говори!
Ага двух лун выступил вперед с записной дощечкой в руках.
— Потом ты назовешь человека или людей, на чьи средства все это устраивалось. Предприятие стоило немалых денег.
Вид у Мигеля был дружелюбный, почти смиренный. Но чувствовалось, что стена этого молчания неприступна.
Король кивнул. Из подковообразной двери в левой продольной стене вышли двое зеленых, справа же двое одетых в лиловое и в черных тюрбанах, с длинными, странной формы инструментами в руках.
— Полюбуйся! — сказал Гассан. — Когда цепы зададут тебе двадцать вопросов, ты нам ответишь.
Это и в самом деле оказались цепы, верхняя подвижная часть которых была густо усажена острыми иглами. Стоило взглянуть на них, чтобы тело затрепетало от предчувствия глубоких укусов.
Сервантеса схватили сзади. С привычной быстротой сорвали с него одежду и бросили нагого на каменные плитки, лицом вниз. Подручные уже придавили ему коленями ноги и шею.
Он закрыл глаза. Он не испытывал ни страха, ни ужаса, скорее удивление. Он не думал, что это может случиться. Но раз уже случилось, он попытался призвать заступничество святых. С испугом почувствовал он, что его мысль неспособна обратиться к ним. «Разве я больше не христианин? — подумал он содрогаясь. — И почему я тогда здесь лежу?» Он вздохнул глубоко, так глубоко, насколько позволила грудь, стиснутая коленями палачей, и ждал первого укуса пытки.
Ничего не последовало. Он почувствовал себя освобожденным от тяжести. Он раскрыл глаза и приподнялся на локте.
— Ты слишком хилый, — услышал он голос короля. — Тебя пытать — все равно, что казнить. Встань!
Сервантес встал. Жмурясь от света, стоял он совершенно нагой в пяти шагах от ложа из подушек.
— Слушай, ты! Я пощажу твою жизнь, если ты назовешь виновных. Будь уверен, что каждый из них сто раз предал бы тебя. Ну, кто же они?
— Четыре знатных испанца, все четверо давно на свободе и давно на родине.
— Имена!
И Сервантес с величайшей беглостью назвал несколько фантастических имен, великолепно звучащих и неправдоподобных. Только и слышно было, что — «омец», «антос», «иго».
И тут произошло невероятное. Изверга Гассана Венециано одолел смех. Он всячески старался скрыть его: волосатой рукой заслонял он свой кривой длинный рот, кровавые глаза сузились от удовольствия, а из горла вырывались звуки, более похожие на ржавый скрип, чем на человеческий смех. Все, в том числе и Дали-Мами, с удивлением наблюдали необычайное явление.
— Я его покупаю у вас, вашего рыцаря! — сказал он наконец. — Мало вы мне рассказывали о нем. Четыреста дукатов, идет? — Дали-Мами наклонил свое жирное лицо.
Гассан дал знак через плечо, и предатель вышел из-под арки.
— Ты сослужил нам службу. Вонючий. Я щедро тебя награжу.
Он пошарил за поясом и вынул червонец, единственный. Он зажал его между большим и указательным пальцами своей волосатой красной правой руки, посверкал им на солнце и швырнул под ноги Вонючему.
— Это еще не все! Пойди к моему повару. Он даст тебе горшочек масла. Можешь его вылизать в полное свое удовольствие… Целый горшочек масла, — повторил он смакуя, и одному богу было известно, что за особенное издевательство заключалось в этой награде. — Нагнись, — крикнул Гассан, подними дукат вонючей пастью и ползи обратно в свою нору!
Но если король разочаровал предателя, то в некотором роде разочаровал он и Сервантеса. Он держал его в тесном дворцовом плену. Сервантес был прикован у самого входа в большой двор под второй подковообразной аркой. Подушки и покрывала обеспечивали ему удобства, его ложе, хоть и было на свежем воздухе, старательно защищалось от солнца и дождя. Длинная тонкая цепь давала ему возможность прохаживаться по двору. Эта цепь была изготовлена специально для Мигеля. Она была серебряная.
Гассан держал при себе однорукого раба, как держат благородного, неукротимого зверя. «Мой знаменитый леопард», — говорил он посетителям, подводя их к нише, где сидел и писал Сервантес, потому что король разрешал ему заниматься всем, чем он хочет; ему с готовностью доставлялись все нужные принадлежности. Кроме того, его ежедневно спускали с цепи, позволяя ему вдоволь полоскаться в одном из бассейнов. А через каждые две недели приходил брадобрей и подстригал «леопарду» бороду.
Быть может, Пахнущий кровью видел в Сервантесе род талисмана? Слуга передавал слова, которые однажды вырвались у короля за столом: «Не погибнет город Алжир, корабли его, рабы и добро, пока будет во дворце однорукий».
Так сидел он в своей нише, и ежечасно проходила перед его глазами сокровеннейшая жизнь всемирно опороченной Дженины; он изучал пестрые церемониалы разбойничьего двора, причудливую смесь западного с восточным, трижды в день раздирал его слух королевский оркестр из барабанов, труб и кларнетов; он видел суд и расправу, нисходящие с желто-зеленых подушек, видел, как обезглавливали, калечили, сажали на кол, видел, как мыли потом каменные квадраты, по которым в вечерней прохладе прохаживался Пахнущий кровью. Он знал о таких делах беспутного государства, о которых, пожалуй, не знал никто.
Раньше, чем весь город, услышал он о том, что Гассана отзовут. Интересно знать, что тогда станется с ним самим?
Шел третий год правления и арендаторства венецианца. На этот раз дворцовые интриги в Стамбуле начались раньше, чем обычно. Уже называли имя преемника. Эго был Джафер, который громадными взятками и доносами подкапывался под Гассана при султанском дворе.
Но проходили месяцы, а «леопард» все продолжал сидеть на своей серебряной цепи.
Было израсходовано много остро отточенных перьев. Горою вздымались листы манускрипта. Это была драма или, во всяком случае, нечто похожее, и она называлась «Житье-бытье в Алжире». Он описывал то, что его терзало: страдания пленников в этом городе. Неужели других не захватит то, чем сам он был захвачен пять лет изо дня в день? Он мечтал отправить рукопись контрабандой за море. Если пьесу поставит одно из знаменитейших театральных товариществ Испании, если пьеса раскроет глаза королю, власть имущим, — она, быть может, подаст сигнал к крестовому походу, который истребит африканский чумной очаг.
Но пьеса не удалась. Он вскоре сам это понял. Запутанно и произвольно, хотя и жизненно, переплетались между собой судьбы его героев, не чувствовалось общей связи, — неумелая смесь сильного с дилетантски-бесцветным. Ах, не было ему дано достигнуть величия ни пером, ни мечом. Он еще и сейчас — ученик из академии маэстро Ойоса. Еще и сейчас и навеки — нищий инвалид.
Но вокруг стены Дженины прибоем вздымалась его легенда. Письма в Испанию, Италию и Францию говорили о нем. В то время он был любим и славен.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Четыре королевских корабля, готовых к отплытию, стояли в алжирской гавани.
Целый день набивались их чрева ящиками и мешками, неисчислимым барышом трехлетнего арендаторства Гассана-Венециано. Галера, на которую собирался взойти он сам, обширнейшая из всех, высокобортная, с испещренными золотой вязью боками и развевающимся полумесяцем над пурпурным капитанским мостиком, стояла в полном боевом снаряжении у причальной стены. Из двух трапов корабля пользовались только одним. Другой, застеленный красным ковром, был пуст и ожидал Гассана. Красный ковер сбегал с него вниз на площадь и вился дальше, мимо Большой мечети, к воротам Дженины, словно кровавый ручей.
Сервантес был прикован к одной из скамеек возле главной мачты, вместе с гребцами, но ближе к проходу, так как он не годился для работы веслом. Припомнив дату, он установил, что было девятнадцатое сентября. Наступала ночь. На заре двадцатого распустят они паруса. Его мрачно развеселила эта закономерность.
Кругом, на скамейках и между ними, кое-как прикорнув и сжавшись на корточках, заснули гребцы. Оковы звенели. На нем не было иных пут, кроме его серебряной цепи. Он не спал. Он знал, что его ожидает… Он упрямился, как мальчишка, он столько раз пренебрегал собственным спасением, мня себя спасителем многих. Теперь было слишком поздно. С Алжиром покончено. Когда его занесет в Стамбул, пути на родину будут отрезаны навсегда. Он был обречен на безвестную гибель в обширном турецком царстве.
Он в точности знал, что случилось. С тех пор как стало известно, что Гассан будет отозван, братство тринитариев работало с двойным усердием. В Алжир прибыл сам Хуан Хиль — главный прокуратор ордена — и после длительных переговоров выкупил многих рабов Гассана. Средства были скудны, приходилось торговаться из-за каждого дублона. Но в конце концов более ста христиан оказались на воле. Они уже давно возвратились за море, в свои деревни и города.
Королю Гассану не хотелось уступать Мигеля де Сервантеса. Он играл с главным прокуратором. Он в сильных речах возвеличивал однорукого человека, восхвалял его отвагу, его несокрушимый дух, его ученость, его безупречное поведение. Снова была пущена в ход старая, отслужившая сказка о высоком происхождении Мигеля. Тысяча дукатов наличными — тогда еще можно, пожалуй, разговаривать, но и это будет убыточная продажа…
Наступил день, сияющий, голубой, превосходный. На всех четырех кораблях пронзительно и непрерывно трубили прощальный сигнал. Прогрохотал пушечный выстрел. Сервантес оглянулся на берег, пестрый от людей. Он бросил последний взгляд на слепящую стену Большой мечети, на угрюмо зияющую Дженину, с крыши которой исчез золотой фонарь, на белую, пирамидально вздымающуюся касбу, и ему показалось, будто он покидал не только место стольких страданий, но и родину.
К нему подошли два матроса. Один из них нагнулся и отвязал от скамьи серебряную цепочку. Они дали ему знак следовать за ними.
Под пурпурным плетением капитанского мостика сидел отъезжающий король, одетый с небывалой роскошью, с усыпанной драгоценными камнями кривой и короткой саблей на коленях.
Гассан не взглянул на Сервантеса. Он, казалось, не замечал его присутствия. Он смотрел поверх своего «леопарда» на море, которое вскоре унесет его от власти.
Заговорил стоявший подле короля янычарский ага, в женской юбке и поварской шапке:
— Сервантес, вы должны офицерам на борту девять дублонов.
Это был древний церемониал освобождения гребцов.
Обычай был известен каждому. Знал его и Сервантес. Он понял, что он свободен. Он сказал:
— У меня нет денег.
И это было первое слово, произнесенное им на свободе.
— Отдай свою серебряную цепь, — сказал ага. — Мы разрубим ее на девять кусков. — Он говорил с прежней велеречивой нарочитостью.
Сервантес снял свою цепь. Он ждал. Так как все молчали, он повернулся и сошел на берег по трапу: это был ближайший с королевским ковром. Мостки тотчас же подняли. Конец красного ковра соскользнул и хлопнул по воде. На набережной поднялся крик, заглушаемый пронзительным ревом труб, и Сервантес увидел, что королевский корабль отплывает.
Когда, час спустя, освобожденный пришел к главному прокуратору, поселившемуся в доме купца Торреса, монах принял его неласково. Оказалось, что Гассан в самый последний момент удовлетворился пятьюстами дукатами. Итак, Мигель был должен пятьсот дукатов братству тринитариев. Он составил долговую расписку. Это было первое слово, написанное им на свободе.
— Я не сразу решился дать вам поручительство ордена, — сказал брат Хуан Хиль, — потому что ваши доблести для меня сомнительны. Вам предстоит оправдаться.
Оправдаться? Но перед кем? Перед Вонючим!
Доминиканца выкупили. Чтоб возместить ему лишения, его сделали в Испании членом Святейшей инквизиции. Злоба еще жила в крови урода. Горшочек масла не был забыт. Но теперь его мучил еще и страх, что предательство его разоблачится, когда вернется Сервантес. Он решил его опередить. Заключенный в Дженине стал мишенью его ядовитых доносов. Он приписывал ему осмеяние религии, приверженность к лжеучению пророка, продажность, развращенность и всяческие беспутства. Главный прокуратор, хлопотавший об освобождении Мигеля, получил от Святейшей палаты наказ сперва расследовать все эти обвинительные пункты.
В Алжире обвиненный пользовался доброй славой. Грозил отъезд в Стамбул. Хуан Хиль уплатил выкупные деньги. Но в руках у инквизиции должно быть оправдание. Монах его требовал ради собственного благополучия.
Так начались для Мигеля Сервантеса дни свободы. Вместо того чтобы радостно устремиться на родину, ему пришлось еще много недель топтать знакомые мостовые, пришлось вымаливать свидетельские показания, пришлось обстоятельно доказывать смиренно-елейным слогом, что он не еретик, не тайный мусульманин, не лжец, не развратник, не осквернитель мальчиков — верный и добронравный сын своей церкви. Так составился длинный, размазанный, хитро сплетенный документ. Развернулось целое войско свидетелей. Всякий, кто не знал Сервантеса, подумал бы, что это написано боязливо-приниженным тихоней и пролазой, а не отважным, жизнерадостным, свободным человеком. Но так было нужно. Это было оружие против Вонючего.
В середине октября главный прокуратор Хуан Хиль заявил, что он удовлетворен. Двадцать четвертого Мигель Сервантес отплыл в Испанию. Он прожил в Алжире пять лет и один месяц. Сердце его было безрадостно, с трудом еще поднимались крылья его надежды.
Маленький корабль Антона Франсеса увозил, кроме него, еще пятерых недавно освобожденных пленников. Ехал с ними и сам брат Хуан Хиль.
Быстро и легко совершалось плавание. Какая ничтожная канавка отделяла страну рабов от испанского берега! При попутном ветре он показался уже на второй вечер. Могучая горная вершина первой поднялась из вод.
— Монго, — сказал Сервантесу стоявший подле него мастер Франсес. — Бьется у вас сердце?
Сердце Сервантеса билось не сильнее обычного. Недели ожидания, просьб, протоколов опустошили его больше, чем годы опасностей и лишений.
— Монго? — спросил он только. — Где же мы пристанем?
— В Дении, где я живу, — сказал моряк. Мигель не помнил, чтоб ему когда-либо приходилось слышать это название. Верно, крошечное портовое местечко.
Ждет ли его кто-нибудь из родных? Может быть, сестра Андреа? Глухой отец? Он пытался радоваться свиданию. Он принуждал себя верить в будущее и славу, Он еще не был стар.
— Не известно ли вам случайно, мастер Франсес, в Мадриде ли сейчас король?
— Нет, не в Мадриде. Он на португальской границе. Там королева больна чумой. Может быть, теперь уже умерла.
Королева? Какая королева? Разве время остановилось? Разве не вчера написал он траурное стихотворение…
— Какая королева? — спросил он вслух.
— Какая! — Маленький пузатый человечек в светло-голубом шарфе даже отшатнулся, сбоку окинул его зоркими глазами. — Четвертая, австриячка: он уже десять лет на ней женат. Вы разве не знали?
Сервантес не ответил.
— Дон Хуан Австрийский с ним? — спросил он снова.
— Дон Хуан-почему?
— Он когда-то был расположен ко мне.
— Дон Хуан Австрийский умер.
Это поразило Сервантеса, как удар меча. Но почему? Не потому ли, что смерть Дон Хуана разбивала одну из его смутных надежд? Или потому, быть может, что он был одних лет с Дон Хуаном и теперь вдруг узнал, что бурная жизнь ровесника уже отшумела. Иначе какое ему было дело до великолепного тщеславца, до этого последнего пустого и блистательного образа испанского рыцарства?!
Кораблевладелец рассказал. Он был хорошо осведомлен.
Поистине печальная участь! Столь великие разнообразные планы — и такой конец!
Африка, Греция, Генуя — все это было для него недостаточно крупно. Он претендовал на большее: на французскую корону, на английский престол. Наконец его послали в Нидерланды. Здесь тоже смутно мерцала корона. Он погиб. Он должен был погибнуть. Быть может, мастер Франсес этого прямо не сказал — именно поэтому его и послали. В тридцать три года он был истощен, как старик. Только об одном он молил: о могиле подле останков его отца, императора. Это будет воздаяние за все его заслуги.
— Эта просьба была исполнена?
— Эта просьба была исполнена.
— Он умер в Испании?
— Во Фландрии, дон Мигель. В хижине, в открытом поле, среди своих солдат.
— Хорошая смерть.
— Да… — протянул Антон Франсес. — Хорошая смерть. Хотя труп, говорят, был весь черен, словно обугленный. А когда его вскрыли, вместо сердца нашли иссохший комочек.
— Но теперь он лежит в Эскуриале?
— Тело пришлось разрезать на четыре части. Четвертованным вернулся он тайком в Испанию. Так его под конец ненавидели. Да, теперь он лежит в Эскуриале.
Темнело. Приближались скудные огоньки Дении. И Сервантесу казалось, что он после двенадцати лет отсутствия возвращается в Испанию с черного хода.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР
ИЛЬЕ надрывало сердце. Он ожидал найти родителей в скромных условиях, но был потрясен этим логовом из трех темных каморок с земляным полом и с незастекленными окнами, смотрящими в пустынный двор позади Калье де Аточа.
В честь возвращения Мигеля был устроен пир, горячий ужин, нечто редкостно-непривычное для этого дома. Густое варево из мяса и овощей, которое ели костяными ложками, сильно пахло капустой и чесноком. Появилось даже вино. Бокалы был разные. От этой мелочи Мигелю стало почему-то особенно больно.
Больно было смотреть, с какой жадностью нагнулся над тарелкой отец; в это мгновенье он, казалось, забыл о причине их пиршества. Стал он совершенно белым — костлявый маленький старичок, суетливо подвижной и почти совершенно глухой. Мигель испугался, когда ему пришлось кричать, чтоб быть понятым. Спохватившись, что это, быть может, неправильный способ, он стал говорить обычным голосом и лишь с судорожной выразительностью шевелил губами, — ничто не помогало. Ужаснувшись, он скоро совсем замолк. Мать, которая тоже вся как-то сжалась и казалась старухой, хотя ей было немногим больше пятидесяти, приветливо кивала ему, и слезы поминутно увлажняли ее большие сумеречные прекрасные глаза, озаренные колеблющимся пламенем двух свечей.
Он радовался, что увидится с братом Родриго. Но Родриго уехал. Он поступил в свой прежний полк и был теперь в Португалии с королем или «на островах», — на каких именно, точно не знали. Вообще о Родриго говорили неохотно, как если бы он уехал, поссорившись со своими. Мать принялась рассказывать о Луисе… Мигель вздрогнул. Он совершенно забыл о существовании этой исчезнувшей в монастыре сестры, с трудом припомнил он ее духовное имя: сестра Луиса де Велен. Он стал настойчиво расспрашивать, чтобы доставить радость матери. Та выпрямилась рассказывая, — она словно выросла и помолодела.
Монастырь Луисы, называвшийся Ла Имахен, отличался строгостью своих правил. Монахини его, босоногие кармелитки, жили по уставу великой Терезы из Авилы. Они одевались в грубую ткань, спали на соломенных подстилках, питались хлебом и соленой рыбой, проводили долгие дни в молитве и трудах. Мирская радость, мирская приветливость были не для них, они не смели даже руки подать друг другу. Уже много лет жила Луиса по этому уставу. Она была особенно богобоязненной монахиней, отличалась особенной высотой мыслей. Когда в прошлом году старуха Тереза ездила в Толедо, она нарочно отправилась кружным путем, чтобы повидать в Алькала благочестивую сестру Луису Вифлеемскую. И недавно ее сделали, несмотря на ее молодость, помощницей настоятельницы монастыря.
Сервантес разглядывал мать. Ее удивительные глаза лучились, когда она рассказывала о достохвальном самоотречении своего ребенка. Он давно не был в Испании, но как хорошо понимал он еще и теперь, что не ему и не Родриго, а только ей, монастырской затворнице, дано было утолить материнские желания, утешить материнскую гордость… Непомерное! Почти неосуществимое! Таков был его народ. Эта Тереза и ее последовательницы не довольствовались церковной верой, даже и самой строгой. В пылании и восторге раскрывался им путь к чудесам, доступным древнейшей христианской святости. Они стремились разбить все плотины холодного разума и размеренной жизни. Уединенное умерщвление плоти распахивало врата небес. Впереди было безграничное слияние с божеством.
Мигель понимал свою мать. Аскетическая жизнь кармелитки была ее гордостью и утешением. В монастырской доблести ей чудилось воздаяние и искупление мирской жизни остальных ее детей: двух сыновей-солдат, которым за ратными подвигами некогда было думать о спасении души, и старшей дочери, еще менее на это способной.
Она была здесь. Андреа сидела с ними за столом. Это была крепкая женщина лет тридцати шести или тридцати семи, немного уже отяжелевшая, с правильным лицом, к сожалению, сильно попорченным гримом. Покрой ее платья старался казаться модным: строгость талии, рукавов и воротника, непомерно вздувшийся кринолин, щедрая отделка из лент, тесьмы и нашитых жемчужин. Но вблизи это изящество теряло свой блеск: все было дешевое, полунастоящее, да к тому же поношенное.
О ней Мигель знал очень мало. В одном письме, еще в Неаполь, упоминалось о дочке, которой теперь могло быть лет восемь или десять. Называли там вскользь и отца, господина Фитероа, так что Мигель одно время считал сестру замужней. Но года два спустя маленькую племянницу звали уже Констанса де Овандо. Из этого странствующий солдат заключил, что Андреа жила со многими мужчинами и часто меняла любовников. На самом же деле тут было другое; слишком хорошо Мигель знал жизнь, чтоб в этом ошибиться. Для утомленной женщины любовь стала ремеслом, он сразу это почувствовал. Он вздрогнул от боли… Разве не было тут его вины, — во всяком случае, его соучастия? Ведь Андреа, — он это знал, — прислала часть выкупной платы.
Он посмотрел на нее, его взгляд был открыт и сердечен. Она опустила глаза, и ее тяжелое лицо пламенно покраснело. Так же покраснела она, когда недавно упомянули имя Родриго. Уж не вознегодовал ли тот в своей простоте душевной и не вздумал ли устраивать ей сцены? И теперь она боялась того же? Ну так и есть… Она трепетала перед ним, старшим братом. Его сердце болезненно сжалось. Он схватил руку Андреа и крепко стиснул в своей. В то же мгновение Андреа громко разрыдалась и, всхлипывая, склонилась к нему на грудь. Отец недоверчиво покосился на группу и громко потребовал объяснения. Никто не ответил. Мать шевелила губами, что-то невнятно бормоча.
Встав из-за стола, Мигель осмотрелся в жилище. Там нечего было разглядывать. Огонь свечки колыхался над скудной, случайной домашней утварью, над безлюбовно содержащейся мебелью, какая бывает у людей, часто меняющих пристанище. Наконец, таинственно его поманив, отец отпер крошечную каморку. Мигель удивленно смотрел на простейшие медицинские приборы и скляночки.
«Моя лаборатория, — гордо заявил старик, — ты, верно, не ожидал, что в мои годы можно еще переменить науку».
Судебные дела перестали давать ему заработок. Тщетно боролся он в Севилье, Бургосе и Вальядолиде с целой армией ученых соперников. Уступив поле битвы и вернувшись в захолустный Мадрид, он пришел здесь к отважному решению. Кровопускание, очистка кишок, названия пятнадцати лекарств — все это можно было кое-как изучить и под старость. Дело идет превосходно, сообщил он сыну. Секрет успеха — в чрезвычайной дешевизне его лечения. Кровопускание — два реала, в Мадриде даже цирюльник берет дороже. Богатства этим, конечно, не наживешь — пусть его наживают дипломированные обманщики, у которых уже сложился навык высасывать отовсюду проклятое золото. Ну и, разумеется, необходима величайшая секретность.
Мигелю хотелось поскорее броситься в постель, укрыться с головой одеялом, чтоб ничего больше не видеть. Эти жалкие, беспомощные люди ухитрились раздобыть для него немалые деньги! Они и сестра, только что рыдавшая у него на груди, в благодарность за прошение. Прощение? О, поистине, ему есть что прощать! Ведь он так блистательно хвастался всюду своими бесчисленными и отважными подвигами в многокрасочном мире, а этих несчастных довел до того, что у них нет четырех одинаковых бокалов для праздничного стола.
Но там еще стояли неодинаковые эти бокалы, стояло вино. Остальное было убрано. Ожидали его рассказов. Он почувствовал себя преступником. И заметив, что мать, севшая теперь рядом с ним, искоса разглядывает его левую руку, он торопливо отвел и спрятал за спину свой почетный обрубок.
UNICA СORТЕ[12]
В годы плена он иногда мечтал, с каким удовольствием в первое же утро после возвращения он пройдется по хорошо знакомой главной улице Мадрида. Эта предполагаемая прогулка стала для него своего рода символом прибытия на родину.
Но человеческие мечтания редко сбываются полностью. В первое утро была отвратительная погода, холодный ветер стегал дождем грязные переулки. Ему пришлось остаться дома, в родительском нищем жилье, которое в сером свете ноябрьского дня показалось ему еще печальнее, чем вчера, при свечах, и стойко отражать расспросы соседей, приходивших поглазеть на бродягу.
На следующий день, встав на заре, он устремился к Пуэрта дель Сольи не нашел ворот. Их снесли. С чувством неудовольствия и разочарования оглядел он место, где они некогда стояли, и широкую топкую пригородную улицу, начинавшую возникать по ту сторону. Этой дорогой он часто приходил сюда из Алькала, и путь лежал через красивый густой высокоствольный лес, простиравшийся до самых ворот. От леса теперь ничего не осталось. Все вокруг было начисто вырублено. Погоня за строительным материалом не знала ни осторожности, ни расчета.
Но в это утро одно стало ясно вернувшемуся: что Мадрид начинает превращаться в столицу. Двадцать лет нося это название, он в действительности оставался убогим местечком, сплошь состоящим из сомнительных переулков. Королевская причуда Филиппа Второго была вызвана лишь его нелюбовью к великолепному старому Толедо, ненадежному и языческому, где на мавританских улицах все еще звучала арабская речь.
Впрочем, сам он почти не показывался в своей Unica Corte. Все реже покидал он монастырский замок. Здесь он поселил только свой двор.
Двор этот был обширен и дорого стоил. Тысячи людей получали припасы из королевской кладовой. Жаркое, живность и дичь, рыбу, хлеб, масло, фрукты, шоколад и мороженое — все давал им король. Одни свечи, сжигаемые ими, стоили ему шестьдесят тысяч талеров в год.
Можно бы, казалось, ожидать, что нужды столь многочисленных и требовательных обитателей ускорят расцвет промышленности и ремесел. Но этого не замечалось. Все нужное ввозилось из чужих земель. Во всем Мадриде были лишь две маленькие фабрики: одна изготовляла посуду, другая — ковры.
Unica Corte ничего почти не производила, мало работали и другие испанские города. Сокровища с индийских островов, из Мексики и Перу протекали через страну, не оплодотворяя ее, и, чуждые мере земной, изливались в династические начинания. А крестьянин копал свою каменистую землю и все глубже увязал в невообразимой бедности.
Мадрид, ненасытное детище коронованного произвола, так и остался городом должностей и королевских канцелярий, охотников за чинами и подстерегателей бенефиции, знатных лентяев и хвастливых обманщиков. Правда, стал он также и подлинным средоточием гуманистических школ и академий, обиталищем художников, поэтов и комедиантов.
Больше всего говорилось о театре. Прошли те времена, когда случайные бродячие труппы сколачивали свои дощатые подмостки перед воротами: уже полтора года существовал в городе постоянный театр, где давались представления зимой и летом, почти каждый день. Сервантес слышал рассказы об этом, когда еще сидел на серебряной цепочке в алжирской Дженине.
Вот куда он охотно сходил бы. Настоящий театр! Триста представлений в год! Какие надежды! Но у него не было денег. Не было даже на еду и пристанище. Ничего другого не оставалось, как продолжать ютиться в душной каморке у родителей.
На его несчастье, король задержался в Португалии, а он один был, в конце концов, источником всех милостей. Но отец его успокоил… Он здесь не тратил времени даром. Все было подготовлено. От него знали про заслуги Мигеля члены многих судебных коллегий, знали в финансовой и высшей военной палате, знал президент Кастилии, знали правительственные секретари короля и даже господа из тайного государственного совета. Дело вполне надежное: Мигелю обеспечено высокое назначение, только еще неизвестно — военное или гражданское.
Но когда они начали свои хождения и принялись взбираться по канцелярским лестницам, инвалид и его глухой отец, все обернулось совершенно иначе. Старика Сервантеса действительно знали. Он, верно, десятки раз бывал во всех этих приемных и писарских комнатах. При его появлении канцеляристы вскидывали брови и обменивались многозначительными взглядами. Они дарили беглым и ироническим вниманием его спутника, худого и скромного человека, о котором он им плел столько небылиц.
Но когда случалось проникнуть к власть имущему, к одному из обещанных высших советников, — просители неизменно натыкались на заученные фразы, отсылавшие их на путь переписки. Королевское слово «путь переписки» высоко чтилось всеми его управителями.
Сервантеса удивляло, как спокойно, даже весело переносил отец подобное обхождение. Он, видимо, дорожил своей иллюзией. К тому же глухота оберегала его от разочарования. Он почти не догадывался о словесных увертках и разъяснениях. Неутомимо называл он все новые должностные места, которые предстояло посетить. Неутомимо кричал он о заслугах и подвигах Мигеля, так что тот начинал горбиться от смущения: старик прямо утверждал, что без участия его старшего сына Лепанто окончилось бы сокрушительным поражением. Но кто в Испании интересовался теперь этой морской битвой! Старые россказни! Да и не слишком разумно было кичиться своими заслугами в сомнительных делах, которые навлекли немилость на царственного адмирала и ускорили его кончину. И кроме того, страну наводняли герои. Они были неоплатными должниками во всех кабаках всех испанских городов и веселили бахвальством платящих за них гостей. Тунисские и алжирские приключения стоили не дороже лука. Все писарские комнаты были загромождены горами прошений на королевское имя: «que Vuestra Magistras me hasa merced».[13]
Через три недели Мигель Сервантес был уже достаточно осведомлен. Однажды они возвращались от кастильского советника, тщетно прождав три часа в его канцелярии, в нижнем этаже дворца. «Довольно ходить, отец! — крикнул он в ухо старику. — Ты сделал все, что мог. Спасибо тебе! Но эти писаки нам ни к чему. Я отправлюсь к королю. Я брошусь к его ногам. Я поеду в Португалию».
Отец был ошеломлен. Он омрачился. Эти хождения по канцеляриям стали неотъемлемой частью его жизни. Неохотно он с ними расстался.
«Я поеду в Португалию» — это легко было сказать. Прежде всего одежда: высадившись, он приобрел ее по дешевке у ветошника в Дении, и для поездки она была чересчур плоха. А где достать денег? Человек возвращается в город, где оставил, кажется, столько друзей и близких знакомых, и уже на третий день — совершенно один.
Он пустился на розыски своего учителя, дон Хуана Лопес де Ойос Маэстро Ойос умер. Его преемник, разговорчивый человек, сообщил подробности. Случилось это три года тому назад, в классе. Он читал вслух поэму о «Сиде», взятие Алькосера, и, произнеся заключительные строки:
Господь, что в небе правит, хвалу тебе пою — За то, что честь победы нам дал в таком бою… —вдруг упал на свой учительский пульт, и грохот был такой, словно рухнул рыцарь в доспехах.
С товарищами школьных лет у Мигеля не сохранилось связи. Да и рассеялись они по обширной испанской земле. Те же, кого ему случалось встречать, если они были уже в чинах и почете, вели себя почти так же, как тот секретарь, на которого он наткнулся в высшей военной палате и который стал особенно формален и недоступен, узнав отставного солдата. Товарищи по алжирскому плену также рассеялись бесследно. Знакомые родителей были сплошь бедняки.
Без единого мараведиса в кармане скитался он по Unica Corte.
Тут вспомнил он про свою пьесу и затеял добыть с ее помощью денег. Но фирма Пабло де Леон, некогда опубликовавшая его идиллию «Филена», закрылась. Когда он стукнул в дверь домика на Калье де Франкос, ему открыла старуха и тотчас же принялась расписывать преимущества своего заведения: шесть хорошеньких девушек постоянно к услугам, к тому же всегда можно раздобыть по соседству любовный товар всех возрастов. Она пустилась было в подробности, но замолкла, разглядев одежду Мигеля. Итак, колыбель его забытого первенца превратилась в веселый дом. Он очень этим позабавился и с «Житьем-бытьем в Алжире» подмышкой отправился на поиски другого издателя.
Фирма Блас де Роблес была ему известна по титульным листам. Господин де Роблес тотчас же его принял.
— Драма, отлично! А где же остальные?
— Какие остальные? — спросил Сервантес.
— Ну, можно ли быть до такой степени незнакомым с литературными порядками и не знать, что обычно двенадцать комедий издаются в одном томе, получается видная книга, прекрасно себя оправдывающая коммерчески.
Если дело обстоит так, заметил Сервантес, то ему придется зайти сюда не раньше, как через одиннадцать лет, потому что алжирскую свою пьесу он писал почти год. Правда, условия были не совсем такие, в каких обычно работает свободный писатель… И он кое-что порассказал господину Роблесу про короля Гассана и про серебряную цепь.
— Попытайтесь добиться представления, — сказал Роблес. — Это кратчайший путь к деньгам. Были вы у Херонимо Веласкеса?
Сервантес взглянул на него вопрошающе.
— Странный вы драматический писатель! Весь Мадрид бегает каждый день на его представления в «Коррале», а вы ничего про него не знаете. Вам необходимо познакомиться с трудами современников. Лопе, Лопе прежде всего!
— Я не знаю, дон Блас, дорого ли стоит туда вход. Для меня, во всяком случае, слишком дорого.
Книгопродавец запустил руку в свою кассу и извлек оттуда два кронталера — две большие, толстые и тяжелые монеты.
— За шестнадцать реалов, дон Мигель, вы сможете там побывать много раз. Ведь вам вовсе незачем брать окно в ложе. Это не подарок, мы сочтемся при первом же нашем разговоре. А «Житье-бытье в Алжире» прихватите с собой в театр и покажите Веласкесу. У него постоянно спрос.
ТЕАТР
Когда Сервантес, во втором часу пополудни, пришел на «Театральный двор», театр был уже полон. Он огляделся с удивлением, с интересом. Это было совсем не похоже на ярмарочные балаганы, в которых он, мальчиком, упивался представлениями забытых комедий Руэды.
Помещение, в точном соответствии с названием, представляло собой большой вымощенный двор, образованный задними стенами высоких домов. Сцена, приподнятая на четыре фута, занимала одну из узких его сторон. Она была открыта спереди и пуста. Грубо разрисованные занавески замыкали ее с трех сторон; в глубине — ландшафт с мавританским замком, слева — богатые покои, справа — сад. В подмостках имелся люк с опускающейся крышкой — единственное техническое приспособление сцены.
Сервантес оказался вклиненным в густую толпу мужчин, заполнявшую прямоугольник; смех, разговоры, окрики нетерпения. Вдоль трех стен возвышались ступенчатые сиденья. Все задние окна домов превратились в ложи. И грубоватые шутки обстреливали первый этаж одного из домов, где выступала навесом женская галерея, зарешеченная наподобие клетки. Оттуда струилось переливчатое сверкание белых брыжей, ярко накрашенных губ, машущих вееров.
Сколько праздных людей среди белого дня! Все, казалось, знали друг друга. Сервантес держался в сторонке, обхватив свою толстую рукопись правой рукой. Время от времени по толпе, наподобие волн, пробегали толчки, так что все валились друг на друга, — это случалось, когда один из крикливых продавцов фруктов и печенья прокладывал себе дорогу к подзывающему покупателю.
Была объявлена комедия, которая называлась «Любовной хитрости не смутишь», и рукописные афиши при входе старательно рекламировали имя сочинителя: господин Лопе Феликс де Вега Карпио. Это имя Мигель слышал не от одного только книгопродавца. Он был, по-видимому, еще совсем юношей, этот Лопе — одаренный до неправдоподобия, вдруг вынырнувший из ничтожества и сразу же ставший сценической звездой первой величины.
Нетерпеливый шум стоячей публики разросся до неистовства. Басы и дисканты слились в один стоголосый вопль и рев: «Начинать, начинать!» Рядом с Сервантесом стоял коренастый парень, достаточно отчаянного и запущенного вида, который по ничтожнейшему поводу так пронзительно свистел в два пальца, что у соседа лопалась барабанная перепонка. И вдруг этот юноша обратился к Сервантесу на изысканнейшем кастильском диалекте и предложил подержать его рукопись, так как «господину, по известным причинам, это должно казаться обременительным». Мигель рассыпался в благодарностях, но не решился воспользоваться предложением. Ведь он прижимал к груди последнюю надежду… Они оба сосредоточили все свое внимание на сцене.
Там был исполнен песенный пролог под аккомпанемент гитары и арфы, потом человек в костюме пажа произнес густо размалеванную хвалебную речь, взывая к благосклонному вниманию слушателей, и, наконец, началась комедия.
Что развертывалось в этих трех актах?
Стремительная и запутанная игра в прятки всех и со всеми, где каждый поминутно менял свой облик: дворянин превращался во врача, в тореадора или мельника, девушка — в цыганенка или в садовницу, садовница — в мавра или студента, студент — в призрак, призрак — в немого горбуна, пока не отшумел, наконец, неиссякаемый натиск стихов и рифм, терций, октав, романсов и прибауток и, при вмешательстве фей, богов, министров и драконов, четыре счастливые влюбленные пары не спели перед открытой рампой своих заключительных рифм.
Эта искусная, пестрая, но пустая и глуповатая сценическая безделушка показалась Сервантесу как нельзя более подходящей для развлечения больших детей в партере, приветствовавших шумными криками каждую неожиданность, каждое острое словечко. Но стоило какой-нибудь маске произнести более длинную стихотворную речь, тотчас же начинались свистки и ругательства. Этого не желали «неумолимые слушатели» — пехотинцы, мушкетеры, к которым с такой забавной льстивостью обращался пролог. Они требовали бешеного действия с превращениями, и волшебный люк на сцене должен был работать без передышки. Но шумевшие были не правы. Сервантес понял, что как раз в этих искусных речах и раскрывалось достоинство произведения. Здесь звучали строфы такой ласкающей грации и гармонии, трогающие, горестно-веселые, полные мудрости, что ему тотчас же стало ясно: этот господин Лопе не только богатый на выдумки шут.
Скромную входную плату брали недаром! Действие шло без перерывов. Не успевал окончиться акт, как начиналось междудействие, рассчитанное на то, чтобы не давать зрителю ни одного мгновения передышки. Это были совсем простенькие, с молниеносной быстротой разматывающиеся сцены: после первого акта сцена разыгралась между звездочетом, полицейским и двумя бродягами и окончилась тем, что астроном остался без подзорной трубы, а полицейский без сабли и перевязи; после второго акта развернулось нечто чуждое всякого смысла — народный балаган с бранью, прибаутками и отчаянной свалкой в заключение.
Публика выстояла добрых три часа, пока «Любовная хитрость» закончилась хоровой песенкой у рампы. Солнце уже зашло. Стало прохладно.
Сервантес, крепко держа свою рукопись, присел на одной из высоких задних скамеек и наблюдал, как пустел темнеющий «Театральный двор». Ему сказали, что жилище директора Веласкеса находится где-то здесь, в одном из домов, образующих этот глубокий четырехугольный колодезь.
Но Сервантесу не пришлось разыскивать директора. Едва последние зрители покинули «Корраль», на сцене вдруг появилась, выйдя из-за занавесок, группа из трех человек. Двое из них были в обычном городском платье, третий же актер — в костюме и гриме. Он поставил свечу в стеклянном колпачке на круглый стол, еще не убранный после спектакля. Те двое уселись — справа и слева.
Длинное пространство двора лежало между ними и Сервантесом. Он был почти неразличим в сгустившейся темноте. Он сидел неподвижно, чтоб не привлечь внимания. То, что он увидел и услышал, тотчас же захватило его целиком.
Так заинтересовал его, конечно, не актер, стоявший перед столом в одежде бургомистра и с цепью на шее, даже не господин, сидевший слева, по-видимому, сам директор, тяжеловесный мещанин лукавого вида. Он не спускал глаз с господина Лопе Феликса де Вега. Ему рассказывали, что этот удивительный человек уже на пятом году жизни читал по-латыни, а на двенадцатом — писал комедии. Теперь, когда он увидел, что у знаменитости едва пробивается борода, все слышанное показалось ему не таким уж неправдоподобным. Юноша метался на своем стуле, как ртуть, кричал звонким металлическим голосом и смеялся совсем еще по-ребячески; приподняв задний занавес, к троим разговаривающим присоединилась женщина — красивая, рослая, полногрудая девица, не слишком добродетельного вида; она молча прислушивалась к беседе.
О сегодняшнем представлении говорили мало. Речь шла главным образом о театральном плане на предстоявшие недели. Мальчик дон Лопе, — у слушавшего в темноте сжалось сердце, — считал, по-видимому, бесспорным, что ему одному предстоит взять на себя весь почти репертуар.
Если понадобятся пасторали в духе итальянских комедий, что ж, он готов к услугам. Сам он не очень-то любит произведения этого сорта: в них нет места подлинной силе и подлинной шутке, да и чересчур далеки они от действительности, — но он согласен совершить вылазку в эту область. И, приблизив к свече клочок бумаги, он прочел список задуманных им пьес: «Любовь Альбанио и Исмении», «Белардо неистовствует», «Пастораль о Гиацинте».
— Очень красивые названия, — перебил его Веласкес, — но хотелось бы увидеть образчик чего-нибудь в этом роде.
— Вам стоит лишь заказать, дон Херонимо, вы же знаете! Укажите мне число ролей и отчасти характер всего в целом, то есть что вам желательнее чувство или смех, и через три, а в случае нужды и через два дня вы получите пьесу. Только гонорар в виду исключительной срочности вам придется повысить с шестидесяти до восьмидесяти талеров; я не могу даром терять ночей, я знаю для них лучшее применение. — И он окинул довольно дерзким взглядом полную фигуру молчаливо слушающей дамы.
Ему бы доставило несравненно большую радость, продолжал он, не скрывая своего чувственного восторга, написать несколько пьес про амазонок, несколько драм, в которых были бы блестящие роли для доньи Елены Веласкес: ведь грустно подумать, каким редким стало теперь удовольствие видеть ее выступления.
В этом директор полностью присоединился к суждению господина Лопе! Он отказывался понимать жеманство своей дочери. Чего она ждет? Вероятно, тех лет, когда она сможет без маски играть беззубых сводниц.
Лопе галантно отпарировал. Этого пришлось бы ожидать не меньше пяти десятилетий. Во всяком случае, ей стоит лишь приказать, и он, преклонив колена, тотчас же преподнесет ей трагедию о прославленной даме Люциндре, отомстившей королю Аркадии за свою поруганную честь, или о прекрасной эстремадурской разбойнице, которая укрывается в своем горном замке, залучает в плен путников и убивает их, обезумевших от любви, пока ее собственного сердца не настигает судьба.
В Валенсии и Севилье, заметил отец, недавно имели большой успех пьесы, в которых главным героем был неверный мавр или турок. Что-то в этом роде как будто намечал и сам господин сочинитель — или он ошибается?
Живой юноша не заставлял просить себя дважды. Хорошо, что ему об этом напомнили! Едва ли возможно придумать что-либо более потрясающее, чем трагедия преступлений мавра Гамета, которая уже совершенно созрела у него в мозгу. И он набросал, — безыменного человека с алжирским манускриптом окончательно покинуло мужество, — историю о гордом и благородном морском разбойнике Гамете, который попал в плен к христианам, обременил свою совесть неслыханными зверствами — из дикой тоски по утраченной темнокожей возлюбленной, — потом бежал, был настигнут, схвачен и принял благочестивый конец от руки палача, раскаявшись и перейдя в христианскую веру. Поэт просил обратить внимание на одну подробность, которую считал особенно захватывающей и от которой многого ждал: крестным отцом раскаявшегося должен быть тот самый испанец, чью прекрасную супругу безумец заколол в своем любовном неистовстве.
— Очень тонко, — отметил Веласкес, — влюблен, кровав и благочестив исключительно счастливое сочетание. Эта пьеса, во всяком случае, должна быть написана, и поскорее. Если бы еще пополнить фантастическое более реальным материалом, театр был бы обеспечен на много недель, — чем-нибудь из недавнего прошлого, и чтоб непременно было национальное, что всегда вызывает восторг, — какой-нибудь поход, победа…
— Я смеюсь, не дожидаясь щекотки! Что вы скажете об осаде Маастрихта?
— Великолепно! — воскликнули в один голос все трое слушателей. Осада Маастрихта была одним из самых недавних событий.
— В этой пьесе, — пояснил Лопе, — я выведу на сцену целую армию. Не пугайтесь, Веласкес, вы наймете за несколько мараведисов пятнадцать уличных бездельников и заставите их изо всех сил шуметь за занавесом, что тоже недорого стоит; все великолепное выступление герцога Пармского развернется на сцене, солдаты кричат и осыпают друг друга испанскими, фламандскими, французскими и итальянскими проклятьями, герцог сам берет в руки лопату и хватается за колесные спицы, помогая продвинуть пушки; пороховой дым, звон оружия, пыль из-под копыт, и в этой сумятице, — так будет построено действие, — мечутся две женщины, испанка и фламандка, таскают и подают ядра, обе в солдатских одеждах, обе влюблены, и пока там громыхают пушки, между ними идет пламенная, остроумная любовная война, в которой испанка, — он снова обволок взглядом грудь восхитительной Елены, — побеждает в конце концов языком, как герцог своими пушками.
Тут впервые заговорил актер. Это был рослый тучный человек с необычайно добродушным лицом и основательно пропитым басом. Очень она ему по душе, эта осада Маастрихта! Вот, наконец, драма совсем в его вкусе, а роль отважного гениального герцога Александра — именно та задача, о которой он мечтал много лет…
Все рассмеялись. Он возмутился.
— Помилосердствуй, Гутьерес, — пробовал объясниться директор, — что все актеры сумасшедшие люди, это я знаю отлично. Но не настолько же! Как? Ты собрался играть стройного, изящного, горячего герцога, которого весь Мадрид знает в лицо или по портретам в официальных отчетах! Да моя инфантерия из партера разгромит мне всю сцену. Ваше мнение, Лопе?
— Я с вами отнюдь не согласен!
Могучий талант господина Гутьереса заставил бы слушателей забыть о телесном несходстве. Но было бы жаль, если бы он взялся играть принца!
— Жаль? — нахмурился Гутьерес, — то есть как это жаль?
— Потому что это доступно каждому. Герой, красавец принц, победитель да ведь это же все для пустых кукол. Для вас у меня есть другое… — И он с ярким красноречием набросал фигуру, созданную им, очевидно, только в это мгновение: старого испанского ворчуна-полковника, страдающего подагрой, полного грубого юмора, простонародно-лукавого любимца всего лагеря, плоть от плоти своих солдат, которого они триумфально проносят через все поле битвы в теплых его сапогах…
Стало холодно. Те четверо распрощались. Пришли люди и сняли занавесы, обнажив слепую стену, позади которой, вероятно, обитал директор Веласкес. Потом они унесли стол, стулья и свечу под стеклянным колпачком.
Сервантес остался один на темном театральном дворе, с рукописью «Житье-бытье в Алжире» на коленях. Он продолжал сидеть. Он расстался с мыслью показать директору свою пьесу. Он сидел перед голой высокой слепой стеной… У него оставался один король… Король был в Португалии.
В родительском жилище все, казалось, спали. Его ложе стояло в медицинской каморке отца. Протянувшись, он почувствовал под головой что-то твердое. Это оказались восемь золотых монет, завернутые в красный лоскуток. Их могла положить сюда только Андреа. Это была поездка в Португалию.
Он сильно покраснел, хотя и был один, поцеловал лоскуток и задул огонь.
ПЕРЕДЫШКА
Сурова была зимняя поездка по Кастилии и пустынной, безлюдной Эстремадуре. Но в Португалии уже в феврале цвели апельсины. Более кроткий, нежный воздух овевал закаленного странника. Здесь хорошо дышалось. Сердце его обнимали предчувствия отдыха, беззаботности, счастья.
Он нашел короля в Томаре.
Филипп прибыл в Португалию в одеждах печали. Но печаль эта, если он ее и чувствовал, была недолговечна. Он упивался сознанием величайшей плодотворности своего жизненного дела, еще ускользающего от мер земных. Он мог бы быть счастлив, он и был почти счастлив. Здесь и теперь, в первый и единственный раз, сделал он передышку и уронил руки в бездействии.
Даже и он, зарывшийся в документы монах, не остался глух к лузитанскому ландшафту, мягкому и сердечному, чуждому диких контрастов Испании. Он любовался Португалией как человек, у которого есть глаза, чтоб видеть прекрасное, есть грудь, чтоб вдыхать благоухания мира. Его письма к детям, домой, были наполнены прогулками, цветами и соловьями. Правда, иногда он попутно рассказывает им также и о сожжении еретиков и даже посылает списки сожженных, «чтоб они знали их имена».
Ему почти не понадобилось завоевывать свое новое царство. Этот поход в Португалию был вооруженной прогулкой.
Молодой здешний король, отважный до безумия и томимый жаждой завоеваний, погиб в бою с марокканцами, вскоре угас и его род. Одним из претендентов на трон был Филипп. Он был не ниже других правами, он всех превосходил могуществом. Его армия легко разогнала все враждебные скопища, знать перешла на его сторону. Португалия стала испанской провинцией.
Великое само давалось в руки — как во сне, как в игре. Полуостров объединился в одно королевство, после почти тысячелетнего раскола один человек стал властителем между морями и Пиренейским валом. Но более того: королю Филиппу достались португальские колонии.
Так создалась необозримая мировая держава. Новые обширнейшие, богатейшие владения присоединились к Западной Индии, Мексике и Перу. Бразилия становится испанской. Вокруг всей Африки развевается красно-желтое знамя Филиппа; ему принадлежат: аравийский Маскат, персидский Ормуз, восточно-азиатские Гоа, Калькутта, Малакка, Ява, Макао. Лиссабон становится его второй столицей, — громадный христианский город, по населенности уступающий лишь одному Парижу, значительнейший торговый центр всего мира. Он владеет теперь не одними лишь странами золота и серебра, к нему, стекаются драгоценные подати: бразильский лес, мадейрский сахар, персидские ковры, китайский шелк, индийские пряности. С испугом смотрят Елизавета в Вестминстере, Медичи в Лувре, венецианский дож на это сосредоточение богатства и власти в руках одного человека.
Потому что оно казалось непобедимым и нерушимым.
Кто бы осмелился подняться против Великой Испании, защищенной горами и волнами и своим железным войском, против ее великого короля, распоряжавшегося сокровищами всей земли!
Как же случилось, что он, этот властитель мира, тем не менее был вынужден постоянно клянчить деньги у своих подданных, закладывать рудники и урожаи; что не было ни одного банкирского дома в Лондоне и Милане, в Антверпене, Аугсбурге и Генуе, где в книгах не значилось бы его имя; что за двадцать лет он дважды объявлял государственное банкротство и тащил за собой в пропасть всю финансовую систему Европы; что он, сверхточный, мелочный счетчик, вверг свой народ в беспримерную бедность, обескровил его, уничтожил, превратил в нищий народ? Как можно было этого достигнуть? Какому духу надо было служить?
Именно духу, а отнюдь не жизни! Духу, который чуждается земного блага и земного счастья, — чуждается всего земного. Который презирает плуг и молот, цепляясь лишь за крест и за меч, чье фанатически-восторженное честолюбие знает лишь одну цель: единство и чистоту веры у всех народов, всемирную победу священной буквы.
Мировое могущество упало само в руки королю Филиппу. Но как мелко все это, как ничтожно, если жаждешь абсолютного, совершенно недостижимого, если всю жизнь подъемлешь непосильное, на черте между величием и безумием!
Сервантес нашел короля в Томаре.
Пробираясь крошечным городком, переполненным войсками и придворными, он поднял глаза на величаво высившийся орденский замок христианских рыцарей, в котором обитал Филипп, и слух короля показался ему менее достижимым, чем когда-либо. Но ему посчастливилось тотчас же встретить двух высокопоставленных дворян, с которыми он был знаком в Алжире. А через какие-нибудь два часа он уже беседовал с изящной мадридской дамой, женой дворцового чиновника, той самой, которая вместе с ним попалась в руки Дали-Мами. Она благосклонно узнала его — к его испугу, потому что ее жеманство не стало с годами привлекательней. Она представила его своему супругу, бегло обрисовав, очевидно не в первый раз, его рыцарское поведение на палубе «El sol». Сервантес улыбнулся: ему припомнилось, как он сшиб корсара так, что тот растянулся на палубе возле дамы… Муж глубоко поклонился Сервантесу и сердечнейшим тоном предложил ему свои услуги. В Мадриде никто не желал его знать, а здесь, в Португалии, он уже в первый вечер оказался среди дружелюбного круга. Каждый заботился о нем. Ему указывали пути.
Уже на третий день ему была передана королевская награда — пятьдесят дукатов.
Это могло быть следствием всяких рекомендаций, мягкого настроения короля, отчасти делом случая. Но неделю спустя произошло нечто большее. Он получил королевское поручение. Поручение было почетное.
Правитель Орана посвящался в рыцари Сантъягского ордена, Сервантес должен был передать грамоту. Ему уплатили проездные деньги — сто дукатов.
Это была миссия посланника или письмоносца — на выбор. Сервантес не сомневался. Поездка — лишь первая ступень, первый шаг на славном пути королевской службы! Он был человеком щедрой и расточительной фантазии. Его вера в жизнь, постоянно наказываемая обманом и, наконец, сраженная, теперь снова воспрянула с полной силой. Он был богат. Теперь он всегда будет богат. Эти сто пятьдесят червонцев — всего лишь крошечная уплата в счет будущего, меньше того: карманные деньги. Он уже видел себя на высоком посту в королевском совете, посланником, командиром полка. Все это были настолько высоко оплачиваемые должности, что и родным обеспечивалось безбеднейшее существование. Андреа… Он так был уверен в предстоящем успехе, что ему и в голову не пришло сейчас послать деньги в Мадрид. Эти червонцы уйдут на ближайшие расходы. Их, пожалуй, даже не хватит.
Томарский двор быстро привлек к себе торговцев предметами роскоши, по преимуществу генуэзцев. Он приобрел фландрские брыжи с кружевной обшивкой, чрезвычайно изящную шляпу, посеребренную шпагу и посеребренный кинжал. Он ехал по поручению своего государя, посредничая между ним и африканским наместником, ему подобало позаботиться о своей наружности. Тяжесть многих лет свалилась с его плеч. Он осушал первый кубок счастья с жадностью, как нетерпеливый мальчик.
Его корабль отправлялся из Картагены. Он пролетел на королевских лошадях через Андалузию, розоватыми молниями промелькнули города Севилья и Кордова. В глубоком вырезе бухты стояла его галера. Ждали только его прибытия. Когда он вступил на борт, экипаж встретил его троекратным приветственным криком, подобавшим лишь высокопоставленным особам. Остаток дня и ночь они скользили по ласковым волнам, на рассвете перед ними вырос Оран.
Это был город, к которому он некогда тщетно стремился, бесконечно блуждая по скалистым дорогам. Теперь его примчало сюда дуновение ветра или дуновение уст его царственного покровителя. Наконец-то окончились все мученья. Небывало легким шагом одолел он крутой портовый переулок и шаткий мостик над расселиной, по ту сторону которой высилась «Красная Крепость», обиталище правителя.
Одряхлевший старый офицер встретил Сервантеса, как посланца небес. Эта грамота означала для него не только почет. Он жил в постоянной нужде, на его средства кормилось в Испании многочисленное и никчемное семейство. Но с рыцарским званием была связана ежегодная пенсия в четыре тысячи талеров. Беззаботная старость, удовлетворенное семейство.
Слезы потекли по седеющей бороде генерала.
Вечером был пир. Пили огненный многолетний вальдепеньяс. Дон Мигель де Сервантес Сааведра с полным удобством и независимостью восседал в кругу господ, слушавших и обслуживавших его с величайшей внимательностью.
После ужина правитель отвел Мигеля в сторону, чтоб, облегчить перед ним свое сердце. Наконец-то явилась возможность! Он не сомневался, что это прямейший путь к слуху его величества. Он будет вполне откровенен: они живут в Оране, как в осажденной крепости. Правители до сих пор сохранили титул: «военный протектор государства Тлемсен». Но он лишь однажды отважился посетить Тлемсен! Он и его солдаты не решаются отойти на три мили от Орана, в лучшем случае на десять. Счастье еще, что он, с величайшим трудом, удержал город в своих руках. Очень уж пренебрегает ими Мадрид. Солдатам не платят, крепость месяцами оставляют без боевых припасов, большинству пушек по семьдесят лет, их нельзя сдвинуть с места, — подставки и колеса сломаются.
Чем объяснить, что так скупятся именно на Оран? Господин посланник не отвергнет его почтительнейшей просьбы о содействии!
Сервантес слушал, соглашался и обещал.
Он отлично знал, чего не хватало Африке. Он испытал это на собственном теле. Помощь необходима, он с этим согласен. Он сам верил в свою миссию, как верил в нее правитель.
Его воображение не знало пределов. Ночью, лежа в сводчатой каменной спальне, он вдруг ярко представил себя во главе королевского флота. Ему было поручено завоевание Африки. Он отбирал у полумесяца Алжир, Дшидшелли, Табарку, Тунис… Стоя, подобно деревянному изваянию, на носу своего адмиральского галиона, скользил он вдоль берегов, и красно-желтое знамя в его руке задевало скалы.
Когда Сервантес вернулся, король был в Лиссабоне. Он отправился в обширный и нелепо выстроенный дворец. Придворный секретарь принял от него благодарственное послание правителя, бросил рассеянный взгляд на Сервантеса и снабдил письма канцелярским штемпелем и номером.
Он удалился. Он ждал. Ничего не последовало. Он явился. Он попросил аудиенции. Никакого ответа. Он посетил высших чиновников. Его не знали. Он спустился к низшим. Его заставили ждать в приемных. Он сидел часами, как недавно с отцом.
Он вспомнил о своих знатных друзьях. Его встретили холодно. Он кинулся на поиски дворцового чиновника и его жены. Они вернулись в Мадрид. Он переменил жилище, приискал сперва подешевле, потом перебрался в нору. Без мараведиса в кармане скитался он по многолюдному Лиссабону. Кружева на его брыжах превратились в лохмотья. Он их отпорол.
Он продал свою серебряную шпагу и свой серебряный кинжал, чтоб собрать денег на дорогу в Мадрид. Этого не хватило. Он с трудом подкапливал недостающее.
Он не был послом — он был всего лишь письмоносцем. Полтораста дукатов полностью вознаграждали его за труды. Быть может, вся оранская миссия была лишь предлогом, чтоб иметь возможность аккуратно занести в книгу его прошение.
«ПРИВАЛ КОМЕДЬЯНТОВ»
Когда, приехав в Мадрид, он добрался, наконец, до жилья на задворках Калье де Аточа, там жили чужие люди: сапожник с семейством. Его осведомили: родители снова переехали, на этот раз в Толедо. Одному богу было известно, какие новые надежды повлекли туда отца. Мигелю оставили узел с его пожитками. Он взял его, поблагодарил и ушел.
Он нашел каморку на площади Матуте, как раз позади коллегиума Лорето. Он снял ее, не представляя себе, чем и как заплатит. Когда он развязал узел, сверху лежала его красная шапка времен алжирского рабства.
Он надел ее и принялся разглядывать себя в разбитом зеркале, украшавшем его жилище. Лицо его сильно осунулось и увяло, борода и виски уже мерцали сединой. Он с прежним правом надел эту шапку: она значила больше, чем воспоминание. Ведь он, в сущности, лишь сменил одно рабство на другое. Он был всем, навсегда и неоплатно должен. Безмерно должен родителям, бедной Андреа, монастырскому начальству благочестивой сестры, португальским знакомым. Должен братству тринитариев, выкупившему его, должен за корабль, снаряженный братом Родриго, должен купцу Экзарке за его фрегат. Должен, должен, должен. Разглядывая серое лицо в красном колпаке, он продолжал насмешливое самоистязание и вызывал из небытия шеренги давно забытых кредиторов. Он знал, что никогда не сможет расплатиться. У него не было хлеба на завтрашний день.
Он поселился в странной местности. Ближайшая маленькая площадь называлась «Привалом комедьянтов». Это было ее официальное название. Она возникла недавно, как и весь этот нищий квартал. «Театральный двор» был неподалеку. Недавно открылся еще один театр — «Королевский». Он был всегда полон, как и первый.
В переулках ютился нищенствующий, пестрый и шумно-общительный рой авторов. Квартал кишел музыкантами, плясунами, фиглярами и непомерно многочисленным женским сопровождением. Сочинители бродили толпами. Все эти господа жили случайными заработками, должали, сидели в кабаках и разыгрывали из себя важных людей.
Резкий отпечаток наложило на этот мир общераспространенное щегольское отношение к делам чести. Всюду в Испании чувство старинного рыцарства давно уже выродилось в крайность. Достаточно было косого взгляда, чтоб вылетели из ножен кинжалы; почти каждое утро находили в уличной грязи заколотых дворян. Но здесь, вокруг «Привала комедьянтов», это уродство нравов было еще разительнее. Историческое тщеславие мстило кроваво. Актер, у которого отбили роль, рифмоплет, злорадно высмеянный товарищем, считали убедительнейшим опровержением удар кинжала. Честь какой-нибудь легкой особы, с которой жили не более двух недель, защищали с таким рвением, словно речь шла о чести девственной герцогини. Гримасничало неукротимое чванство. Шулера, перенимавшие друг у друга жульнические приемы, раскланивались с длительными церемониями, именовали друг друга «ваша милость» и говорили не иначе, как в третьем лице. Хвастовство не имело границ. Каждый из этих горе-поэтов и рифмоплетов претендовал на создание «Илиад» и «Энеид».
Лгали бесстыдно друг другу в глаза, каждый делал вид, что верит, и требовал того же от других. Но театр был для всех великой надеждой, подлинным магнитом. Ведь там можно было заработать нешуточные деньги пятьдесят-семьдесят талеров за одно представление.
Правда, нелегко было угодить публике! Да и директорам тоже. Даже писателю с именем, какому-нибудь Артиеда или Армендарису, редко удавалось увидеть сцену. Обычно играли одного только Лоне.
Он представлял собой неправдоподобнейшее исключение. Этот юноша дал жизнь всему театру своего времени. Шесть театральных трупп, странствовавших по Испании, исполняли почти исключительно его одного. Он захватил в свои руки театры Валенсии, Севильи, Бургоса. Его величали театральным королем, чудом природы, испанским фениксом. Директора слали к нему издалека посланцев с заказами, напоминаниями, деньгами. Эти посланцы осаждали его жилище, поджидали в садике позади дома, пока он окончит пьесу. Он едва начал свой жизненный путь, а уже вошел в поговорку. «Достойно Лопе», — говорили о вещах, особенно радующих глаз, слух или вкус. Это выражение употреблялось всеми, даже людьми, понятия не имевшими, кто такой Лопе и что такое театр.
Сервантес видел его почти каждый день. Вот что было загадочней всего: человек успевал между двумя восходами солнца написать пьесу в три тысячи стихов, в меньший срок, чем требовался писцу для переписки такого текста, и при этом у него еще оставался досуг для жизни! «Привал комедьянтов» упивался его любовными историями. Они были многочисленны, несмотря на его прочную связь с пышной Еленой Веласкес, которая, впрочем, вышла замуж и теперь именовалась Осорио. Каждый день сидели они вдвоем в «Гербе Леона», и никогда не было заметно, чтоб Лопе стремился домой, к чернильнице. Наоборот, ему здесь нравилось. Чад покорной зависти, густо обволакивавшей его, казалось, ласкал ему ноздри.
Молчаливого Сервантеса он сперва вовсе не заметил, — сидел в сторонке какой-то пожилой, однорукий человек неопределенных занятий. Когда же они, наконец, познакомились и стали завязываться беседы, — Лопе проявил мало симпатии. Что-то отталкивало его от Сервантеса.
Мигель сожалел об этом. Он восхищался прославленным юношей. За первым театральным впечатлением последовали другие, сильнейшие. Кроме того, Лопе выпускал чуть ли не каждые две недели новый том, по двенадцати пьес в каждом. Тут была очевидная гениальность! Пусть ни одна из этих драм не достигала неоспоримого совершенства, но в каждой из них были сцены, потрясавшие душу своей подлинной и высокой поэзией. Здесь было все, что способно взволновать и развлечь человека, широко несся вспененный поток трагизма, юмора, шутовства, мудрости, фантастики и житейского опыта. Неповторимое многообразие. Все становилось материалом. Любой повод годился: убийство короля, новелла или вчерашняя городская сплетня, Ариост или Тассо, правительственный отчет, легенда о святом или грубая шутка, услышанная в трактире; Испания, Греция, Германия, Персия, Польша, Америка все страны годились для него.
Ничего похожего на постоянство не было в этом юноше. Мгновенно менялись его капризы, ни в чем не знал он меры, поминутно происходили скандалы из-за прекрасной Осорио; он тщеславился до нелепости, никакая лесть не казалась ему слишком неуклюжей; сейчас он был добросердечен и щедр, а в следующее мгновение весь кипел ядовитейшей злобой. Когда ставились его пьесы, ему было безразлично, как бы ни коверкали их актеры. Он их уже не помнил. Это писал другой… Столикий Протей, он и в самом деле что ни час становился другим.
Таким же казалось Сервантесу и его творчество. Это чудовищно-стремительное созидание не имело ничего общего с трудом сочинителя и с отдельными произведениями. Оно скорее напоминало вулканическую щедрость самой природы, которая ведь тоже не задумывается над последовательностью и мерой, но с безответственной неистощимостью извергает маски и существа из своего бурно бьющего лона.
Природа или нет, но одно было очевидно: эта непомерная производительность преграждала путь к сцене всем современникам, и ему в том числе. Он уже давно был знаком с предпринимателем Веласкесом и с его соперником Гаспаром де Поррес. Но когда он робко заводил речь о своих трудах, о почти законченной комедии превращений «Сбитая с толку», о константинопольской трагедии «Смерть Селима», они благосклонно его выслушивали, но вспоминали при этом о пяти или десяти турецких драмах и пьесах превращений, недавно предложенных Лопе. Его положение становилось все безвыходнее. Хозяин «Герба Леона» стал наливать ему бокал лишь до половины. Он уже подумал было вернуться к давно забытому искусству писца, но кто же в Мадриде интересовался письмами, если не умел их писать!
Время от времени ему удавалось заработать несколько реалов хвалебными стихотворениями — сочинители охотно помещали подобные посвящения на первых страницах своих книг. Одно было написано для кармелитского патера, занимавшегося стихотворством, другое для некоего Хуана Руфо, описавшего в скучных стихах жизнь Дон Хуана Австрийского. Одной победе при Лепанто было посвящено пять бесконечных песен… Сервантеса очень раздражало, когда, позднее, весь этот эпос, столь неумеренно им расхваленный, оказался бесстыдным литературным воровством.
С этим приходилось покончить.
Скрепя сердце он снова отправился к господину Роблесу. Благожелательный купец призадумался. Не приходило ли ему в голову написать пастушеский роман? Нет, не поэму, а роман в духе знаменитой «Дианы». Этим публика, по-видимому, еще не пресытилась. Не так давно вышли три новых переложения «Дианы», и все продолжения и подражания имели не меньший успех. Произведение Хиль Поло существует уже на пяти или шести языках. Готовится даже латинский перевод — видимо, для монастырей. Не возьмется ли Сервантес за что-либо в этом роде? Он только советует выбрать для заглавия классическое женское имя, чтобы каждому читателю тотчас же пришла на память недостижимая «Диана».
Было подписано подобие контракта. Сервантес получил небольшой задаток.
Он тотчас же принялся за работу. Он просиживал целые дни в своей полутемной каморке, оттачивая прозу и стихи, потому что свою «Галатею» он решил написать, по испытанной традиции, в смешанной форме. Труд не радовал. Он задыхался в этом надушенном и надуманном мире, в этой фальшивой Аркадии, безотрадно было общение с этими похотливо-стыдливыми нимфами, жеманно играющими луком и шлейфом, с этими воркующими пастушками. Он создавал слащавую красивость и заставлял свои пары вести хитроумнейшие диалоги, а кровь его не знала, о чем писала рука.
Эти манерные чириканья и рыданья — вся эта кропотливая любовная риторика не имела ничего общего с подлинной человеческой страстью. Он поставлял модный товар. Он предпочел бы резать подметки, если б знал сапожное ремесло.
Ему было под сорок. Он прожил жизнь без любви. Разочарования юности давно позабылись. Он обнимал женщин во всех городах, куда его заносили причуды судьбы. Обычно они бывали из тех, которых забывают уже в часы объятий. Если же к нему привязывалась женщина, которая ему нравилась, он спешил вырваться на свободу. Это не годилось — солдат, калека, нищий не имел права на привязанность и семью.
Но теперь, именно теперь, когда он, ради хлеба, выдумывал и рифмовал пустую амурную сказку, — хищной птицей упала на него из темной тучи любовь и вонзила когти в его сердце.
АНА ФРАНКА
Она уверяла, что ее отец был придворным, и называла себя де Рохас. Ана Франка де Рохас. Но была она, по всей вероятности, дочерью немецкого солдата — так говорили люди, и ее белокурые волосы подтверждали это. Ее мать торговала фальшивыми драгоценностями и дешевыми женскими украшениями в одном из проходов на Калье де Толедо. Об этом Сервантесу шепнули на ухо в первый же вечер.
Обычно он сторонился женщин в «Гербе Леона» из боязни, что придется одну из них пригласить. Сегодня он, не долго раздумывая, перешагнул через двух мужчин, сидевших подле нее на скамейке, отстранил удивленных собеседников и заговорил. Блондинка улыбнулась ему, польщенная столь очевидным успехом. Он не давал ей рта раскрыть, — это еще успеется, — и развлекал ее забавным разговором в испытанном тоне, среднем между почтительностью и иронией. Он заказал фрукты и пирожное, к ним еще бутылку сладкого таррагонского, и сделал это с такой непринужденностью, что хозяин уверился в его способности заплатить и все подал. За столом притихли и удивленно прислушивались к веселым или волнующим историям, которые без конца рассказывал этот обычно молчаливый старый солдат. Он с восхищением вдыхал ее близость, запах ее яркой кожи в дешевых, чересчур острых духов, казавшихся ему превосходными. Она оценила издержки незнакомого господина; часу не прошло, как он почувствовал прикосновение ее ноги под столом. Это потрясло его до потери дыхания, ему пришлось, откинувшись, прислониться к стене.
В первое мгновение, еще в дверях, ему показалось, что перед ним венецианка Гина, о которой он за десять лет не вспоминал ни разу. Но венецианка Гина — теперь уже старуха. А эта была молода, расточительно молода, лет двадцати, даже меньше. Да и сходство оказалось поверхностным. Это яркое лицо было уже, нос и рот очерчены своевольней, да и белокурость была другая — суховатое светлое золото. Нечто родственное улавливалось, пожалуй, в серо-зеленых глазах или, быть может, только во взгляде В этом взгляде была странно-раздражающая, пытливая холодность — недобрый взгляд.
Стало поздно. Гостиница почти уже опустела. Они поднялись вместе. В дверях к ним подошел хозяин с вопрошающим, почти грозным видом. Мигель схватился за карман, сгреб все, что там звенело, и сунул в его липкую руку, не зная, много это или мало.
Была сентябрьская ночь, светила луна. Идя рядом с Ана Франкой, он увидел, что она ниже, чем ему думалось. Она казалась стройной, но под старой шалью, охватывающей ее грудь, под узкой немодной юбкой чувствовалось крепкое и пышное тело. Она шла с упругой легкостью, обещавшей наслаждение. Они остановились перед убогими воротами ее дома. Он ее обнял. Она не сопротивлялась. В первый раз за долгие годы пожалел он о своей руке. Ему было горько, что он может обнимать и гладить только одной.
Легко сходились и расставались в этих переулочках близ «Привала комедьянтов». Уже на третий день она переселилась в каморку на площади Матуте — он приснял смежный чуланчик. Так как домохозяин потребовал уплаты вперед, он переписал начисто две первые песни своей «Галатеи», поспешил с ними к Роблесу и принес домой десять талеров.
Ана Франке не пришлось порывать никаких отношений, когда он забрал ее к себе. Все случилось быстро и безответственно. Она была из числа тех бездомных созданий, которыми мужчины перебрасываются, как пестрыми мячами; к тридцати пяти годам они вдруг стареют и вянут, становятся притонодержательницами и своднями или торгуют на углах всяким хламом. Прошло немало времени, пока Ана Франка поняла, что здесь происходит нечто серьезное, что ее по-настоящему любят.
Он сидел в боковом чуланчике и вытачивал свой роман. Работа двигалась до отчаяния медленно. Некоторые фразы приходилось переписывать по семь раз. Со стихами было и того хуже. Рифмованные строчки спотыкались и не звучали. Но ведь поэт должен уметь писать стихи. Значит, он не поэт. У него не было никакого внутреннего расположения к своему предмету. Его не могло быть, да он этого и не требовал. Он желал успеха. Он хотел, чтоб ему заплатили. Он мечтал о расшитом кринолине для Ана Франки, об обещанном ей ящике румян и белил.
Она была рядом, она лежала в постели и грызла дешевые лакомства. Ей нравилось такое существование, оно полностью соответствовало ее привычкам. С большой неохотой вставала она в полдень и кое-как одевалась, чтоб пойти купить репы, пряностей, немного бараньего сала и что-нибудь наскоро состряпать на уголке очага, который освобождала для нее хозяйка.
Ему было достаточно ее присутствия. Неукротимое желание влекло его вновь и вновь к этому свежему, крепкому женскому телу, которого не расслабляла даже праздность. Он не мог досыта упиться ее запахом, в котором была острая сладость. А вечно чужой, испытующий взгляд этих серо-зеленых глаз повергал его в длительное безумие, едва ли извинимое в его возрасте.
Он не спрашивал себя, надолго ли уцелеет то, что останется после страсти. Это никогда не убудет, это вечно. Он нашел свою единственную женщину. Он был счастлив.
Ее бедная, скупая речь казалась ему полной мудрости и остроумия. Никогда не приходило ему в голову поговорить с ней о своих занятиях. Недели прошли, пока он, наконец, узнал, умеет ли она вообще читать. Когда-то она училась этому, но потом опять все позабыла.
Ее нимало не интересовало, над чем он трудится в своем чулане. Все мужчины так или иначе раздобывают деньги для своих женщин. Этот писал уцелевшей рукой.
Другое дело — театр. О нем она имела понятие. Полгода тему назад ей посчастливилось выступить у Веласкеса. Ей поручили играть английскую рабыню — вероятно, из-за ее белокурых волос. В сущности, это была не роль. Полуобнаженная рабыня склонялась под бичом ревнивой фаворитки. Но десяти мгновений на сцене в продолжение двух вечеров оказалось достаточно, чтоб пробудить в ней жадную и длительную тоску по этому миру. Участвовать в представлении — это означало: в чужеземных одеждах, а еще лучше совсем без одежд, позировать на подмостках, в то время как разгоряченный мужской партер таращит глаза и мысленно тобой обладает.
Мигель думал ее обрадовать, достав ей место на решетчатой галерее. Но она каждый раз возвращалась рассерженной и жаловалась на дерзких баб, протиснувшихся вперед, так что ей ничего не было видно. О пьесах она ничего почти не рассказывала. И когда однажды вечером Сервантес собрался с духом и, не без ревнивого замирания сердца, представил ее в «Гербе Леона» великому Лопе, — эта знаменитость не произвела на Ана Франку никакого впечатления. Она, по-видимому, считала, что веселые и печальные разговоры, которые ведутся на сцене, выдуманы самими актерами. Ее взгляд следил с пугливым восторгом за веселившимися в кабаке комедьянтами, их крикливые голоса казались ей восхитительными, их торжественные жесты — образчиком утонченности. И часто всплывало в ее речах имя некоего Алонсо Родригеса, который одно время выступал на «Театральном дворе», а потом уехал в Валенсию. Родригес устроил ей и то второстепенное выступление, о котором она вспоминала, как о блистательной вершине своего бытия.
В один из вечеров Ана Франка не возвратилась. Мигель ждал. Он прождал и весь следующий день — беспомощный, безутешный, убитый. Он не мог понять причины, они не ссорились. Она появилась лишь на третье утро, с помятым лицом, с чужим запахом в одеждах. Она просит избавить ее от всяких сцен, поспешила она предупредить возможные упреки, у него нет на это ни малейшего права. Он ничего ей не дает. Зачем он, спрашивается, торчит целыми днями в комнате и постоянно лезет в постель с перепачканными в чернилах пальцами, если за четыре месяца не собрался купить своей подруге ни одного нового платья, ни ныли, ни такого вот крошечного золотого колечка. Нет! Пусть он уберет прочь свою уцелевшую руку и не мешает ей жить.
Ясно было, что все это выбалтывалось с чужого голоса. Ее на него натравили: мать, подруга или случайно подвернувшийся любезник.
И тут Сервантеса срезало горе. Он задрожал от ревности и от позора своей нищеты. Он понял, кому отдал сердце. Но было уже слишком поздно. Оттолкнуть и порвать он не мог. И он начал говорить. Никогда бы он не подумал, что сможет так говорить. Он пробивался в нее. Он тряс ее. Он тщетно пытался выбить искру из этой обольстительной оболочки. Она удивленно мерила его взглядом. Она не понимала, чего ему надо. В конце концов она с пренебрежительным снисхождением привлекла его на свою упругую белую грудь. Чего он мог еще хотеть, о чем другом мог говорить так настойчиво? И он, тотчас же смирившийся и пристыженный, с жадностью принял то, что она ему предлагала.
Сидя на следующий день над третьей книгой «Галатеи», он вдруг заметил, что некоторое время писал почти бессознательно и безотчетно. Он сел за стол с намерением сочинить обычнейшую манерную любовную жалобу. Он перечел, что получилось, — смесь неистовой прозы и неловко спотыкающихся стихов. Это и в самом деле была любовная жалоба, но дикая и запутанная, вылившаяся одним порывом из раненой груди. Не жеманный пастух ворковал здесь над привередливой нимфой. Здесь сотрясал и рвал глухую материю закованный человек в безумной мечте — вернуть ее к полнозвучной жизни.
Ни одно слово не годилось. Вся тончайшая паутина его романа разлетелась бы в клочья. Он разорвал три листка.
Снова вышли все деньги, до последнего медяка. Он рыскал вокруг «Привала комедьянтов», подстерегая коллег, мелких сочинителей, у которых было достаточно тщеславия и денег, и предлагал им хвалебные именные стихи, с тем чтоб поместить эти оды в своем произведении. Он откроет им двери в свое бессмертие. Он так и говорил: «в бессмертие», кощунственно издеваясь над самим собой ради пяти реалов. Но этого никогда не хватало. Книгопродавец Роблес с сокрушением, но решительно отказался уплатить еще хоть немного в счет гонорара.
Это в интересах самого сочинителя, потому что иначе он рискует забрать все свои деньги до выхода книги.
Тогда Мигель пошел к сестре Андреа. Ей с ее дочкой жилось все-таки лучше. У нее были две чистенькие комнаты, которые оплачивал ее покровитель. Она очень гордилась своим хозяйством, постарела и стала похожа на примерную горожанку. Но с деньгами было плохо: друг давал ей в обрез и расплачивался с нею еженедельно.
Андреа встала на колени перед шкафом и вытянула из нижнего ящика несколько свертков материи. Не вставая с колен, она, с доброй улыбкой, преподнесла один из них брату. Это была красивая, необычайно прочная тафта, драгоценный подарок одного из прежних любовников, который она приберегла на черный день. Генуэзец Наполеон Ломлен, ссужающий деньги под заклад, даст за это не меньше двадцати дукатов, может быть тридцать. Он знал свертки; они уже успели побывать у него однажды.
Сервантес раздобыл по соседству маленькую тележку, потому что пять свертков были слишком тяжелой ношей, и повез свой заклад к купцу. «К знаменщику?» — любопытствовали на улице мальчишки — тафта была полосатая, красно-желтая. Ее бы хватило на пятьдесят кастильских знамен.
Ана Франка получила новое белье, уплатила часть долгов, в первую очередь в «Герб Леона», где уже перестали им верить. Ана Франка была довольна. Тот панический выпад больше не повторялся. Для Сервантеса наступили недели бедного, маленького, жалкого счастья.
Зная обычай, он начал всячески рекламировать свою книгу еще до ее появления: читал из нее, распространял отдельные ее части и искал высокопоставленного покровителя, который бы пожелал принять — и позднее оплатить — ее посвящение. После долгих стараний он нашел его, наконец, в лице Асканио Колонна, настоятеля Святой Софии, несколько чопорного римского аристократа, который был тронут главным образом сообщением, что Сервантес некогда занимал пост при дворе покойного Аквавивы. Он потребовал, чтоб это было подробно изложено в посвящении. Сервантес обещал.
Радостно прибежав домой, он застал Ана Франку в холодном бешенстве. Она была беременна.
Она чересчур запустила свою беду. До сих пор она не ощущала особых неудобств или закрывала на них глаза и лишь сегодня наступила полная ясность. В ее настроении была мрачная определенность: впереди нет ничего, кроме уродства, боли и обузы.
Это нарастало. Серо-зеленые глаза глядели с почти нескрываемой ненавистью на того, кто был виновником несчастья, на однорукого, на голыша, на бумагомараку. Однажды она пришла домой полумертвой: она попыталась, в такой поздней стадии, сделать выкидыш, и это, разумеется, не удалось. На врача и лекарства ушли последние деньги. Но она выздоровела. Природа настояла на том, чтоб чуждая материнства стала матерью.
Сервантес ухаживал за ней. Он был неутомимо кроток Он втихомолку радовался. Они поженятся. Родится, может быть, мальчик. Малютка-сын, который будет гораздо ближе ему, чем матери. Он обучит его, воспитает. Он расскажет ему про свои приключения, которые никому больше не интересны, про Дон Хуана Австрийского, про Дали-Мами, про алжирского короля. Малютка-сын! Ведь это крошечное бессмертие — о великом он давно уже перестал мечтать.
Но в недели, предшествовавшие рождению ребенка, он был снова, и с небывалой силой, охвачен страхом за хлеб насущный. В одиноких скитаниях еще можно мириться с бедностью и долгами; но не было под солнцем создания более жалкого, чем нищенствующий отец семьи. Вдруг книгопродавец ничего больше не заплатит? Вдруг Колонна заупрямится? А бранные толки, способные загубить сочинителя, а ядовито жалящие языки коллег. Как защититься от этого? Тут его осенила мысль…
Он их заманит всех сразу. Не одному или нескольким, а сразу всем напишет он хвалебную оду в своем романе!
Он воздвигнет гигантскую дымящуюся кадильницу всей испанской литературе. Если густой фимиам похвалы ударит в нос каждому, пусть самому вздорному рифмачу, у всех отпадет охота скалить зубы, и «Галатея» будет спасена!
Он и в самом деле приступил к работе. С невеселой тщательностью составлял список, рылся в своей памяти, без конца его пополнял. Потом занялся рифмовкой. В последней, шестой книге своего романа он вывел музу Каллиопу, поющую под арфу и при лунном свете восторженную хвалу испанской поэзии — перед обширным собранием пастушков и пастушек.
Всего вышло сто одиннадцать октав, ровно восемьсот восемьдесят восемь рифмованных строк. Каждый автор получил отдельную строфу, каждый Вака, Вивар, Карай и Варгас, каждый Парьенте, Ромеро и Мальдонадо. Восемь строчек, не больше, досталось и великому Лопе. Он обитал в сорок первой строфе. Его не величали ни «Орфеем», ни «новым Эврипидом», именно о нем говорилось скупей. Этой почтительной воздержанностью несчастный одописец хотел, быть может, выделить истинный талант.
Все в целом было почти величественно в своем богоотступничестве. Недостойнейшее оружие поднял он против сверхмогучего врага — против безвкусицы, злобы и глупеет и, кидающих свою огромно-изменчивую тень на путь каждого истинного человека.
Неслышно подкрался час Ана Франки. Природа, казалось, подарила ей то, что многим матерям дает лишь ценой крови и раздирающих мук. Боли были короткие и легкие. Роженица не успела вскрикнуть, как рядом с ней возникло зеленоглазое создание с благородно выгнутым носиком, лежащее почти тихо. Это была девочка.
Четыре дня спустя ее окрестили и дали ей имя Исавелья. Мать уже настолько окрепла, что могла сама пойти в церковь. Ее застывшее лицо подивило даже священника. Дома Мигелю пришлось ей напомнить, что пора покормить ребенка.
Он все-таки радовался. На-днях должна была появиться его книга, и ему казалось счастливым предзнаменованием, что два эти рождения почти совпали. Быть может, «Галатея» лучше, чем он осмеливался думать, и сохранит его имя хоть для недалекого будущего.
Книгопродавец Роблес оказался добросовестным дельцом. Выход книги ожидался в среду: в понедельник он уплатил весь остальной гонорар, сто шестьдесят семь талеров Сервантес получил деньги серебром, в кожаном мешочке.
Прежде всего он отправился к Андреа. Она взяла меньше, чем ей полагалось, и обняла его, всхлипнув от радости.
Победоносно позванивая солидным остатком, явился он к Ана Франке. Она сидела на стуле, совершенно одетая, и встретила его спокойно-испытующим взглядом.
Возле нее лежала на столе спеленатая Исавелья и таращила свои зеленые глазки почти с такой же серьезной пытливостью.
На деньги Ана Франка почти не взглянула. Его радость поникла. Он бросил звонкий кошель в выдвижной ящик стола.
В среду он с утра дежурил в книжной лавке. Экземпляров «Галатеи» еще не было, но их ожидали с минуты на минуту. Их пришлют с почтой из Алькала́, где они печатались. Наконец перед домом и в самом деле остановилась повозка, доверху набитая книгами. Все занялись разгрузкой, — кучер, двое служащих фирмы, сам господин Роблес и Мигель, насколько он мог быть полезен со своей одной рукой. Лавка наполнилась толстыми и увесистыми темами в четвертую долю.
Потом Сервантес сидел с одним из них в заднем помещении книготорговли за дощатой перегородкой и вкушал то наслаждение, которое известно каждому автору. Он вкушал его с бьющимся сердцем, потому что это была, в сущности, первая его книга: все прежде печатавшееся скорей походило на ученические тетради.
Блас де Роблос и его печатник сделали все, что от них зависело. Хорошая бумага, ясный, красивый шрифт, страница не слишком загромождена текстом, стихи с большим вкусом отделены от прозы. На заглавном листе фамильный герб покровителя — Колонны: княжеская корона над стройным цоколем, с гордым девизом на плохой латыни:
«Frangi facilius quam flecti».[14]
Сервантес перелистал свою книгу, вчитываясь в отдельные фразы и строфы. Напрасно он малодушничал… Все было хорошо! И только на случайно раскрывшейся «песне Каллиопы» в конце книги предпочел он не задерживаться и поспешно перевернул страницу.
Он пришел домой с книгой в руках. Ана Франки не было. Каморки карались особенно пустыми. Он огляделся. Он открыл шкаф. Платья и пожитки Ана Франки исчезли. Он выдвинул ящик стола. Там он нашел лишь половину денег, отсчитанную с точностью до одного реала. На подушке в углу лежала маленькая Исавелья и серьезно таращила на него свои зеленые глазки.
ПЕРЕКРЕСТОК
Уже семь часов был он в пути, то ехал верхом на муле, то шагал рядом с ним. Приближался полдень. Если в конюшне его верно осведомили, он вскоре достигнет Толедского перепутья.
Он сделал крюк, чтоб воспользоваться куском аранжуэцкой дороги. Но это оказалось бессмыслицей. Аристократическая дорога была не лучше других: вся в глубоких выбоинах и до того плотно затянута известковой пылью, что он мог бы писать на боках своего мула.
Ему ссудили красивое, сильное животное с необычайно длинными ушами, которыми оно выразительно шевелило при ходьбе; голову, гриву и хвост украшали кисти и переплетенные ленты, которые утром были разноцветными, а сейчас подернулись ровной сероватой белизной.
Пожалуй, ему следовало бы остаться в гостинице и переждать, пока спадет зной. Но логово показалось ему таким жалким: пустой полуразрушенный кирпичный сарай с голым столом и тремя скамьями, а хозяева — такими грязными и не внушающими доверия бродягами, что он предпочел потерять свои шесть мараведисов «за постой» и пуститься дальше. Сегодня он был разборчив на пристанища. Он путешествовал не один.
Что-то шевельнулось в левой из двух корзин, висевших по бокам седла. Он откинул на ходу льняную обтяжку. В корзине лежала премило спеленатая маленькая Исавелья. Она приподняла головку, жмурясь на яркий свет.
Из-за нее и была предпринята эта утомительная поездка. Сервантес переправлял ее в Толедо.
Еще не прошло трех месяцев с того майского полдня, когда он вдруг остался вдвоем с грудным младенцем. Ана Франка исчезла бесследно. Только однажды, сомнительными путями, дошла до него смутная весть, будто бы ее видели в андалузских городах в обществе того самого Родригеса. Это было все. Легко скрывались и заметались следы в обширной, плохо управляемой Испании. В каждом сколько-нибудь крупном городе имелся свой отверженный квартал, который полиция обходила сторонкой. И где бы стал Сервантес ее разыскивать? На Оливковом рынке в Валенсии, в трущобах Малаги, в Кордове у Жеребячьего колодца, в гранадской Ротонде? Это было безнадежно. Еще безнадежнее казалось — пытаться залучить ее обратно. Всего безнадежнее — с нею жить.
Он привык стискивать зубы. Был даже некоторый юмор в том, что он так вот остался: один, с сосунком на руках. Он нашел кормилицу. Исавелья выжила. Но когда крестьянка заметила, что этот идальго дорожит своей дочкой, она сделалась бесстыдно требовательной.
Вмешалась Андреа. Она выкормит ребеночка соской. У нее еще хранились в шкафу платьица и белье собственной дочки.
Но этого он не захотел. Он любил бедную Андреа, И предрассудки были ему чужды — ведь заложил же он ее тафту. Но только не это. Андреа поняла и, как всегда покорно, расплакалась.
Тут как нельзя более кстати пришли вести из Толедо. Писала мать. «Привези малютку ко мне, мой Мигель, — писала она, — это напомнит мне прошедшие годы, когда ты сам был маленький и капризный. И еще есть одно дело, ради которого тебе следовало бы приехать.
Дело очень важное и могло бы переменить к лучшему твою жизнь».
Это звучало заманчиво. Он не отказался бы от «перемены к лучшему». «Галатея» имела посредственный успех: как раз в этом году публика снова накинулась на рыцарские книги, а на пастушеские романы почти не было спроса. Покровитель Колонна оказался порядочным скрягой. Деньги Мигеля приходили к концу.
На остаток их он раздобыл мула, уложил в левую седельную корзинку Исавелью, в правую два кожаных меха, с молоком и с вином, хлеб и сыр и в четыре часа утра распростился с Мадридом.
Вот, наконец, и перекресток. Вправо — путь на Толедо. Ухабистая дорога терялась в совершенно открытой волнистой равнине. Сервантесу предстояло еще семь или восемь часов езды. Было от чего пасть духом.
На перекрестке стояла одна-единственная, косо расчесанная ветром пиния, бросавшая редкую тень. Он решил сделать привал и осторожно снял корзины. Освобожденный мул тотчас же принялся щипать сожженную траву. Темные глаза животного огненно косились из-под пыльных кистей и лент.
Сервантес взял Исавелью на колени и, приподняв ей головку своим обрубком, принялся поить ее молоком. Девочка пила медленными, спокойными глотками. У нее было удивительно сложившееся личико, которое, однако, нельзя было назвать красивым. Слишком резко материнское столкнулось с отцовским. Круглые зеленые глаза, поставленные чересчур близко к сильно изогнутому носику, придавали маленькому лицу что-то птичье, почти жуткое.
Напившись, Исавелья удовлетворенно зачмокала. Сервантес положил ее обратно на подушку и устроил в самом тенистом месте. Потом он нацепил мулу торбу.
Следовало и ему самому немного подкрепиться. Но он слишком устал. Он сел на землю и прислонился головой к растрескавшемуся стволу.
Его отчужденный взгляд блуждал по резкому и оцепенелому ландшафту. На всем одноцветная блеклость, растрескавшаяся земля истерзана беспощадным летом. Здесь солнце палило, как над африканской пустыней, здесь полгода бесновались ледяные бури. Одни лишь крайности знала эта страна, никаких смягчающих переходов, ничего похожего на кротость и ласку. Изредка — приземистая глинобитная хижина, еще реже хлебное поле, убранное уже в июне. Кое-где группы пиний с искривленными низенькими стволами. Почва, пятнистая от тощих сольных трав, словно испещрена струпьями изнурительной болезни.
Это было сожженное сердце Кастилии. Кастилия лежала в недрах Испании. Этот перекресток между Толедо, Аранжуэцем и Мадридом мог быть как раз ее серединой. А вокруг Испании вращался мир. Мигель расположился со своим ребенком в неумолимом сердце мира.
Раскаленный полдень смежил ему веки.
Смутный, однообразный шум проник в его полусон — размеренно приближавшееся мелодичное жужжание. В ста шагах к Аранжуэцу дорога слегка приподымалась и пропадала за пыльным холмом. Звук доносился оттуда. И уже вынырнуло над перевалом нечто цветистое.
Герольд на статном сером коне высоко вздымал красно-желтое знамя. Пот сбегал блестящими струйками по его красивому лицу из-под нависшей бархатной шляпы. С его плеч пестро ниспадал плотный четырехугольный парчовый покров, на котором были наискось вытканы золотом двойные изображения льва Леона и Кастильской башни. Лошадь выступала мелким замедленным шагом. Потому что следом двигались одни пешеходы. Сперва шестеро монахов, босых и с непокрытыми головами, каждый со свечой в руках; они заунывно пели, одолевая безысходность раскаленной дороги. За ними следовал паланкин.
Это был обыкновенный сбитый кожей портшез, защищенный сверху полотняным навесом, его несли четверо слуг По бокам снова шли монахи, их молитвенно-сосредоточенные фигуры несколько оберегали путешественника от пыли. Шла прислуга, предназначенная для смены. Поезд замыкал вооруженный пикет.
Сервантес опустился на одно колено Он приметил, с какой осторожностью двигались несущие слуги: медленно ступали они, сосредоточенно поджимая губы и не отводя глаз от изрытой дороги.
Они остановились на перекрестке, как раз подле Сервантеса. Без чьего-либо приказания, быть может по знаку герольда, они тихо опустили портшез на землю и отошли, уступив место смене. Монашеская литания продолжалась. Сидящий в портшезе дремал и не проснулся.
Сервантес не думал, что он уже старик. Довольно длинная борода стала почти совершенно белой, лицо болезненно-обесцвеченное, смеженные веки красны, как от слез. Он беспомощно свесил левую ногу в черном чулке и туфле, правая же, очевидно искалеченная подагрой, покоилась в плотных бинтах. Путешествуя в этот пламенно-знойный день, он был одет точно для заседания государственного совета: черная шелковая мантия поверх черного бархатного камзола, непомерно высокий черный поярковый цилиндр почти без полей, сидевший прямо и жестко на восковой голове Так явился Мигелю Сервантесу спящим тот, чьего лицезрения он столь долго и тщетно искал.
Остановка длилась всего лишь мгновение. Размеренным, твердым и неслышным движением подняли паланкин четверо сменных. Мягко рванулась вперед лошадь герольда. С еле слышным звяканьем и бряцаньем замкнула поезд охрана. Коленопреклоненного путника под деревом никто не удостоил внимания.
Но тут закричала Исавелья. Она слегка приподняла головку на своих подушках и испустила пронзительный визг. Обычно она никогда не плакала. Это был припадок. Он хотел взять ее на руки, успокоить. Но все ее маленькое тело вздыбливалось и сопротивлялось с пугающей силой. Вне себя, как бы в безграничном отчаянии, вопила она вслед королевскому поезду, который удалялся, молясь и бряцая оружием в облаке белой пыли.
ДЕРЕВНЯ В МАНЧЕ
Его собирались просватать. Это и была «перемена к лучшему».
Отец, продолжавший заниматься своим постыдным лекарством, дважды пустил кровь некоему священнику, приезжавшему в Толедо из ближней манчской деревни. Полнокровный человек почувствовал истинное облегчение и рассыпался в похвалах. В следующий раз он прибыл уже как добрый знакомый и привез с собой, кроме вина и двух курочек, еще и свою юную племянницу, несовершеннолетнюю деревенскую барышню с благородным именем — Каталина де Саласар-и-Паласиос. Это была рослая, несколько неуклюже сложенная девушка, с правильным и пустым лицом, над которым нависало тяжелое изобилие блестящих черных волос. Отец ее умер, мать никогда не покидала своей деревни Эскивиас.
Сама она тоже была впервые в городе и смотрела с туповатым изумлением на переплетенный по-мавритански мир переулков, на дворцы, башни, церкви и мосты древней столицы. Вечером она сидела с дядей на опрятном внутреннем дворике у родителей Сервантеса. Старики жили здесь много лучше, чем в Мадриде, они занимали домик на «Овощном рынке», как раз позади собора. Жилища сдавались дешево в этом тысячелетнем городе готских, арабских, кастильских властителей, которому давно уже начало грозить обезлюдение. Да и отцу здесь везло с его медициной. Он теперь считал себя знаменитым врачом. Но, казалось, не сознавал собственной своей болезни, быстро разраставшейся водянки. Пронзительным голосом развивал он великие планы на будущее.
Он-то и рассказал деревенскому священнику и барышне про своих сыновей, про отважного офицера Родриго, ныне сражавшегося под предводительством герцога Пармского против фландрских еретиков, но больше всего — про своего старшего. Еще в дни челобитческих хождений научился он изображать его подвиги и героические страдания; он наслаждался доверчивым восхищением слушателей. Девица Каталина слушала с разинутым ртом. Ей казалось, что мир ее излюбленных книг приобретает, наконец, осязательный облик. Потому что, проглотив всю рыцарскую литературу прошедших лет, все эти историй про славного Амадиса Гальского, про его сына Эспландиана, константинопольского императора, про его внуков, правнуков и двоюродных внуков, она воздвигла в бедной своей голове фантастический мир несказанных чудес, сверхчеловеческой отваги и небывалого добронравия, которому ничто, разумеется, не соответствовало в ее обыденных деревенских знакомствах.
Старик Сервантес разглагольствовал, конечно, без всякой тактики. Но молчаливая мать подумала кое о чем посерьезней, наблюдая, как вспыхивает и разгорается в глазах у сельской барышни интерес к ее старшему сыну.
Она отвела духовную особу в сторонку. Было очевидно: брак не считался невозможным. Пожалуй, и в город-то отправили донью Каталину не без некоторого смутного намерения. И в самом деле: она приближалась к законному возрасту и явно обладала всеми качествами, способными осчастливить мужа.
Семья хорошая, даже превосходная, в роду Саласар, как и в роду Паласиос, нет ни единой капли мавританской или иудейской крови.
Это, конечно, очень ценно, — кому же и оценить это, как не благочестивой матери Мигеля? Но как обстояло дело с «осязаемым»? Героям редко дается богатство в этом мире. Был небогат и ее сын. Его заслугам и преимуществам — в том числе и его почетно искалеченной руке — должно было соответствовать что-либо равноценное, хоть отчасти. Герой вправе требовать некоторой зажиточности, кой-какого благополучия. Дядя ее успокоил: и с этой стороны все обстояло отлично. Каталина была единственным ребенком, наследницей хорошенькой усадьбы с приличным домом, плодовым и оливковым садом, при этом три иоха пахотной земли, отличное хозяйство, восемнадцать коз, сорок пять кур и петух. При самой скромной оценке, общая стоимость наследства была бы не ниже тысячи золотых дукатов.
Мигель Сервантес был смиренен. Приехав, он ужасно боялся расспросов, и сидел теперь, усталый и благодарный, на маленьком дворе подле матери, укачивавшей его ребенка. Она ни единым словом не обмолвилась про Ана Франку, но и ни единым словом не похвалила внучку. Она тотчас же с деловой заботливостью занялась ею. Она тихо покачивала ногой раздобытую у соседки колыбельку.
Она начала говорить. Мигель слушал. Он был смиренен. Если только эта девушка не чудище и не дьявол, он постарается к ней подольститься. Ведь все было напрасно. Прислушиваясь к рассказам матери про дом и хозяйство, он вспоминал свою «песню Каллиопы», это отчаянное восхваление всей отечественной литературы, это молящее о милости унижение оптом. Все это не повело ни к чему. Его не желали. Он погибал. Деревня в Манче, молчаливые крестьяне, которым дела нет до мадридского успеха или неуспеха, оливковый сад и поле, простая, бесхитростная подруга — все это казалось ему почти привлекательным. Быть может, эта девушка поможет ему забыть Ана Франку, которая до сих пор ядовито гнездится в его крови. Он не отказался.
Он поехал представиться. Когда он подъезжал, день уже гас и в вечереющем свете неприветливая Эскивиас показалась ему сносной. Он нашел все несколько более убогим, чем ему описывали; но Каталина ему скорее понравилась. Уставший от последних своих переживаний, он почувствовал дружеское влечение к ее сумасбродной и глуповатой невинности.
Она же смотрела на него по-своему. Он мог оказаться еще более худым и еще менее блестящим — для нее он был отважным, благородным скитальцем, вышедшим из ее романов. Но подобное пристрастие отнюдь не заволакивало материнского ока сеньоры де Паласиос. Она и Мигель невзлюбили друг друга с первого взгляда. Это была рослая, видная женщина его возраста, с напыщенной осанкой. Весь ее вид говорил о церковном благочестии, а узкий рот с втянутыми внутрь губами изобличал жадность.
Саласары и Паласиос принадлежали к ничтожнейшей сельской знати, не отличающейся от крестьян ничем, кроме самомнения. Трое слуг и служанка сидели за отдельным столом. Уже после молитвы прибежал, отдуваясь, дядя-священник и приветливо поздоровался с женихом.
Разговор поминутно спотыкался. Мигель чувствовал, что ему следует что-нибудь рассказать, но не мог рта раскрыть под расценивающим взглядом домохозяйки. Лишь однажды, к собственному своему изумлению, нырнул он в далекое прошлое и поведал о кротком кардинале Аквавиве и о канонике Фумагалли.
Он сделал это из внимания к дяде. Он был счастлив, когда бараний суп, сыр и благодарственная молитва остались позади.
Его ненадолго оставили вдвоем с Каталиной. Гордо и таинственно кивнув ему головой, она повела его в угол, где стояли рядком ее сокровища: тридцать или сорок потрепанных томов, все эти Амадисы, Феликомарты и Кларианы, чьим турнирам и победам над драконами он был обязан зарождающейся склонностью Каталины.
Две недели спустя состоялось ответное посещение. Сеньора де Паласиос с дочерью и братом-священником явились в домик у «Овощного рынка».
Старик Сервантес был при смерти. Весь раздутый, с похудевшим и уже заострившимся лицом, он через силу встал с постели и крикливо приветствовал гостей. Но вскоре произошла размолвка, чуть ли не скандал. Потому что Мигель внес в комнату маленькую Исавелью, которую его мать благоразумно спрятала, и безоговорочно заявил, что с этой дочкой он не расстанется и в браке.
Госпожа Паласиос готова была порвать немедленно. Она, видимо, обрадовалась поводу. Ее успокоили не без труда. Брат ее, несмотря на свой сан, принял неожиданность несравненно человеколюбивей, Каталина покраснела. Она молча наклонилась над зеленоглазым созданием. Кто мог сказать, что происходило за ее гладким лбом? Быть может, она считала маленькую жуткую девочку ребенком какой-нибудь феи или принцессы.
Расстались в явном несогласии, и ничего не было решено. Мать качала головой. Она не понимала своего сына. Почему бы ей самой не воспитать внучку? Ведь скоро, к несчастью, ей больше не о ком будет заботиться.
Но Мигель остался при своем. Без Исавельи — никакой женитьбы, об этом бесполезно разговаривать. Он любил когда-то женщину, так недостойно поступившую с ним. Он не хотел разлучаться с единственным, что ему от нее осталось, — с этим молчаливым, некрасивым созданьицем.
Он возвратился в Мадрид. Пусть ему пишут на имя Андреа. У него еще много всяких дел в Мадриде!
У него не было никаких дел. И у него не было никаких средств. Он избегал «Привала комедьянтов».
После неуспеха своей книги он боялся встречаться с коллегами. Невыносимо сознавать, что даром унижался. Он не бывал в «Гербе Леона». Он заходил лишь изредка в самые дешевые кабаки, где сидел в обществе скрипача по имени Гусман или театрального художника, который величал себя Коваруббиас. У него не было постоянного жилья, он ночевал где придется. Герой Лепанто и Алжира изредка подрабатывал несколько реалов перепиской, доставкой любовных посланий, мелким посредничеством.
Потом, в конце ноября, пришло письмо от матери. Все наладилось. Каталина настояла на своем. Свадьбу назначили на второе воскресенье рождественского поста.
Он ехал на осле по обледенелой толедской дороге. Теперь он ехал напрямик. Жалея маленькое животное, он часто слезал и вел его за недоуздок.
В пустой, убогой церкви Эскивиас соединил обрученных священник и дядя. Декабрьский вихрь свистел в незапертую дверь, и было так темно, что на алтарной фреске, изображавшей успение, стерлось все, кроме освещенных облаков у изголовья святой девы.
В храме не было никого из родных. Мать Мигеля не могла оставить тяжко больного старика. Мать невесты не пожелала присутствовать из протеста. Если она поскупилась на какую-нибудь сотню шагов, — каждому станет ясно, до какой степени несогласна эта свадьба с ее разумением и желанием. Но никто ничего не заметил: люди в деревнях Манчи были не любопытны.
Обязанности свидетелей исполняли трое серьезных крестьян, из которых лишь один был знаком Сервантесу. В глубине преклонялись на скамейках две-три старухи — его свадебное общество.
При выходе из церкви невеста закрыла голову верхней юбкой. Полдороги они пятились, защищаясь от бушевавшего ветра. Дома никто их не ждал. Госпожа Паласиос заперлась. Мигель и Каталина покормили ребенка, наскоро съели оставленный им скудный ужин и могли принадлежать друг другу.
И тут встал перед Мигелем Сервантесом враг страшнее фанатических турок и кровожадных ренегатов. Беззвучный и безликий враг, против которого не было оружия, — скука.
Он обрел его в объятиях Каталины. Впервые обняв ее, он испугался. Ведь если невозможен был этот союз, значит была невозможна и жизнь, в которой один так всецело предоставляется другому. Только теперь, у нее на груди, осознал он полностью: в этой рослой девушке, о которой ему известно лишь то, что она читает детские книги, отныне сосредоточился весь его мир. С боязливой нежностью, со всем присущим ему искусным умением искал он пути к ее чувству. Но здесь-то таилось заблуждение. Вечный странник, избаловавший свой опыт бесчисленными приключениями, не понимал простой, еще не расцветшей натуры этой сельской девушки, бывшей вдвое моложе его. Он начал ее расспрашивать, колеблясь и пробираясь ощупью, он чувствовал себя виноватым. Она дружелюбно слушала. Ей нечего было ответить. И когда окончились эти бои, о которых, по-видимому, он один только и знал, торжествующе вернулась скука, скука тела и души.
Он встречал ее всюду. Бесформенно роящаяся, вездесущая, она стала его бытием. По утрам он одевался, и этим исчерпывались его дневные обязанности. Он смотрел на деревенскую улицу, почти всегда пустую. Стоило сделать двести шагов, чтобы дойти до конца, и дальше простиралась Манча. Бесконечный, ровный, слегка волнистый край, над которым дул леденящий ветер. Взгляд его то и дело упирался в одну из дюжины мельниц, обставивших горизонт, круглых ветряных мельниц с вертящимися заостренными крышами и неподвижными крыльями, охающими на своих шарнирах.
Стоило увидеть это однажды, чтобы запомнить навсегда. И навсегда запомнить деревенскую улицу, ее грязные колеи в зачерствелом снегу, которые будут такими же и во все грядущие зимы, ее белые низенькие хижины без окон.
Только в доме Саласар и Паласиос, где он жил, было спереди одно окно. Было у него также и подобие фронтона и ворота с решетообразной резьбой, по бокам которых свешивались обледенелые маисовые початки. Недаром хозяева назывались идальго. Он тоже был идальго и муж доньи Каталины. Для него не находилось работы в доме. На это существовали слуги. Но вздумай он давать поручения — их бы, пожалуй, не выполнили. Челядь служила госпоже Паласиос. Наивностью было воображать, будто ему что-нибудь достанется.
Быть может, следовало все это уладить у нотариуса. Он ничего не уладил. Он был смертельно утомлен — и сдался. Поэтому и сидел он теперь у своего «окна идальго» и наверное знал, что в десять часов из левой хижины напротив выйдет старуха и отправится в соседнюю лавочку за ячменным хлебом, а что правая хижина будет заперта вплоть до часа вечерней церковной службы.
Женщины его дома ходили в церковь дважды в день. Он несколько раз сопутствовал им, потом оставил это — из стыда и скуки. Реверендо Паласиос он был снисходительней своей сестры — отнюдь не поставил ему в вину эту слабость. «Такой человек, как вы, племянник, может не утруждать себя церковным благочестием», — предупредительно сказал он. И Сервантес до того уже исстрадался, что эти слова безвестного деревенского священника пролились бальзамом в его сердце.
Такой человек, как вы! Он был не нужен, его лишь с трудом терпели в общей жилой комнате, которая одна отапливалась. Госпожа Палаоиос ходила взад и вперед, наблюдала за кухней и мелким скотом. Сухой ее голос пререкался во дворе с прислугой. Потом она снова усаживалась к печке, пряла или вязала, как и Каталина. И обе они заботились о ребенке.
Да, это было единственным утешением Сервантеса, удачей, о какой он и мечтать не смел: мать и дочь любили маленькую уродливую Исавелью. Обе как бы переживали одновременное материнство, девочка сделалась главным предметом их бесед. Он, принесший это зеленоглазое приданое в дом, совершенно не принимался в расчет, словно не он был отцом. Изредка лишь и робко подходил он к колыбельке с неловкими мужскими ласками и нежностями. Ему временами казалось, будто ребенок смотрит на него с неприязнью. Девочка, вероятно, боялась его бороды; он же видел в ее зеленых глазах Ана Франки презрение и гнев Ана Франки. Да, и та не была мыслящим существом, и ту не сумел он к себе привязать, как и нерасцветшую Каталину.
Потому что от склонности, так настойчиво толкнувшей ее на замужество, почти ничего не осталось. Да и Мигель перестал ей казаться вторым Флоримоном или Оливантом. Она даже не вполне осознала, что превратилась в замужнюю женщину. Ведь так мало все изменилось! Она была, как и прежде, под материнским надзором. Ей мало мешал худой, однорукий человек, больше всего любивший сидеть у окна, из которого ничего не было видно.
Никто не принуждал его оставаться дома. Но куда бы он пошел? Разговоры с духовным лицом вскоре исчерпались; все раньше возвращался от него Мигель. В пять часов наступала ночь. Зажигали масляную лампадку в добавление к той, которая постоянно горела перед образом Марии.
Он стал наведываться в гостиницу. Это была бедная корчма, в которой подавалось только слабое местное вино. Но хозяин, спокойный рассудительный человек, выгодно отличался от тех грабителей на больших дорогах, чья коварная жадность к деньгам отпугивает путешественников. Такого же покроя были и крестьяне, собиравшиеся за его столом. Сервантесу вдруг пришло в голову, что он знал многие сословия Испании: солдат, чиновников, священников, ученых, отчасти двор и знать, но испанский народ был ему совершенно чужим. У народа не было голоса. К нему относились, как к земле, над которой он гнулся.
Он видел крестьян в других странах.
Но они были не похожи на тех, которые входили сюда через низкие двери, в темных балахонах, подпоясанных веревкой, в башмаках из недубленой кожи. Нигде не встречал он таких каменно-очерченных лиц, такой свободной осанки, такой правдивости в нерасторопных речах.
Его появление вызвало сперва недовольство. Этого никогда не бывало. «Сын достойного человека» никогда не садился с крестьянами. Некоторые почувствовали недоверие, все выжидали с серьезной, сдержанной вежливостью. Сервантес продолжал приходить, сидел среди них, выпивал свой кубок. Они не подавали виду, что даже подозревают, зачем он здесь. Недоверие исчезло. Они, как и прежде, разговаривали о своих делах, перемежая беседу долгими паузами. О скверном рынке, о том, что в городах платят четыре мараведиса за куриное яйцо, а им достается всего лишь половина. Нет, им ничего не доставалось. Золотой поток проносился над Испанией, не орошая их ни единой капелькой. Никто не думал о них, их высмеивали и презирали. Не так было прежде, во времена дедов. Тогда крестьянин был свободен, сам выбирал своих бургомистров, была у него земля, было право. Теперь же три четверти Манчи принадлежали двум важным герцогам, жившим при короле. Их чиновники и арендаторы притесняли крестьянство. А у кого еще сохранилось последнее поместьице, тот задыхался от налогов, повинностей, процентов.
Все это слушал Сервантес. Они уже давно считали его своим. Он разглядывал их каменные надбровные дуги и думал, что истинно благородный правитель, государь со свободной, неослепленной душой, мог бы сделать этот народ величайшим народом земли.
Узнали и они про него все, что было им интересно, про его обрубок и про многое другое. Им нравилось, что он не хвастался. Ему было приятно сидеть с ними. Он никогда не пил второго кубка, из опасения, что придется просить дома денег. Он желал быть избавленным хотя бы от этого. За некрашеным трактирным столом к нему понемногу возвращались прежняя радость и уверенность. Разве не был он всюду желанным, где бы ни встречался с подлинными людьми. Среди них его место.
Было в этом кругу несколько человек, обхождением своим отличавшихся от серьезного, положительного большинства. Добродушные, веселые пареньки, еще не остепененные бедностью, говоруны, рассказчики всяких историй. Их болтовня не отличалась чрезмерной тонкостью. Но она была ему все же милей закулисных и поэтических сплетен в «Гербе Леона».
И, надо сознаться, милей разговоров, ожидавших его дома.
У госпожи Палаоиос издавна вошло в привычку дважды в неделю читать дочери вслух и всегда почти из одной и той же книги, которая была домашним сокровищем и чтилась едва ли ниже библии, — из «Совершенной супруги» августинца Луиса де Леон. Этот обычай, временно нарушенный после свадьбы, она постепенно снова ввела в обиход, как бы желая показать, что считает брак никчемным, а Каталину — по-прежнему молодой девушкой, нуждающейся в воспитании. Впрочем, книга, написанная в форме посланий, была и в самом деле превосходна, полна глубокого понимания женского сердца и любого домашнего дела. Но, к сожалению, у госпожи Паласиос были свои излюбленные главы. Их она без конца перечитывала и постоянно заканчивала предостережениями против кричащих нарядов, чрезмерного грима, против любовных писем и тайно укрываемых на груди стишков, но прежде всего и неизменно — против крайне опасного чтения рыцарских книг.
Это казалось ей особенно уместным именно теперь, когда подобная глупость привела к ней в дом столь сомнительного зятя.
Но здесь кончалось ее влияние. Каталина продолжала жить и витать в своем мире. Стопка ее рыцарских романов пополнялась. Она жадно набрасывалась на каждого торговца, забредшего в деревню с повозкой и ослом, и каждый почти извлекал из-под тканей и шалей что-нибудь новенькое из товаров этого рода.
В одно из воскресений, весной, Мигель застал ее над только что выторгованным томом. Ее щеки пылали. Давно уже, восторженно заявила она, не попадалось ей ничего более прекрасного и блестящего. Героем был снова внук великого Пальмерина из Оливы, и она должна признаться, что перед его подвигами и благородством меркнут достоинства его прародителя.
Мигель молча взял книгу у нее из рук. Он давно уже знал, как серьезно она все это переживает. Тут было нечто большее, чем жадность к развлекательному чтению. Весь этот мир был для нее так же осязаем, как и тот, в котором она жила. Эти богоподобные рыцари в золотой броне, эти несказанно-прелестные принцессы, целомудренные, как лед, — они подлинно жили для Каталины. Они жили для сотен тысяч Каталин в стране. Эта болтовня о великанах и драконах, о духах-покровителях, колдунах и добрых феях, о крылатых конях, крылатых львах, хрустальных дворцах, плавучих островах и горящих озерах была хлебом насущным для каждой из них. Фантазия целого народа рвалась к невозможному.
Сервантес перелистал том. Оттуда пахнуло на него густым чадом безумия.
— Тебе это действительно нравится, Каталина? — спросил он наконец. — Ты не видишь, что каждый из этих писак списывает у предыдущего и думает лишь о том, как бы перещеголять его сумасбродством?
— Ты просто завидуешь.
— Почему? Ты думаешь, я не сумел бы нафантазировать что-нибудь в этом роде? — И ему вспомнилась его «Галатея», этот сравнительно безобидный модный товар.
Но он не понял своей жены. Она разумела не зависть к сочинительской славе. Об этом она ничего не знала. Она разумела зависть к подвигам. Потому что книга и подвиг были для нее одно.
— Ну, конечно, завидуешь! Чего стоит твоя турецкая битва рядом с победой Пальмерина над пятнадцатью трехглазыми великанами! Вот это геройство!
— Геройство? — воскликнул Сервантес полунасмешливо, полугневно. — Постой, я тебе покажу, что такое геройство!
Он знал, о чем говорил. У него уже и раньше смутно очерчивался план. В это мгновение план созрел.
Несколько недель тому назад он взял из маленькой библиотеки священника Паласиоса антологию древних классиков. Там он наткнулся на достоверный рассказ историка Аппиана. Греческий текст был переведен на плохую латынь, но никакие недостатки изложения не могли затемнить блеска описываемого события.
Речь шла о достопамятной осаде твердыни Нумансии.
Три тысячи несокрушимо отважных испанцев десять лет противостояли в тридцать раз сильнейшему римскому войску, а когда все было потеряно, сами уничтожили город и погибли вместе с ним…
Сервантесу не пришлось много готовиться. В одну из долгих прогулок по скудно зеленеющей Манче сплел он всю ткань своей трагедии.
На следующее утро он уже сидел в садике за шатким столом, и слуги дивились на мужа хозяйской дочки, который, не подымая глаз, словно в тихом помешательстве, исписывал страницу за страницей. Куры клевали и кудахтали у него под ногами. Подошел козел и долго таращился на него желтым дьявольским оком. Госпожа Паласиос прошла по саду, громыхая связкой ключей, приостановилась, пожала плечами и вернулась в дом.
Перед ним лежал раскрытый текст Аппиана. У него не было иных вспомогательных материалов. Да он в них и не нуждался. Он знал в лицо всех своих нумансийских героев. У них были каменные лица крестьян из деревни Эскивиас. Пусть миновало семнадцать столетий, пусть латинская, готская, маврская кровь протекала по их жилам — они были все те же! Эта суровая и угрюмая страна, распростертая под неумолимым солнцем, вечно рождала все тот же гордый и свободный народ. Он же был только голосом народа. В нем поднялись подземные ключи. Это прорвалось с такой силой, что едва поспевала рука. Возникала поэма. Он был поэтом. Впервые был им вполне.
— Итак, сегодня ты увидишь, что такое геройство, — с улыбкой обратился он к Каталине, приготовившись к чтению. Все трое сидели с ним в саду Каталина, мать и дядя-священник. Был теплый послеполуденный час, ближе к вечеру.
Он начал и тотчас же позабыл, где и перед кем он читал. Читал он превосходно. Его голос, хотя не глубокий, но звучный и полный мужественной теплоты, преподносил мысли ясно и энергично.
Он читал о последних жесточайших боях осады, показывал лагерь, описывал город. Долголетние пленники взывают к богам. Священнослужители хотят принести жертву, но всевышние пренебрегают дарами. Земля разверзается, взвивается демон, разбрасывает священную утварь и утаскивает в пропасть жертвенного тельца. Мрачные предзнаменования. Но город хочет постичь до конца свою судьбу, хочет идти к гибели с незавязанными глазами. Маг Марквиниус с черным копьем в правой руке и своей книгой в левой открывает царство мертвых. Он вызывает обратно в жизнь недавно умершего мальчика. Против воли, со стонами, возвращается постигшая тайну душа в свой труп и возвещает городу гибель от собственных рук его жителей.
Последняя надежда исчезла. Нумансия должна стать пеплом. Ничего не достанется победителям, ни одна женщина не попадет к ним в рабство, ни одно запястье не украсит их рук. Уже воздвигается на рынке костер, в его пламени гибнут все сокровища:
Прозрачный перл, властитель полумира, И золотая стройная амфора, Рубин, смарагд, в чьем сердце сумрак бора, И пурпур, облекавший триумвира…Тем временем общие бедствия разрастаются до предела. Высятся груды умерших от голода.
Младенцы сосут кровь из грудей обессиленных матерей. Тогда двое нумансийских юношей, с обнаженными мечами, покидают город, они врываются в лагерь римлян, они похищают хлеб из их шатров. Один убит, его друг, смертельно раненный, достигает ворот с окровавленными хлебами в руках…
Сервантес дочитал до этого места. Он глубоко вздохнул. Окровавленные хлебы были большим и новым символом, он это знал.
Он поднял глаза. Он оглядел своих слушателей. Священник мирно спал, склонив набок свою тучную голову. Но Сервантес поймал сообщнический взгляд, которым обменивались женщины. При этом Каталина дурашливо улыбалась. Но алчное лицо ее матери было сморщено в мерзкую гримасу. Опущенные уголки тонких губ выражали несказанное презрение. Рот, казалось, еще повторял с беззвучной насмешкой его восклицание «окровавленные хлебы». Вся низость сытого и озлобленного самомнения была собрана в этом женском лице.
Листки выпали у него из рук. Он сидел с отвисшим подбородком, словно разбитый параличом. Он вдруг с ужасом постиг до конца, куда его зашвырнула судьба. Он поднялся и ушел в дом.
Ночью он покинул Эскивиас. Он никому ничего не сказал. Здесь слово было ненужно. Ребенка он вытребует…. Медленно светлевшими полевыми тропинками шагал он в сторону Толедо.
Звякнув кольцом родительской двери, он почувствовал запах ладана в доме. Только что умер его отец.
КОМИССАР
Великий король католического мира, хозяин восточного мореходства, владелец западных островов и морей — Филипп был уже старик и был болен. Его расслабляла и мучила злокачественная подагра, истощенная кровь начала прорываться в незаживающие чирьи. Приближался конец его земного пути. Но он еще не совершил того, ради чего господь призвал его к власти. Время приспело.
Он не был праздным. Вся его жизнь была изнурительной борьбой за единство и чистоту истинной веры. Где бы ни вздымались руки против нового духа, с мечом ли войны, с золотом подкупа, или с кинжалом убийства, — все эти руки направлял болезненный, тихий властитель в Эскуриале. Он, он один вверг Францию в гражданскую войну и убил великого их Оранца, он неустанно направлял губительную сталь в грудь богоотступной королевы, восседавшей на английском престоле.
Но она жила. Мария Стюарт искупила на эшафоте неуспех последнего заговора; и она также умерла за Филиппа, Теперь, на закате своих переобремененных дней, он собирал воедино силы и сокровища вверенных ему народов, чтобы устремить их против Англии.
Самовластней, чем где-либо, бесчинствовал там еретический дух. И он посягал на большее! Разве не бог ниспослал Кастилии господство над морями? Англия его оспаривала. Ее капитаны уже облагали данью испанские берега, они показывались в Африке и Западной Индии, их дерзкие набеги тщились пошатнуть богохранимое единство католической всемирной монархии… Война с Англией! Филипп-король Англии! Если этот остров станет скамеечкой под его ногами, тогда в подобающем величии встретит он свой последний час и преподнесет господу в облаках спасенный, чистый католический мир на ладонях своих.
Долгие годы колебался король. Ныне время приспело, не может он дольше ждать. Министры и генералы предостерегают его. Надо сперва одолеть Нидерланды. Всегда возможны буря или иное несчастие, тогда понадобится приют голландской гавани. Но король их не слушает. Дело его — дело божье, как может господь допустить поражение или бурю! Он торопит. Всегда столь вежливый и сдержанный, он теряет самообладание, он бранит и оскорбляет своих слуг. В их осторожности ему чудится нерадивость, малая приверженность богу.
Колеблется и предостерегает его также и адмирал, маркиз Базанский. Король наносит ему столь глубокое оскорбление, что старый солдат не выдерживает. Он заболевает горячкой. Он умирает. У армады нет вождя.
Но к чему сведущий вождь, если их поведет сам бог. Благочестие и благородное имя — вот все, что нужно. И главнокомандующим флота назначается дон Алонсо Перес де Гусман, герцог Медина-Сидониа.
Герцог пугается. Это изящный гранд, обладающий неоспоримейшей чистотой крови и несметным богатством, один из двоих владельцев Манчи. Но он отнюдь не мореплаватель. В длинном жалобном послании умоляет он своего короля освободить его от великой чести. Он мало понимает в военном деле и совершенно ничего не понимает в мореходстве, к тому же подвержен морской болезни. Все тщетно. Во главе армады оказывается «золотой адмирал вместо железного».
На атлантических верфях лихорадочно строят.
Множество кораблей — громадных тяжелых кораблей, вместительных и роскошных, хотя непрактичность их очевидна. Всем известны плоские, изворотливые челны англичан. Но применяться к этим еретическим пиратам было бы слишком большой честью для них. Могучие, разукрашенные галеры, с экипажем, тяжело вооруженным, как для рыцарской сухопутной битвы, — вот достойная гвардия бога.
Но она дорого стоит. Дорого стоят щегольские корабли и литые пушки. Десять тысяч матросов, двадцать тысяч солдат хотят есть, и особенно хорош аппетит у бесчисленных добровольных вояк из знати, примкнувших к богоугодному предприятию, уже давно оживляющих блеском и хвастовством приморские города и пока что занятых, сообразно званию, дуэлями и охотой на женщин.
Кассы пусты. Расслабленный подагрой властитель в Эскуриале трудится день и ночь над их пополнением: издает указы, ведет корреспонденцию. Он повышает пошлины на ввоз и вывоз до двадцати и двадцати пяти процентов за этим дело не станет, — облагает пошлинным сбором товары, идущие из Индии и в Индию, из одной провинции в другую. У купцов, возвращающихся из колоний, он попросту конфискует их деньги, давая им взамен долговые расписки, гарантируемые его пустой казной. Он продает с торгов чиновнические должности и учреждает ради этого новые, он продает командорства, права на знатность, посты рехидоров и коррехидоров, алькадов и секретарей. Король Филипп распродает семьдесят тысяч постов. Он хватает деньги где попало и закладывает уже заложенное; банкиры Франции, Германии и Ломбардии смотрят с опасением на королевские векселя. Предусмотрительно спешат они нажиться хотя бы на пересылочной оплате: переводный вексель из Мадрида — через Геную — во Фландрию обходится Филиппу в тридцать процентов. Денег! Денег! Но их постоянно не хватает. Этот король, управляющий золотом и серебром всего мира, неоднократно вынужден прерывать свою ночную работу над документами из-за того, что нет денег на покупку новых свечей.
Его страна — Испания, властительница мира — голодает. Гигантским наростом тяготеет над семью миллионами работающих людей миллион знатных и духовных тунеядцев. Податной чиновник беспощадно отбирает жизненную суть. Подавай сюда пищу! Подавай сюда пшеницу, ячмень и маис, масло, вино, сухари и сыр! Тебе заплатят, когда божье дело восторжествует, вот расписка. Андалузии предписано дать двенадцать тысяч центнеров сухарей, городу Севилье — шесть тысяч бочонков вина, такому-то городку — четыре тысячи кувшинов масла, такой-то деревне — восемь фанег зерна.
Королевские провиантские комиссары объезжают на своих мулах изнемогающую страну, они выжимают из выжатых последние соки. Глухое отчаяние и ненависть сопровождают их появление. Они взламывают сараи, амбары и погреба. Они отбирают у крестьянина посевное зерно. Так хочет бог.
Один из них — Мигель Сервантес.
Ему швырнули должность, как бездомной собаке кость. Он погибал. Его преследовали неудачи. В обширном испанском государстве не было для него куска насущного хлеба. Прошло время жалких писательских попыток. Его «Нумансию» никто даже прочесть не хотел. У него не было ни чина, ни звания, ни протекции. Он охотно стал бы поденщиком, каменщиком, маляром, грузчиком, — он был одноруким.
Он скитался по городам полуострова, передвигаясь с медлительными обозами, из милости подвозившими усталого путника. Он ютился в кварталах, населенных отбросами. Эти трущобы кишели тысячами карманных воров, шулеров, сутенеров вперемежку с полицейскими доносчиками, шпионами Инквизиции. Искушение кинуться в постыдный омут не раз позвякивало кошелем с медяками. Найти должность, государственную должность — казалось почти несбыточной мечтой.
Вернувшись в Мадрид, он возобновил сидение в приемных — надо же было как-то убивать время. Писцы уже не поднимали головы, когда слышали его голос. И он не сразу понял, — он уже не верил в подобное чудо, — когда ему однажды сообщили в военной палате, что есть надежда.
Начальству не приходилось чересчур привередничать. На посты провиантских закупщиков для армады было мало охотников. Все знали, что они означают. Тут требовались грубые парни. Очевидно, какой-нибудь канцелярист удосужился доложить, что имеется на примете некий Сервантес, старый солдат времен Дон Хуана, закаленный и огрубевший в Африке, всячески подходящий для сдирания кожи с крестьян.
Ему предстояло явиться к господину де Гевара, генеральному закупщику и главному комиссару. Его пугало это посещение, потому что одежда его утратила благопристойность, он походил на бродягу. Но его не удостоили даже взглядом. Важный чиновник сидел с зажатыми ноздрями, оберегаясь от запаха бедных людей, и вещал с недостижимых высот. Сервантесу надлежит тотчас же направиться в Севилью. Ему предстоит деятельность в том округе. Последующие указания даст господин де Вальдивиа, комиссар Андалузии. Содержание двенадцать реалов в день.
Двенадцать реалов! Это было вдвое больше, чем получал плотник или искусный портовый рабочий. Этого было достаточно, чтоб прожить. Достаточно, чтоб поделиться с матерью, которая снова переехала в Алькала, поближе к благочестивой дочке, и там прихварывала, кое-как перебиваясь монастырской милостыней.
Достаточно, чтоб даже посылать немного в Эскивиас для маленькой Исавельи. Потому что те женщины не отдали Исавелью. Однажды он вдруг появился в деревне, в самом запущенном виде, и произошел скандал. Но, требуя малютку, он сомневался в своей правоте. Уж не собирался ли он таскать ее с собой по преисподним Испании? У женщин ей было, по-видимому, хорошо. Она окрепла. Она сердито взглянула на чужого запыленного человека, который хотел ее поцеловать, напряглась и вывернулась из его объятий. Но деньги он будет посылать. Он сам прокормит Исавелью. Это было последнее, крошечное честолюбие.
Уже несколько месяцев скитался он по пыльным дорогам юга. Мула ему предоставило правительство. Он больше не походил на бродягу, он был хорошо одет, как подобало королевскому чиновнику: доверху застегнутый бархатный темный камзол, изящные брыжи и легкий суконный плащ. На это платье ушла большая часть его предварительной получки. По левую сторону седла болтался в ременных петлях знак доверенной ему власти: длинный посох с вызолоченным набалдашником в виде короны. Иногда он зажимал его подмышкой наподобие копья.
Ниже нельзя было пасть. Он достиг дна.
Живодер, душитель бедняков — он не заблуждался относительно своей должности. Правда, извинений было достаточно. Правда, он почти умирал от голода. Правда, он действовал именем короля, он был свободен от ответственности. И не возьмись он за это дело, взялся бы другой и, вероятно, поступал бы более жестоко. Правда, правда. Но все это было совершенно не важно. Он не мог забыть людей из Эскивиас, их застольные разговоры о податных чиновниках и экзекуторах, высасывающих из них последние капли крови. Такой пиявкой стал теперь он сам.
Он объезжал селения к востоку от Севильи, метался из Маркени в Эстепу, из Агилара в Ла Рамбла, из Кастро в Эспехо, и всюду было одно и то же. Прослышав о его приезде, крестьяне запирали амбары, укатывали бочки, снимали колеса с повозок, которые могли быть забраны в обоз. Кое-кто точил косы. Женщины выли. По ночам он спал, не раздеваясь, в какой-нибудь канцелярии и постоянно держал поблизости пистолет.
Он жил в аду — за двенадцать реалов в день. Он не был больше человеком. Он сделался бездушной частью трескучей, неисправной государственной машины. Чем-то вроде жадно рыщущих граблей армады. Не думать! Думать было смертельно. Думать — значило не вынести этого существования. И он научился не думать. Он опустил в себе железный занавес. Позади осталось все, чем он некогда был. Иногда на уединенном привале он гладил по шее своего мула, ласково трепал его жесткую челку, всматривался в длинную прорезь его кротко-огненных прекрасных глаз. Это было все, что в нем сохранилось от чувства.
Выехав на заре из Кордовы, он приближался к городку Эсиха, местечку с пятью или шестью тысячами жителей, где предстояла работа на несколько дней. Июль был на исходе, час — полуденный. Плащ и камзол он привесил к седлу и шагал в полубеспамятстве, пошатываясь, охмелев от зноя. Его предупреждали, что в Эсихе можно погибнуть от жары, даже в знойной Андалузии местность эту прозвали «сковородкой».
В беловатом пару возник перед ним по ту сторону реки окаймленный стеной городок, прислоненный к круглым возделанным холмам. Мост через Хениль был защищен с обоих концов могучими башнями ворот.
Когда он проезжал, первые стражники приняли угрюмо-безучастный вид и не ответили на приветствие. По ту сторону, во вторых воротах, было и того хуже: городской сборщик пошлин выразительно отвернулся к стене. Он понял, что его ждали. Он постепенно привык к таким встречам.
Узкие, горбато-вымощенные переулки казались нежилыми. Спотыкающийся шаг его мула гулко отдавался среди слепых стен. Он помедлил на расплавленной площади. Зеленые и голубые кафели церковной башни обжигали глаза. Он решил поискать крова.
В посаде жужжали мухи. Ему подали хлеб, сало, сыр и хорошее легкое вино. Подсела хозяйка, пышная, еще достаточно привлекательная сорокалетняя женщина. Он задал несколько беглых вопросов. В ответ последовали вздохи.
Ничего бы они не пожалели для своего короля. Они отлично все понимают, Эсиха не какая-нибудь нора. Они знают, какое теперь время. Но господин сам увидит: здесь нечего больше взять. Город обглодан дочиста. Два года тому назад она бы не решилась угостить его этаким хлебом! Он-то, по всей видимости, не из таких, но прежние сборщики ничем не стеснялись.
Она сама может назвать ему восемь, — нет, позвольте, дайте припомнить, десять семейств, так безбожно ограбленных в прошлом году, что теперь они висят у общины на шее. Но только пусть он бережется! Люди здесь бешеные. Ей за него даже страшно.
Она придвинулась ближе. Ей, казалось, не был противен кровопийца, приехавший разорить ее городок. Он смертельно устал. Он слегка откинулся и закрыл глаза. Его голова оперлась на пышную грудь хозяйки. Он покоился меж двух высоких подушек. Жужжали мухи над остатками вина в кубке. Она задумчиво глядела на скалистый обрубок руки, на высокий увенчанный посох, прислоненный к стене, и вдруг покачала головой, сама не поняв почему.
Эсиха и в самом деле казалась безнадежной! Амбары, кладовые и погреба пусты, крестьяне, ничего еще не получившие по прошлогодним распискам, явно готовы к сопротивлению. В отличие от гордой, спокойной кастильской породы, здесь преобладала более гибкая раса, умная и живая, много голов арабской чеканки. Выпытывая, расспрашивая, переходя от амбара к амбару, он был неизменно окружен выразительно жестикулирующей толпой.
Следом за ним плелись двое полицейских, завербованных им не без труда; вид у них был смущенный. Бургомистра не оказалось в городе. Он позавчера уехал в Озуну; когда вернется, неизвестно — то ли сегодня, то ли на будущей неделе.
Все густела толпа, сопровождавшая Сервантеса в его обходе. Он чувствовал за своей спиной острую и горькую насмешку этих разоренных. Его королевское величество, — а быть может, и небо, не так ли! — изволило превысить свои права. Сервантес понимал, что его кое в чем обманывают. Едва ли город был так безупречно пуст. Но и этой правды достаточно. И когда он вспомнил, как строго было ему наказано военным министерством, аудиторским двором, счетной палатой и самим господином де Вальдивиа во что бы то ни стало выкачать из Эсихи пятьсот фанег муки и четыре тысячи кувшинов масла, его вдруг разобрал смех. Он и в самом деле расхохотался, неожиданно и громко, к некоторому даже испугу своей озлобленной свиты. Уж не прислали ли к ним для разнообразия сумасшедшего комиссара?
Они достигли берега Хениля. Здесь, уже вне городской стены, стояли рядом три совершенно одинаковых громадных и прочных амбара. «Открыть», сказал Сервантес и толкнул своим жезлом первую дверь. Послышался шопот, приглушенный смех. Последовало разъяснение: господин комиссар ошибается, если думает, что это так просто сделать. Хоть тут и есть чем поживиться, да взять нельзя. А потому, что все это — церковное имущество, здесь кладовые монастыря Ла Мерсед, у него лучшие земли в округе.
И уже увидел Сервантес некое духовное лицо в разлетающейся сутане, поспешавшее к ним от городской стены в сопровождении двух братьев монастыря. Оно еще издали махало обеими руками.
Приблизившись, священнослужитель едва кивнул Сервантесу. Он надеется, заявил он тотчас же, что господин чиновник не настолько незнаком со своей инструкцией, чтобы наложить руку на духовное владение. Он советовал бы поостеречься злоупотреблений!
Люди отступили, образовав полукруг. Они с любопытством ждали исхода. Некоторые мрачно посмеивались. Да разве его на такое хватит, господина государственного сборщика! Все это комедия, да еще, пожалуй, нарочно подстроенная. Государство и церковь всегда заодно. Сообща режут ремни из крестьянской кожи.
— О злоупотреблениях не может быть и речи, — заявил Сервантес. — Реквизиции преследуют благочестивую цель — крестовый поход против Англии. Кому же, как не церкви, в первую очередь прийти на помощь?
Но священник был не так-то прост. Презрительно полуотвернувшись, он разъяснил, что королю Филиппу уже оказана эта помощь. Да и поступающие к нему проценты от всех церковных доходов будут, наверно, еще повышены. И он перечислил, с точностью до одного скудо, все добровольные пожертвования его святейшества Сикста V, достаточно сознающего важность благочестивой цели. Все было выполнено. Теперь пусть платит население.
— Население достаточно платило, гнуло спину и истекало кровью, — резко возразил Мигель, сам удивляясь своему внезапному раздражению. — Многие остались без единого посевного зерна. Было бы недостойно христиан и неугодно богу, если б духовенство созерцало все это, сидя на полных ящиках и мешках.
Он просит вручить ему ключ!
Ключа у него нет, заявил священнослужитель.
— Взломать! — приказал полицейским Сервантес.
Те неуверенно переглянулись. Положение было чрезвычайно затруднительное, мудреное, щекотливое.
Тогда Сервантес сам ударил ногой в дверь, ударил с такой силой, что дверь треснула. Еще два таких удара — и она бы слетела с петель.
— Вон идет наш бургомистр! — воскликнул один из полицейских и громко вздохнул, сбросив с плеч тяжкое бремя сомнений.
Сервантес оглянулся. Из городских ворот торопливо вышел он, маленький человечек, одетый в темное, уже издали махая руками, как раньше священник.
— Мирская власть наставит вас на путь истинный, — произнес тот, вновь обретя важную осанку.
Сервантес поджидал алькада, опершись на свой жезл. Ему было ясно: он преступил инструкцию. Но в нем ожило неодолимое чувство возмущения против неправды, заглушенное было чудовищным гнетом его службы и зазвучавшее теперь с прежней силой. Это не было простым сочувствием людям Эсихи, которые ему не особенно нравились, — это было широкое, могучее и великодушное чувство прежних дней — прежних прекрасных дней рабства и бунта.
Бургомистр приблизился. Он прежде всего привел в порядок свое дыхание и закрыл при этом глаза, поблескивавшие, как две лужицы, на его помятом, но еще не старом лице. Устремившись, наконец, на беспокойного комиссара, глаза эти вдруг расширились невообразимым изумлением, тотчас же перешедшим в восхищение. Сервантесу, священнику, монахам, полицейским и народу предстало непостижимое зрелище: алькад распростер руки. Он влюбленно склонил голову набок с блаженной улыбкой. Он заговорил. Он произнес стихи:
Был и Кристобаль Москера В ток священный погружен. Одаренный без примера, Аполлону равен он.Священник сморщил лоб. Было ясно: бургомистр не в своем уме.
По-видимому, солнечный удар на раскаленной озунской дороге. Иначе как объяснить, что человек, пришедший с добрыми, казалось бы, намерениями, вдруг протягивает руки к дерзкому чиновнику и щебечет стихи, в которых столь смехотворно фигурирует собственное его имя.
— Господин де Сервантес! Дон Мигель! Ваша милость не узнаете меня? — снова воскликнул бургомистр.
Сервантеса осенила догадка. Он стремительно покраснел.
— Сперва уладим наше дело, господин алькад, — сказал он официально, я действую здесь в силу своих полномочий.
— В силу его полномочий, дон Бартоломе! — повторил бургомистр, сокрушенно пожав плечами. — Выдайте ключ!
Ему не терпелось покончить с делами.
Священнослужитель кивнул с искаженным лицом. Один из монахов извлек ключ. Без единого слова повернулись все трое, темные их фигуры исчезли в городских воротах.
Сараи распахнулись. Широкие и объемистые вместилища были, вплоть до сумеречных глубин, наполнены ящиками, мешками и бочками, расставленными в стройном порядке.
— Здесь хватит на всех, — сказал Сервантес. Шопот и бормотание растекались вокруг. Каждый утверждал: он сразу понял — этот однорукий комиссар не то что другие. А как он говорил! А как торжественно приветствовал его бургомистр! И сейчас он настойчиво и почтительно приглашал комиссара в гости. Хоть он и холостяк, прибавил он, но живет удобно.
Сервантесу все уже было ясно. Поистине странная шутка! Этот бургомистр не кто иной, как лиценциат Кристобаль Москера де Фигероа, один из сотни поэтов, которым он создал грандиозную общую кадильницу в своей «Галатее». Очевидно, семья, чтоб избавиться от него и его обеспечить, купила ему этот пост на юге; но он с тоской вспоминал о литературе и о «Привале комедьянтов». То была славная пора его жизни.
Когда они прибыли в магистрат, Москера провел гостя в жилые комнаты. «Почет я содержу в почете» — изрек он, указывая на стену, где висел в рамке отпечатанный листок. Снизу была приделана лампада, как перед священным изображением. Это оказался, разумеется, листок из «Галатеи», страница триста двадцать восьмая. Сервантес прочел:
Много их, кто Аполлоном Были призваны к служенью, Кто учились песнопенью Над Кастильским чистым лоном. Был и Кристобаль Москера В ток священный погружен. Одаренный без примера, Аполлону равен он.Прочтя, он не сразу отошел от стены. Он не решался обернуться, потому что глаза его были полны непривычных слез. Так вот чего достиг он своей поэзией: деревенский староста помог ему востребовать налоги. Вот плоды всех усилий и унижений. Вот итог его жизни. А для маленького человечка там, за спиной, — этот листок был символом славы, вдохновения и прекрасной юности. Он возносил молитвы перед этим хладнокровно-никчемным хвалебным клочком печатного текста. Для него он был вершиной бытия… Ну, что ж: пусть хоть люди Эсихи немножко подкормятся!
Реквизированное церковное добро поплыло вниз по Хенилю в Пальма дель Рио, оттуда по Гвадалквивиру в океан и на третий день прибыло в Лиссабон, где собралась часть флота.
А днем раньше, в воскресенье, Мигель Сервантес был торжественно отлучен от церкви.
ИСПЫТАНИЕ КРОВИ
Приговор был вынесен капитулом каноников в Севилье. Он поспешил туда.
Анафема не смутила его сердца. Давно миновала пора его юношеского благочестия. Церковный ритуал был ему чужд. Но это изгнание из общины верующих уничтожило его бытие: в Испании немыслим был чиновник, порвавший с духовенством.
Он обратился к другу. Этим другом был его хозяин, владелец гостиницы «Греческая вдова» Томас Гутьерес, некогда актер.
Далеко позади остался тот вечер, когда он впервые возник перед Сервантесом на опустевшей сцене, между Лопе и театральным директором. Его честолюбие устремилось в иную сторону. Он больше не мечтал играть остроумных, изящных принцев в исторических пьесах. Отказался он и от старых полковых командиров, более соответствовавших его фигуре, от крикунов, обманутых мужей, комических стариков. Непомерно растолстевший и астматически грузный, он с утра до глубокой ночи неутомимо вращался на своих цилиндрических ногах; шумно, весело и чудовищно-благодушно заправлял он кухней, корчмой, погребом и конюшней. Его гостиница была лучшей в многолюдном предместье Триана. В его «Греческой вдове» отлично ели, и каждый мог делать все, что ему вздумается, лишь бы не проливалась кровь.
Мигеля Сервантеса он знал еще по «Привалу комедьянтов» и любил его. Его всегда любили простые, жизненно стойкие люди — будь то Фумагалли, или Родриго, или капитан Урбина, или застольные собеседники в Эокивиас.
В «Греческой вдове» всегда находился кров для разъезжающего комиссара. Как бы ни был велик наплыв гостей — купцов и капитанов, знатных дворян и проходимцев, офицеров, менял и почетно сопровождаемых изящных дам, Сервантеса неизменно ожидали постель и тарелка, когда он, усталый и полный отвращения, возвращался после своих экзекуций. Из-за оплаты сразу же произошла заминка. Он пригрозил, что съедет. Но хозяин и друг разрешил щекотливый вопрос однажды и навсегда — могучим, низким, ржаво-громыхающим смехом. С этого дня Сервантесу стали за обедом стелить скатерть — баловство, выпадавшее на долю лишь особенно важных путешественников. Гутьерес ухаживал за его мулом, он отдавал в стирку его белье, он ссужал ему деньги, он стоял за него герой. Сумел он превосходно помочь и в теперешнем, церковном деле.
Был приглашен некий Фернандо де Сильва, «конфиденте» Инквизиции, двусмысленный и жутковатый субъект, одетый по-городскому, но с большим, блестящим металлическим крестом на груди.
Он знал, что знают немногие, и был пригоден на все. Уже на пятый день принес он известие, что приговор отменен. Кроме обычного церковного покаяния: молитвы, строгих постов и паломничества, — Гутьерес пожал могучими плечами, — желателен, разумеется, также и возврат отобранного имущества. Мигель расхохотался: вернуть каких-нибудь пятьсот фанег и четыре тысячи кувшинов — ничего не может быть проще! Но господин де Сильва сделал благочестиво-успокоительный жест и извлек некую расписку… Только это обойдется не дешево. «Греческая вдова» выдержит, заявил Гутьерес.
Но когда все было улажено и Сервантес собирался уже в поездку по округу Ронды, пришло новое, более пугающее известие. Ему не давали покоя. До него решили добраться. Его вызывали на испытание крови в «Палату чистоты».
Снова обратились к Сильве. Тот поднял плечи. Здесь он бессилен. Но ведь господину де Сервантесу не трудно будет и самому доказать, что он происходит из старой христианской семьи, в которой четыре последних поколения свободны от примеси мавританской или иудейской крови. Так уж принято в испанском государстве — требовать подобных доказательств от чиновников. И он откланялся, скосив глаза.
Это была злонамеренная придирка.
Потому что подобных доказательств требовали вовсе не от каждого чиновника, иначе ни один не уцелел бы на своем месте.
Но если человека брали под сомнение и он не мог оправдаться, тогда ему, конечно, приходилось навсегда распроститься с должностью.
Само собою разумелось, что идея чистоты расы была особенно никчемна именно в Испании. Здесь причудливо переплеталась кровь иберийцев, басков и кельтов, финикийцев, римлян и вандалов, иудеев и готов, арабов и берберов. Смешение создало великолепный народ, завоевавший земной шар. Само собой разумелось, что многие понимали бессмысленность всего этого.
Изгнали, например, иудеев; но не было почти ни одной знатной семьи, в чьих жилах не текла бы иудейская кровь. Страдало этим и высшее духовенство. Епископы прокрадывались по ночам на кладбища и тайно выкапывали останки своих предков, похороненных по иудейскому ритуалу.
Само собой разумелось, что расовая идея противоречила также и высокому смыслу католической церкви. И все же с некоторых пор господствовало мнение, будто чистота крови обусловливает чистоту веры. Были изданы «Estatutos de limpieza» — «Статуты чистоты», учредили испытательные палаты и разослали по стране исследователей, рыскавших в пыли столетий. Все это стоило немалых денег, и они взимались с заподозренных. Но так как ни один почти человек не чувствовал себя неуязвимым — ни сами испытатели, ни духовные судьи, ни кардиналы, ни члены королевского дома, — пришлось условиться о правилах игры.
Считался чистым тот, в чьем роду, со стороны отца или матери, были члены Инквизиции. Считался чистым тот, кто не платил «телесного налога». Его не платила высшая знать. Постепенно составился справочник, нескончаемый список. И те, кто был недостаточно знатен, не жалели никаких денег, лишь бы попасть в этот список.
Семейства де Сервантес и де Кортинас не значились, конечно, в этом благословенном каталоге. Они были бедны. Их знатность не весила ни единой унции.
Мигелю придется расписывать судьям свои битвы за веру, вновь превозносить Лепанто, показывать свой обрубок. Неизвестно, поможет ли это! А ему так смертельно не хотелось, ему так было стыдно. Хвастовство и унижение зараз — и ради чего? Ради того, чтоб сохранить ненавистную должность душителя и живодера, вечно окутанную проклятиями, как ядовитым туманом.
По дороге в суд он задержался на корабельном мосту, соединяющем Триану со старым городом. Внизу широко раскинулся Гвадалквивир, усеянный кораблями, барками, фелюгами и укрепленными на якорях жилыми ботами. Левее, близ Золотой башни, стояли морские суда, вошедшие с приливом. Все весело переливалось в лучах летнего утра; но он смотрел как бы сквозь грязную вуаль. С величайшей радостью переломил бы он о колено свой должностной жезл, захваченный им ради представительности, и зашвырнул бы его обломки в глинисто-желтую воду.
Он нехотя двинулся дальше, достиг противоположной набережной и миновал большую тюрьму. Здесь, как всегда, было весело. Через широко распахнутые ворота двумя непрерывными течениями двигались входящие и выходящие посетители. Среди них много регламентированных женщин, которые легко распознавались по коротеньким фланелевым плащам с установленной складкой. У высоких решеток стояли заключенные, хохоча и громко переговариваясь с прохожими. Это была достаточно редкостная тюрьма, и Сервантес всегда здесь задерживался, когда ему случалось проходить мимо. Но сегодня он только кисло поморщился и проскользнул в арабскую путаницу переулков, спеша к архиепископскому дворцу, где его ожидали судьи.
Ему пришлось долго ждать в низком, совершенно пустом помещении вровень с землей. Через выпукло зарешеченное окно можно было разглядеть боковую стену собора и уходящую в небо Хиральду, могучий минарет. Сервантес изогнулся и посмотрел вверх. На кровле они водрузили изображение Христа со знаменем в руке. Но что из того! Восточным осталось величественно-изящное сооружение, сплошь затканное подковообразными окошечками, хрупкими колонками, сетчатой резьбой.
Все, что было красивого в этом городе, родилось на Востоке. Мавры и иудеи принесли в Испанию то, чем гордилась она: одни — красоту, другие знание и мудрость. Вот о чем следовало бы напомнить кровоиспытателям, вместо того чтоб хвастаться Лепанто!
Его, наконец, впустили.
В просторном и торжественном помещении сидели за столом, отодвинутым глубоко в тень, трое судей. Но на вошедшего упал яркий свет из двух высоких окон. Это его, во-первых, раздражало, а кроме того, давало возможность различить восточные признаки на его заподозренном лице.
Обычнейшим порядком начался допрос, которому суждено было окончиться столь необычно. Председатель, косясь истерическим взглядом из-под нависших черно-блестящих волос, взял в руки свои бумаги.
— Я переведу предварительное решение, — произнес он на обычном городском диалекте, — потому что латынь будет, конечно, непонятна.
— Латынь меня не затрудняет, — сказал Сервантес.
Председатель внимательно его оглядел и начал чтение — уже несколько более вежливым тоном:
— «По предписанию надлежащих властей и с соблюдением всех правил, назначается строгое испытание происхождения для провиантского и налогового комиссара на королевской службе Мигеля де Сервантеса Сааведра, сына Родриго де Сервантеса Сааведра и Леоноры де Сервантес Кортинас, родившегося от их брака в Алькала де Энарес, крещенного там в церкви Санта Мариа ла Майор 9 октября 1547 года…»
Возникло движение. Читающий приостановился. Один из судей-доминиканцев, тот, что сидел слева, стремительно подскочил над своими записями, сдвинув с места задребезжавший стол. На испытуемого уставилось блекло-желтое жирное лицо с выпученными от страха глазами.
— Быть не может! Вонючий! — воскликнул Сервантес.
Все оцепенели при этом бранном слове. Очевидно, доминиканец не знал о предстоящем. Испытания проводились десятками. Трижды повторенное имя Сервантеса потрясло его, как трубный звук страшного суда.
— Вонючий! — медленно и радостно повторил Сервантес. — Как поживает ваша дрянная милость? Горшочек масла вылизан? Дукат растрачен на потаскушек? Скупой собакой оказался алжирский король!
— Что это значит, доктор де Пас? — возмущенно спросил председатель. Что означает болтовня этого человека? Он не в своем уме? Известен он вам?
Но доктор Хуан Бланке де Пас не дал Сервантесу говорить. Предупредить его — в этом была единственная надежда на спасение. Еще одно слово — и этот проклятый расскажет про постыдную алжирскую проделку, про предательство шестидесяти христиан! Тогда все погибло: почет и должность судьи, тогда самого его бросят в инквизиционную тюрьму на весь остаток дней.
— Шутки, высокочтимый сударь, — начал он, взвизгивая от страха, — какие обычно водятся между друзьями! Это у нас давнишняя шутка — про масло. Господин этот — мой друг! Мы были с ним неразлучны в алжирских баньо. Если бы мне бросилось в глаза его имя, я бы, разумеется, избавил господ судей от труда. Неправда ли, дон Мигель? Ведь вы-то уж, я полагаю, вне всяких сомнений! Испытаннейший божий воин, герой христианских битв, покажите вашу руку, вы ею пожертвовали в бою за веру! Де Сервантес Сааведра, господа мои, это безупречное древнее, чистое христианское дворянство, восемь столетий доказывавшее свою доблесть в Пиренейских горах. Я сам свидетельствую. Я ручаюсь. Я предлагаю приостановить испытание, почетно прекратить это дело.
Удовлетворится ли враг? Мутные глаза боязливо выжидали. Дыхание свистело, омерзительный запах полз над столом. Двое других судей смотрели, сдвинув брови, на взволнованного защитника. Каждый понимал: тут что-то неладно. Но его свидетельство было настойчивым. Да и стоило ли долго раздумывать над судьбой одного из десяти тысяч испытуемых!
Сервантес не торопился. Он наслаждался мгновением. Бурно вздымалось в нем искушение не быть разумным, не воспользоваться счастливым случаем, но хлещущими словами воздать по заслугам этому предателю, важно восседающему за судебным столом.
Он одолел себя. Он промолчал. Он только поднял свой жезл, нацелился и ткнул Вонючего в живот вызолоченным набалдашником. На худой конец, это могло сойти за грубую ласку.
Но было оскорбительней плевка в его трусливую рожу.
Без единого слова, никому не кивнув, покинул он зал. Гутьерес пришел в неописуемое восхищение. Он выспрашивал подробности и никак не мог насытиться славной историей. «Жезлом! В живот! Не плохо, мой Мигель!» Он принес из погреба самое огненное свое аледо. Но на третьей бутылке Сервантес утратил разговорчивость.
— Не найдется ли у тебя писчей бумаги, Томас? Какой-нибудь тетради.
Гутьерес притащил прошлогоднюю расходную книгу, захватанную и достаточно грязную. Изнанка листков была не исписана. Сервантес не совсем уверенно поднялся по лестнице в свою комнату. Он заперся. Он не показывался.
Вечером он передал Гутьересу свое творение.
— Прочти сейчас же! Это и тебя касается.
— Меня?
На вымощенном наружном дворике было еще светло. Гутьерес надел очки. Вскоре гости услышали его непомерный хохот. Он плакал от невыразимого удовольствия.
Дочитав, он явился к Сервантесу с распростертыми объятиями.
— Мой Мигель, что за мастерская вещь! Сколько остроумия, какая злая сатира! На ком только не загорится шапка! И все так естественно и тонко, совсем не балаганно, ум, чистый ум! О, попадись мне это в руки? когда я был еще актером. Пройдоху Ханфаллу, — вот кого бы я ловко сыграл!
— Ты его и сыграешь.
— Шутишь ты! Я! Теперь! Трактирщиком! С такой фигурой!
— Ну и что же? Толстого пройдоху! Это будет еще занятней.
Затея оказалась легко осуществимой. Директор «Корраля», как раз гастролировавший в Севилье, пришел в восхищение. Сатирический смысл и комическая выразительность маленькой пьесы сразу же бросались в глаза. А имя Гутьереса, некогда популярного актера, теперь же не менее популярного трактирщика, несомненно, привлечет публику.
— А цензура, — добросовестно спросил Сервантес, — не придерется к вам?
— А мы ей не покажем рукописи, дон Мигель. Междудействия их не интересуют. Пока вы этого не печатаете…
Медлить было незачем. «El retablo de las maravillos» запомнилась с двух репетиций, В понедельник она была написана, в пятницу двенадцатого августа состоялось представление.
Был лучезарно-жаркий день. Над открытым помещением севильского театра протянули парусиновый навес от солнца — новшество, вызвавшее недовольство публики. Она изнемогала от духоты. Летом представления начинались в четыре часа.
Как исключение, на этот раз исполнялась не очередная пьеса Лопе, но, по местно-патриотическим причинам, трагедия некоего Хуана де ла Куэва, сына города. Этот сочинитель много лет обивал пороги директоров, жаловался во всеуслышание на зависть, недоброжелательство к злостное пренебрежение, поставил на ноги даже власть. Автора можно было видеть в окне одной из привилегированных лож над женской галереей: там сидел желтолицый, язвительного вида господин, уже теперь, до начала, поминутно вытиравший потеющий лоб.
Его «Смерть Аякса» была в четырех актах вместо обычных трех. Он гордился этим новшеством.
Но к сожалению, Куэва не владел своим ремеслом. Действие было подменено длительными разговорами, столкновение чувств — напыщенной декламацией. Публика смертельно скучала. Слышались отдельные свистки. Но для более энергичной оценки было, по счастью, слишком жарко.
Два первых междудействия представляли собой бессмысленное балаганное кривлянье, также никого не развеселившее. Третий акт сплошь состоял из путаных излияний. Люди стонали. Остро пахло потом.
Сервантес стоял в толпе, почти перед самой сценой. Никто не знал о его авторстве, вещица его не была даже указана на афишах при входе. Там лишь объявлялось в конце о новом выступлении Гутьереса. Многие пришли только ради него.
Его появление на сцене в красной заплатанной одежде странствующего шута было встречено хлопками и криками. Он благосклонно ухмылялся. Камзол был ему спереди чересчур короток из-за чудовищного брюха, и он производил впечатление беременной женщины. Голос вырывался с грохотом кузницы из могучего тела.
Это была история про директора-проходимца, прибывшего в городок в обществе собственной жены и горбатого музыканта, без труппы, без костюмов, без кулис, и все же затеявшего облапошить публику. Он рассчитывает отыграться на знати. Он знает ее расовое безумие, маниакальный, панический страх за чистоту своей крови. Он обещает представление, полное редчайших чудес. Но лишь тот насладится удивительным зрелищем, кто истинно и безупречно расово-чист. Иудейские потомки и мавританские отпрыски ничего не увидят!
И, забрав плату вперед, директор Хаяфалла сооружает свой волшебный театр. «Ничто» его сцены ничем не отгорожено от изысканной публики. Присутствует сам бургомистр. Присутствует председатель городской общины Хуан Кастрадо, наружность коего соответствует его имени. Бенито Кочан-Голова, городской судья, «обросший на три пальца потомственно-христианским жиром». Господин Труха, магистратский писец. Все — с дамами.
И он показывает им нечто невиданное, обращает их внимание на чудеса, якобы происходящие на его пустых, облезлых, голых подмостках. Они послушно видят все. Не видеть нельзя: это опорочило бы их родословное дерево.
Торжественно-хвастливым басом, с добродушно-наглой игрой широкого своего лица, возвещает Гутьерес появление библейского Самсона; вот он стоит — полунагой гигант, готовый сотрясти колонны храма.
— Великолепно! — восклицает господин Труха. — Я так ясно вижу Самсона, словно он был моим дедом. Очевидно, во мне течет древнейшая христианская кровь!
— Внимание! Бешеный бык! Тот самый, что в прошлом месяце забодал грузчика в Саламанке. Осторожно, вот он идет!
И все кидаются на землю, словно боятся быка.
Но они боятся лишь друг друга.
— Полчище мышей! Вот они! Белые, пятнистые, клетчатые, небесно-голубые. Сто тысяч мышей! И чистокровные дамы подымают визг.
— Иорданские воды, Иорданские воды! Каскад иорданских вод! — Гутьерес простирает руки к небу.
— Сделайте всех женщин прекрасными, а у мужчин пусть отрастут бороды, красные, как лисьи хвосты!
И все делают вид, будто вода затекает им за спины и в штаны, и каждый сомневается в своей расе, и косится на других и тем громче кричит. Гутьерес ускоряет темп.
— Геркулес, — гудит он, — Геркулес с мечом в руке! Две дюжины бурых медведей! И львы! Тигры! Два огнедышащих дракона! Не привлекайте их внимания, спрячьтесь, залезьте под стулья!
И Кочан-Голова, Кастрадо, Труха, женщины — все спасаются от невидимых призраков, трепеща за свою «limpieza», визжа, гримасничая и кривляясь.
Когда, наконец, входит вполне телесный офицер с квитанцией на постой своей роты, бургомистр не верит в его подлинность. Наконец-то он что-то видит! Наконец-то все они что-то видят. Быть может, они все-таки не иудеи! И, ополоумев от расового восторга, они так долго дурачат и морочат офицера, что тот, наконец, теряет терпение и приказывает выпороть все чистокровное общество. Ибо, по замыслу автора, интермедия должна была закончиться поркой…
Восторженный вопль и одобрительный хохот. Партер загудел. Превосходный подарочек «мушкетерам»! Они не значились в расовом каталоге! Они бы охотно еще раз прослушали всю пьеску. Прошло немало времени пока смог начаться последний акт «Аякса».
Владельцы дорогих мест выказывали сдержанное недовольство. Язвительный Куава возмущенно жестикулировал в своей ложе.
Сервантес не стал дожидаться смерти героя. Никем не замеченный, покинул он театр и поджидал Гутьереса за наружной стеной. Скоро появился и тот, потный, весь перепачканный остатками грима, обнял Сервантеса и запечатлел на его лбу оглушительный поцелуй.
Затем они рука об руку отправились домой — вечерне-многолюдными переулками и мостом. Они были в лучезарнейшем настроении, словно хлебнули вина, и распевали:
Limpieza, limpieza Gran burrada y torpeza.Эту простую песенку они тут же сочинили, и текст ее означал приблизительно следующее:
Очищаться, очищаться — Все ослы к тому стремятся.Песенку они много раз повторяли.
Но, добравшись до «Греческой вдовы», они застали в корчме шумное волнение. Там находился корабельщик из Лиссабона, привезший известие о Великой Армаде. Она потерпела чудовищное поражение под командой своего расово-чистого, но, увы, неустойчивого на море адмирала.
2 557 029 МАРАВЕДИСОВ
Многое можно было предвидеть: беспомощность тяжелых галер, опасное отсутствие базы в Голландии, трудность объединения с фландрским сухопутным войском. Ужасающие бури обрушились на плавучие крепости Филиппа. Но последний удар был нанесен английскими моряками. Ясно сознавая, что сражаются за свою гражданскую и религиозную свободу, они под командой опытных и отчаянных капитанов сокрушили в прах неуклюжую боевую силу старой веры.
Адмирал Медина-Сидониа сам признавался в своей неспособности. Но он выказал себя вдобавок и трусом. Когда еще многое возможно было спасти, его охватил смертельный страх, и он, обезумев, бежал на север. О своем флоте он больше не думал. Останки испанского колосса, полуразрушенные, без рулей, с пробоинами в трюмах, были беспомощно прибиты к шотландским, ирландским, норвежским берегам.
Король Филипп едва поднял голову над своими бумагами, когда уничтожающее известие достигло Эскуриала. Его самообладание и впредь осталось неизменным. Он нес вину. Он не сваливал ее на других. Он милостиво принял возвратившегося адмирала. И он повелел благодарить бога в церквах, как если бы была одержана победа. «Незачем жалеть о срубленных ветвях, было его спокойное суждение, — если уцелело дерево, на котором вырастут новые».
Но это было не так. Ствол ранен. Навсегда было покончено с испанским морским могуществом, с католическим всемирным войском.
Король Филипп поставил все, что имел, на карту, которую считал беспроигрышной. Он погубил военные и жизненные силы своих народов.
Двадцать тысяч лучших старых солдат лежало на дне канала. Там лежали знатные господа, столь хвастливо и сообразно званию проводившие время перед отплытием. Лежала там и целая армия испанских кормилиц, которая была забрана на военные корабли — с целью незамедлительного снабжения грудных младенцев Англии папистским молоком взамен еретического.
Было израсходовано двадцать миллионов дукатов. В кассах не осталось ни реала. Филипп обратился за спешной денежной помощью к своему вице-королю в Перу. Но там пираты хозяйничали на море, разбойники — на проезжих дорогах. Доставка была невозможна. Итак, новые займы у европейских банкиров — на любых условиях! Но великому королю католического мира закрыт кредит. Ему остается лишь его собственный обескровленный народ.
Повышаются все налоги, прямые и косвенные, чиновникам поручено действовать с удвоенной строгостью.
Как заклейменный, влачится Мигель Сервантес своим несчастным путем. Ему кажется, что он так влачился всегда. Нет ни одной каменистой тропинки между Малагой и Хазном, между Гранадой и Хересом, которой не знали б копыта его мула. Вновь и вновь бредет он по изведанным дорогам, ему кажется, что он едет сам себе навстречу, как призрак.
Он взыскивает деньги, отбирает продукты, сражается с местными властями, вступает врукопашную с крестьянами, временами вдруг уступает, осиленный состраданием, усталостью, горечью. Он сам заставляет молоть зерно, стоит у весов, старательно хранит наличные суммы, не спит, страшась за вверенное ему государственное достояние. Лишь на короткие дни возвращается он в Севилью. Огорченно наблюдает Гутьерес, как гаснет в нем остаток веселого духа, он живет среди груд счетов, квитанций, выписок, списков, описей, отчетов, прошений, донесений и протоколов.
В начальстве своем он никогда не находит опоры. У него вечный разлад с севильскими канцеляристами. В своей резиденции Гувара открыто ненавидит свои исполнительные органы. С пугливой узостью требует он лишь одного: во имя неба, поменьше шума! Он умирает, но не лучше и его заместитель Исунса. Этот обделывает втихомолку свои дела, но всегда умеет навлечь подозрение на сборщиков. Когда население восстает против них, он только радуется их беде. В сентябрьский день — двадцатый — Мигеля Сервантеса вдруг сажают в долговую тюрьму в Кастро дель Рио по распоряжению каких-то властей. Ни один человек точно не знает за что. Через несколько дней его освобождают по столь же неизвестным причинам. Алчного Исунсу сменяет господин де Овиедо, невыносимый придира. Из-за ничтожнейшей суммы путешествуют между Мадридом и Севильей целые связки актов. Даже самый опытный счетчик не выбрался бы из этой путаницы цифр. А Сервантес не любит цифр. Он смотрит на них сквозь пальцы.
Обнаруживается недохватка в семьдесят талеров. Он посылает свои расписки. Вдруг семьдесят талеров необъяснимым образом превращаются в четыреста пятьдесят. Он вовсе не отвечает, бредет дальше своей адской дорогой. Ничего больше не слышно. Дело замирает. Он уже и сам не знает, в каком положении его счета.
Как может он это знать! Содержание выплачивается ему неаккуратно, задерживается месяцами. Ему не разрешено пользоваться налоговыми деньгами для покрытия своего содержания и дорожных расходов. Он все же это делает. Все так поступают. Чем же существовать! Но теперь он уже окончательно запутался в сетях. Теперь уже нельзя бросить проклятую должность: его бы тотчас заподозрили в утайке. Ему предстоит странствовать вечно, пока в какой-нибудь деревенской гостинице не настигнет его однажды смерть.
И все же были еще люди, считавшие высоким его государственный пост. По крайней мере, один человек. Окольными путями добралось до него письмо от брата Родриго, все еще продолжавшего служить во Фландрии, в полку Виллара. Он все еще был прапорщиком, почти пятидесятилетним прапорщиком. И был по-прежнему непоколебимо убежден во влиятельности обожаемого брата. Робко, стыдливо спрашивал он, не смог ли бы Мигель чем-нибудь помочь его повышению. Ведь это ему так легко. «Ты, мой Мигель, как генерал-интендант…»
Один лишь единственный раз попытался замученный расстаться со своей каторгой.
Члены «Совета по делам Индии», вероятно, немало удивились, а может быть, и развеселились, найдя среди входящих бумаг прошение некоего Сервантеса, предлагавшего свою безвестную особу на ответственные колониальные должности.
Скольких трудов стоило ему разузнать про четыре свободных поста, упоминавшиеся в этом ходатайстве! Это были самые различные должности: правитель провинции Соконуско в Гватемала, казначей флота в Новом Картагене, судья города Ла Пас, министр финансов в королевстве Новая Гранада.
Прошение было прекрасно переписано, почти выгравировано, тщательно отфальцовано, адресовано президенту совета.
Он приготовился к длительному ожиданию. Дела в палатах тащились медленно. Лишь бы не были за это время заняты все четыре поста! Он мечтал о новом, более чистом мире, о новой, возрожденной юности.
Но уже через несколько дней пришел ответ. Он был короток и оскорбителен.
«Пусть найдет себе что-нибудь другое в стране. Д-р Нунес Моркечо, референт», — стояло справа, внизу, на краю заявления. Что-нибудь другое! Среди семидесяти тысяч должностей, розданных королем Филиппом, для Мигеля Сервантеса не нашлось ни одной, кроме этой, ему ненавистной. Да и здесь он зависел от мелочного произвола. Потому что при первом же своем возвращении домой в «Греческую вдову» он нашел там сообщение, что содержание его уменьшено с двенадцати до десяти реалов в день. Ради излюбленной экономии.
В эти дни умерла его мать. Она умерла не в Алькала. Она умерла в Мадриде, у чужих, в семье одного дубильщика и ветошника.
Нелогично было, что Мигель поставил эту смерть в связь с уменьшением своего заработка. Это было даже бессмысленно. Но он не мог отделаться от тяжелого чувства. Разве не вышло так, словно мать не захотела больше обременять своего затравленного сына? Шестьдесят реалов, выхваченные из его месячного содержания, составляли как раз ее постоянную ренту.
Все чаще возникали у него теперь странные представления и затем даже причуды. Гутьерес смотрел на друга с тревогой, с сокрушением.
Например, договор, подписанный им с директором театра Осорио, — едва ли его можно было считать поступком разумно-практического человека.
Это был тот самый Осорио, который женился на прекрасной Елене Веласкес, любовнице Лопе де Вега. Он обладал именем в театральном мире, гастрольные представления, с которыми он приехал в Севилью, давали каждодневно полные сборы. Он временно поселился в «Греческой вдове» вместе с Еленой, которая сильно пополнела и имела обыкновение загадочно и молча пребывать рядом с супругом, устремив вдаль свои мечтательно-пустые глаза.
С ним-то и подписал контракт налоговый чиновник Мигель Сервантес. Нужно сказать, что параграфы составлялись, когда было уже основательно выпито. Прислуживавший Гутьерес недоверчиво косился на деловитую пару в углу.
Сервантес, так было условлено, должен написать для господина Осорио шесть комедий. Господин Осорио обязуется все их поставить — каждую не позже двадцати дней после сдачи манускрипта. Гонорар — по пятьдесят дукатов. Но гонорар этот уплачивается лишь в том случае, если при постановке пьесы скажется, что она — «одна из лучших, когда-либо игравшихся в Испании».
Этот документ Сервантес с гордостью показал Гутьересу. Тот поглядел на друга, поглядел на договор, в котором столь редкостно сочетались иллюзия и упорство. — Бедный мой Мигель, — только и сказал он. Неужели друг его и взаправду надеялся что-нибудь здесь заработать? «Одна из лучших» — ведь это же ничего ровно не значило. Кто определит качество? Публика? Или сам Осорио? Вон он сидит за вином в своем углу подле немой и жирной красавицы. Не смеется ли он? Ну, конечно, смеется. Он высмеивает бедного Мигеля.
Ни одна из этих шести пьес так и не была написана. Так, значит, он и думать позабыл о поэзии? Не совсем. Был, например, в Сарагоссе поэтический турнир в честь святого Гиацинта, он послал туда стихи и получил три серебряные ложки. Писал он и еще кое-что. Подобие вступительного стихотворения к книге доктора Диаса о болезнях почек. Канцоны бесталанным любовникам для ночных серенад, по два реала за строфу. Писал также, из милости, романсы для уличных нищих.
Один лишь единственный раз решился поверженный запеть по-иному.
Англо-голландский флот напал у Кадикса на испанские корабли, уничтожил их и ворвался в гавань. Жалкая оборона! Пушки рассыпались от старческой слабости, как некогда в Оране, ни одно ядро не подходило к калибру жерл, богатый город был отдан на разграбление врагам. Но когда все окончилось, когда Кадикс опустел и англичане исчезли, триумфатором, в сопровождении знаменосцев и разряженных тореро, вступил в город тот, кто обязан был его защищать: «главный капитан океана и Андалузских берегов», герцог Медина-Сидониа, все еще чтимый и покровительствуемый королем.
Сонет, воспевавший это событие, совершенный по форме, полный скрыто шелестящей ирония, был напечатан не сразу. Он странствовал в списках по кабакам Кадикса и Севильи. Под ним не было подписи, но многие знали, что сочинен он неким Сервантесом, который был будто бы даже чиновником.
Начальство отнеслось не слишком одобрительно. Большие господа жили тесной семьей, в родстве и в дружбе, были товарищами по охоте и пиршествам. В верхах стали искать повода прибрать к рукам подозрительного мелкого чиновника. Повод представился.
Сервантеса вызвали недавно в столицу для отчета. Так как дороги были ненадежны, он уплатил государственные деньги банкирскому дому Фрейре де Лима, получив взамен вексель на Мадрид. Но прибыв туда, он узнал, что столичное представительство не располагает средствами. Дом Фрейре де Лима обанкротился и прогорел. Кое-какая наличность оставалась в кассах. С величайшим трудом добился Сервантес, чтоб его требование, касающееся государственных сумм, было удовлетворено в первую очередь. Он уплатил казне. Он вздохнул.
Но теперь высшее начальство повело себя так, как если бы он был к чему-то причастен при этом банкротстве. Его сняли с должности.
Гутьерес утешал его. Постель и тарелка супа всегда для него найдутся, — он должен только радоваться. И он почти радовался. Он отоспался, снова находил удовольствие в разговорах, грел на славном севильском солнышке свои стареющие кости.
Однако в Мадриде не успокоились. Высшая счетная палата внезапно потребовала проверки всех его счетов за 1594 год. Эта отчетность имела уже четырехлетнюю давность.
Теперь ему надлежало проявить величайшую бдительность и точность. Методически разобрать документы и расписки, пачками желтевшие в его гостиничном ларе. Как тогда обстояло дело с Салобренье? Как в Базе, в Лохе, в Альмуньекаре?
Но на это он не был способен. Он до смерти устал. Конечно, все было в порядке, ведь расписки никуда не могли исчезнуть. Ему советовали тотчас же съездить в Мадрид. Он не послушался. Он остался в Севилье.
Тут разразился громовой удар. Последовало королевское распоряжение через канцелярию дона Гаспара де Вальехо, советника Андалузского высшего суда.
Сервантесу Сааведра предлагается отчитаться в налоговых поступлениях в сумме 2 557 029 мараведисов. Недохватка уже установлена: 79 804 мараведиса. Вышеназванному Сервантесу надлежит в трехнедельный срок самолично явиться в высшую счетную палату. Задолженная сумма, равно как и его появление в срок, должны быть гарантированы поручителями. В случае отсутствия надежных поручительств Сервантес подлежит незамедлительному аресту и задержанию за долги.
Суммы казались внушительней, чем были на самом деле. Общая сумма составляла шесть тысяч талеров, недохватка — меньше двухсот.
Гутьерес поспешил к господину де Вальехо. Двести талеров он готов уплатить.
Господин де Вальехо взглянул на него с неприязнью. Не о том шла речь. Речь шла обо всей налоговой сумме, о поручительстве в 2 557 029 мараведисов.
Это была очевидная бессмыслица, злонамеренно нелепое истолкование королевского эдикта.
Гутьерес вернулся в свою гостиницу. «Они требуют гарантии на шесть тысяч талеров, мой Мигель. Недурно, однако. Если немного подзаложить „Вдову“…»
Мигель уже увязывал пожитки. Он не оборачивался, — быть может, пряча свои глаза. Он пробормотал, согнувшись над ларем:
— Можешь присылать мне изредка чего-нибудь поесть и кварту-другую вина. Содержание, верно, мерзкое в вашей знаменитой тюрьме.
РЕДКОСТНАЯ ТЮРЬМА
В богатой мошенниками Севилье не было другого места, где бы так планомерно и бессердечно обворовывали, как в королевской тюрьме. И это тоже находилось в очевидной взаимосвязи с предприятиями короля Филиппа.
Как раз во времена Армады, в дни тяжкой денежной нужды, он заложил эту тюрьму одному богатому андалузскому гранду, герцогу Алькала. Герцог был слишком важной особой, чтоб самолично извлекать доход из подозрительного владения, — он его пересдал. Теперешний арендатор, он же директор, неутомимо обирал две тысячи своих арестантов. Число это никогда не уменьшалось. Десятки лет здесь облапошивались и обворовывались две тысячи человек, оплачивая задним числом несколько щегольских кораблей Филиппа, плесневеющих на дне английского канала.
В этой тюрьме ничего не давалось даром. Кто не желал есть один скверный хлеб, должен был платить. В гигантском здании имелось четыре больших походных буфета: вино и еду поставлял директор. Множество лавочек торговало зеленью и фруктами, уксусом и маслом, свечами, чернилами, бумагой: директор извлекал прибыль из каждой луковицы, из каждого гусиного пера. Кто получал съестные припасы с воли, обязан был платить пошлину. На все существовал тариф. Подметание полов, уничтожение блох в постелях, очистка стен от клопов, разрешение жечь свечи — все имело точно установленную расценку. Сторожа открыто требовали мзды, а кто не давал добровольно, у того брали силой. С заключенного попросту снимали одежду и продавали ее в особом помещении, которое так и называлось — «ветошная лавка».
Здесь вообще все вещи назывались их собственными именами. В тюрьме имелось трое ворот: золотые, серебряные и медные, названные так сообразно качеству вручаемых при входе подачек. От платы зависело и жилье. В этой тюрьме можно было жить превосходно, в уютных одиночных камерах верхнего этажа, и можно было жить адски, в зловонных загонах, по двести и триста человек в каждом.
Сервантес, мало осведомленный об этих порядках, да и не располагавший деньгами, оказался в «железной камере», обширном, низком помещении первого этажа с крошечными окнами, выходившими в узкий переулок позументщиков.
Койки стояли тюфяк к тюфяку. Ругань, крик и смех не смолкали ни на мгновение. Царило двусмысленное и сумасшедшее веселье. Кругом шла игра. Под шум остервенелой божбы проигрывалась медная мелочь или грядущие добычи, гарантируемые «честным словом». И каждый, во всяком случае, платил за удовольствие азарта. Потому что карты и кости поставлял директор.
В первый день Мигель Сервантес почти не сходил со своего ложа. Если не уморят с голоду или не замучат вшами, здесь будет на что смотреть. Ему никогда не приходилось видеть такой невообразимой человеческой смеси.
Потому что здесь не принималась в расчет причина ареста. Преступник, подследственный заключенный и неоплатный должник были уравнены в правах. Купец, не смогший уплатить по векселю, спал рядом с осужденным разбойником.
Со щеголем, чересчур задолжавшим своему портному, пререкался матереубийца, которого на дворе уже ожидала виселица. Буян и громила, шулер и фальшивомонетчик, содомит и осквернитель детей жили в фантастическом общении с людьми, которые ничем не провинились и должны были доказывать свою невиновность. Через зарешеченное отверстие заглядывали в женское отделение. Люк этот постоянно осаждался. За десять часов Сервантес обрел столько перлов выразительного сквернословия, сколько не насобирал за десять лет своей бродяжнической жизни.
Дверь «железной камеры» была открыта настежь. Местные обитатели выходили и входили. Поминутно являлись шумно приветствуемые посетители. Но когда Сервантес встал, намереваясь глотнуть где-нибудь свежего воздуха, ему преградили дорогу скрещенными алебардами. За постоянное право выхода следовало внести установленную плату. Взималась она и с беднейших — за право посещения отхожего места.
Не замедлили завязаться знакомства. Соседи шныряли вокруг новичка, подсаживаясь к нему, обдавали ему лицо своим чрезмерно пряным дыханием и с достоинством называли свои цеховые имена. Они с уважением разглядывали его обрубок, в очевидной уверенности, что он потерял руку на плахе.
— Скверная работа! — заметил один. — Ученическая работа, даром изгажена и покалечена рука! — Мигель отнюдь не был склонен к разъяснениям; слишком часто приходилось ему рассказывать про Лепанто.
— Гамбалон, — представился другой, — по прозвищу Окорок, с позавчерашнего дня — раб его величества. — Это означало, что он был позавчера приговорен к галере.
— За что же? — вежливо осведомился Сервантес.
— Уличный разбой.
— А!
В дверях возникло движение. Кого-то втащили замертво. Друзья поспешно завернули его в намоченную вином простыню.
Гамбалон поднялся, церемонно извинившись. Это бедняга Поларте, отличный товарищ, он приговорен к бичеванию дважды в неделю. К сожалению, не удалось раздобыть денег для подкупа палача. Он откланялся.
Пришла ночь, но не принесла с собой ни сна, ни покоя. По всему гигантскому зданию зазвучали возгласы сторожей: «Ворота! Ворота! Ворота запираются!» Топот во дворе, смех, крики. Потом взвыли трубы. Ворота с грохотом захлопнулись.
Камера переполнилась. Многих из этих людей Сервантес не видел днем. Все столпились перед примитивным алтарем с намалеванным шафрановой краской образом Марии и лампадкой внизу. Коренастый человек в плаще, подоткнутом наподобие сутаны, (Зажег две восковые свечи. Сервантес с изумлением заметил в руке у него короткий кнут. Он согнал к алтарю запоздавших-разоспавшихся или заигравшихся в кости. Наконец все запели на один голос «Сальве» с респонзориями. Потом человек с кнутом заказал молитву святой деве и четыре «Отче наш». И беспримерное хоровое выступление закончилось оглушительным ревом: «Господи Иисусе Христе, проливший праведную кровь свою за нас, смилуйся надо мной, ибо я бедный грешник».
Могуч был и отзвук, — казалось, будто слова вырываются через все стены. Так это и было. Подобные церемонии происходили одновременно во всех камерах. Потом хорогет щелкнул своим кнутом, и в то же мгновение вновь распахнулась дверь и в комнату ворвалась, в облаке мускуса, толпа из тридцати или сорока женщин, блистательнейший цвет «Компаса» или Калье дель Агва. Очевидно было, что они уже привыкли черпать здесь краткую усладу ночей.
Новичку невозможно заснуть. Не было ни малейшего присмотра. Каждый делал, что ему нравилось, и делал это открыто, с хвастовством. Свет струился от алтаря и от двух изображений святых, слева и справа от двери. Каждые полчаса звонко перекликались сторожа, как на корабельной вахте: «Гей-ля! Гей-ля! Ахао!» — и пронзительно звякали алебардами о каменные плиты.
Наконец он все-таки задремал. Вдруг резкий свет разомкнул его веки. В фантастическом озарении факелов ему предстала группа масок: палач в красной одежде, два полицейских и патер. Они волокли омерзительную куклу с веревкой на шее. «Такой смертью умрут грешники!» — взвыли все четверо театрально-приглушенными голосами и протянули руки за подаянием. Так каждую ночь, сообщил Сервантесу его сосед по матрацу Гамбалон, на мгновение прервавший свой храп, директор берет с устроителей ежемесячную плату.
Утром оказалось, что он не имеет возможности умыться. Он вручил тюремщикам половину своей наличности и получил доступ во двор, где между двумя солидными виселицами бил фонтан.
Несколько часов спустя в зале началась раздача хлеба; на трех заключенных — по одному большому черному, плохо выпеченному хлебу. Но так как ни у кого из арестантов не было ножей, им приходилось прибегать к внешней помощи. Тянулись гуськом к специальному откупщику, который разрезал каждый хлеб на четыре части: средний кусок он оставлял себе для продажи. По-видимому, он платил немалые деньги директору.
Сервантес жевал, сидя на своем ложе, и следил томным взором за путешествием двух клопов, с трудом переползавших через рваное одеяло, когда внезапно перед ним возник Гутьерес. Лицо друга было красно, он отдувался от усилий или волнения. В полуопущенной левой руке он держал за тонкое горлышко пузатую бутылку с красным вином. Он оглядел жалкое ложе, успел заметить одного из клопов — другой да мгновение до этого скрылся — и с сокрушением пощелкал языком. «Идем, старина!» — только и сказал он. Мигель послушно встал. Он еще не успел развязать свой узелок. Гутьерес осторожно обвил его рукой и повел из «железной камеры» людно кишащими переходами и лестницами. Сервантес подумал было, что его освободили, он безгранично верил в Гутьереса. Однако возле медных ворот они свернули на новую лестницу. Он повиновался ведущему.
Одна из дверей верхнего этажа была открыта. Они вошли в довольно большую комнату. Солнечно и чисто.
— Помещение и еда оплачены за месяц, мой Мигель. Но ты тут столько не пробудешь. Как только заработает голова, сочини прошение. Потом мы им заплатим их двести талеров — и ты будешь свободен!
Гутьерес водрузил на стол свою пузатую бутылку. Широкий луч сентябрьского солнца пышно преломился в рубиновом вине. Сервантес тоскливо смотрел на это великолепие.
После ухода друга он продолжал праздно сидеть посреди комнаты. К нему врывалось жужжание сумасбродного дома печали.
В этом верхнем этаже помещались апартаменты директора-арендатора. Остальные комнаты он сдавал. Немногочисленных жильцов заботливо обслуживали. Они здесь жили как в очень порядочной гостинице.
Немного погодя появился служитель, принесший письменный прибор и пачку гербовой бумаги.
— По распоряжению только что ушедшего господина! Для заявления начальству. Ваша милость постарается не позабыть об этом!
Сервантес кивнул.
— Если что-либо потребуется, ваша милость благоволит лишь подойти к двери и ударить в ладоши. На ужин сегодня угорь и коровий язык под перцовым соусом. Но есть и другие блюда.
Сервантес тотчас же послушно уселся за бумагу и окунул перо. Нет никакого сомнения: долговой арест будет снят. Ошибка слишком уж очевидна. Ну, а дальше что? Что выиграет он, оставив за спиной трое ворот и вновь очутившись на улицах Севильи?..
С канцелярскими росчерками и завитушками тщательно вывел он:
«Господину Президенту Королевской Высшей счетной палаты в Мадриде».
Но и только. Дальше дело не пошло. Случайно взгляд его уперся в зеркало, низко висевшее над столом. Это было дешевое зеркало, изготовленное не из стекла, а из полированной жести, треугольное, с широким верхом и книзу заостренное, в раме из красного дерева. Сервантес всмотрелся в себя. Силы небесные, так вот он каков! Давно ли еще золотились его бородка и длинные ниспадающие усы? Теперь они стали тускло-серебряными. А эти длинные, глубокие, вялые складки подле носа. Рот…
Он полюбовался на свои зубы. Хорошо, если оставалось восемь или десять, да и те не желали встречаться попарно при жевании, каждый предпочитал горделивое одиночество. О прежнем напоминали одни лишь глаза, в которых еще ютилась упрямая жизнь. Но остальное…
Отражение в скверном зеркале к тому же еще чересчур удлинялось жалостно и смехотворно. Он уже много месяцев не видел своего лица и теперь обретал меланхолическое удовольствие в его изучении. Так вот что оставила ему жизнь! Почти бессознательно начал он чертить, рисовать. Он неуверенно зарисовывал себя самого на канцелярском листе. Он набросал свое лицо, худое и угловатое, преувеличенно длинное и непомерно горбоносое. Послать такой портрет президенту палаты было бы выразительней всяких слов. Хорошо бы изобразить себя верхом на муле — выезжающим каменистой дорогой на проклятую службу, с зажатым под локтем жезлом.
Он нарисовал и это. Ему понравилось. Получился, правда, не правительственный сытый мул с огненными глазами. Получился убогий, истощенный лошадиный скелет. На скелете царственно высилось тощее тело всадника, уныло свесив нескончаемые ноги. Посох, зажатый под локтем, изобразил он не с округленным увенчивающим набалдашником, но заострил и выбросил его вперед, как копье.
К копью и остальное вооружение. Он украсил себя родом панцыря и шлемоподобным сооружением без забрала. Теперь еще шпоры к сапогам, громадные колеса. Полюбуйтесь, господа из счетной палаты: вот какой рыцарь выехал во имя ваших касс на грабеж в обескровленной стране.
Рыцарь! Наконец-то привелось ему слезть с коня и расположиться на отдых в тюрьме. Наконец-то был у него досуг.
Странное довольство овладело им… Добрый Гутьерес, как превосходно он все это устроил! Должен же человек хоть раз всмотреться в себя самого, прежде чем сойдет в могилу, которая, быть может, не за горами.
Он принялся расхаживать взад и вперед по просторной комнате, силясь разобраться в прошедшем, привести его в ясность.
Но оно было чересчур велико. Все спутывалось и переплеталось. Неразличимая зыбь надежды, решимости и разочарования, нового порыва, нового разочарования. «Церковь, море, дворец» — иллюзия и разочарования. Мелкий исполнитель, живодер, кого все проклинают, кого крестьяне забрасывают камнями! Как часто он верил, что держит в руке золото, а когда разжимал пальцы, видел грязь на ладони. Посреди комнаты встала венецианка Гина с коварной усмешкой на белом лице. Письмо Дэн Хуана Австрийского Счастливейшая надежда его юности — приговор, обрекший его на долгое рабство. Иллюзия, иллюзия! И дальше в путь, пока не состарился и не окостенел, с вечными призраками перед глазами, с призраком счастья, с призраком свободы. Разочарование, разочарование! Ах, как ужасен был его облик. Низость судила того, кто жил в мечтах.
В комнате стемнело. Он этого не заметил. Сторож поставил ему еду. Он к ней не притронулся. Он безысходно блуждал по своим годам. Вновь и вновь влачился он по изведанным дорогам; рыцарю казалось, что он едет сам себе навстречу, как призрак. Иллюзия и мечта! Мечта об индийских постах правителя или судьи. Давно изменившая мечта о поэтической славе. Мечта о сельском мире в манчской деревне…
Но здесь он запнулся. Воспоминание о днях в Эскивиас всегда наполняло его смутным стыдом. Давно не показывался он на глаза Каталине, хотя она растила его ребенка. Его ребенок — иллюзия и этот ребенок. Теперь он увидел Каталину с ее книгами. Она сидела на полу, зарывшись во все эти потрепанные тома, полные благородной бессмыслицы, в которую она верила. Увидел сотни тысяч Каталин в обширной стране, насыщающихся химерами, последним сумасбродным отзвуком великого прошлого. Всеми этими Оливантами и Кларианами, чье ослепительное оружие повергает на землю великанов и волшебников. Не таков был его герой.
Его герой… Он подошел к столу. При зыбком свете огарка вгляделся в свой неискусный рисунок. Нет, его рыцарь — не прелестный юноша, не розовый херувим. Он бодрый костлявый старик, немножко одуревший от общения со всеми этими полузабытыми призраками. Разве не великолепно было бы отправить такого по свету, с верой, что не прошли еще рыцарские времена? Какими безумными и горькими шутками будет овеян каждый его шаг, когда он поедет на своей костлявой кляче по нынешней Испании, по той же бедной Манчи, где крестьяне сокрушаются о цене куриного яйца. Когда он будет непрестанно кидаться в бой за честь и спасение невинности — трогательный сумасброд, вечно мечтающий схватить то, что вечно улетает и тает. И всюду он получает побои, и падает и снова встает, и едет дальше, чуждый разочарования, устремив застывший стариковский взгляд навстречу неугасимому сверканию иллюзии…
Внизу прозвучал ночной троекратный возглас: запирали ворота. Послышались хныкающие молитвы. Они пробивались сквозь пол и стены, весь дом тихо дребезжал от тысячеголосой шарманки отверженных. Он ничего больше не слышал. Он схватил перо.
На листке с обращением к президенту, непосредственно под нацарапанным рисунком, начал он писать:
«В некоей деревне Манчи, имени которой мне не хочется упоминать, не очень давно жил один идальго. Он был из тех, что имеют родовое копье, древний щит, тощую клячу и борзую собаку…»
ЭСКУРИАЛ
Пахло тлением.
В окно жаркой опочивальни дышал сентябрьский день. Курился ладан. Но запах смерти упорствовал. Неделями распадалась и таяла еще дышащая плоть короля Филиппа.
Он был худ, как скелет. Но на тело, местами чудовищно раздутое и остеклененное водянкой, невыносимо было смотреть. Из его раскрытых нарывающих ран натекали, что ни день, полные чаши гноя. Уже невозможно было его бинтовать, мыть, прикасаться к нему. Пришлось просверлить под ним ложе. Он недвижно тонул в собственной луже.
Сознание его оставалось ясным. Он несказанно страдал за свое тело. Он всю жизнь был чрезмерно брезглив, привередливо склонен к чистоте и холе. Он не мог прикоснуться к замутненному кубку. Теперь мухи роились над ним.
Он страдал за окружающих. Он видел, как трудно общаться с ним врачам, исповедникам, министрам и слугам. Он почти не решался требовать услуг. А если приходилось, он делал это с нежной учтивостью, как бы молящей о прощении и пугающе-непривычной в устах этого холодно-недоступного человека.
Сурово испытывал его бог. Все тело — сплошное кипение и терзание, неистовые головные боли, дурнота, одышка, бессонница, палящая жажда, утолять которую запрещали врачи, жажда, давно уже ставшая неутолимой.
Вся его жизнь была преддверием смерти. Он жил ради смертного часа. Но он не ожидал, что час этот будет длиться так бесконечно, станет этим омерзительно-страшным недугом.
Он все терпеливо сносил. Сорок лет власти, сорок лег оцепенелой и одинокой иллюзии принесли свой величавый плод. Ни разу не сорвалось слово жалобы с его растрескавшихся губ. Посреди гнилостного распада, в этом чаду живодерни оставался он королем. Еще было возможно называть «величеством» эти человеческие останки.
Он не утратил способности верить, что жесточайшая эта кара ниспосланный богом залог вечного блаженства. Кого всех беспощадней испытывают, тот будет всех выше вознесен. В страданиях и поругании телесном обрел он торжествующее утверждение своей веры, которой пожертвовал собственным счастьем и счастьем порученных ему государств.
В таком испытании как бессильны были бы утешения, обретаемые человеком в самом себе! Собственный жребий и свободное веление совести, — на какие зыбкие тростинки опиралось северное лжеучение. Каким жалким созданием должен быть еретик в мгновения страшного перехода.
Он, король Филипп, совершал этот переход, окруженный всеми святыми, всеми блаженными. Уже несколько десятилетий существовали подробнейшие распоряжения о тридцати тысячах заупокойных месс, которыми все ополчение испанских священников однажды обеспечит его душе путь к блаженству. Со своих подушек он видел через раскрытые настежь двери смежной комнаты главный алтарь Большой капеллы. Яшмой, агатом и порфиром, как заря вечности, сверкала там дарохранительница. Под алтарем же, в склепе, покоился его отец, император, окруженный всеми усопшими его дома.
Внизу ожидал его праха их прах. А их искупленные души, облеченные в блеск, ожидали вверху его искупленную душу.
Он окружен, его обступили знаки избавления. Куда бы ни обратились его мертвеющие глаза, всюду встречают они утешение. Выбеленная стена его опочивальни почти невидима за благочестивыми изображениями. На столах и табуретах расставлены реликвии, чудотворнейшие из его сокровищ: обломок креста господня, рука святого Винсента, голень святого Себастиана. Мощи хранятся в драгоценных ларцах, укутанные в бархат, окованные золотом, озаренные многоцветным блеском граненых камней. Но в занавесках его балдахина висит маленькое распятие, которое держал в руках император Карл, умирая в Юсте.
Он уже трижды исповедовался и причащался. Ненасытно слушает он священные тексты. Но завтра его величайший день. Завтра он примет последнее миропомазание. Это будет венчающий церемониал его строгой и церемониальной жизни.
Он приготовился. Ему подстригли волосы и ногти, дабы он мог в достойном состоянии принять таинство. Он знает, какие части его тела будут окроплены святою водой. Он уже видел серебряный сосуд с освещенным папой оливковым маслом. Помазание совершит новый архиепископ Толедский. Точно обозначены свидетели церемонии: исповедник, приор и домашний капеллан, мажордом, министры и высшие придворные чины. Должен присутствовать также и его инфант, придурковатый бескровный наследник, единственный, кто остался ему от четырех браков; на него угодно было богу возложить бремя распадающегося царства.
В последний раз вершил он сегодня дела этого царства. Перед ним лежали грамоты из четырех частей света. Но слишком болят плечи, а пальцы правой руки — одна кровоточащая рана, поэтому бумаги читались ему духовником его, братом Диего, и его камердинером Моурой, а некоторые он просил подносить ему к глазам. Он диктовал решения. Теперь с этим было покончено. Прочь все труды земные! С завтрашнего дня весь остаток его страдальческого пути будет посвящен молитве.
Он лежал один. Оба приближенных беззвучно ожидали в смежной палате.
Одна бумага осталась. С неподвижным лицом прослушал он ее и приказал положить к нему на одеяло написанным вниз.
Глаза его были закрыты. Из церкви доносились приглушенный шелест и позвякиванье — должно быть, сакристан приготовлял утварь и подсвечники для вечерней службы. Король смотрел внутрь и смотрел вспять.
Он скорбел. Он был побежден. Его государство рассекали трещины и щели. За последние месяцы он трижды объявлял банкротство. Народные силы, морское владычество, всемирное войско — все было поставлено под удар во имя одной идеи.
И господь не пожелал полного торжества этой идеи! Правда, Испания и Италия ограждены от яда; правда, в Германии и Польше болезнь предотвращена. Но дух Оранского царил в Голландии, и Британией правила мерзкая Иезавель.
С этим было покончено. Горела одна только рана. Он перевернул израненными пальцами листок, лежавший на одеяле.
Это был печатный документ, государственное оповещение, пришедшее вчера с посольской почтой из Парижа. Вверху красовались два герба: один с лилиями и еще другой… Текст был французский и начинался:
«On fait á savoir á Tous que bonne, ferme, stable et perpétuelle Paix, Amitié et Réconciliation est faite et accordée entre Très-haut Tpès-exellent et Tpés-puissant Prince, Henry par la grâce de Dieu Roy Très-chrétien, de France et de Navarre, notre souverain seigneur; et Très-haut, Très-exellent et Très-puissant Prince, Philippe Roy Catholique bes Espagnes…»[15]
Мир, дружба, согласие — ему пришлось предложить их Франции, стоя уже одной ногой в гробу! Объявить себя побежденным. Уступить Кале и Блаве. Отказаться от всего, что было достигнуто чудовищными сорокалетними усилиями. И признать королевство этого Генриха IV, в котором воплощалось все, что он ненавидел.
Он, правда, обратился в истинную веру, этот король! Он был главой еретиков, а теперь стал католиком. Он сбросил веру с плеч, как плащ. Он был в тысячу раз хуже тех заблудших, которые искупали свое заблуждение в пожаре костров. Непостижимо, но очевидно: король этот ни во что не верил. Для этого Генриха не имели никакого значения семидесятилетние подвиги духа и сердца Филиппа. Имела значение власть, имело значение единство страны, благополучие его народа. Ради этого он стал бы турком, огнепоклонником. Его знаменитый эдикт, возвещавший религиозный мир, правовое равенство вероисповеданий — что это было, как не пожимание плечами, не равнодушие безбожного человека, которому всего драгоценней земное счастье!
И бог ниспослал ему это счастье. Филипп был осведомлен. Бог щедро наделил этого нечестивца всеми дарами правителя. Неисчерпаема была его трудоспособность, безошибочна его память, независимы его суждения, ослепительно ясен разум, неустрашима отвага.
Быстрыми железными ударами усмирил он заносчивую знать, с гениальной зоркостью подобрал себе министров, внушил народу уверенность, что его ведет и защищает просвещенная воля. Не связками актов, не из монашеской кельи управлял он Францией — он ездил по стране, ходил среди людей, каждый подданный имел к нему доступ. С каждым он говорил на его языке, каждого расспрашивал о его желаниях и нуждах. И Франция расцвела, как под майским дождем. Земледелию, ремеслу, торговле — всему посвящались одинаковые, действенные заботы. Финансы и юстиция засияли чистотой под уверенными руками: упразднились предрассудки, отжили чистокровность и герб, широкая волна доверия встала навстречу этому совершенно земному, совершенно чуждому иллюзий королю.
Paix, Amitie, Reconciliation — поистине никогда еще так не лгало печатное слово. Как часто Филипп готовил ему смерть!
Недавно потребовал он портрет врага и долго разглядывал его в глубокой ночной тишине. Потом отослал портрет навсегда. Но врага навсегда запомнил. Маленького крепкого человека с сильным лицом. Его дерзкие курчавые волосы, высоко зачесанные над открытым лбом. Громадный чувственный нос.
Широкий прожорливый рот над четырехугольной подстриженной козлиной бородкой. И эти глаза, искрящиеся жизнью и иронией, оттененные умной игрой морщинок, «сатанински-умные и небесно-приветливые глаза», как написал ему однажды один бестактный соглядатай.
На том портрете он был изображен в торжественнейшем облачении, но чувствовалось, что он облачается с насмешливой неохотой. Это был грубоватый, юркий, маленький гасконец, отнюдь не торжественный; он бы нисколько не смутился, если б от него разило потом и чесноком. Этот не стыдился! Переписка всех послов была полна возмутительных сплетен. Он прошел через триста любовных историй и никогда ничего не стыдился. Прискучивших любовниц он не заточал в монастыри. Он дерзко их чтил и награждал. Он был благодарен за наслаждение. Он никогда не мстил за измену.
Филипп ненавидел его. Как он его ненавидел! Существование этого Генриха было издевательством над собственным его семидесятилетним Царствованием, над всей его строгой отрешенно-безрадостной жизнью, посвященной единственной, высокой и единственно истинной идее. Как мог господь допустить, чтоб наглое неверие торжествовало! «Твоя да будет воля, о господи…»
Но непостижима и страшна была эта воля. Король Филипп ненавидел, и ненависть возмущала мир его последнего перехода. Ни молитва, ни исповедь, ни причастие не могли изгнать из души его эту ненависть, в которой зияло, быть может, скрытое, глубокое, устрашающее сомнение. «Помоги мне, о боже! Не посрами меня в последний мой час, смилуйся надо мной, господи, дай мне сил, дай мне сил!»
Двое ожидавших духовников и слуга услышали раздирающий крик. Они кинулись в опочивальню.
Король, уже много недель неспособный на малейшее движение, сидел на ложе, обливаясь слезами. Он сорвал с балдахина распятие императора и кровоточащими руками жадно прижимал его к губам.
РЫЦАРЬ
Почтительно постучались. Лишь при третьем стуке поднял Мигель голову над своей рукописью. Вошли Гамбалон и Поларте.
Раб его величества, все еще ожидавший своей отправки, приблизился расшаркиваясь. Следом за ним господин Поларте, совершенно безбородый и безволосый, несколько сгорбленный от бичеваний. Они явились с просьбой.
Речь шла о некоем Боффи, сегодня повешенном на тюремном дворе. Они собирали ему на погребение.
— Вашей милости, конечно, известно, — изысканно пояснил Гамбалон, что человеческие предрассудки многообразны. Покойный чрезвычайно заботился о своей могиле. Так как христианского погребения ему, к сожалению, не полагается, он мечтал о камне с достойной надписью, вне кладбищенской стены. Он предпочитал филабрский мрамор. Но цены высоки.
Сервантес порылся в ящике и отдал просителям часть денег, оставленных ему Гутьересом.
Но они не ушли. Они испытывали потребность оправдать свое вторжение.
— Очень жаль, — произнес фальцетом господин Поларте, — что ваша милость не присутствовали при его повешении! На это стоило посмотреть. Смертная рубаха сидела на нем так ловко, словно ее сшили на заказ, и он был великолепно подвит и причесан. Он вежливо дал высказаться патеру и весьма похвалил его речь. Потом он с достоинством поднялся на лестницу, без кошачьих прыжков, но и не слишком медленно, оправил складки рубашки и сам надел себе на шею петлю. Поистине большего нельзя было и требовать!
— Довольно, — прервал его Гамбалон, — довольно разговоров! Ты нарушаешь вдохновение его милости. И уже в дверях:
— Так, стало быть, как условлено? Нынче ночью после «Аве»?[16]
— Хорошо, приходите, — сказал Сервантес.
Раз уже посетители все равно оторвали его от работы, он решил отдохнуть и придвинул стул к открытому окну. Взгляд охватывал широкое пространство набережной и реку. По ту сторону, над Трианой, небо расцвечивалось пурпурными и смарагдовыми полосами — недавно опустилось солнце.
Он уже сорок или пятьдесят раз смотрел на его закат из этого окна. Скоро окончится его заключение. Хотя он так и не послал того ходатайства. Но недавно Гутьерес уехал в Мадрид улаживать его дела.
Сервантес был ему за это благодарен. Вот истинная помощь друга! Но наедине с самим собой он не слишком торопил час освобождения. Он, пожалуй, не отказался бы уединенно прожить в этой комнате год или даже три и здесь закончить свое произведение.
В искусстве все зависит от начальной точки. Он начал хорошо. Он был на благословенном пути.
Давно уже не был Дон Кихот простым чудаком, которого свели с ума рыцарские книги. Он был одержим более высоким безумием. Чудил он по-прежнему за десятерых сумасшедших, но речь его была полна мудрости.
Давно уже он странствовал не один.
Подле него трусил на своем ослике Санчо Панса, простой человек, выпеченный из более грубой муки. Покачивая головой и все-таки веря, отчасти из корыстолюбия, отчасти из смутного почтительного преклонения перед благородством иллюзии, ехал следом за ним будущий наместник, и его жирная крестьянская спина легко забывала побои.
Давно уже мажордом дворца, он же кабатчик, посвятил Дон Кихота в рыцари, произошло ужасное и неслыханное сражение с ветряными мельницами, верный Росинант отомстил жестоким погонщикам, безропотно было перенесено мучительное приключение в заколдованном замке, уже сменил Дон Кихот свой картонный шлем на золотой волшебный шлем Мамбринуса, — на блестящий таз брадобрея…
Родник прорвался и выбился на свободу. Вокруг пишущего бушевал поток историй и лиц. Все, что он видел и слышал за тридцать лет блужданий, теперь обрело свой час. Все вмещалось в раму, созданную его первым счастливым наитием: истории о рабах, любовные истории, истории странствий — все сходилось, как в радостном сне.
И как в радостных снах без слов раскрывается истина, так знал он без слов все черты, потаенно слитые в костлявом лице Дон Кихота. Они глядели оттуда, но пишущий молчал. Молчал о себе самом, впервые возникшем из зеркала, чтоб полновластно войти в эту книгу. Молчал о Дон Хуане Австрийском, последнем сумасбродно-блистательном рыцаре, с мальчишеской дерзостью хватавшемся за короны. Молчал и о монастырском затворнике Эскуриала, который угас в эти осенние дни и за чью мощную, всеподавляющую иллюзию расплачивались до сих пор пленники тюремного дома.
Он просто писал веселую книгу, высмеивавшую рыцарские романы… Придут и спросят? Распознают в его идальго дух испанской земли, с великодушной слепотой блуждающий в прошедшем, когда весь окрестный мир пробуждается к новой правде? Он пожал плечами. Разъяснять нечего. Рассказ и смысл были едины, как плод и аромат.
Сервантес был счастлив. Он понимал, что ему подарено. Ничего похожего никогда не видел мир!
Уже имя его рыцаря переступило порог кельи. Явилось первое подтверждение, — первый странный предвестник, луч грядущей славы.
Первую весть разнес, по-видимому, сторож: что в верхнем этаже сидит некто, днем и ночью пишущий рыцарский роман. Стали являться посетители. Не из самых безобидных. Отъявленнейшие висельные птицы из «железной камеры» и «чумной палаты» взбирались наверх — взглянуть, что там нафантазировал однорукий господин.
И он не заставлял себя упрашивать. Он не чванился. Он угостил их, чем мог. Слух о нем разнесся по дому. Драчун, сводник, бандит превозносили его шутки. Они приходили группами, толпами. Три недели тому назад собралась здесь впервые публика, были также и дамы. Тогда он прочитал бой с ветряными мельницами. На другой день историю знала добрая половина Севильи. Явился самолично директор тюрьмы, более похожий на скорбного утонченного ученого, чем на барышника, каким он был на самом деле, и попросил на несколько часов главу рукописи. Вечером состоялось чтение в собрании безупречнейших городских господ.
Сегодня собрались только свои. Не было докучных городских посетителей. Не успел отзвучать в доме плаксивый молитвенный хор, как комната Мигеля уже была полна. Они жались у стен, они сидели на полу на корточках, дверь пришлось оставить открытой: и там, в коридоре, тоже все было полно, лицо к лицу. Все это вплотную обступало Сервантеса, сидевшего между двух свечей за столом.
Он радовался, что сегодня нет посторонних. Была на то причина.
Он приветливо ждал, пока все затихнет. В зыбком, пляшущем свете сбежал его взгляд суровые бороды, лысины, дикие прически. Он скользнул по рваным пеньковым туфлям, торчащим из первого ряда, по желтому трико и гигантским красным подвязкам, по заплатанным камзолам, по грубым одеялам, из-под которых поблескивала нагота, по обтрепанным валлонским брыжам. Кое-где резко сверкал кармин женских лиц над цинковыми белилами открытых грудей.
«Как Дон Кихот даровал свободу множеству несчастных, которых насильно вели туда, куда им вовсе не хотелось идти».
Это был рассказ о двенадцати преступниках, приговоренных к галерам; их шеи закованы одной длинной цепью; так ведут их к гавани под строгим конвоем. Дон Кихот останавливает их, расспрашивает и решает освободить.
«…Ибо мой рыцарский долг повелевает мне бороться с насилием и защищать беззащитных. И вправду ли виновны вы, милые братья? Одного, быть может, сгубила пытка, другого нужда или отсутствие надежной защиты, третьего и всех остальных — несправедливый приговор суда».
И так как эскорт, разумеется, не согласен добровольно отпустить арестантов, Дон Кихот обращает свое копье против офицера королевской полиции и повергает его на землю. Это сигнал, вспыхивает мятеж, стража осилена, пленники свободны.
Всколыхнулось одобрение… Сервантес поднял искалеченную руку. Рассказ еще не окончен.
Он прочитал заключение. Публика узнала, что освобожденные отнюдь не поблагодарили своего сумасбродного освободителя, что они осмеяли его, забросали камнями, намяли ему ребра собственным его золотым шлемом и разбежались, сорвав с него и с Санчо плащи…
«Осел, Росинант, Санчо и его господин остались, наконец, вчетвером. Осел стоял, повесив голову, в глубоком раздумье и время от времени встряхивал ушами, как если бы ему казалось, что все еще продолжается каменный дождь. Росинант, поверженный камнями на землю, лежал врастяжку подле своего хозяина. Санчо стоял в одном камзоле, дрожа от страха перед полицией. Дон Кихот же был едва жив от огорчения, что те, кому он отважно помог, так дурно с мим поступили».
Восторженный вопль заглушил его последнее слово. Огоньки свечей затрепетали от разбушевавшегося смеха. Они орали. Они хлопали себя по ляжкам. Дамы совершенно вышли из себя. Воодушевленно визжа, они обнимали и целовали взасос своих соседей. Да, это был успех!
Он был не совсем тот, какого ожидал Сервантес. Как же это возможно! Их собственная участь была им показана — и некто в хрупкой броне, кто отважился их защитить. Но у них ничего не нашлось для него, кроме воя. Воем оправдывали они товарищей своих по беде, побивших заступника камнями. Сервантес не преувеличил: они доказали ему это. И от доказательства ему стало холодно.
Он встал. Он высоко поднял свечу и осветил своих слушателей зыбким ее лучом. Совсем впереди сидел на полу Гамбалон, раб его величества, изо дня в день ожидавший отправки на шейной цепи. Запрокинувшись от восторга на колени к соседке, он хохотал во всю ширь своей зияющей пасти…
Они нехотя разошлись. Голоса их затихли. Через широко распахнутое окно испарилась их вонь.
Вверху был сверкающе распростерт великолепный осенне-звездный шатер. Небо над Трианой еще светилось отгоревшим днем.
Он уже улыбался. Он дивился себе самому. За что он их осудил? За смех? Над Дон Кихотом следовало смеяться. Зачем же он огорчился?
Но однажды, — таков был его замысел, — все же выступит из его книги истина, снявшая маску, понятная каждому. Однажды он заговорит. Еще очень не скоро, в самом конце, после сотни приключений и тысячи страниц, произнесет он волшебное слово. На заднем пороге обширного здания решил он положить крошечный ключик от его сокровеннейшего тайника…
Близится конец Дон Кихота. Его окружают друзья. Санчо, всхлипывая, заговаривает с ним о новых походах, новых подвигах. Но повязка мечты спадает с глаз навсегда очарованного, и он говорит:
«Тише, господа мои, тише! Прошлогодние гнезда — не для нынешних птиц. Я больше не Дон Кихот из Манчи. Я снова Алонсо Кихано, которого некогда называли Алонсо Добрый».
Так, спустя долгие годы, однажды окончится его книга — этим простым, всераскрывающим и волшебным словом — добрый.
Небо над Трианой еще слегка светилось.
И он увидел удаляющегося туда гигантского и костлявого всадника: через пространства и времена гнался за уходящим мерцанием рыцарь-копыта его клячи спотыкались на испанской земле, но благородная и смешная его голова почти касалась звезд.
Примечания
1
«Император я король, господин мой и отец…»
(обратно)2
In quarto — форматом в одну четвертую долю листа.
(обратно)3
Идальго — испанский дворянин.
(обратно)4
Да не совершается месса позже, нежели через час пополудни.
(обратно)5
«Если земля расколется, обломки погребут бесстрашного».
(обратно)6
«Победа! Победа! Слава Христу!»
(обратно)7
Via Appia — Аппиева дорога — первая стратегическая дорога римлян, проложенная в 312 году до н. э. Аппием Клавдием Слепым.
(обратно)8
«Трудно поверить тому, как скорбел весь город, когда он умер, такую он снискал любовь и уважение всех своей кротостью и невинностью».
(обратно)9
«El sol» — «Солнце».
(обратно)10
Баньо — тюрьма.
(обратно)11
Linqua franca — язык франков.
(обратно)12
До Филиппа Второго Испания не имела постоянной столицы. Столицей был тот город, где находились кортесы. Со времен Филиппа Второго единственной столицей Испании — Unica Corte — стал Мадрид.
(обратно)13
«Пусть ваше величество окажет мне милость».
(обратно)14
«Быть сломленным легче, чем сгибаться».
(обратно)15
«Оповещаются все, что добрые, прочные, надежные и вечные Мир, Дружба и Согласие установлены и обусловлены между Превысоким, Преславным и Премогучим государем Генрихом, милостью божьей Христианнейшим Королем Франции и Наварры, нашим самодержавным монархом; и Превысоким, Преславным и Премогучим Государем Филиппом Католическим Королем Испании…»
(обратно)16
Молитва.
(обратно)



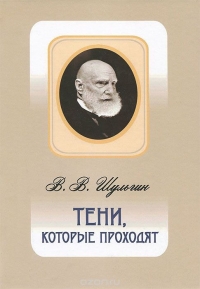
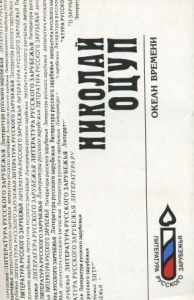
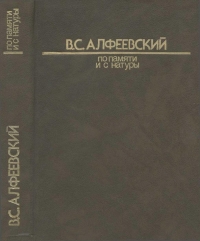
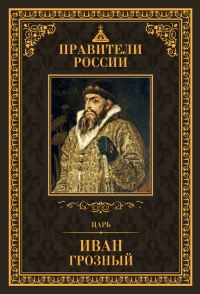
Комментарии к книге «Сервантес», Бруно Франк
Всего 0 комментариев