Евгений Грицяк Норильское восстание
Повесть о невозможном
И не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить.
от. Матф. 10.23Перед нами тот случай, когда автор книги не мог остаться в живых. Возглавить восстание узников сталинского концлагеря означало последний этап.
Играть в жизни свою последнюю роль. С таким сознанием можно было уже не думать о сохранении жизни, а только о разумном ведении дела так, чтобы тебе верили пять тысяч человек, чье достоинство ты защищаешь. Люди, которых ты представляешь, читают твои шаги и питаются твоей уверенностью. Главное — не дрогнуть.
Книга Евгена Грицяка «Норильское восстание. Воспоминания и документы» (Львов, 2004, Изд. НАН Украины, 3-е изд. на укр. языке), объем ее — меньше 90 страниц, говор ит о том, что автор пишет кратко. Но уже с первых страниц вы чувствуете, что это драматическая, психологически насыщенная повесть, в которой четко очерчены характеры и типы лагерного царства. С трудом верится, что автор — юноша из Ивано-Франковской области, кончавший военную школу в штрафбате — на этапах от Карпат до Берлина, а после войны — проходил «дальнейшее искупление вины перед родиной» в ГУЛАГе.
Из этих университетов он вынес умение смотреть смерти в глаза и умение сворачиваться в комок — при самозащите на фронте и особенно при наступлении конвойного сапога.
И кратко реагировать.
— Раздевайся и становись в угол.
Я разделся.
— Год рождения.
— Двадцать шестой.
— Ах ты падла. Молодой, а уже лысый. Что гад, от политики облысел? — и он ударил изо всех сил кулаком в лицо.
— Открой рот!
Мне был известен этот тюремный прием выбивания зубов, и потому я мигом сориентировался и крепко сжал зубы. Удар надзирателя не возымел ожидаемого эффекта.
— Подождите, дайте мне оформить его документы, — остановил надзирателей старшина, дежурный по тюрьме.
Дальше нет ни слова о тайно уважавшем мужество старшине, скрывающем свое отношение за формальной исполнительностью и плавно уводящего обреченного от расправы.
В динамичной повести много емких эпизодов с подтекстом. Отобранный этап «бандеровских головорезов» на пути из Караганды в Норильск должен был пройти сквозь систему заготовленных гиблых мест и скользких провокаций, чтобы в Норильске разместиться для временного использования оставшихся в живых истерзанных и запуганных существ с номерными знаками.
Но расчеты начальства не оправдались. «Человеческий материал» оказался крепче обычного. Эти юноши пришли добро вольцами в УПА и получили закалку в неравной бор ьбе с немецкими оккупантами. Они имели хоро шую школу дисциплины, самоор ганизации и конспирации. Они изведали ад энкаведистских допросов и бесстрашие, с которым воспринимается приговор «к расстрелу», потом с заменой на 25 лет каторги плюс пожизненное поселение в Сибири.
Культ узаконенного насилия в лагерепорож дал своих «Грозных», героев-садистов, считавшихся номенклатурой лагерного начальства. Но вдруг все зоны облетел слух: палача Горожанкина нашли на нарах без головы. Потом нашли в снегу самого грозного громилу Бухтуева. Он остался жив, но уже боялся абсолютно всех…
На фоне ежедневных смертей, которых даже не считали, эти воспринимались как признаки изменения климата зоны.
Смерть Сталина обычно в воспоминаниях занимает центральное место. У Е. Грицяка это событие упоминается только в связи с учащением расстрелов, что привело только к большему единению «детей разных народов», почувствовавших какие-то изменения в Москве.
Е. Грицяк и раньше задумывался над причинами пассивности массы людей, отнюдь не пассивных по своему характеру. Обычно им недоставало лидера, готового взять на себя ответственность. Конечно, в Норильской душегубке лидеры распознаются и уничтожаются. Но, надо сказать, что и в более «законные» брежневские времена редко находился человек, берущий на себя огонь.
Обычно считалось, что смелость «брать на себя» может иметь фронтовой офицер, с которым у начальства «иной разговор». Эту иллюзию питало то обстоятельство, что в лагерях всех периодов действительно по-разному относилось начальство к русским, к украинцам, особенно бандеровцам, и, скажем, к кавказцам. Часто в лагерях украинские националисты организовывали подпольную сеть, но на прямой контакт с администрацией выходили другие — «классово близкие». И все это понимали.
Межнациональные отношения в лагерях складывались в значительной степени на моральной основе. В среде узников интернационализм был куда здоро вее, чем у коммунистов. Всех их объединяла общность страданий и судеб. В период восстания наладилось тесное сотрудничество между землячествами, солидарность и взаимная выручка. В «штаб» восстания вошли решительные люди разных национальностей.
Зона быстро учуяла неясность инструкций из центра и раздор между учениками Сталина. В лагере это было воспринято как миг свободы. И в этот миг нашелся человек, незаметно занявший всегда вакантную роль лидера. Обычно начальство готовило на такие роли своих провокаторов. Видимо, вчерашнему штрафбатовцу Е. Грицяку пригодился опыт разведки боем. Начальство сверху относилось к этому небывалому в советских лагерях явлению с тайным уважением и опаской.
Впервые в истории ГУЛАГа сплоченные каторжане обратились к народу за поддержкой, наладили связь с волей, и запустили за зону десятки тысяч листовок.
Наконец, они выдвинули политические требования. Е. Грицяк организовал всеобщий митинг и обратился к лагерному интернационалу: «Дорогие друзья, все, что совершается ныне в Норильске, не является только нашим частным делом, а частью великой борьбы всего советского народа за свое достоинство и права человека…»
И все это под дулами пулеметов. Можно с уверенностью сказать, что в те времена это был единственный случай, когда кто-то публично отстаивал достоинство и человеческие права. А пулеметы молчали.
Затем к оратору подошли, снимая шапки и пожимая руку, китаец, эстонец, поляк, немец, белорус…
В унылой зоне вечных унижений поднимался дух каторжан. И конечно же, увещевания начальства выходить на работу многих искушало — как шанс уцелеть. Многие не одобряли «игры с огнем». Некоторые позорно бежали на вахту. Все это нашло объективное освещение в книге.
Внутреннее чутье подсказало лидеру за несколько часов до команды «огонь» остановить игру и как бы принять ничью… В сущности — возвращение в плен.
Из всех лагерных восстаний это было единственное без применения оружия. Очевидно, логика такой развязки определяла финал — без расстрела зачинщиков. Но и без раскаяния.
В дальнейших тюрьмах Е. Грицяк выучит еще английский язык и займется изучением искусства йоги. Его всю жизнь интересовали проблемы совершенствования и лечения людей: общество больное, искаженное насилием и ненавистью.
В эпилоге драматической повести Евгена Грицяка как бы заложены предпосылки еще одного особо опасного государственного преступления: рассказать о Нор ильске так, чтобы услышал мир.
Читая в Интернете повесть Е. Грицяка в русском переводе, я не мог поверить, что это написал непрофессиональный писатель. Еще более я был удивлен, когда узнал от автора, в каких условиях писал он свои «краткие записки». Находясь под особым надзором, он писал и сразу передавал через жену соседке по несколько листов — на хранение. А потом, чтобы их сохранность была надежной, передал рукопись за границу, где и появилась книга в 1980 г. в издательстве «Смолоскип». Через 4 года она вышла в английском переводе — The Norilsk Upspring.
В селе Устя Ивано-Франковской области бывший политический заключенный был под надзором потому, что отказался сотрудничать с КГБ (кто не с нами, тот против нас!). Но особое внимание властей он привлек к себе в 1977 году, когда поехал в Москву и там дал обширное интервью американскому кор. газеты Chicago Tribune о Норильском восстании.
Видимо, это и послужило толчком к восстановлению в памяти главной страницы, в которой смерть присутствовала зримо. Кагебистские надзиратели обещали ему «навсегда запомнить» эту страницу, но человек, чей пор рет оказался в Chicago Tribune — это уже не просто бандеровец, с которым расправиться просто.
Но главная защита к нему пришла от духа еще в тюрьме, где он открыл для себя учение йоги.
Начал переводить с английского на украинский «Полную иллюстрированную книгу йоги». Позже, в Мордовском концлагере, он вышел на книгу «Автобиография йога» Парамаганса Иогананда, и всю эту объемистую книгу переписал в тетрадки, а потом начал переводить ее на украинский.
Следует сказать, что переписывание зеком английских текстов всегда действовало на кагебистов успокаивающе. Это не «путь исправления», но во всяком случае путь отвлечения от реальности.
Оказалось, не совсем так: «государственный преступник» получил мощное подтверждение своей традиционной христианской веры в учении основателей «церкви всех религий» в Лос-Анджелесе. Духовная независимость — это сила большая, чем политическая оппозиционность. Он становится убежденным сторонником ненасильственных методов борьбы.
Достоинство, с которым юный штрафбатовец выдерживал удары жестокой системы, насилия, обрело теоретическую основу в учении о высших духовных ценностях.
В октябре 1981 г. преследуемый в глухой про винции «рецидивист», которому твердо обещают новый срок, пишет письмо начальнику страны Л.И. Брежневу. Пишет он своему сослуживцу (Брежнев возглавлял политуправление 4-м Украинским фронтом, где в составе 265 штрафной роты воевал Грицяк), но прежде всего как к
согражданину «с одинаковыми правами».
Видимо, читавшие это весьма убедительно написанное послание, не могли не улыбаться, но вместе с тем не могли не чувствовать правоту автора, написавшего правду о своей жизни.
«Вы опубликовали свои воспоминания в Советском Союзе и зарубежом, я только за рубежом. Но вас не вызывают, как меня, в КГБ и не спрашивают, каким путем вы передали за границу свои воспоминания, от вас не требуют отречения от вашего труда, вам не угрожают судом, на вас не ставят провокационные сети. Наоборот, вас восхваляют и восхищаются вами.
Теперь я хочу спросить вас, почему так получается, что два одинаковых действия двух равноправных граждан так неодинаково оцениваются?
Почему Вы, товарищ Брежнев, подписавшийся под заключительным Актом Хельсинских соглашений, в которых, между прочим, говорится, что граждане всех стран — участниц Соглашений имеют право получать и распространять информацию независимо от государственных границ, сами пользуетесь этим правом, а мне, через органы госбезопасности, угрожаете судом?»
Система рассчитывала на то, что запуганный и «пойманный» Е. Грицяк будет спорить с майо ами и оправдываться. А он спокойно ставит главному начальнику вопрос, из которого следует, что перед ним, пожилым человеком из с. Устя, — сердитые недостойные люди, которые не уважают даже себя и ни во что не ставят свою подпись под международным документом.
Вот так закончилась тяжба Евгена Грицяка с коммунистической системой: он написал о ней свое свидетельство и вывел ее на поле ненасильственной борьбы. А на этом поле насилие всегда проигрывает.
Евген Сверстюк
Об авторе
Евгений Грицяк — член украинской молодежной националистической организации в Снятине (город в Ивано-Франковской области, Украина) — красноармеец — политзаключенный — организатор Норильского восстания — последователь индусской философии — украинский йог — постоянная жертва произвола КГБ. Такова в одном предложении жизнь этого неординарного человека. Он родился в 1926 году в селе Стецево близ Снятина. До Второй Мировой войны учился в снятинской гимназии, в период нацистской оккупации — в средней торговой школе. Именно в эти годы он начал сотрудничать с молодежной националистической организацией, готовившей молодежь к борьбе с оккупантами. С приходом советской армии был мобилизован, воевал на 4-м Украинском фронте, был несколько раз ранен, награжден боевыми медалями. Но в 1949 году «разоблачила» его прошлое (сотрудничество с молодежной националистической организацией), он был арестован, приговорен к смертной казни, замененной 25-ю годами лишения свободы. Товарищи по тюрьмам и лагерям характеризуют его как «бескорыстного, честного, разумного и выдержанного человека», увлекавшегося йогой, рисованием, языками, овладевшего в заключении иглотерапией и лечившего ею соузников (Д.Шумук); очень тепло о нем отзывается Абрам Шифрин в своей книге «Четвертое измерение». За свою руководящую роль в Норильском восстании он поплатился годами пребывания в самых страшных тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. Освобождение ему принес только ХХ съезд КПСС. Но его испытания на этом не кончились. В 1959 году Президиум Верховного Совета СССР отменяет решение своей Комиссии, освободившей Грицяка в 1956 году, мотивируя эту отмену «тяжестью его преступления» и восстановив тем самым в силе его 25-летний приговор 1949 года. Что имелось в виду под «тяжестью преступления» выяснилось только через 5 лет, когда, выступая на заседании Военной Коллегии Верховного Суда СССР, прокурор сообщил: Грицяк «был обвинен в том, что после освобождения он нигде не работал, не прекратил антисоветской деятельности и создал в Винницкой области организацию украинских националистов… После надлежащей проверки выяснилось, что он добросовестно трудился, никакой антисоветской деятельностью не занимался, никакой организации не создавал, никаких свидетельств каких-либо его высказываний против советской власти не зафиксировано. Отмечено лишь его недовольство тем, что ему не разрешают жить в родном селе». Он был снова освобожден, но тут же подвергся разнузданной газетной травле.
Подлинной причиной этих и других преследований были не мнимые «преступления» Грицяка, а его независимый нрав, поведение — без оглядки на принятые, хотя и никаким законом не установленные правила и запреты. Ну как мог реагировать КГБ на такой его поступок, как поездка в 1977 г. в Москву для встречи с корреспондентом «Чикаго Трибюн» и интервью, в котором он рассказал о Норильском восстании 1953 года и продолжающихся преследованиях? Только новыми преследованиями! Но сломить Евгения Степановича не удалось. Поскольку, по словам Д.Шумука, этот человек «способен восставать из пепла и снова быть готовым ко всему».
Л.С. Трус,
Новосибирский «Мемориал»
От автора
На смерть Евгения Коновальца львовская газета «Общественный Голос» откликнулась статьей, озаглавленной «Смерть команданта ОУН». Я спросил тогда своего отца, что означает слово ОУН? На что получил ответ: «ОУН — это не слово, а сокращенное название Организации Украинских Националистов, которые подпольно борются за независимость Украинского государства. Польская власть так ненавидит украинских националистов, что каждого, кого заподозрит как члена ОУН, заключает на десять лет в Картузскую Березу. Но националисты сильны духом, они не боятся тюрем, ни даже смерти, а боятся только одного — подневольного состояния своего народа».
Как мне тогда хотелось увидеть хотя бы одного такого националиста!
Но вот наступил 1942 год. В городе Снятине открыли двухгодичную торговую школу. Став ее учеником, я быстро познакомился со многими своими ровесниками почти из всех сёл района. Один из таких моих знакомых, Осип Зинкевич, как-то так, между прочим, сказал мне: «При нашей школе существует подпольная молодежная Организация Украинских Националистов. Ты не хотел бы в неё вступить?» «Как не хотел бы? — отвечаю. — Я давно к этому готов!»
Так я познакомился с деятельностью ОУН близко. Сначала было составление клятвы и изучение Декалога. Потом мы в своей конспиративной группе усваивали навыки конспирации, распространяли, каждый в своем селе, листовки, а со временем и сами стали выпускать их на печатной машинке, тайно хранившейся на квартире нашего районного руководителя Степана Касияна. (Как тогда пригодились нам уроки машинописи, полученные в школе!)
Затем наступила активная деятельность по расширению организации путем привлечения новых членов, присяга и ознакомление с военным делом.
Кроме того, мы все принимали активное участи в деятельности таких молодежных организаций, как ВСУМ и ПЛАСТ. Воодушевление было огромное. Молодежь военных лет не знала тех растленных развлечений, которыми пропитана нынешняя молодежь, тогдашние юноши и девушки направляли всю свою молодую энергию на подпольную работу, на борьбу.
Мне посчастливилось быть в одной конспиративной группе вместе с учениками нашей школы Николаем Плавьюком, Осипом Зинкевичем, Орестом Скорейко и Михаилом Марковским.
В 1943 году мы закончили торговую школу и разъехались в разные стороны, разной стала и наша дальнейшая борьба и по-разному сложились наши судьбы. При смене оккупационных режимов (немецкого на большевистский) наши судьбы сложились так:
Михаил Марковский и Орест Скорейко погибли в рядах УПА; Николай Плавьюк и Осип Зинкевич оказались на Западе, а мне выпало близкое знакомство с жизнью людей за решеткой и колючей проволокой советских тюрем и лагерей, где украинские политзаключенные продолжали свою неукротимую борьбу за право жить, за человеческое и национальное достоинство.
Кульминационным моментом этой борьбы стало, теперь уже известное всему миру, НОРИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ, вспыхнувшее в конце мая 1953 года.
В 1978 году, то есть в 25-ю годовщину восстания, я сделал «Краткую запись воспоминаний» (для себя самого), чтобы зафиксировать на бумаге всё, что сохранилось в памяти с тех бурных дней. Но вскоре надо мною нависла угроза — со стороны КГБ — быть посаженным в психиатрическую больницу. Поэтому я решил передать свои записки для сохранения на Запад, где они не только сохранились, но с легкой руки Осипа Зинкевича, директора издательства «Смолоскип», были изданы отдельной книгой.
Поскольку те записки были сделаны наскоро и только по памяти, в них, естественно, закрались некоторые неточности, к которым прибавились еще и редакторские ошибки, что сильно снизило уровень публикации.
Наиболее важные из допущенных ошибок:
На странице 19 читаем: «8-го марта 1952 года мы все-таки счастливо доплыли до Дудинки». Надо было: 8 сентября. (В марте Енисей, которым мы плыли в Дудинку, скован льдом метровой толщины). На страницах 50–51 вместо 5-й зоны четыре раза названа 3-я…
К великому сожалению, все недостатки и ошибки того издания автоматически перешли в издания моих воспоминаний на английском языке и, кажется, на немецком тоже.
Незавершенность первого издания моих воспоминаний, советы и критические замечания близких друзей заставили меня просмотреть устаревший уже текст и внести в него необходимые изменения, уточнения и дополнения.
Прежде всего, текст дополнился многими архивными документами, затем были раскрыты ранее неназванные имена и добавлен список многих, кого еще забыл, активных участников тех событий. Казалось, что все, что можно было исправить, — исправлено, и книга будет понятна каждому, кто ее прочитает.
Но, прочитав мою новую рукопись, Председатель правления ОУН Николай Плавьюк сделал замечания.
Я не даю в тексте объяснений таких употребляемых там руссизмов: Горлаг, Горстрой, БУР и т.п. (Все эти слова были столь обычными и понятными всем заключенным, что мне не пришло в голову их объяснять. Но я забыл, что пишу не только для бывших заключенных.) Но это упущение еще можно исправить. Другое замечание Плавьюка такое: в моем тексте часто повторяется слово «мы», но нигде не поясняется, что за этим словом скрывается.
Попробую объяснить. Употребляя слово «мы», я имел в виду все те активные группы украинских политзаключенных, которые создавались на добровольной основе для общей борьбы против жестокости и произвола лагерного режима и к которым в какой-то мере я сам был причастен.
Пользуясь этим расширенным местоимением и далее, хочу еще отметить, что мы и после Норильска не сложили руки, а занялись подготовкой к новому этапу нашей борьбы.
Так в 1954 году в небольшой зоне на 105-м километре трассы Тайшет-Лена, мы создали группу по изучению истории Украины, которую блестяще читал нам учитель по профессии и мой близкий земляк — Ярослав Пащак. А Евгений Горошко, Василий Неколишин и я, в условиях строжайшей конспирации, изучали теорию военного дела по Клаузевицу.
Но тут администрация лагеря заподозрила что-то неладное и отправила нас (60 человек) на целый год в Иркутскую тюрьму.
А теперь, после всего пережитого, сделанного и добытого нами, наши позднейшие борцы против большевистского строя, так называемые шестидесятники (по данным Кости Короля), упрекают нас: «Вы в свое время что-то хорошее немножко сделали, но вас сломили карательные органы, и на этом вы успокоились. А мы, шестидесятники, боролись во все времена, писали протесты, выступали в прессе…»
Мы, украинские политические заключенные карагандинских и норильских спецлагерей, воспитанные и закаленные в рядах ОУН-УПА, а потом и в лагерной борьбе, внесли свой посильный вклад в дело свержения большевистского строя, но мы на пальму первенства не претендуем, потому что мы боролись не за пальмовую ветвь, а именно за УКРАИНУ!
НОРИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
I. Этап Караганда — Норильск
Август 1952 года. 8-е лаготделение Песчаного лагеря МВД СССР, город Караганда.
«Внимание, заключенные! Идти — не растягиваться, назад не оглядываться, в строю не разговаривать, не курить, из ряда в ряд не переходить! Шаг влево, шаг вправо считается побег — конвой применяет оружие без предупреждения! Взять всем руки назад! Вперед марш!»
Четыреста измученных и изголодавшихся политзаключенных тяжело зашаркали своими кирзовыми ботинками по твердой, испеченной жарким солнцем, казахской земле. Долгий и изнурительный рабочий день на строительстве карагандинского пивзавода закончился, и нас повели домой, то есть в лагерь. Все шли как обычно и, как требовал конвой, — молча. Каждый замкнулся в себя и думал про свое.
Меня всего охватила идея организации всегулаговской политической забастовки, которую за несколько недель перед этим мне подал Степан Венгрин. Но, несмотря на все мое увлечение идеей, я отклонил ее как неисполнимую, а вместо этого предложил провести такую забастовку в одной только нашей зоне. Со временем это движение могло бы распространиться цепной реакцией по всему ГУЛАГу.
И теперь, идя с работы, я (который уже раз!) обдумывал свою позицию. На мой взгляд, идея общегулаговскогой забастовки была утопична прежде всего из-за нашей непреодолимой изоляции. Ведь у нас не было и не могло быть надлежащей связи не только с отдаленными от нас лагерями, но с отдельными зонами своего лагеря. К сколь-нибуль скоординированным действиям мы были просто неспособны. К тому же нам еще следовало преодолеть наши субъективные преграды — всепроникающий страх, которым были охвачены — и не без оснований — все заключенные, инертность и нескончаемые внутренние раздоры.
Все эти препятствия были столь тяжки и отвратны, что у нас не хватало ни сил, ни умений, чтобы их преодолеть хотя бы в каком-нибудь одном месте. Возбудить и подтолкнуть нас мог только соответствующий внешний стимул — инцидент, который затронул бы за живое каждого.
Такой инцидент однажды был у нас, но мы им не воспользовались, так как не были еще к нему готовы.
А было это так: однажды с работы вели бригаду заключенных. Дорогой конвой обходился с людьми так нагло и жестоко, что люди не стерпели, остановились, сели на землю и заявили свой протест. Конвоиры выпустили над головой заключенных несколько автоматных очередей. Но никто не встал. Тогда конвоиры пустили собак… Люди пришли в зону обкусанные и окровавленные…
Этот инцидент послужил нам хорошим уроком, и теперь мы уже были готовы к тому, чтобы в будущем не пропустить такого удобного случая.
Мы подошли к вахте, и все мои размышления внезапно оборвались. Меня отделили от общей группы заключенных и без всякого формального обвинения посадили в БУР (барак усиленного режима). В тот же самый день в БУР посадили еще свыше двадцати заключенных — преимущественно украинцев.
Затем события развивались уже быстро.
На следующий день в нашу камеру втолкнули еще одного украинца — Василия Дерпака, который объяснил нам, что он нарочно повел себя так, чтобы его посадили к нам, поскольку необходимо было передать нам важное поручение. «Заключенные в зоне, — сообщил он, — хотят, чтобы вы завтра утром объявили голодовку, а они, в знак солидарности, начнут забастовку».
Утром мы объявили голодовку, однако, к нашему разочарованию, забастовка не началась. Мы подождали еще один день — тихо. Окончательно потеряв надежду, мы прекратили голодовку.
На следующий день нас всех буровцев вывезли в 5-е лаготделение (поселок Майкодук), который служил пересыльным пунктом. Кроме нас, сюда свезли заключенных, главным образом украинцев и литовцев, со всего Песчаного лагеря. Мы поняли, что нас вывозят прочь из Караганды, однако никто не мог сказать, куда нас повезут и что нас ожидает.
А тем временем первая неожиданность была уготована нам уже в Майкодуке. Нас 250 человек, украинцев и литовцев, разместили во 2-м бараке. Кроме того, в одной из секций 1-го барака разместили приблизительно еще 40 человек, частью украинцев, частью — представителей других национальностей. Через некоторое время туда добавили еще 18 человек. Это была известная на весь Песчаный лагерь банда Николая Воробьева, постоянно терроризировавшая украинцев.
На пересылку воробьевцы пришли с ножами и сразу стали угрожать тем немногим украинцам, что были вместе с ними в 1-м бараке.
Из окна 1-го барака кто-то отчаянно крикнул нам: «Ребята, суки хотят нас порезать!»
Мы кинулись во все стороны искать выход из запертого барака. Одни напрасно старались сломать оконные переплеты, другие — выломать двери.
В коридоре стояла бочка с питьевою водой. Я вылил воду на пол и вместе с Богданом Самотием стал таранить ею двери. Но двери никак не поддавались. Единственной нашей надеждой был тот тяжелый стук, который напоминал собой отдаленную пушечную стрельбу.
А тем временем выход был найден. Под одним из окон первой секции удалось вынуть из стены глину и сделать в ней небольшую пробоину, через которую мы все, один за другим, выбрались наружу.
Тут, собравшись вместе, мы наскоро составили план штурма 1-го барака. С воробьевцами у нас были давние счеты, и теперь мы горели желанием расквитаться с ними. Только бы до них добраться!
Мы сообща кинулись к дверям, так как считали, что нам как-то удастся вытащить скобы или выкрутить замок. Поскольку сделать это голыми руками мы не могли, а признать себя бессильными не хотели, то не нашли другого выхода, как и далее беспорядочно и безнадежно напирать на крепкие и неподдающиеся двери.
В отличие от всех других бараков, двери этого барака выходили почему-то не на середину лагеря, а на колючку запретной зоны. Неподалеку высилась сторожевая вышка, на которой стоял уже не один, а двое часовых. Затем на вышке появился офицер. Я слежу за каждым его движением: вот он вынимает пистолет и медленно направляет его на нас. Прозвучал выстрел, прозвучал второй, третий… На наши головы посыпалась штукатурка, так как офицер стрелял поверх наших голов в стену. Мы не отступали. Наконец затрещали автоматы. На землю со стоном упал тяжелораненый Василий Щирба. Мы убежали; раненого Щирбу отнесли в больницу.
Лагерная «больница» помещалась в том же 1-м бараке. Секция, где были воробьёвцы, была отделена от больницы дощатой перегородкой. Узнав об этом, мы вошли в соседнюю комнату и велели больным уйти.
Потом поломали железную кровать и, вооружившись её обломками, стали ломать перегородку. За считанные минуты в стене образовался пролом в рост человека в высоту и приблизительно на полтора метра в ширину. Мы встретились с воробьёвцами с глазу на глаз.
Но воробьёвцы защищались отчаянно. Двое из них, прячась за стену, стали по обе стороны пролома и готовы были проткнуть ножом каждого, кто осмелился бы просунуть в пролом свою голову. А другие, заваливши печку, которая стояла посреди секции, швыряли в нас глиною, а когда не хватало глины, то — кусками рафинада.
Но наиболее опасными для нас были все-таки те двое, охранявшие пролом. Мы всячески старались схватить их или хотя бы отогнать от пролома, но это никак не удавалось сделать. Увидев на стене два огнетушителя, мы схватили их и стали обливать охраняющих отверстие пеной из огнетушителя. Одному из них пена попала в глаза. Он заревел от боли и, схватившись руками за глаза, побежал в глубину секции. Но на его место встал другой.
Тут я понял, что таким способом мы их не возьмем, и поэтому предложил выбраться на чердак, проломить там кровлю и ударить на низ сверху. Все покинули комнату и бросились искать люк на чердак. Но выйдя из барака, мы остолбенели: от ворот вахты прямо на нас бегут вооруженные автоматами солдаты. Командовал ими начальник управления Песчаным лагерем генерал-лейтенант Сергиенко. Вот и всё!
Приблизившись к нам, Сергиенко потребовал, что мы все вошли в свой барак и дали себя запереть. Когда мы отказались, Сергиенко пригрозил применить оружие. На наше заявление, что он не имеет права стрелять в нас, он ответил: «Имеем право! Мы знаем, с кем имеем дело!»
Мы еще долго препирались и дискутировали с ним и, наконец, пошли на такой компромисс: мы входим в свой барак, а он забирает от нас воробьёвцев.
Нас заперли; воробьевцев куда-то вывезли. Наступил вечер, и мы все, кто где, легли спать.
На следующий день под вечер из Караганды на север двинулся этапный эшелон. В его товарных, специально оборудованных, вагонах — 1200 карагандинских политзаключенных. В Петропавловске поезд повернул на восток и после нескольких суток езды остановился в Красноярске. Там он простоял целую ночь, а утром, медленно переехав мост над Енисеем, снова остановился. Похоже, мы уже приехали!
Да, приехали. Нас выпустили из вагонов и повели в пересылку, которая, как нам было известно, поставляла заключенных в лагеря Норильска.
Перед вахтой нам скомандовали сесть на землю, так как пересылка еще не готова была нас принять.
По ту сторону дощатого забора запретной зоны мы услышали перекличку между блатными БУРа:
— Прокурор! Прокурор! Ты?
— Я!
— Что нового?
— А, ничего, э-э, косяк прибыл.
— Откуда?
— Из Караганды.
— А богатый?
— Да нет, Индия.
Мы еще вошли в пересылку, никто нас там еще не видел, а запертые в БУРе блатные уже знали, что прибыл «косяк» (этап) из Караганды и что это «Индия», что на их жаргоне означало — голыши, беднота, с которой ничего не сдерешь.
Такая информированность блатных нас не удивила: мы очень хорошо знали, что их проинформировали о нас надзиратели, которые всегда и всюду действовали против нас заодно с блатными.
Наконец мы вошли в зону, расположенную на площадке, имевшей некоторый склон. Слева, в продольном ряду бараков, помещались блатные, а поперечный ряд был предназначен для нас. Оба ряда бараков разделены между собой колючей проволокой с проходной будкой, в которой постоянно дежурил надзиратель.
Не успели мы еще разместиться в бараках, как узнали, что блатные готовятся напасть на нас. Поскольку мы знали, что без благословения администрации лагеря они этого не сделают, то вступили в переговоры с начальником пересылки и заявили ему, что в случае нападения на нас со стороны блатных мы разнесем ему всю пересылку. Переговоры закончились тем, что начальник пригрозил применить против нас оружие. На наше замечание, что он не имеет права в таких случаях стрелять, он ответил: «Имеем право, мы знаем, кого мы приняли!»
Окончательно разместившись в бараках, мы стали высыпать из них и собираться в небольшие группы. В одной группе кто-то запел:
Взяла девушка ведра И пошла по воду, Там ведь хлопцы-рыболовцы Еще-й казацкого рода.Песню сейчас же подхватили другие; группа поющих стала быстро увеличиваться. Желающих петь становилось все больше, и вскоре, опять спонтанно, образовалась еще одна хоровая группа. Над Енисеем, вопреки всем запретам, звучала украинская песня. Когда кто-нибудь из поющих уставал, на его место вставал другой. И таким образом песня не стихала до позднего вечера. Литовские заключенные тоже не устояли перед песенным соблазном и образовали свою хоровую группу. Хотя мы не понимали их языка, но поняли, что они, как и мы, сначала исполняли свои народные песни, а потом переходили на песни национально-патриотические.
Я отошел в сторону и стал прислушиваться. Мне тогда показалось, что поет какое-то одно гигантское горло, на которое никто не осмелится напасть.
И никто не напал. Надзиратели даже не пытались нас разгонять, блатные не пробовали нападать на нас тоже. Четыре дня никто нас не трогал.
На пятый день нас, как селедку в бочку, напихали в трюмы деревянной баржи и повезли вниз Енисею.
Исходя из того, кто был отобран в наш этап и как с нами разговаривал генерал Сергиенко в Караганде и начальник пересылки в Красноярске, мы легко пришли к выводу, что это не обычный, вызванный определенными хозяйственными потребностями этап, а — этап смертников. Нас вывезли из Караганды для усмирения и уничтожения. Кто мог тогда сказать, какая встреча нам будет уготована на месте, если мы еще счастливо до него доедем, а не ухнем где-нибудь вместе с баржой на дно глубокого и холодного Енисея? Предположения делались разные, но точно никто ничего не знал.
8-го сентября 1952 года мы все-таки счастливо доплыли до Дудинки. В тот же самый день вагонами узкой колеи доехали до Норильска. Здесь нас разделили на две группы: первую — 500 человек — повели в 1-е лаготделение Горного лагеря (Горлага), на «Медвежку» (рудник «Медвежий ручей» — ред.), другую же — 700 человек — в 5-е лаготделение, которое находилась в непосредственной близости к городу.
Так закончился этап Караганда — Норильск, которому суждено было изменить «климат» в лагерях этого холодного заполярного города.
II. Приучение к климату
Горлаг уже был готов нас принять. Предназначенные для нас бараки были отгорожены от основной зоны колючей проволокой. Всем сукам лагеря были розданы «для самообороны» финские ножи, потому что, как им объясняли, в Норильск идет большой этап бандеровских головорезов, которые намереваются перерезать прочь всех активистов лагеря.
Нас оформляли на протяжении четырех дней. Прежде всего, нас тщательно обыскали и пронумеровали. Номерные знаки состояли здесь из двух элементов: одной буквы русской азбуки и трехзначного числа. Нам дали номера только с буквами «У» или «Ф», что затем давало возможность легко выделить нас в толпе других заключенных.
Когда все уже было сделано, нас разбили на бригады и приставили к нам своих доверенных бригадиров. Каждый бригадир носил на рукаве левой руки повязку с надписью «Бригадир».
На пятый день нас вывели на работу. К нашему великому удивлению, мы не услышали здесь традиционного: «Внимание, заключенные!» Конвоиры не сопровождали нас, а стояли около дороги, образуя собою живой охранный коридор. Мы шли эти коридором побригадно. Бригадиры, как командиры в армии, — сбоку своих бригад.
Через какие-то 150–200 метров мы остановились перед вахтой производственной зоны, которая называлась «Горстрой». Это была огромная, окруженная колючей проволокой и обставленная сторожевыми вышками территория тундры, на которой велось строительство. Заключенные Горлага строили город Норильск. Все работы, от составления проекта до сдачи строительства в эксплуатацию, выполняли сами заключенные.
Мы попали на это большое строительство как раз тогда, когда строилась центральная площадь города. Мы выравнивали ее, перевозя тачками грунт с одного места на другое.
Во время часового перерыва на обед мы разбежались в поисках земляков и новых знакомств. Ведь здесь, в отличие от жилой зоны, мы не были отгорожены от остальных заключенных колючей проволокой. Кроме того, здесь работали заключенные не только 5-го, а и 4-го лаготделения, а рядом, уже отгороженные от нас узкой полосою запретки, работали женщины из 6-го лаготделения, которые сквозь призму колючей проволоки казались нам удивительно красивыми и привлекательными.
Но, прежде всего, нас интересовало поведение наших земляков, которые боялись подходить к нашему забору в жилой зоне. Только некоторые из них откликались издалека и то на русском языке.
Украинский язык там никто не запрещал, но все же разговаривать на нем было весьма опасно. Своим языком мы выдавали себя как украинцев, или, как нас всюду презрительно называли, бандеров, и вызывали на себя шквал разных дополнительных притеснений и угнетения. В Караганде мы уже добились, было, права на наше национальное достоинство, а тут, в Норильске за это право нам еще нужно было бороться.
Наши земляки, которых мы здесь встретили, просили нас, чтобы мы немного притихли и постепенно замаскировались, так как иначе нас всех здесь уничтожат. ««Вы еще не знаете, что такое Норильск!»»-уверяли они.
Первый день нашей работы на Горстрое закончился. На вахте жилой зоны нас тщательно обыскали и отправили в бараки. А наши бригадиры подались в «штаб», чтобы доложить начальству о нашем поведении и получить новые инструкции.
Второй день работы ничем особенным не отличался от первого.
На третий день, в обеденный час, мы снова рассыпались по всему Горстрою в поисках новых знакомств и контактов. Я шел куда-то один и вдруг увидел, что прямо на меня решительно и агрессивно шагает помощник нарядчика. Я отступил в сторону, а он, преграждая мне дорогу, грозно спросил:
— Ты, падлюка, чего тут ходишь? Где твоя бригада?
— Мы работаем на выравнивании площади, — ответил я, — но теперь обеденный перерыв и я имею право быть, где хочу.
— Я тебе, гадина, дам право! Вы бандеры! Героев из себя строите? Мы еще не таких видели и всех за пояс позатыкали, а из вас, гадов, мы еще шашлыки на ножах жарить будем!
Я ничего ему не ответил, только пошел дальше своей дорогой.
Отлучка от бригады и блуждание по зоне, хотя и во время перерыва на обед, считались здесь нарушением дисциплины и проявлением неподчинения. Помощник нарядчика и пришел сюда, на Горстрой, для того, чтобы положить конец такому бесчинству.
Я вместе со своим близким земляком из Коломии Дмитрием Мельником возил тачкой грунт. И как-то пополудни к нам подходит бригадир с претензией, что мы не выполняем норму.
— Ты только посмотри на нас, — ответил я ему, — мы едва на ногах стоим. Какой нормы ты от нас хочешь? Потерпи немного, не суетись так. Мы отойдем от этапа, наберемся сил, а тогда уже и требуй от нас нормы. А кроме того, — продолжал я, — разве ты не такой же заключенный, как и мы? Разве ты добровольно сюда приехал, а не под таким же самым конвоем, как и мы? Так зачем ты нас подгоняешь?
Бригадир молча отошел от нас.
Рабочий день закончился. На вахте жилой зоны от нас отделяют восемь человек, сковывают им наручниками руки и отводят в БУР. Там их, скованных, бьют, поднимают вверх и ударяют всем телом об пол, пинают и топчут ногами и, наконец, запирают в отдельной камере. Это там называлось «пропустить через молотобойку».
На следующий день, перед выходом на работу, наш бригадир вынул из кармана какую-то бумагу и зачитал: Грицяк Евгений и Мельник Дмитрий остаются в зоне.
Мы остались и после ответного сигнала вышли на проверку.
— А это еще что? — увидев нас, заворчал мой знакомый по Горстрою, помощник нарядчика. — Отказники?
— Нет, — уверенно отвечаю я, — нас оставил в зоне бригадир.
— Врешь, сволочь! Нарядная не давала бригадиру такого распоряжения.
— Проверьте.
К нам добавили еще одного нашего земляка с Тернопольщины и заперли в коридоре БУРа. В камеру нас не бросили, ибо мы еще не прошли через молотобойку, а молотобойцы, должно быть, были заняты где-то в другом месте.
Через два-три часа наружные двери внезапно открылись, и к нам в сопровождении надзирателя подошел начальник 1-го отдела управления Горлага подполковник Сарычев.
— Что, гады, — закричал он на манер блатных, — климат здешний вам не понравился? А? Ну, ничего! Мы приучим вас к климату… половину вас, мерзавцев, мы перережем к чертовой матери!..
Мы смотрели ему прямо в глаза и молчали.
— Открывай камеру! — гаркнул на надзирателя Сарычев.
Надзиратель отпер первые, обитые цинком деревянные двери, потом массивные решетчатые, и мы все вошли в камеру, которая была переполнена всевозможными блатняками и несколькими простыми заключенными.
— Кто у вас староста? — спросил подполковник.
— У нас нет старосты: запрещено, — ответил кто-то с нар.
— Но, но! Запрещено! Я вам людей привел, так кто же их примет, если нет старосты?
(На тюремном жаргоне слово принять означает: избить до потери сознания и затолкать под нары.)
— Мы принимаем только русских, а нерусских не принимаем, — бросил уже кто-то другой. — А это — украинцы.
— Украина — также Россия, — невпопад буркнул третий.
Вероятно, хозяева камеры не имели ни малейшего желания нас принимать. Сарычев почувствовал это и стал нервничать.
— Милованов, ты староста? — обратился он к одному рослому заключенному, который стоял посреди камеры.
— Нет.
— А вот этот, — указал на меня рукой Сарычев, — сказал, что когда ты выйдешь из БУРа — зарежет тебя.
— Это неправда, — ответил Милованов. — Он не знает меня, а я — его, так за что он стал бы меня резать?
Сарычев рассердился и пошел к выходу. Некоторые стали спрашивать его, сколько им еще тут сидеть.
Сарычев отвечал уже на ходу, что это будет зависеть от их поведения, а уже за решетчатыми дверями помахал угрожающе кулаком и процедил сквозь зубы:
— Ну, я надеюсь, что вы примете их по всем правилам!
Сарычев явно торопился. Свою угрозу перерезать нас он не откладывал на неопределенное время, а собирался выполнить это в тот же день.
Когда закончился рабочий день и заключенные нашего этапа подошли к воротам жилой зоны, Сарычев уже был во всеоружии и готов начать кровавую бойню. Охрана вахты была усилена несколькими десятками вооруженных пулеметами и автоматами конвоиров. Около ворот стояли шесть сук с ножами и железными палками в руках.
Начался запуск в зону. Надзиратели тщательно обыскивают первую пятерку заключенных. За воротами суки сбивают их с ног, бьют железными палками, пинают ногами, угрожают ножами и так гонят их болотом по-пластунски к баракам, где их сразу же запирают. Потом таким же образом поступают с другой пятеркой, третьей и так до конца.
Тут Сарычев рассчитывал, что «бунтующие бандеры» не выдержат такого надругательства над собой и обязательно учинят бучу, а он, под предлогом усмирения, откроет огонь и таким образом исполнит свою угрозу — половину нас перерезать.
Но получилось не так, как планировал Сарычев. Вопреки его надеждам мятежные бандеры терпеливо, хотя и болезненно, выдержали его надругательство и тем лишили его предлога выполнить запланированную им расправу.
А в БУРе эта ночь прошла относительно спокойно.
Утром следующего дня в нашу камеру не входит, а влетает помощник начальника БУРа — заключенный Иван Горожанкин. Из кармана его штанов свисает нарочно так выставленное блестящее кольцо наручника, а из закатанного голенища кирзового сапога торчит ручка финского ножа.
— Ты! Ты! Ты! — выкрикивает Горожанкин, указывая на отдельных заключенных пальцем, — на работу! На работу!
А подойдя к нам, он весь задрожал от злости и сварливо начал:
— Ах вы, бандеры подлые, грязный ваш рот! Вы как сухими сюда вошли? Ну, хорошо! Сейчас я вами натешусь! А ну марш на работу! Ну! Вылетай! Живо!
Из другой камеры выводят семерых заключенных из тех, которые были посажены сюда за два дня до нас. Их лица опухли, в синяках. Один из них остался в камере, так как был так избит, что не мог подняться с нар.
Горожанкин скомплектовал из нас, карагандинцев, две пятерки, сковал одного с другим наручниками в первую пятерку, потом — другую и скомандовал сесть. Мы сели в болото. За нами стояли пятерками еще другие заключенные из норильчан: их Горожанки не сковывал.
Мы выжидающе сидим. Горожанкин отходит в сторону, долго молча разглядывает нас, затем резко вынимает из-за голенища нож, лезвие которого было обернуто липкой бумагой, захватывает лезвия обеими руками, подходит к нам ближе и бьет колодкой своего ножа кого попало.
Несколько утихомиренный Горожанкин отправил нас к вахте. Но вдруг он снова сатанеет и командует нам встать. Мы остановились и все одновременно сели в болото, так как если кто не сядет — будет битый!
Горожанкину легче было бить нас, когда мы сидели на земле. Он еще раз угостил нас всех колодкой своего ножа и скомандовал идти дальше. Я шел первым с правой стороны; Горожанкин оставался несколько сзади, и я не мог его видеть. Вдруг какой-то резкий ток ударил меня от затылка до глаз, а оттуда по всему телу до пят. В глазах потемнело. И мне стало казаться, что я теряю сознание. А это Горожанкин еще и на ходу так щедро угостил меня по затылку колодкою ножа.
От ворот вахты мы шли в сопровождении конвоя; Горожанкин уже никого не бил. На месте назначения Горожанкин снял с нас наручники, раздал нам ломы и лопаты и приказал копать ямы под столбы электролинии. Ямы должны были иметь размер метр на метр в сечении и метр глубины. Норма — десять ям на одного.
Я прокопал один слой талого грунта, а дальше — мерзлота. Горожанкин стоит рядом с конвоирами и подгоняет:
— Копайте, копайте, гады! Грызите мерзлоту! И чтобы мне был метр на метр, иначе я вас..!
В одном углу метрового квадрата я выдолбил небольшую яму, в которую сейчас же набежала вода. Ко мне подходит Горожанкин и интересуется, сколько я уже накопал.
— Так, так, — говорит он как будто вежливо и приветливо, — еще немного покопай и хватит; туда дальше копать не нужно; зачем даром мучиться. — А отойдя на безопасное расстояние, снова пригрозил: — Ну, гадина, смотри ж у меня! Чтоб был метр на метр!
В полдень Горожанкин неожиданно сказал нам становиться по пять, надел на нас наручники и отправил назад в зону. Дорогой стал издеваться:
— Ну что, духарики (ироничное: отважные, сильные духом), оказывается, что вы даже очень жиденькие. А как вас, было, разрисовали! Теперь вы уже показали, кто вы есть. Вчера мы вшестером гнали всю вашу свору по-пластунски от вахты до бараков и ни одна сволочь головы не подняла. С таким духом вам только под нарами сидеть!
А теперь, мужики, я скажу вам, почему вас так скоро сняли с работы. Вас разделят на две половины: 350 человек отправят в 4-е лаготделение, а других 350 оставят здесь. Как здесь, так и там вас раскидают по два-три человека во все бригады. Тогда вы уже никуда не денетесь; поодиночке мы вас всех в бараний рог скрутим!
В тот же самый вечер нас 350 человек отправили тундрой в 4-е лаготделение, а утром следующего дня все мы, каждый в своей новой бригаде, вышли на работу. Так мы вышли из внутренней изоляции и очутились в гуще заключенных 4-й и 5-й зон.
А где-то через две недели наши зоны молнией облетела весть: Горожанкину отрубили голову!
III. Смена климата
Грянула полярная зима. Работаем в две смены и без выходных дней. Сменяемся на рабочем месте, так что каждая смена продолжается двенадцать часов. Два часа тратим на дорогу туда и назад. По меньшей мере два, а сплошь и рядом и четыре-пять часов стоим перед вахтой в очереди, ожидая обыска. Тут холод пронизывает уже до костей и больно их сжимает. Стоим молча: никто не промолвит и единого слова, поскольку дорога каждая частичка энергии. Коротать время нам иногда помогает на удивление таинственное и захватывающее мерцание северного сияния. Мы так напряжённо следим за этой загадочной небесной игрой цветов, что нам кажется, что мы уже и слышим её, не только видим. Мне показалось тогда, что впечатление, которое производит на человека северное сияние, можно в какой-то степени передать с помощью музыки. Другие искусства тут просто бессильны.
Наконец мы подходим к вахте и, оторвавши глаза от неба, опускаем их на землю, падаем на колени и так подвигаемся всё ближе к обыскивающим надзирателям. Того, кто не упал на колени, а только присел или наклонился, бьют шваброй по голове. Иногда, если им вздумается, надзиратели бьют швабрами всех и каждого. Для этого специально подбирали надзирателей. Более всего среди них выделялся старшина Михник.
Перед надзирателями еле распахиваем одежду своими задубевшими руками и становимся уже на ноги. Нас тщательно обыскивают. Особенно придирчиво обыскивают тех заключённых, у кого номерной знак начинается на букву «У» или «Ф». Часто случалось, что нас задерживали на холоде до часу ночи, а в шесть утра надо уже вставать и снова идти на работу, ибо «труд облагораживает человека!»
Кое-кого, однако, не допускали к труду, а для профилактики и острастки сажали в тюрьму. Горлаговская тюрьма находилась при нашей зоне. Тут, как и во всех других тюрьмах Норильска, была глубоко укоренившаяся традиция: каждый, кто попадает в тюрьму, должен пройти через молотобойку, то есть через камеру, где сидят откормленные суки, единственная задача которых — избить каждого, кого к ним бросят.
Молотобойка была своеобразным приютом для тех сук, которые убегали из зоны, чтобы избегнуть мести со стороны разгневанных заключённых. Так что не удивительно, что они с такой неудержимой злобой набрасывались на каждого, кто попадал им в руки.
Однажды, когда в молотобойке обрабатывали свежую жертву, заключённые, сидевшие в соседней камере, подняли безудержный шум. Они кричали, свистели и били твёрдыми предметами в двери. Им немедленно ответили автоматной очередью. В наибольшей опасности — даже удивительно, как уцелел — был там мой односельчанин Степан Филипчук. Не погиб никто, однако все притихли.
Суки всеми силами поддерживали лагерный режим и сотрудничали с администрацией потому, что привольно жить в лагере они могли только в условиях самого сурового режима и насилия. Опять же администрация всегда поддерживала сук и оказывала им протекцию, потому что без их помощи она не могла бы удерживать режим на уровне поставленных перед нею задач.
И всё же молотобойцы не могли вечно сидеть в своих камерах — как бы там ни было, а это всё же тюрьма — и, когда считали, что опасность для них миновала, выходили в зону.
Так как-то вышел из тюрьмы молотобоец Сикорский. Он сразу возглавил бригаду и вывел её на работу. Но не успела ещё бригада приступить к работе, как бригадира не стало. Он лежал на снегу мёртвый, без каких-либо следов ранения.
У молотобойцев опустились руки.
Но самой большой грозой для заключённых нашей зоны был не Сикорский, а Бухтуев. Этот здоровяк никогда не искал укрытия в молотобойке. Он не боялся никого; его боялись все. Все перед ним широко расступались и далеко его обходили. Но в конце концов нашлись такие, что не уступили ему дороги, а пошли на него… И хоть Бухтуев не погиб, а только был тяжело ранен, в его психике произошли радикальные изменения: он сам стал бояться — поголовно всех!
Но начальство не оставило его на произвол судьбы (мог ещё понадобиться), а спрятало в БУРе одного из лаготделений Норильлага. (Норильлаг — лагерь для уголовных преступников. <Это не совсем так: в Норильлаге было немалое число «политических»; Горлаг же был предназначен для «особо опасных» государственных преступников. Но по каким критериям администрация определяла «особую опасность» заключенных персонально, не знала, возможно, она сама. — Ред.>) Таким образом Бухтуев оказался, как любили зло шутить заключённые, «на даче». Он оказался лёгким на руку: число «дачников» стало быстро расти и достигло приблизительно тридцати человек.
Управление Горлага не могло примириться с таким положением. Конкретных виновников смерти Горожанкина, Сикорского и ранения Бухтуева установить не удалось. Заработала следственная тюрьма. Заподозренных пропускают через молотобойку и тащат на допросы. На вопросы следователей заключённые не отвечают, а требуют упразднения молотобоек.
И произошло невероятное: молотобойки упразднены!
Никто больше не боится бригадира, никто не таится разговаривать на своём языке. Климат в Норильских лагерях явно изменился, но подполковнику Сарычеву и тем, кто с ним, он пришёлся явно не по вкусу. Да, теперь этот климат не нравился им.
IV. Восстание
Мы понимали, что ГУЛАГ не потерпит такого положения и примет против нас решительные меры. Но мы были готовы ко всему, только не к сдаче занятых позиций. Русские предложили, чтобы мы совместно с ними подготовили к побегу трёх заключённых, которые могли бы перейти границу и проинформировать мировую общественность о нашем положении.
Но подготовка группы, которой с нашей стороны занимался автор этих строк, а с русской — бывший старший офицер русской армии Пётр Дикарев, проходила очень вяло; за всю зиму мы практически не сделали ничего. Причиной тому было то, что между нами и русскими не было к тому времени необходимого в таких случаях доверия.
Внезапно умирает Сталин. Заключённые надеются на амнистию. Но впустую. Как настоящие большевики, наследники Сталина не имели ни малейшего намерения склоняться в сторону гнилых либеральных реформ. Советская власть и дальше будет твёрдой, непоколебимой и беспощадной.
В такой ситуации те заключённые, что не полагались на милость Москвы, оживили подпольную деятельность, которая велась в Норильске на протяжении уже нескольких лет.
Русские заключённые тоже сумели оценить сложившуюся ситуацию и потому хотели объединить все подпольные группы в один кулак. Идея была неплохая, но в тогдашних условиях она оказалась нежизненной из-за наших расхождений с русскими. Проиллюстрирую это на собственном опыте.
Как-то на Горстрое ко мне подходит один из очень активных, умных и рассудительных русских заключённых — Владимир Заонегин — и говорит:
— Знаешь, Евгений, мы, русские, решили собраться в узком кругу с тем, чтобы наметить дальнейшие пути борьбы против большевизма. Мы хотим, чтобы среди нас был и ваш представитель. Мы можем принять тебя или поговори там со своими, и кого вы пришлёте, того мы примем. Больше одного принять не сможем, поскольку ты сам понимаешь, что это должен быть очень узкий и хорошо законспирированный круг.
— Хорошо, — отвечаю я, — этот замысел я одобряю, но прежде, чем дать вам ответ, мы хотели бы знать ваши мысли относительно отделения Украины от России.
— О нет! Нет! — категорически возразил Заонегин. — Про это и речи не может быть!
— В таком случае, — ответил я, — хотя я ещё ни с кем не говорил, но могу уже дать вам наш ответ. А ответ такой: ни я, ни кто-либо другой из нас на ваше сборище не придёт. Мы не хотим класть свои головы только за то, чтобы сменить цвет нашего хомута; мы хотим сбросить его с нашей шеи!
На этом и кончилось. Заонегин насупился, молча отвернулся от меня и пошёл прочь. Больше я его никогда не видел.
Тем не менее, невзирая на все наши разногласия, обстоятельства вынудили нас, хотя бы на некоторое время, собраться в один кулак. У нас начали стрелять без предупреждения. Так, на Горстрое конвоир, без каких-либо на то оснований, застрелил заключённого, подносившего к своему рабочему месту доску. Через некоторое время из тюрьмы берут одного заключённого, выводят в тундру и там «при попытке к бегству» расстреливают.
Но это было только испытание нервов или разведка боем. Генеральное наступление началось лишь тогда, когда генерал Семенов, начальник управления Горлага, вернулся из своей очередной поездки в Москву.
Начало было такое: в 5 м лаготделении спешно отгородили несколько бараков под штрафной лагпункт и так же спешно начали свозить туда всех подозрительных и непокорных заключённых. Одновременно в нескольких зонах провели серию расстрелов. Так, в 1 м лаготделении расстреляли двоих человек (стрелял ст. лейтенант Ширяев), в 4й — одного. Это был Эмиль Софронюк (из украинских немцев).
25 мая 1953 года мы выходим на работу. Все угнетены; к работе не приступаем. Вдруг возле 5й зоны, находившейся неподалёку от Горстроя, затрещал автомат. Мы почему-то были уверены, что и на этот раз без жертв не обошлось. Наконец узнаём, что один убит, а шестеро ранено.
Некоторые заключённые, которые приступили было к работе, опустили руки. Вся работа на Горстрое стихийно остановилась. Люди беспорядочно забегали, засуетились. Наиболее активные заключённые начали выкрикивать: «Нас убивают! Не будем работать! Вызовем из Москвы комиссию!»
Но по мере того, как первоначальный порыв возмущения ослабевал, разбушевавшаяся стихия стала успокаиваться. Особо боязливые и осторожные возобновили работу. По всему Горстрою то тут, то там начали тарахтеть, вгрызаясь в вечную мерзлоту, вездесущие перфораторы, словно извещая о возобновлении работы.
Нам, сторонникам забастовки, нужно было во что бы то ни стало остановить работу, ведь теперь у нас был именно тот инцидент, который задел за живое каждого и которого мы ждали ещё в Караганде. Упустить такой подходящий случай было бы для нас непростительным грехом.
Поэтому мы небольшими группами разбрелись по всей стройплощадке, чтобы уговорить тех, кто возобновил работу. Люди слушали нас, соглашались с нами, но, вслушиваясь в тарахтение перфораторов, которые не могли смолкнуть враз, снова приступали к работе. Все наши усилия были тщетны. Наконец мне пришла мысль пойти на компрессорную станцию, которая давала сжатый воздух для всего Горстроя, и остановить её. Все перфораторы замолчали. Вслед за ними остановилась и вся остальная работа. И на этот раз уже окончательно!
Так наше стихийное возмущение превратилось в организованное выступление.
(На импровизированном митинге было решено бастовать, не покидая производственную зону Горстроя, до тех пор, пока сюда не прибудет специальная комиссия из Москвы — местному руководству доверять нельзя — для расследования творящихся беззаконий. — Ред.)
Руководство Горлага притихло. В нас уже никто не стреляет, более того — даже не угрожает. Но нас решили взять голодом. На Горстрой не привозят еду — один день, другой, третий.
Утром на третий день к нам в сопровождении подполковника Сарычева и ещё нескольких старших офицеров подошёл генерал-майор Панюков, который специально прилетел сюда из Красноярска. Он властно и самоуверенно потребовал, чтобы мы вышли на работу, а он, мол, расследует все нарушения законности, которые тут случились.
Мы не согласились с ним и заявили, что приступим к работе только тогда, когда из Москвы в Норильск прибудет правительственная комиссия.
— Вы срываете государственный план! — начал угрожать Сарычев, — Горстрой уже три дня простаивает! Это уже саботаж! Не хотите работать, так чёрт с вами, не работайте! Отправляйтесь в свои зоны и там дожидайтесь комиссии, а мы приведём сюда других работников. Люди у нас есть.
— Грицяк, — обратился он ко мне, чем дал мне понять, что за всё это я понесу ответственность, — выводите людей из Горстроя!
— Тут никакого срыва плана нет, — ответил я. — Прикинем: с конца войны (войну в расчёт не берём) прошло семь лет. За всё это время заключённые Норильска не имели ни одного выходного дня. Выходит, что мы опередили график работ больше, чем на четыреста дней. Так про какой срыв плана вы говорите?
Сарычев помолчал какое-то время, а потом обратился уже ко всем:
— Отправляйтесь в лагерь, — уговаривал он. — Тут вы голодные, а там вас ждёт ваша пайка. Вот и идите.
Мы не шли ни на какой компромисс. Но, тем не менее, много заключённых начало всё-таки склоняться к тому, чтоб возвращаться в лагерь. Голод, как говорят, не тётка. К тому же у курильщиков исчерпались все запасы махорки, что ещё больше донимало их, чем голод.
Для того, чтобы как-то помочь этой беде, на одном из домов, которые мы строили, установили надпись: «Нас убивают и морят голодом!»
Надпись сделала своё дело: в тот же день нам привезли ужин, но к нему уже никто не притронулся. Большинство заключённых всё настойчивее настаивало на немедленном возвращении в лагерь. <Что ж — надо возвращаться. Но прежде, чем вернуться в жилую зону, договорились с заключёнными 5-го лаготделения, что будем продолжать нашу борьбу в лагере.
В своей 4й зоне мы застали такую картину: в знак солидарности с нами все заключённые, которые были в зоне, объявили голодовку и уже три дня голодали. Теперь мы договорились, что голодовку прекращаем, но утром на работу не выходим.
Мы делали своё, а администрация лагеря — своё. Утром, словно ничего и не было, по всем баракам затрещали электрозвонки, оповещая, когда какой колонне подходить к вахте. Наша зона делилась на четыре колонны. Первой подходила к вахте 1я колонна, за ней вторая, третья, четвёртая. Я был в четвёртой колонне, которая всегда подходила к вахте последней. В нашем бараке, как и было условлено, никто на работу не готовился, и мы полагали, что так всюду. Но ко мне прибегает один заключённый и говорит, что первая колонна уже выходит на работу. Это был явный провал. Я побежал к вахте.
Увидев, что за открытыми воротами уже стоит группа заключённых первой колонны, а другие готовы к выходу, я подхожу к старшему надзирателю, командовавшему разводом на работу, и неожиданно для всех придираюсь к нему:
— А это что такое? — спрашиваю. — Кто дал вам право выпускать людей на работу? Что это за самоуправство? А ну закрывайте ворота!
— А вы, бараны, куда? — обратился я к заключённым. — На зарез? А ну марш все по баракам, чтоб ни одной ноги тут не осталось!
Все разбежались по баракам; те, что уже были за воротами, вернулись в зону. Ворота закрылись; развод на работу был сорван.
Электрозвонки на протяжении многих лет вызывали заключённых 4го лаготделения на работу и были заменителями команды; вылетай без последнего! Прозвучал звонок и — все на работу! Так называемых отказчиков от работы в Норильске не признавали. Все индивидуальные протесты подавлялись немедленно и крайне жестоко.
Как-то один заключённый 4й зоны решил не выйти на работу. А чтобы его не выпихнули из барака силой, он лёг на нары раздетый. На дворе трескучий мороз. По окончании развода надзиратели стянули его с нар, выволокли на улицу, затолкали в деревянный бушлат — ящик для вывоза трупов, — бросили туда его одежду и, вывезя на санях за вахту, выворотили его на снег. Бедняге не оставалось ничего иного, как второпях одеться и пойти в сопровождении спецконвоя на работу.
Шесть других заключённых, которых привезли под конвоем в баню 5й зоны, отказались одеваться и выходить из зоны, пока не увидят прокурора. Но вместо прокурора они увидели старшего сержанта, который стал перед ними с автоматом в руках.
— Вот вам прокурор! — сказал старший сержант и расстрелял всех шестерых на месте.
Таким способом в Норильске — и не только в Норильске — подавляли любую идею протеста в самом её зародыше; все попытки протеста имели только негативные последствия.
Потому-то и не удивительно, что заключённые 4й зоны, хотя и помимо своей воли, а всё-таки выходили из бараков, как только прозвучал зловещий сигнал — вылетай!
На шестой день я подозвал Васыля Дерпака и сказал ему, чтобы он хорошенько осмотрел сеть сигнальных электропроводов и повредил её. Через 10–15 минут довольный собой Дерпак вернулся и доложил, что все электропровода оборваны.
Электрозвонки замолкли, и теперь уже никто и не думал собираться на работу.
Руководство лагеря усилило внешнюю охрану, но к каким-либо решительным действиям не прибегало. Только в 5 м лаготделении администрация попробовала напустить на заключённых конвоиров, вооружённых дубинками. Но все попытки взять заключённых «голыми руками» не дали никакого результата. Внутренний надзор администрации мы полностью парализовали и распоряжались собой сами.
Используя такое бесконтрольное положение, мы поставили на сцене лагерного клуба пьесу Тараса Шевченко «Назар Стодоля». Эта пьеса была подготовлена ещё до начала забастовки, но, увидев подготовленную к 1му действию сцену, начальник культурно-воспитательной части запретил ставить её из-за того, что там, как он выразился, слишком много украинского патриотизма. А теперь эта пьеса имела такой бешеный успех у заключённых, что её пришлось ставить шесть раз!
Так начиналась и разворачивалась наша борьба. А теперь предоставлю слово секретным документам того времени, которые дают нам представление о взгляде на нашу борьбу и реакцию на неё со стороны тюремного управления. Эти документы были опубликованы в московском журнале узников тоталитарных систем «ВОЛЯ», № 1 за 1993 год (публикации А.Дугина)
По состоянию на 6 часов утра 30 мая с. г. в 4, 5, 6 лаготделениях обстановка остаётся без изменений. Заключённые из трёх лаготделений по-прежнему никаких активных действий не проявляют, питание не принимают
М. Кузнецов
30 мая с. г. тт. Звереву, Семенову и Коваленко дано указание: заключённым, отказывающимся принимать пищу, питание не выдавать, что приведёт к ослаблению их сопротивляемости и ускорит ликвидацию неповиновения. К отказчикам от работы физического воздействия не применять.
Перевод агентуры в лагерные отделения 4, 5 и 6 из других лагерных отделений для разложенческой работы не следует, используя для этих целей проверенную агентуру из числа заключённых 4, 5 и 6 лаготделений….
Начальник Тюремного управления МВД СССР,
полковник Кузнецов
Агентура в политических лагерях была довольно-таки многочисленной. В нашей 4й зоне были выявлены списки всех агентов оперчекистского отдела. Там насчитывалось 620 агентов, т.е. завербован был каждый пятый заключённый. Это та самая норма, что была введена среди всего населения великого Советского Союза, где так «вольно» дышал человек!
И нет ничего удивительного в том, что оперчекистский отдел был уверен, что без его ведома никакое организованное выступление заключённых невозможно. А когда это невозможное стало возможным и даже совершившимся фактом, чекисты схватились за головы и до конца существования Советского Союза спрашивали нас: «Как вам удалось это организовать?»
«Проверенная агентура» не оправдала надежд оперчекистского отдела, по-видимому оттого, что все агенты поступали на свою «службу» принудительно. Их вербовали с помощью таких испытанных методов, как обещания, угрозы, пытки. Один из них, врач С., рассказал, что его подвесили к перекладине вверх ногами и не опустили, пока он не дал своего согласия.
Такие люди, как пишет Алла Макарова в уже упоминавшемся журнале «ВОЛЯ», «несли двойное бремя заключения». Поэтому одни только числились в списках, другие работали как попало, а те, что и хотели бы прислужиться, не могли ничего знать. Потому-то агентура и не сработала; она тоже хотела свободы.
В такой непривычной для себя ситуации администрация лагеря оказалась беспомощной, что и привело к вызову комиссии из Москвы. Про этот факт красноречиво свидетельствует следующий документ.
Документ № 9.
…Учитывая, что все ранее предпринимавшиеся нами меры результатов не дали, а местные условия не дают возможности предпринять какие-либо другие меры, которые бы обеспечили успешную ликвидацию сопротивления и наведение порядка в лагере, прошу направить комиссию из центра.
Заместитель начальника Тюремного управления МВД, полковник Клеймёнов
И вот 6го июня в нашу зону вошла группа высокопоставленных лиц. Один из них, в чине полковника, выступил вперёд и сказал:
«Москве стало известно про беспорядки, которые творятся в Норильске, в том числе и в вашем 4 м лаготделении. Для того, чтобы выяснить положение на месте, Москва откомандировала сюда Правительственную Комиссию. Председателем комиссии назначен я — полковник Кузнецов, начальник Тюремного управления МВД СССР, личный референт Лаврентия Павловича Берии. Члены комиссии: начальник конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенант Сироткин и представитель ЦК партии товарищ Киселёв. Поскольку мы с вами всеми переговорить не сможем, то предлагаем выделить из своей среды пятерых представителей, которые изложили бы нам все ваши претензии. Гарантируем, что никто из ваших парламентёров не будет репрессирован».
Комиссия не застала нас врасплох. Мы требовали её вызова, надеялись, что она прибудет, поэтому заранее были готовы к разговору с нею. Было разработано два варианта нашего поведения с нею. Какой из них выбрать — должно было зависеть от нашего ощущения настроения и намерений самой Комиссии: если мы увидим или как-то почувствуем, что Комиссия пришла с явно агрессивными намерениями, то мы должны были ограничиться только жалобами на наше нестерпимое положение. А если комиссия отнесётся к нам лояльно и будет готова выслушать нас, то мы, помимо всех наших жалоб, должны были выдвинуть и ряд требований политического характера.
Группа представителей укомплектовалась очень быстро. Украинцев представлял я, русских — Владимир Недоростков, белорусов — Грыгор Климович. Фамилии ещё двух представителей не были мне известны. Через некоторое время к нам присоединились ещё двое заключённых. Один из них был тоже украинец Мирослав Мелень.
Тем временем возле вахты и, для большей безопасности, недалеко от сторожевой вышки уже стоял накрытый красной скатертью стол, за который сели члены Московской комиссии вместе со своим секретарём.
Вот и мы медленно, руки назад, подходим к столу. Один из членов комиссии, которого Кузнецов назвал товарищем Киселёвым, указывает на меня пальцем и спрашивает: «Фамилия? Фамилия?» Я молча смотрю на свой номерной знак. Кузнецов понял намёк и говорит: «Зачем тебе его фамилия? Не видишь — номер У777? Вот это и есть вся его фамилия». А повернувшись лицом ко мне, добавил: «Ну, ничего. Мы снимем с вас эти номера; они не нужны ни вам, ни нам. Садитесь и рассказывайте. И, кстати, вы сами сюда пришли или вас народ прислал?»
Я показал рукой на заключённых, стоявших на расстоянии тридцати-сорока метров сплошной стеной, и сказал: «Спросите!»
— Ну, хорошо, хорошо, верим, — сказал Кузнецов, признавая нас полноправными представителями. — Говорите, мы слушаем.
Тут к столу подошёл начальник Управления Горлага генерал Семенов. Я заявил, что в его присутствии мы говорить не будем.
— Семенов! — гаркнул на него Кузнецов, — а ты чего тут стал? А ну убирайся отсюда!
Вот как эта встреча отражена в документах МВД:
Совершенно секретно
Справка
6го июня 1953 года бригадой работников МВД СССР была проведена беседа с представителями, выделенными заключёнными 4го лаготделения Горного лагеря. В качестве представителей от заключённых выступали: Гальчинский, Недоростков, Грицак, Генк, Климович, Мелень, Дзерис.
Беседа длилась в течение 3х часов. В начале беседы заключённые заявили о том, чтобы местное лагерное руководство не присутствовало, а затем спросили, с кем они будут говорить, на что получили ответ, что говорить они будут с комиссией, назначенной Л. П. Берия.
Зам. нач. 5 отдела УМВД Красноярского края — капитан г/б
/Сигов/
(Примечание: этот документ взят не из упомянутого журнала «ВОЛЯ», а получен автором лично.)
Семенов «убирается», а я начинаю рассказ с вопиющих фактов нарушения законности в Горлаге ещё в 1946 году. Побагровевший от ярости Кузнецов перебивает меня:
— Про что вы нам рассказываете? Вы сами-то когда сюда приехали?
— Ещё и года нет, — отвечаю. — Но я говорю вам то, на что меня уполномочили люди, вон там стоящие перед вами. Это все они вам говорят.
Кузнецов больше не перебивал меня, а я, высказав ему все жалобы, продиктовал наши требования, которые звучали приблизительно так:
1. Прекратить расстрелы и все другие проявления беззакония в лагерях.
2. Заменить всё руководство Горлага.
3. Сократить рабочий день в лагерях ГУЛАГа до 8ми часов.
4. Гарантировать заключённым выходные дни.
5. Улучшить питание заключённых.
6. Разрешить переписку и свидания с родными.
7. Вывезти из Норильска на материк всех инвалидов.
8. Снять с бараков замки и решётки, а с людей — номерные знаки.
9. Отменить решения так называемого Особого совещания как неконституционного органа.
10. Прекратить пытки на допросах и практику закрытых судебных процессов.
11. Организовать пересмотр «дел» всех политзаключённых.
В заключение этих переговоров Кузнецов заявил, что он доведёт до ведома правительства все наши требования и, заверив, что стрелять в нас больше не будут, предложил нам выйти на работу. Мы согласились.
Позднее Кузнецов провёл подобные переговоры с представителями 5го, 6го и 1го лаготделений Горлага. Заключённые 3го (каторжного) лаготделения полномочий Московской комиссии не признали.
Особенно стойкими в этой неравной борьбе оказались женщины 6го лаготделения, которых насчитывалось там свыше шести тысяч. В дополнение к забастовке они объявили голодовку и голодали до прихода комиссии целых шесть дней.
9 июня все лаготделелния, за исключением 3го, приступили к работе. В тот же день Кузнецов известил нас, что правительство рассмотрело наши заявления и постановило:
1. Заменить руководство Горлага.
2. Сократить рабочий день до 8ми часов.
3. Гарантировать выходные дни.
4. Разрешить заключённым отсылать по два письма в месяц и иметь свидания с родными.
5. Снять с бараков замки и решётки, а с одежды заключённых — номерные знаки.
6. Вывезти из Норильска всех инвалидов.
— Кроме того, — добавил Кузнецов, — советское правительство заверило, что со временем будут пересмотрены все дела осуждённых.
Так закончился первый этап нашей борьбы, которая по своему размаху и значению вышла далеко за рамки обычной забастовки.
V. Возобновление борьбы
Мы высоко подняли головы, а наши каратели понурились. Как-никак, а данное нам обещание заменить всю администрацию лагеря не предвещало для них ничего хорошего. И впрямь, скоро нас известили, что генерал-майор Семенов снят с должности начальника Управления и назначен его заместителем. Новым начальником назначен генерал-майор Царёв. Кроме этого, нам сказали, что ст. лейтенант Ширяев и старшина Бейнер, которых мы обвиняли во многих убийствах заключённых, сидят уже в тюрьме.
Но всё это делалось так, для вида. Семенова не заменили, только понизили в должности, про Ширяева и Бейнера мы знали только то, что нам было сказано. А на самом деле? Поэтому мы не могли успокоиться. Мы хорошо знали, какой будет наша судьба после того, как комиссия вернётся назад в Москву, а мы снова окажемся с глазу на глаз со старой администрацией.
Комиссия, однако, не торопилась покидать Норильск. Каторжники 3-го лаготделения всё ещё сопротивлялись. Разгневанный Кузнецов пробует морить людей голодом. В зону перестали завозить продукты, перекрыли воду. Каторжники решили известить об этом население города. Среди них нашёлся специалист по типографскому делу Петро Мыколайчук из Умани, который мастерски выдолбил на камне разные тексты для листовок. Люди принесли все свои запасы бумаги, и начался массовый выпуск листовок. Некоторые листовки писались просто от руки. Первая серия этих листовок сообщала населению города про то, что заключённых морят голодом, не дают воды.
Листовки разбрасывались по городу оригинальным способом. Семь бумажных змеев, поднимаясь вверх, несли с собой до 300 листовок каждый. Листовки подвязывались под змеем скрученными в трубку и перевязанными ниткой. Из-под нитки свисал подожжённый ватный фитиль. К тому времени: когда змей поднимался достаточно высоко, фитиль догорал и пережигал нитку; листовки рассыпались во все стороны. А дальше ветер разносил их по всему городу и даже далеко за его пределы. Некоторые из них долетали даже до Игарки.
Конвоиры пробовали стрелять по змеям. Случалось, и попадали, но это не прерывало их полет. Так на Норильск было выпущено около сорока тысяч листовок. В городе были созданы специальные комсомольские бригады, которые эти листовки собирали.
Однако уже первая серия листовок сделала своё дело: в зону завезли продукты, пустили воду.
Ободрённые своим успехом заключённые 3го лаготделелния ежедневно извещали население города о состоянии своих дел и о своих требованиях к правительству. Для ознакомления приведу некоторые образчики этих листовок.
Нас расстреливают и морят голодом
Мы добиваемся вызова Правительственной Комиссии. Мы просим Советских граждан оказать нам помощь — сообщить правительству СССР о произволе над заключенными в Норильске
Каторжане 3го отд.
Солдаты войск МВД!
Не допускайте пролития братской крови
Да здравствует мир, демократия и дружба народов.
Каторжане Горлага
В ночь на 29 июня пьяные офицеры — Полостяной, Калашников, Никифоров и другие — ворвались с оружием в лагерь и приказали солдатам открыть огонь по беззащитным.
Советские граждане! Сообщите правительству! Предотвратите очередной Рюминский произвол.
Каторжане Горлага.
Граждане цементного, кирпичного, известкового завода, не верьте отщепенцам, которые бросили своих братьев по заключению и по приказу капитана Шахматова наговаривают на них напраслину, якобы мы хотим вырваться за зону и Вас всех побить и изнасиловать. Мы с вами работали на заводах, разве мы вольнонаемных хоть одного оскорбили или обидели?
Позор предателям, убежавшим из зоны: Силецкому, Аржанову, Яковлеву, Спасебе, Махутину.
Каторжане Горлага
Примечание: образцы этих листовок получены автором в музее города Норильска в 1993 году во время презентации музея. Среди многочисленных экспонатов, которые освещают события 1953 года, там, над головами посетителей, гордо возвышается один из тех легендарных змеев, что в своё время поднимали высоко в воздух свёртки листовок каторжан.
Однако Кузнецов не мог сосредоточить всё своё внимание на одном 3 м лаготделении, потому что, наверное, побаивался, что другие лаготделения могут снова восстать; на этот раз уже в знак солидарности с каторжанами. Поэтому он сперва решил учинить расправу над инициаторами и активистами сопротивления в тех лаготделениях, где борьба уже была прекращена.
А тем временем из Москвы в Норильск прибыл помощник Генерального Прокурора государственный советник II ранга Вавилов.
Расправа над нами началась таким образом: 22 июня из 5го лаготделелния в 4е переводят «по хозяйственным соображениям» семьсот заключённых. Этапный список был составлен так, что в него, кроме обычных, ни в чём не замеченных заключённых, входили все те, кто подлежал немедленной изоляции. Вели их под конвоем, но не всех сразу, а отдельными группами, по сто человек в каждой. И провели их напрямик через тундру. Посреди тундры, в ложбине, так, чтобы ниоткуда не было видно, первую группу встречает полковник Кузнецов с членами своей комиссии и группой офицеров и надзирателей Горлага. От группы отделяют пятерых заключённых и под спецконвоем отводят в неизвестном направлении. Остальных приводят в нашу 4е лаготделение. Через такую процедуру отсева прошли все семь групп заключённых, переведенных к нам из 5го лаготделения.
Таким образом, расправа, которую мы ожидали лишь после того, как Московская комиссия покинет Норильск, началась не только в присутствии Комиссии, но под её непосредственным руководством. Мы поняли, что это было только начало, что такой отсев неминуемо произойдёт во всех лаготделениях, и почему-то верили, что расправа над нами будет «мокрой».
— Их всех перестреляют! — обратился я к заключённым, которые прибыли из 5го лаготделения. — Мы должны их спасать! Сделаем так: вы подходите к вахте и требуете, чтоб вам вернули их всех назад. Если их не вернут, вы не выходите на работу, а мы, в знак солидарности с вами, тоже не выйдем. Надо дать им ощутить, что с нами нельзя делать всё, что им вздумается.
Но заключённые 5го лаготделения моё предложение отклонили. Возможно, их отношение к этой проблеме обусловливалось, в первую очередь, инстинктом самосохранения. Теперь, когда над их головами буря уже пронеслась и их не задела, они предпочитали притихнуть, чтобы, чего доброго, не накликать на себя новую беду. Никто уже не хотел рисковать своей жизнью.
Мы волей-неволей приготовились к выходу на работу, но ещё ожидали прихода с работы нашей первой смены. Вдруг по всем баракам затрещали электрозвонки, забегали надзиратели, торопливо подгоняя людей к вахте.
Я пошёл к вахте, а несколько заключённых вскарабкались на крышу самого высокого барака, чтобы проследить, что делается на Горстрое, где работала наша первая смена.
Ворота вахты уже открыты; возле них стоит начальник лаготделения ст. лейтенант Власов.
— Что это такое, Власов? — спрашиваю его.
— Как это что? Обычный выход на работу, — отвечает он.
— А почему вы его раньше времени начинаете?
— Это не раньше времени. Вам уже пора выходить.
— А вы знаете, что после того, как у нас введен восьмичасовый рабочий день, мы выходим на работу только тогда, когда с работы придёт наша первая смена?
— Первая смена уже идёт. Вы с нею встретитесь.
Тем временем наблюдатели с крыши сообщили, что с Горстроя ещё никто не вышел.
— Неправда, — возразил я Власову. — С Горстроя ещё никто не вышел. Так что знайте, что пока в зону не войдёт наша первая смена, мы на работу не выходим!
Власов пошёл к телефону, а я остался караулить возле вахты. С крыши сообщили: с Горстроя вышла группа заключённых, около ста человек, и направилась в тундру.
Ко мне подходит Власов и говорит:
— А теперь ваши уже идут. Выходите и убедитесь, что это правда.
— С Горстроя вышло сто человек, и их повели не в лагерь, а в тундру, — говорю я Власову. — Я ещё раз заявляю вам, что мы не выйдем на работу до тех пор, пока не увидим их всех вот здесь и не убедимся, что ни с кем ничего плохого не случилось.
Увидев, что первую группу людей конвой повёл в тундру, а не в лагерь, остальные заключённые нашей первой смены отказались выходить с Горстроя.
Таким образом, план отсева заключённых смены 4й зоны не только провалился, а и вызвал новую волну организованного протеста.
Вскоре та группа заключённых, которую с Горстроя повели было в тундру, подошла к вахте. Это была последняя попытка администрации лагеря выправить положение.
— Ну вот, Грицяк, — говорит Власов. — Люди пришли; выходите на работу!
— Пришло сто человек, — отвечаю ему, — а на работе свыше двух тысяч. Где остальные?
— Нас не сто, — услышав мой разговор с Власовым, отозвались из-за вахты заключённые, — семерых от нас в тундре забрали!
— В таком случае, — заявил я Власову, наш разговор закончен. На работу мы не выйдем до тех пор, пока вы не вернёте нам тех семерых, которых так по-бандитски у нас выкрали.
Обернувшись к заключённым, толпившимся неподалёку, я пояснил им всю сложившуюся ситуацию и посоветовал отойти от вахты и не выходить на работу.
Все разошлись. 93 человека из первой смены вошли в зону. Начался второй этап нашей борьбы за право жить.
К той группе заключённых 4го лаготделения, что осталась на Горстрое, прибыла ещё одна комиссия во главе с ближайшим помощником Берии — генералом Гоглидзе. Гоглидзе потребовал, чтобы все заключённые покинули Горстрой и вернулись в свое лаготделение. В ответ заключённые выдвинули требования освободить из лагерей и реабилитировать тех заключённых, которые были участниками или жертвами Отечественной войны, отменить 25летние сроки заключения, освободить осуждённых за происхождение (дворян, детей кулаков и т. п.), а также всех тех, кто до 1939 года не имел советского гражданства, тех, что осуждены за намерения, а не конкретные действия, по подозрению и т. п.
Генерал Гоглидзе, разумеется, решить эти вопросы сам не мог. Поэтому все торги с генералом закончились тем, что заключённые согласились вернуться в свою зону, но с условием, что их не будут разбивать на группы, а отправят всех сразу.
Заключённые 5го и 6го лаготделений были солидарны с нами и также возобновили свою борьбу.
Мы как-то интуитивно чувствовали, что борьбу обязательно нужно продолжать, что наши достижения нестабильны, что уступки, на которые так легко пошла Москва, были только маневром для оттягивания времени, а за ним неминуемо наступит расправа над нами и новое ужесточение режима.
Для этих опасений у нас были весомые основания. Мы хорошо знали, что любая попытка организованного или индивидуального протеста в лагерях заканчивалась для протестовавших трагически. До нас доходили слухи о том, что в одном из лагерей близ Салехарда за попытку организованного протеста было расстреляно четыреста человек.
А мой близкий земляк, Борис Горбулевич, рассказал нам, что в 1947 году в одной из зон так называемого Ивдельлага случилась такая история:
Бывший полковник красной армии, заключённый Вишняков, как-то высказал своё возмущение по поводу произвола и издевательства над заключёнными со стороны лагерной администрации. За это его немедленно посадили под следствие. Вместе с ним под следствием оказалось ещё 29 бывших армейских офицеров и двое заключённых, никогда не имевших отношения к армии. Одним из них был и Борис Горбулевич. Вся эта группа, руководителем которой считался полковник Вишняков, обвинялась в том, что она поддерживала связь с иностранной разведкой и имела задание свергнуть советскую власть. План свержения был крайне прост: группа Вишнякова организует нападение на охрану своей зоны, разоружает её и раздаёт оружие остальным заключённым. Вооружённые заключённые нападают на соседние зоны, снова разоружают охрану, вооружают освобождённых заключённых и тогда уже объединёнными силами захватывают город Свердловск. В Свердловске Вишняков провозглашает временное правительство, организует поход на Москву и — точка!
Про «план» Вишнякова немедленно известили Москву. Перед следствием поставлено задание как можно быстрее добиться признания от всей группы. Следствие было проведено мастерски: все 32 заключённых не только признали свою вину, но и указали, где, когда и от кого получали задания.
Поскольку выстоять перед напором следствия никто не мог, то все решили «сознаться» и нарочно плели такую бессмыслицу, чтобы потом, во время судебного рассмотрения, легко было всё отрицать и поставить следствие в дурацкое положение.
Так, полковник Вишняков припомнил эпизод из одного детективного романа и использовал его для своего «признания». Он назвал ресторан в городе Гданьске и фамилию агента, который дал ему там задание. Название ресторана и имя агента он взял из романа.
Другой заключённый, бывший курьер Коминтерна Трибрат, назвал фамилию и венский адрес реального лица, то есть генерального секретаря австрийской компартии, которому он, Трибрат, доставлял в своё время коминтерновскую почту. Таким образом глава австрийских коммунистов превратился в агента американской разведки.
По завершении следствия из Москвы в Ивдель приехала специальная комиссия, чтобы собственными глазами увидеть таких опасных бунтарей.
Наконец начался суд. Но, к великому удивлению присутствующих суд признал все их предварительные показания достоверными и принял их за основу. Все получили по 25 лет лишения свободы (расстрелы тогда были временно отменены).
А что будет с нами теперь, когда мы, действительно, всколыхнули весь Норильск и бросили вызов самой Москве?
Но что бы там нам ни грозило, мы решили бороться, сколько хватит у нас сил. Первым шагом было объявление траура по всем тем, кого забрали от нас на расправу. В ознаменование этого события выставили два чёрных знамени на самых высоких бараках нашего лаготделения. На бараках 5го лаготделения тоже появились такие же чёрные знамёна.
Эти знамёна раздражали администрацию больше, чем сам факт нашего невыхода на работу. А ко мне подходило множество заключённых с вопросом, что означает чёрное знамя. Я объяснял, что это знак траура по тем, кого от нас забрали, и одновременно это символ нашей печальной жизни.
Мне возражали:
— Чёрное знамя — это знамя анархистов. Вы что, провозглашаете анархию?! Траурное знамя — красное с чёрной каймой!
— У анархистов на их знамёнах изображение черепа со скрещёнными костями, — отбивался я. — А красное с чёрной каймой — большевистское. Мы под таким знаменем стоять не будем. Наше знамя — чёрное, как чёрная наша жизнь.
Так и не придя к согласию, мы разделились на две группы: первая — за чёрное знамя, а вторая — против него. Но это были только внешние признаки наших внутренних разногласий; корни их были намного глубже. В группу, которая выступала против чёрного знамени, входили те, кто противились продолжению борьбы, потому что считали, что этим мы только усилим гнев Москвы и навлечём на себя ещё большую беду.
Группу эту возглавил Иван Кляченко-Божко. Это был пожилой человек, бывший коммунист, который на тот момент отбыл уже 21 год заключения (такие уникумы случались тогда ещё очень редко). Его широко знали и уважали все заключённые нашего лагеря. За 21 год своего заключения Кляченко-Божко много чего перевидал, а потому имел все основания не верить в успех какой бы то ни было борьбы. Но поскольку эта группа был незначительной, она ограничилась статусом оппозиции.
Как-то между мною и Кляченко состоялся такой разговор:
— Для чего ты всё это делаешь? — спрашивает меня Кляченко.
— Для того, чтобы помешать им прикончить тех, кого от нас уже забрали, и чтобы предостеречь их от дальнейших репрессий против нас. Мы должны убедить их, что при любой попытке дополнительного давления на нас мы снова восстанем.
— Они перестреляют нас всех и тогда уже будут уверены, что никакого восстания больше не будет!
— Не перестреляют! — в сердцах отрубил я.
— А что, постыдятся? Разве ты не слышал, что случилось в Восточном Берлине? Да там передавили танками немецких рабочих на глазах у всей Европы, а тут, на безлюдном Таймыре, они постыдятся стрелять в своих собственных политических заключённых? Ты думаешь, что говоришь?
— Не постыдятся и не побоятся, — отвечаю, — мы знаем, на что они способны. Но я ещё раз говорю, что мы потому и восстали, чтобы прекратить расстрелы, а не вызвать их. Я никого силком под пули не поведу и до того, чтобы в нас стреляли, не допущу. Да пока что у нас и нет никаких оснований бояться и капитулировать.
Кляченко остался не доволен нашим разговором, и мы холодно разошлись.
Меня позвали к вахте. Я пошёл вместе с Владимиром Недоростковым. В зону вошли Кузнецов с Вавиловым в сопровождении членов Московской Комиссии и старших офицеров Управления Горлага.
— Вы что! — гневно бросил Кузнецов. — Так меня встречаете? Я добился больших облегчений для вас, я добился, чтобы советское правительство пообещало пересмотреть все ваши личные дела! И как вы отблагодарили меня? В какое положение вы меня поставили?
После этого вступления он обратился к нам с Недоростковым:
— Чего вы хотите?
— Мы хотим, чтобы к нам вернули всех, кого забрали, так как мы имеем полное основание бояться, что вы их увели на расстрел.
— С чего бы это? — вмешался Вавилов. Скажите правду, вы слышали хотя бы один выстрел с момента приезда Московской комиссии?
— Нет, не слышали. Но объясните нам, почему вы нападаете на людей в тундре и увозите их неизвестно куда?
— Их отправили по этапу, — пояснил Кузнецов. — Администрация лагеря всегда имела право это делать.
— Мы здесь не новички и знаем, как формируются этапы. На этап людей берут из зоны, а не нападают на них в тундре.
— Мы утверждаем, что с ними ничего плохого не случилось. Выходите на работу!
— Верните к нам всех, тогда и выйдем.
— Мы еще раз уверяем вас, — сказал Кузнецов, — они в полной безопасности. Вот перед вами помощник Генерального Прокурора. Он приехал сюда, чтобы проследить за тем, чтобы в Норильске не было случаев нарушения социалистической законности. А кого нам нужно, того мы возьмем, имеем на это полное право!
— В таком случае, — говорю я, — мы согласны на компромисс. Давайте сделаем так: мы посылаем с вами комиссию, которая поедет с вами и посмотрит, где находятся эти люди, и в каком они положении. Когда делегаты вернутся назад и скажут нам, что там все нормально, а вы пообещаете больше так не делать, тогда мы организованно выйдем на работу.
Кузнецов не принял мое предложение и ушел из зоны.
Наконец он решил оставить нас без воды, которая поступала в зону через насосную станцию из тундры. На станции постоянно дежурил один заключенный, которого охраняли два конвоира. И вот, во время дежурства заключенного, у которого была величественная кличка Лев, на станцию приходит офицер с приказом перекрыть воду. Лев категорически отказался это сделать. Офицер начал угрожать. Тогда Лев говорит офицеру: «А вы подумали, что может быть, если мы перекроем воду? В зоне немедленно возникнет пожар. Заключенные сожгут все бараки. Кто тогда ответить за это? Если вы берете на себя ответственность за последствия, то напишите об этом в журнале, тогда я выполню ваш приказ».
Офицер вернулся ни с чем.
На первый взгляд может показаться, что Лев поступил совершенно логично и ничего необычного в его поступке нет. На самом деле это был героический поступок, так как Лев знал, в каких руках он находится, и что за такое неуважение к конвойному офицеру он мог быть расстрелян на месте.
Я был немного знаком с ним и знаю, что это был поляк родом из Житомира, учился в Киевском госуниверситете им. Т.Г. Шевченка. Вот и все сведения о нем. О других героях нашей борьбы я и этого не знаю. Разве не героями были заключенные, пикетировавшие проходную, чтобы не допустить в зону надзирателей, конвоиров или офицеров? Они постоянно стояли там, на расстоянии 15–20 метров от направленного на них ствола пулемета, могущего ежеминутно заплевать их смертоносным свинцом. Но они стояли!
Более «осмотрительные» заключенные встречали меня на каждом шагу и спрашивали, почему у нас черные флаги и стоит ли эта борьба того, чтобы нас всех перестреляли.
Стоит! — отвечал я. — Ми восстали для того, чтобы в нас больше не стреляли. Кто может ответить, сколько тысяч нашего брата уже легло под Шмидтихой ни за что, ни про что? Так или иначе, смерть ежедневно караулит нас. Почему же вы, не боясь умирать поодиночке, боитесь умереть вместе? В конце концов, никто не заставляет вас умирать. Если я увижу, что наступил критический момент, мы приостановим борьбу, и расстрелов не будет.
Я снова пошел к проходной, так как один из связных меня предупредил, что меня вызывает Власов.
Власов стоял на пороге открытых дверей проходной, специально ожидая там, чтобы я как можно ближе подошел к нему. Но я остановился на безопасном расстоянии — по бокам два телохранителя — и спросил, что ему нужно.
— Пойдем со мной в штаб, — махнув головой в сторону выхода, сказал он, — с тобой хочет говорить Вавилов.
— Пусть придет сюда.
— Он сюда прийти не может, так как занемог.
— Жаль, — говорю я, — но ничего страшного нет. Как только ему станет лучше, пусть приходит, а я до этого подожду.
Тем временем конвоиры, охранявшие Льва на водонасосной станции, сказали ему: «Ну, скоро этому будет конец. Ваш руководитель уже арестован. Его позвали в штаб будто бы на переговоры, а он, дурак, думал, что с ним и вправду кто-то хочет говорить, и пошел. Но только он переступил порог проходной, как тут же его взяли, надели наручники и — в машину… Теперь вам уже и двух дней не продержаться».
Такой слух Кузнецов пустил среди солдат, наверное, потому, что был уверен в том, что его план удастся. А измученным и встревоженным солдатам необходимо было подать хотя бы какую-то надежду для поддержания их духа.
Но и мы со своей стороны не оставляли солдат без внимания и перебрасывали им записки, в которых разъясняли им, кто мы и чего требуем, и призывали не стрелять в нас.
На таких «обработанных» солдат командование уже не могло целиком положиться, и они были заменены другими.
Эта замена насторожила нас. Новые солдаты, которые не знали нас, были для нас угрожающей силой.
В результате этой замены значительно активизировалась и оппозиция. Мне доложили, что литовцы, белорусы и даже часть наших украинцев, которая пошла за Кляченком, угрожают организованно выйти на работу. Печально, но — факт!
Я нашел Кляченка, который лежал в своем бараке на нарах. Увидев меня вблизи, он спросил:
— Ты зачем пришел?
— Хочу поговорить с вами.
— А нам не о чем говорить, да и не хочу я с тобой говорить.
К литовцам я уже не пошел…
Так мы окончательно разделились на два противоположных лагеря: сторонников и противников продолжения борьбы. Но сторонников по-прежнему было больше.
Теперь мы уже ожидали, что солдаты могут ворваться в зону и схватиться с нами врукопашную, как это уже произошло в 5–м лаготделении, и приготовились к обороне.
Перед лицом нависшей угрозы у людей очень обострилось чувство кровного единства, поэтому все начали сплачиваться в национальные группы. Но это не означало, что мы разобщились.
Как-то раз ко мне подходят три эстонца и говорят:
— Мы — эстонцы. В это небезопасное время мы хотим быть вместе со всеми. Поэтому мы хотим получать от вас детальную информацию о всех ваших переговорах с Кузнецовым и о нашем положении в целом. Нас немного, но почти все — бывшие эстонские офицеры. Уверяем вас, что в случае необходимости, вы смело можете на нас положиться — мы сделаем все, что от нас потребуется. Просим не забывать нас. Вот наш представитель, через которого мы будем поддерживать с вами постоянный контакт.
Так же поступили латыши, поляки и немцы. С другими национальностями я был в личном контакте с самого начала.
После этого ко мне подошла еще одна делегация для установления контакта.
— Мы — немцы, — представились они.
Я удивленно посмотрел на них и пояснил, что видимо это, какое-то недоразумение, так как немцы у меня уже были и я с ними в хорошем контакте.
— Кто же у вас мог быть? — спросили удивленные немцы.
Когда я пояснил им, они рассмеялись:
— Ну, какие же это немцы? Это германцы. Настоящие немцы — это мы, российские немцы.
Таким образом, каждая национальная группа проявляла свою волю совместно продолжать борьбу.
Но одновременно консолидировались и оппозиционные группы. Они все более активно требовали прекращения борьбы. Появились листовки с призывом к сдаче. Ко всему этому администрации удалось распространить среди узников вымысел, что «беспорядки» в Норильске организовали украинцы для того, чтобы оторвать от России Советское Заполярье и присоединить его к Украине. Безумно? Да. Но чем безумнее выдумка, тем труднее ее опровергнуть.
Между тем украинцам намекнули, что они могут смыть свою вину, если ликвидируют своего руководителя.
Мы догадывались, что распространять эти слухи среди заключенных администрации могла через врачей, которым мы не только не запрещали входить в больницу, но и гарантировали полную безопасность.
Кузнецов снова пришел в зону и пригласил меня. Я снова пошел вместе с Недоростковым.
— Кто дал вам полномочия? — издеваясь, спросил Кузнецов. — Разве вы можете быть представителями трудового народа? А ну-ка покажите свои руки, какие на них мозоли?
Я своих рук ему не показал, а Недоростков как-то машинально вытянул свои руки вперед. Недоростков был инвалидом — имел больное сердце — и на работу не ходил; руки у него были мягкие и полные.
Кузнецов посмотрел на них и начал снова издеваться:
— Ну, какие же вы работники? На ваших руках даже мозолей нет. Теперь мне все стало понятно: народ хочет работать, а Грицяк удерживает его на ножах. Мы еще поговорим с народом и без Грицяка.
— Я поднял полы своего френча и сказал:
— Смотрите, где у меня ножи? А если желаете говорить с народом, то, пожалуйста, идите ближе к нему и говорите. Если народ пожелает выйти на работу, то пусть идет. Удерживать его никто не будет.
Кузнецов не изъявил ни малейшего желания приблизится к заключенным, которые стояли толпой на расстоянии в 30–40 метрах от нас. Ст. лейтенант Власов посмотрел на Кузнецова, потом перевел взгляд на меня и сказал:
— Давай пойдем! Я поговорю!
Приблизившись к заключенным, Власов спросил слабым и несколько дрожащим голосом:
— Ну, что, хлопцы, пойдем на работу?
— Пока в Норильск не приедет генеральный прокурор, никто на работу не выйдет, — заявил ему, как я узнал по голосу, Степан Венгрин.
— Вот видишь, Грицяк, как оно выходит? — уже смелее заговорил Власов, — кому-то одному нужен генеральный прокурор, а пять тысяч людей не выходят на работу. Пускай их, пусть идут; люди хотят работать.
— Работать? — уже хором отозвались заключенные. — Сами работайте! Мы уже достаточно на вас наработались. Вам мозолей наших надо? А каких еще вам мозолей надо? Кровавых? Кровососы!
Кузнецов со своей свитой мгновенно выбрался за проходную, а Власов сначала боязливо попятился, а потом развернулся и рванул за проходную.
Мы чувствовали, что у Кузнецова приходит конец терпению, да и Москва, наверное, не гладила его по головке за то, что так долго возился с нами. Мы знали, что конец наш близок, но сдаваться не желали. Нам льстило, что мы заставили Москву обратить внимание на нас.
Внешне мы выглядели монолитно, но внутри между нами ни на минуту не стихало обсуждение: продолжать борьбу или нет?
Некоторые заключенные спрашивали меня:
— Что, уже выходим на работу?
— На какую работу? Кто вам такое сказал?
— Кляченко. Мы Кляченка знаем давно, а вас недавно. Кляченко говорит идти на работу, а вы — нет. Так кого нам слушать?
— Слушайте, кого хотите, — отвечал я, так как видел, что они и спрашивают потому, что охотнее послушались бы Кляченка.
И такие разговоры становились все чаще. Некоторые заключенные начали относиться ко мне очень агрессивно, но некоторые просто спрашивали:
— Ну, хорошо. Сначала мы восстали против расстрелов и требовали приезда Московской комиссии. Комиссия приехала, рассмотрела наши дела, дала значительные послабления… Так что же мы еще можем требовать?
Тем временем группа более образованных заключенных написала обращение заключенных 4 —го лаготделения Горного лагеря к Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров и ЦК КПСС.
Обращение начиналось критическим анализом общественно-политической системы, в условиях которой создались наиболее благоприятные условия для подавления прав и свобод человека. Далее показывалось положение заключенных в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа и, наконец, были повторно приведены наши расширенные требования, которые мы ставили перед Комиссией устно. В этом обращении были четко сформулированы требования прекратить по всей стране практику закрытых судебных разбирательств и применения пыток во время следствия, отмены всех решений так называемого ОСО (Особое совещание при Министре Госбезопасности. — Ред.), как неконституционного органа, прекратить преступные расстрелы в тюрьмах и лагерях и, наконец, пересмотреть дела всех политических заключенных.
Но, несмотря на такую открытую критику существующего строя и протесты против притеснений, которым мы постоянно подвергались, мы не относились совершенно враждебно к центральному правительству, так как надеялись, что после смерти Сталина вновь образованное правительство само попробует вывести страну на новый путь. Поэтому мы и заявили: «Наша цель — свобода!..» и «Мы хотим, чтобы с нами вели диалог не языком пулеметов, а языком отца и сына». Заканчивалось обращение предупреждением правительству: «Если наши требования не будут удовлетворены, то мы продолжим нашу сегодняшнюю тактику, где бы мы ни были!».
Теперь нужно было зачитать это обращение перед всеми заключенными и добиться их одобрения. Но собрать митинг я не рискнул, так как боялся, что мои противники могут его сорвать. Однако на все есть свой метод. Я сказал Василию Дерпакову, чтобы он с кем-то из молодых ребят вынес из помещения клуба стол и переносную трибуну и поставил все это на деревянном возвышении перед дверью библиотеки. Стол накрыть скатертью, поставить стакан с водой. Свой план я открыл только Владимиру Недоросткову.
После завершения сооружения этой импровизированной трибуны я закрылся в помещении клуба и через окошко следил за поведением заключенных. Люди быстро собрались, словно их тянуло сюда сила магнитом. Все понимали, что должно произойти что-то важное: кто-то будет выступать! Неизвестно только кто: может и сам Кузнецов?
В то время в нашей зоне числилось 5221 заключенный. И, наверное, не было такого, который бы не пришел сюда, чтобы самому услышать, о чем здесь будет идти речь.
Когда все собрались, я вышел с клуба вместе с Недоростковым, который ожидал меня, поднялся на возвышение. Недоростков открыл митинг и предоставил мне слово.
— Дорогие друзья! — начал я. — Все, что происходит в Норильске, это не отдельный изолированный случай, а частица великой борьбы всего советского народа за свое достоинство и человеческие права…
Люди словно бы замерли. Они стояли молча и напряженно, словно превратились в камень. Выступать было очень легко. Видно было, что все внимательно слушают. Эта мертвая тишина и напряжение были вызваны двумя причинами: во-первых, каждый хотел услышать что-то новое и, во-вторых, каждый побаивался, что конвой не выдержит такого скопления людей и откроет по толпе огонь.
И надо было так случиться, что во время наивысшего напряжения кто-то из заключенных, которые стояли вблизи меня, неожиданно и почти шепотом предупредил:
— Прячьтесь, стреляют!
Случилось непоправимое: в одну секунду все заключенные упали ничком на землю. Паника передалась даже солдатам, которые стояли кучками за колючей оградой, и они бросились в рассыпную. Да я и сам растерялся и не знал, как поступить: прятаться или как-то выправить положение?
У меня были большие надежды в отношении митинга, я почему-то был уверен, что он поможет нашему единению, что именно на митинге мы преодолеем все наши разногласия. Поэтому я так осторожно организовывал это митинг, чтобы его никто не смог сорвать. А теперь? Все пропало!
Чтобы как-то выправить создавшееся положение, я спрыгнул с деревянного настила и попробовал поднять на ноги одного-двух заключенных, чтобы другие, увидев их, и сами поднялись. Но мне это не удалось — люди, словно примерзли к земле. Я возвратился на свое место и стал ожидать, что из этого всего выйдет.
Наконец некоторые заключенные, которые были в последних рядах, начали друг за другом вставать и удирать в бараки. Но другие, которые также успели встать, начали их удерживать:
— Трусы, вы куда? Возвращайтесь назад!
Все успокоились довольно быстро, и напряженное внимание возобновилось снова. Я продолжил свое выступление и благополучно завершил его.
Когда я окончил читать обращение, заключенные с воодушевлением закричали «ура» и начали подбрасывать шапки вверх. Всех охватило радостное настроение, словно мы уже достигли своей цели.
Когда я спускался ступеньками с возвышения, подошел связной и передал какое-то письменное донесение. Я читаю его и краем глаза вижу, что человек лет 50, на вид азиат, пристально смотрит на меня и потихоньку пробирается в мою сторону. Когда я положил записку в карман, человек снял с седой головы шапку, подал мне руку и сказал:
— Ну, дорогой брат, позволь поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал! — и, крепко пожав мне руку, добавил: — я — китаец!
— Я — украинец! — также крепко сжав его руку, ответил я.
Примеру этого китайца последовали многие другие заключенные:
— Я — эстонец!
— Я — поляк!
— Я — немец!
— Я — белорус!..
Мои близкие знакомые и друзья приветствовали меня молча. Последним подошел ко мне Иван Кляченко-Божко. Он также пожал мне руку и сказал:
— Поздравляю тебя! И хочу сказать, что этот строй я знаю с момента его рождения, а поэтому должен смело утверждать, что с момента его установления такого свободного митинга в России не было. Поздравляю!
Наша вражда закончилась. Однако этот митинг имел и некоторые отрицательные последствия: некоторые из моих знакомых начали бояться меня, другие — старались не попадаться мне на глаза, чтобы избежать возможных последствий. Один мой земляк, Степан, вызвал меня поговорить по секрету. Мне кажется, я до сих пор помню каждое его слово.
— Что ты делаешь? — сокрушенно спросил он. — Ты знаешь, что тебя за все это расстреляют?
— Знаю.
— Так почему же ты себя не бережешь? Ты что, не знаешь, сколько нас уже уничтожено? Ни одна нация не постраждала так, как мы. Пусть теперь другие иногда пожертвуют собой.
— Я никого жертвовать собой не заставляю, — отвечаю я. — А сам собой я имею право жертвовать. К тому же, что значит моя жизнь на фоне тех жертв, которые мы понесли? Если ты увидишь, что я ошибаюсь, — скажи, и я тебя послушаю.
— Нет, ничего плохого в твоих поступках я не вижу, все даже очень здорово, но я боюсь за тебя.
— Теперь мне нечего бояться. Для того, чтобы меня расстрелять им хватит и того, что за мной числится на Горстрое, а сейчас я ничего не боюсь, разве что бездеятельности. Чем больше я их достану, тем легче будет умирать.
В другой раз похожий разговор сложился у меня с двумя латышами:
— Мы видим, что с вами часто встречается один наш светловолосый молодой парень. Мы очень просим вас, чтобы вы не подпускали его близко к себе, гоните его прочь! Вы не знаете, что это за парень! Он — наша национальная гордость и надежда! Мы не можем позволить ему так рисковать собой, а за то, что он часто встречается с вами, его могут расстрелять.
Я разъяснил им, что их молодой земляк дает мне много полезных советов, что он очень помогает мне, и что я не имею никаких оснований отворачиваться от него. Вместе с тем, я успокоил их обещанием, что в дальнейшем буду избегать его.
На следующий день, как мне кажется, это было 29 июня, ко мне прибежал связной от пикетчиков у проходной и сказал, что в зону вошло начальство и идет прямо на людей. Пикетчики не знают, что делать.
— Стоять стеной и не пускать! — наказал я, и сам направился туда. Неожиданно раздались выстрелы. Я побежал. По дороге к проходной встречаю заключенного с окровавленным лицом. Он бежит и кричит: «Братья, не бойтесь, они стреляют холостыми! Стрельба, впрочем, быстро прекратилась. Паники не было: все стояли на местах.
Этот инцидент возник так: когда Кузнецов со своей свитой начал приближаться к заключенным, пикетчики попытались остановить его криками «Стой!». Но он не обратил на предупреждения никакого внимания и подошел еще ближе. Тогда один из пикетчиков, по фамилии Ткаченко, сгоряча схватил камень и бросил им в голову полковника Михайлова. Михайлов схватился за голову и тоже сгоряча скомандовал «Конвой, огонь!». Солдаты открыли огонь и ранили двадцать человек. Убитых не было.
Кузнецов отступил со своей свитой к проходной, откуда молча смотрел на нас. Мы, в свою очередь, также молча смотрели на него. Наступила мертвая тишина. Наконец генерал Сиротин не выдержал тишины и, сложив рупором ладони, закричал:
— Советская молодежь! Бросайте все и переходите к нам!
Толпа заключенных взорвалась смехом; посыпались реплики — удачные и не очень. Когда все утихомирились, я обратился к Сироткину:
— А почему вы издали разговариваете с молодежью? Подходите сюда, и поговорим вблизи. Кто знает, может, советской молодежи, действительно, надоело быть здесь, и она пожелает уйти с вами?
— Так я подойду? — дрожащим голосом ответил Сироткин, — Вон полковнику голову разбили, а меня и убить могут.
Снова вспыхнул смех.
Комиссия вышла из зоны, мы разошлись. Я пошел к хирургу Омельчуку, чтобы узнать о состоянии тяжело раненых. Один из них уже лежал на операционном столе. Хирург готовился к операции.
Выходя с больницы, я встретился с молодым немцем, которого сопровождали двое заключенных лет пятидесяти, также немцы. Так как они не знали хорошо русского языка, а я — немецкого, то мы разговаривали на русско-немецком суржике. Вот почти дословная передача нашего разговора:
— О, как хорошо, что я вас встретил! — говорит молодой немец.
— Чем могу вам служить?
— Я слышал, что здесь есть тяжело раненые, это правда?
— Да.
— Я хочу дать им свою кровь. Не отказывайте мне. Я молодой, здоровый, а ничем больше помочь вам не могу. Поэтому я очень прошу, примите мою кровь, чтобы я хотя бы в такой форме был причастен к вашей борьбе.
— В таком случае идите к врачу, — посоветовал я ему.
Немец явно обрадовался и исчез в темном коридоре больницы. Больше я его не видел, даже фамилии не знаю.
Люди словно заново на свет родились, воспрянули духом. Примеры самопожертвования были на каждом шагу. Одни были заметны, другие остались незамеченными. Но характерной особенностью почти всех было высокое чувство долга и личной ответственности. Каждый думал, что именно на его плечах лежит вся тяжесть борьбы. И это была чистая правда. Без такого глубокого понимания дела каждым заключенным мы не продержались бы и дня.
Здесь хотелось бы привести один характерный пример самопожертвования, который имел место в 3-м лаготделении.
У одному заключенного, бывшего капитана румынской армии, срок заключения кончился именно в разгар нашей борьбы. Его вызвали для оформления документов. Но, подойдя к проходной, он заявил:
Так как мой срок заключения закончился, я не принимаю участия в этой борьбе. Но до ее окончания я не могу выйти из зоны, так как не хочу нарушить установленного моими друзьями принципа неповиновения и не хочу вызывать зависть у тех, кто остается за колючей проволокой… (За свое благородство румынский офицер заплатил жизнью…).
Были также случаи возвращения блудных сынов.
В нашей зоне отбывал наказание заключенный Попов, который занимал пост начальника стройконторы. Он очень грубо вел себя с заключенными, и поэтому все они ненавидели его. Так же ненавидели и его «шестерку», нашего земляка Павлюка, который служил Попову верой и правдой, как знаменитый Санчо Панса отважному Дон Кихоту.
Мы встречали смену заключенных, задержавшихся на Горстрое. Увидев Попова и Павлюка, которые стояли перед проходной впереди колоны, некоторые заключенные закричали:
— Попов, не вздумай заходить в зону — убьем! Оставайся там со своим любимым начальством!
Попов с удовольствием отступил в сторону.
— А ты, Павлюк, чего стоишь? А ну марш со своим паном и дальше ему прислуживай!
Павлюк презрительно посмотрев на Попова и, махнув рукой, решительно направился в сторону проходной.
— Павлюк, вернись! Павлюк! Убьем! Вернись!
Павлюк не останавливается. Когда он уже перешел линию ворот, заключенные расступились перед ним, чтобы дать возможность ему подальше отойти от вахты. Я пошел за ним вслед, чтобы не допустить самосуда.
— Ты, падла, зачем сюда пришел? Где твое место? — накинулись на него разгневанные заключенные.
— Мое место здесь, с вами, — убежденно ответил Павлюк и сел на землю. — Если не принимаете меня живого, то убейте меня на этом самом месте, пусть и мертвый, но я буду с вами!..
После инцидента 29 июня наступило полное затишье. Кузнецов куда то уехал и больше не появлялся. 30 июня отметили, что в зоне не видно ни одного офицера. Что это могло бы означать? Наверное, проводят какое то совещание… Это затишье еще больше насторожило нас.
А утром, 1 июля 1953 года, по заключенным 5-го лаготделения был открыт пулеметный и автоматный огонь. В результате — 27 человек убитых и неизвестно сколько раненых.
С нами начали разговаривать языком пулеметов!
(Все-таки был прав мой добрый знакомый Иван Кляченко-Божко!).
С крыш наших бараков мы могли видеть только крыши бараков 5-го лаготделения. Все, что происходило ниже, было закрыто для нас. Мы слышали только пулеметную стрельбу и гневно-безысходные крики мужчин и женщин.
5-е мужское и 6-е женское лаготделения были расположены рядом. Когда начали расстреливать узников 5-го лаготделения, женщины подошли к вплотную к проволоке запретной зоны и, умоляюще вытянув руки (у многих на руках младенцы), кричали:
— Не стреляйте в них, стреляйте в нас!
Наконец все стихло… Флагов на бараках не стало.
— Снова пролилась кровь наших братьев, — обратился я к заключенным нашей зоны. — Давайте отметим это событие на нашем флаге!
Через полчаса на высокой трубе нашей пекарни уже развевался огромный черный флаг с красной полосой посредине.
Появился и гимн заключенных Норильска на русском языке, который оканчивался такими словами:
И черный флаг с кровавой полосой Укажет путь нам в праведной борьбе! (Слова Грыгора Климовича)2-го июля ко мне подошел «молодой белявый» латыш и сказал, что на солдатских казармах установлены два громкоговорителя и направлены на нашу зону.
— Это очень еще более опасная затея, — пояснил он. — Пулеметами они только теснее сплотят нас, а вот словами могут нас разложить. Но я уже придумал, как этому помешать: электроэнергия к ним поступает с нашего трансформатора. Нужно только выключить энергию.
Я нашел электрика. Тот начал упрашивать меня не вмешивать его в это дело, так как ему осталось всего шесть месяцев до окончания срока и поэтому он боится. Однако он охотно отдал мне ключи от трансформаторной будки, а я заверил его, что когда меня спросят про это, то я скажу, что забрал их силой.
Люди начали спонтанно собираться у громкоговорителей, как и перед этим к моей импровизированной трибуне.
Появился Кузнецов. Началось радиовещание.
— Внимание! Внимание! — раздался его властный голос, — слушайте важное сообщение администрации Горлага! Повторяю!..
На слове «повторяю» я резко вырубил рубильник и отключил электроэнергию. Передача прервалась, и заключенные стали насмехаться:
— Ну, давай, давай, повтори! Чего остановился?
Подождав еще немного и убедившись, что передача не возобновляется, люди потихоньку разошлись.
А еще через два часа наблюдатели сообщили, что солдаты прокладывают через тундру кабель.
Я вошел в будку и включил электроэнергию. Когда там увидели, что питание возобновилось, то, наверное, подумали, — на что я и рассчитывал, — что из любопытства послушать, что нам будут говорить, мы решили не мешать им больше.
Солдаты прекратили прокладку кабеля. Радист сделал настройку, и радиовещание возобновилось.
— Внимание! Внимание!.. Повторяю…
Далее все та же картина. Заключенные залились безудержным смехом. Но бедному радисту, наверно, было не до смеха. Откуда он мог знать, что все время я сидел в трансформаторной будке и поле каждого «повторяю» резко выключал фидер и, что бы сбить их с толку, немедленно включал его.
Только после пятой попытки наладить радиовещание Кузнецов понял, что его обвели вокруг пальца, сел в машину и уехал.
Солдаты возобновили прокладку кабеля и на этот раз проложили его до конца.
Утром третьего июля Кузнецов снова приехал. Началось радиовещание:
— Внимание! Внимание! Слушайте список лиц, подлежащих отправке этапом.
Прочитав весь список (тысяча имен), Кузнецов — мы узнали его голос — добавил:
— Всем назначенным на этап немедленно явиться со личными вещами к воротам проходной!
Не пошел никто. Тогда Кузнецов начал выступать против меня и призывать заключенных не бояться и не слушаться меня.
Потом был зачитан список семисот инвалидов, которых должны были, как будто вывезти на материк.
Инвалиды зашебуршились и начались собираться. На мое предупреждение, что это возможно провокация и что в это время ни одного этапа не может быть, инвалиды возражали, что администрация хочет вывезти их, а я не пускаю.
Я больше не мешал им, и они быстро собрались и направились к проходной. Открылись ворота; в зону со списком вошел инспектор спецчасти. Я подошел к нему, чтобы договориться о порядке выхода из зоны инвалидов. В это время ко мне подбежали связной с сообщением о том, что с тыльной стороны солдаты прорубили колючую проволоку и сделали в запретке широкий проход.
— А это что такое? — спрашиваю инспектора. — Вы что, придумали этот этап для того, чтобы именно в то время, когда мы будем заняты проводами инвалидов, ударить нам с тыла?
— Ну что там они делают? Я в таких условиях работать не могу! — оскорбился инспектор и вышел из зоны.
— А теперь вы поняли, на какой материк вас собирались вывезти? — обратился я к инвалидам. — Мы поставили условия перед Москвой, чтобы вас вывезти отсюда, и дальше мы будем на этом настаивать. Но вы должны понять, что в это сложное время вы никуда не поедете. Если не хотите вести борьбу с нами, то идите в бараки, ложитесь спокойно на нары, не создавайте нам лишних хлопот!
Явно недовольные инвалиды разошлись. Ворота уже не закрывались; проход в запретной зоне также остался открытым. Наша оборона стала уязвимой с двух сторон.
Тем временем Кузнецов еще настойчивее стал нападать на меня и моих друзей.
— Мы знаем, — раз за разом повторял он, — что честные люди не виноваты в сложившейся ситуации, что их заманивает и запугивает небольшая кучка авантюристов, таких как: Евгений Грицяк, Иван Кляченко-Божко, Иван Гальчинский, Владимир Недоростков и Иван Стригин. Заключенные 4-го лаготделения, не бойтесь их и слушайте! Ломайте окна, двери и переходите к нам через проходную или через проходы в запретной зоне. Мы с радостью встретим вас!
— Слышишь, какую туфту они на тебя гонят? — обратился ко мне мой добрый знакомый грузин по фамилии Чубук.
— Слышу.
— И что ты думаешь делать дальше?
— То же, что и раньше.
— А я думаю, что тебе лучше было бы пойти на проходную и заявить: «Вы убеждаете, что это все я натворил. Вот он я перед вами, забирайте меня и тогда увидите, что в зоне ничего не изменится…» Таким способом ты можешь облегчить свою участь.
— Нет! Этого я сделаю никогда!
Кузнецов не прекращал повторять свою гипнотизирующую формулу:
— Ломайте двери, окна, переходите к нам!
Усиленный двумя громкоговорителями голос Кузнецова падал на головы заключенных, словно тяжелые удары молота. Казалось, что от каждого удара заключенные корчились и пригибались к земле, чтобы стать меньше и незаметнее.
Вдруг — крик и свист возле ворот проходной. Что случилось?
Какой то заключенный откликнулся на призыв Кузнецова и удрал в проходную. Через некоторое время возник шум возле проходов в запретке: снова кто-то удрал.
Наконец в запретной зоне прорубили еще три прохода и открыли ворота в хоздвор. Наша оборона стала уязвимой почти со всех сторон. Каждый проход охранялся снаружи усиленным нарядом конвоиров, а изнутри — нами. Мы вынуждены были охранять проходы как от солдат, так и от возможных беглецов.
Солдаты, впрочем, в зону не входили, а беглецов задерживать не удавалось, ибо каждый, кто решился удрать, шел на передний край и, выбрав момент, резко отрывался от остальных заключенных и во весь дух мчался к проходу, где его уже ждали солдаты.
Тут мне доложили, что одного беглеца удалось поймать, и что его бьют в другом бараке. Я побежал туда.
— Стойте!
Все расступились. На полу сидел перепуганный заключенный.
— Что случилось? — спрашиваю его. — Почему ты убегал? Может, увидел, что мы что-то делаем не так?
— Да, нет! — ответил он. — Наоборот, все мне нравится, но, поверьте мне, что я никогда не был в таком подвешенном состоянии неопределенности, и мои нервы могут этого не выдержать.
Я наказал заключенным не трогать его, а ему, чтобы он не боялся, ибо, что будет со всеми, то будет и с ним.
Бывшим «активистам» лагеря мы дали хорошую возможность реабилитироваться. Мы не напоминали им их прошлого и не отталкивали их, если они вставали рядом с нами. Многим из них удалось найти в себе силы и встать на нашу сторону. Но некоторые остались верными прислужниками режима.
Они убегали с ножами в руках, чтобы никто не смог их задержать. Как- то после очередного побега еще двух «активистов» Кузнецов заявил:
— Нам стало известно, что между вами есть много таких, которые хотели бы перейти к нам, но вы боитесь мести со стороны зачинщиков. Не бойтесь этого! Переходите! Мы гарантируем вам, что ни один из этих бандитов уже никогда с вами вместе не будет. Ломайте окна, двери!..
Кузнецов раз за разом призывал ломать окна и двери только для того, чтобы вызвать среди нас разлад. Никто, кто хотел или не хотел убегать, не был заперт в бараке. Наоборот, все бараки были пустыми, нигде ни души. Исключением был первый барак. В этом бараке жили наши инженерно-технические работники, или, как их называли заключенные, «придурки».
Эти люди имели привилегированную работу. Они работали в проектном бюро или бригадирами и мастерами непосредственно на строительстве. Большинство из них боялись потерять свои теплые места, а поэтому не хотели держаться вместе со всеми. Они не убегали, но вылеживались на нарах и спокойно читали книжки.
Но и между ними были такие, которые активно включились в борьбу и рисковали своей жизнью, как и остальные заключенные. Одним из них был эстонский инженер Скейрес. И именно в тот момент, когда наши дела стали плохими, он схватил какую-то палку, влетел в свой барак и стал бить ею каждого, кто попадался ему по руку.
— Ах вы, шкуры продажные! — обзывал их Скейрес. — Сейчас, когда решается наша судьба, когда все люди стали грудью против пулеметов, вы отлеживаетесь и книжечки почитываете? Давай, марш все с барака!
Беглецов было мало. Как-то ко мне подходит один заключенный и говорит, что возле другого барака собралась кучка поляков, поведение которых вызывает подозрение. Они как будто что-то замышляют.
— У нас с ними хороший контакт, — отвечаю я. — Но сейчас я найду их представителя и все выясню. Я с ним часто встречаюсь. Правда, последнее время он исчез из моего поля зрения, что-то перестал показываться мне на глаза. Но вот и он!
Именно в это время мимо нас проходил польский представитель Юра, которого так звали на русский лад. Он бросил в мою сторону не очень приветливый взгляд и пошел дальше.
— Юра, погоди! Что случилось? Как люди?
— Да так себе, — уклончиво отвечает Юра, — стоят все возле второго барака, а что каждый думает — не знаю. Каждому в душу не заглянешь.
Мы холодно разошлись. Внезапно возле второго барака возник шум, гам, свист, гиканье. Я побежал туда и узнал, что пятьдесят два поляка, которых возглавлял доктор Матошко, быстрым рывком выскочили из зоны и таким образом открыто перешли на сторону наших мучителей.
Очень прискорбно это вспоминать, но, к сожаленью, так это и было.
Совсем иначе вели себя японцы и китайцы. Они все время вели себя спокойно, с большим достоинством и выстояли с нами до конца. Теперь мне хотелось бы поклониться низко перед каждым из них!
Все люди были измождены ожиданием и не могли выдерживать такого высокого нервного напряжения. Ведь после того, как расстреляли заключенных 5-го лаготделения, никто из нас ни на миг не уснул, никто не заходил в бараки; все время были на ногах и ждали, когда и в нас начнут стрелять. Больше мы не могли ни на что надеяться…
Впрочем, побеги из зоны стали все более редкими. Кузнецов понял, что таким методом нас не возьмет, и, сменив тактику, перешел от уговаривания к ультиматуму.
— Всем заключенным собрать свои вещи и приготовиться к выходу из зоны! — прозвучал из громкоговорителя его грозный голос.
После этого громкоговорители замолчали.
Мы поняли, что это было последнее требование Кузнецова, и что больше он с нами разговаривать не будет.
Я подозвал Недоросткова и пошел вместе с ним к проходной, где заявил, что хочу поговорить с Кузнецовым. Вслед за мной, почти наступая мне на пятки, пришло несколько десятков заключенных в телогрейках. Кузнецов подошел к нам и сердито спросил:
— О чем мы с вами будем еще говорить? Вы слышали мое распоряжение — выйти всем из зоны?
— Слышали, — отвечаю я. — Завтра мы соберемся и выйдем.
— Никаких завтра! — Гневно ответил Кузнецов. — Сегодня или никогда!
Тем временем слева от меня протиснулся кокой-то заключенный и с испугом в голосе пролепетал:
— Гражданин начальник! Гражданин начальник! (официальная форма обращения заключенного к любому начальнику). — Разрешите обратиться, разрешите обратиться!..
— Ну, обращайтесь, — презрительно бросил Кузнецов.
Но тот не сказал ни слова больше, только шмыгнул мимо Кузнецова в проходную.
С правой стороны пустился бежать еще один заключенный, а за ним еще один.
Наши возможности были исчерпаны. Поэтому я обратился к заключенным, которые стояли сзади меня, и сказал:
— Почему вы так делаете? Разве нет на все своего порядка? Возвращайтесь в свои бараки, берите свои вещи и тихо и спокойно переходите в распоряжение администрации!
Кузнецов опешил, ведь у него был разработан совсем другой вариант: через два часа тридцать минут нас должны были расстреливать!
Теперь, когда все заключенные разбежались по баракам, я задумался, что мне делать: или сдаться им в руки, или и тоже пойти за вещами, которые, а в этом я был уверен, мне уже не понадобятся?
— Ну, нет, парень, — сказал мысленно я себе, — иди за вещами, ведь ты должен выйти из зоны последним! — И я медленно пошел в направлении своего барака.
Навстречу мне уже шли и шли заключенные со своими узелками. Шли быстро, словно боялись опоздать, и молча. Но тут меня останавливает мой земляк и встревожено спрашивает:
— Что ты наделал?
— А что я мог сделать? Другого выхода нет!
— Выход есть: стоят на смерть!
— Но люди не хотят умирать, удирают.
— Но сколько их там убежало? Ну, пусть полторы сотни, ну, пусть две. А сколько осталось? Пять тысяч! Пусть из этих пяти тысяч еще четыре убежит, но тысяча нас наберется таких, которых не сдвинуть с места, пока все не погибнем! Наберется, — ответил он сам себе, — и мы покажем им, как мы умеем умирать!
— Нет, — ответил я ему, — я никого на смерть не поведу. Вам еще нужно жить. Прощай!
Поравнявшись со своим бараком и увидев, что из него еще выходят люди, я пошел в больницу, чтобы попрощаться со своим добрым приятелем Василием Рыковым. От него я пошел в свой барак, где застал еще двух заключенных, которые укладывали свои вещи. И я забрал свои вещи и пошел вместе с ними к проходной. В зоне стало тихо, пустынно.
Идя к проходной, я увидел надзирателя, который лез вверх по скобам трубы пекарни. Я остановился, чтобы увидеть, как он сбросит наш флаг. Но к моему великому удивлению надзиратель не сбросил его сверху вниз, а взял под мышку и осторожно спустился с ним на землю.
В проходной я застал небольшую группу заключенных и вместе с ними переступил линию ворот.
Все уже было позади.
VI. Яма
Нас выпускали из зоны группами по сто человек и так, сотнями, отводили под спецконвоем в тундру. Меня на проходной, на удивление, не отделили от остальных заключенных, и я пошел со своей сотней до Горстроя, так как ближе вся тундра была покрыта людьми.
Нам дали команду садиться. Но недолго мы просидели. Нашим конвоирам была дана команда поднять нас и привести назад. Мы вышли на дорогу, которая вела от Горстроя к нашему лагерю. Когда до проходной осталось около пятидесяти метров, нас снова посадили на землю. Мы сели на землю и, отмахиваясь от назойливых комаров, стали осматриваться вокруг.
Вся тундра была покрыта заключенными и конвоирами. Около проходной стоит Кузнецов со своей группой. Пред ним стараются выслужиться дачники, которых привезли сюда специально для расправы с нами. Когда им в руки попал Ткаченко, полковник Михайлов приказал им: «Ребята, дайте ему, это тот, кто ударил меня камнем!». Дачники убили Ткаченко… Мы видим, как они бьют и пинают людей ногами, как никто даже не пробует защищаться, потому что за дачниками стоит наготове конвой.
Начал накрапывать дождь. Рядом со мной сидел один чех, который имел с собой резиновый плащ. Мы накрылись им с головой и больше ничего не видели. Наконец слышим, как к нашей сотне кто-то подошел и спрашивает: «Где-то у вас должен быть Грицяк!» Чех толкнул меня локтем и прошептал: «Молчи, не откликайся!».
Потом дождь прекратился, и мы открылись. К нам приблизился генерал Семенов и узнал меня.
— Ну, Грицяк, — удовлетворенно забубнил он, — вставай, вставай! Закончилось твое правление. Вставай. — И к какому-то сержанту: — Сержант, выделить конвой!
Я поднялся и отошел в сторону от своей сотни; подошли два конвоира.
— Взять его под стражу! — властно командует Семенов.
Конвоиры стоят молча и с явным удивлением смотрят на меня.
— Ведите его к столам! — дальше командует Семенов.
Конвоиры, словно завороженные, стоят и не двигаются.
— Ведите его, я вам говорю! — повторил свою команду Семенов.
Конвоиры продолжают молчать.
— Ну, хорошо, — рассвирепел Семенов, — иди за мной!
Он подвел меня к столам, расставленным посреди дороги, за которыми сидели вольнонаемные женщины.
— Вам его формуляр нужен? — спрашивает он у женщин.
— Ох! — воскликнули удивленные женщины. — Да ведь это Грицяк, Грицяк!
— А, — недовольно пробурчал Семенов, — значит, вы его знаете?
(Формуляр — это особенная учетная карточка заключенного, словно его паспорт. Куда бы ни направляли заключенного, за ним всегда следует его формуляр).
«Если мой формуляр уже не нужен, — подумал я, — наверное, меня расстреляют сейчас среди тундры для острастки других заключенных».
Когда женщины отложили мой формуляр из картотеки в сторону, Семенов приказал конвоирам увести меня в тундру. И снова конвоиры стали словно очарованные. Они не проявили ни малейшей инициативы по выполнению приказа. Рассвирепевший Семенов снова пошел первым, я — за ним, а за мной — конвоиры.
— Садись здесь, — указал место генерал.
Я выбрал сухую кочку и сел на нее, отгоняя от лица комаров.
— Конвоиры, не разрешайте ему отгонять комаров, пусть его грызут! — приказал конвоирам генерал и куда-то ушел.
На дороге появился автомобиль, оборудованный для перевозки заключенных. Какой-то офицер крикнул конвоирам, чтобы вели меня к машине. Возле машины надзиратели обыскали меня и отобрали ложку из нержавеющей стали. Других каких-либо опасных предметов у меня не обнаружили.
Я сел на дно кузова, упершись плечом о щит, за которым стояли конвоиры. Через некоторое время привели еще трех заключенных: Ивана Стригина, Ивана Ходневича и Владимира Русинова.
К конвоирам подошел офицер и сказал:
— Ну, давайте их теперь в зону, пусть попрощаются с народом!
Под народом он подразумевал, по-видимому, дачников, кроме них в зоне никого не было.
Машина задним ходом подъехала к зоне и перед проходной остановилась.
— Принимайте подарок! — с неприкрытым злорадством крикнули нам надзиратели, волоча по земле к машине избитого до бесчувствия Владимира Недоросткова.
Я взял Недоросткова на свои колени и легко обнял руками. Он был так избит, что уже сам сидеть не мог… Кто-то там еще крикнул:
— Давайте и этих сюда, пусть и они попрощаются!
Но борт машины закрыли, и машина двинулась вперед.
— Куда мы едем? — шепотом спросил меня Стригин.
Я оглянулся; конвоиры не сделали ни одного замечания.
— Вижу только Шмидтиху, — отвечаю.
Едем дальше. Я снова осматриваюсь, и снова — Шмидтиха, только уже большая, грозная и значительно ближе к нам. Далее машина сделала поворот, другой. Осматриваюсь, и снова — Шмидтиха.
Гора им. Шмидта, возле которой разместился Норильск, имела печальную славу из-за того, что у ее подножья расположилось огромное кладбище, точнее, место захоронения норильских заключенных. Слово Шмидтиха — так называли эту гору — стало синонимом смерти. «Пойти под Шмидтиху» означало — умереть; «Я тебя на Шмидтиху загоню» — я тебя убью и т.п.
Захоронение трупов под Шмидтихой происходило так: после смерти заключенного его раздевают, делают вскрытие и — в «деревянный бушлат», в котором вывозят за проходную. Там конвой проверяет, точно ли это труп и, для полной уверенности, пробивает металлическим прутом череп. После такой тщательной проверки труп уже везут на Шмидтиху.
В 1948 году, когда заключенные 4-го лаготделения строили Медеплавильный завод, им цинично пообещали, что ударников труда будут закапывать после смерти не голыми, как других, а в нижнем белье. Но, был ли хотя бы один случай выполнения обещания, никто не знает.
Мы знаем только то, что люди умирали и умирали без конца, и для того, чтобы их всех закопать в вечной мерзлоте под Шмидтихой, нужно было содержать огромное количество непродуктивной рабочей силы. Поэтому однажды летом там было выкопано экскаваторами и бульдозерами двадцать огромных двадцатиметровых ям, чтобы без всяких хлопот сбрасывать туда трупы на протяжении многих лет. Но в расчетах ошиблись: четыреста метров ямы заполнили трупами всего за два года!
Вот такая она, гора Шмидта! Жаль только, что об этой горе в Украинской Советской энциклопедии нет ни одной строчки.
А нас везут все ближе и ближе к этой грозной горе. Наконец привезли во двор небольшой тюрьмы, которую в Норильске называли «ямой». Мы пока сидим на земле и рассматриваем свое будущее жилище. Это небольшая, барачного типа, очень мрачная тюрьма. О ней издавна ходила недобрая слава. Здесь закончили свой жизненный путь тысячи людей. Теперь она должна стать местом расправы над участниками Норильского восстания. И не случайно начальником ее назначили, не кого ни будь, а старшего лейтенанта Ширяева, а его заместителем — старшину Бейнера! Нам сказали, что они оба сидят в тюрьме, и теперь оказалось, что они вправду сидели здесь и ожидали нас.
— А ну, заходи один! — закричал издали надзиратель.
Первым пошел Владимир Русинов. Прислушиваемся. Тихо. Неожиданно — бах! бах!.. Крики надзирателей и стон Русинова… Наконец все стихло.
— Давай еще один!
Пошел Иван Ходневич. Его что-то долго принимали и ни разу не ударили. Подозрительно!..
— Давай еще!
Мы со Стригиным занесли Недоросткова и возвратились на свои места. Недоросткова тоже не били, так как не было, кого бить.
Четвертым пошел я.
В приемной, которая представляла собой просторную прямоугольную комнату со многими дверьми и одним столом, за которым сидел дежурный по тюрьме, на меня набросились озверелые надзиратели.
— Раздевайся и становись в угол! Быстро!
Я разделся и стал в угол комнаты. По обе стороны — надзиратели. Третий подходит ко мне и спрашивает:
— Год рождения?
— Двадцать шестой.
— Ах, ты сволочь! Молодой, а уже лысый! Что, гад, от политики лысым стал? — спросил он и со всей силы ударил меня кулаком по щеке.
— Открой рот!
В тюрьме во время обыска всегда смотрят в рот, но теперь моего надзирателя не интересовало, что есть в моем рту; он только размахнулся кулаком, чтобы с наибольшим эффектом ударить по ослабленной челюсти. Мне был известен этот тюремный метод выбивания зубов, и поэтому я, мгновенно сориентировавшись, крепко сжал зубы. Удар не дал ожидаемого надзирателем эффекта.
— Подождите, дайте мне оформить на него документы, — остановил надзирателей старшина, видимо, дежурный по тюрьме.
Тот надзиратель, который наскакивал на меня, немного отступил. Старшина сидит за столом и заполняет какой-то бланк. Неожиданно тот надзиратель, что стоял слева от меня, молча, но со всей силы бьет ребром ладони правой руки по горлу; только стены не дают мне упасть.
Заполнив бланк, старшина сказал, чтобы я подошел к столу и подписал его. Но не успел я сделать и шагу, как на меня набросились пятеро надзирателей. Градом посыпались удары и пинки; наконец они пытаются свалить меня на пол. Я ухватываюсь за край стола и тяну его за собой. Со стола с грохотом падает телефонный аппарат…
— Перестаньте! — крикнул старшина. — Вы тут мне все перевернете! Дайте мне его оформить до конца!
Надзиратели отступили, а старшина приказал мне собрать с полу свою одежду. Я наклонился за одеждой, а один надзиратель, открыв двери молотобойки или, как ее там называли, исполнительной камеры (в ней исполняли смертные приговоры), кивнул старшине, чтобы тот направил меня туда.
— Да подождите еще! — как-то успокаивающе бросил старшина и, быстро открыв двери, ведущие в коридор, проводил меня в предназначенную мне камеру.
В камере я застал только Владимира Недоросткова, который без памяти лежал на спине ни нижних нарах. Наконец к нам заводят Ивана Стригина. Ему досталось значительно больше, чем мне, у него ранена рука.
И вот, мы со Стригиным осматриваем камеру. Почему же это такая мокрая камера? Откуда здесь вода?
Вода была повсюду. Она собиралась густыми холодными каплями на потолке и, не выдерживая собственного веса, падала на нары, бетонированный пол и на наши головы. Она стекала тонкими струйками по стенам до пола и заполняла собой все ямки на ней. Я дотронулся до стояка нар — по руке до самого локтя потекла струйкой холодная вода. Нары мокрые. В нижней части верхнего настила нар свисала густая давняя плесень.
Вся постройка камеры — мощная и надежная. Почти всю площадь занимают широкие, массивные, окованные железом нары.
Напротив двери — узенький проход к противоположной стене, где вверху, под самым потолком, — маленькое окошечко. На окне двойная решетка и плотный намордник, затянутый плотной проволочной сеткой. Верх намордника выходит под навес шиферной крыши так, что ни свет, ни свежий воздух в камеру не попадают. Двери — двойные. Одни — внешние — из толстых досок, с обеих сторон окованных оцинкованным железом, другие же — внутренние — частая массивная решетка. Пол — сплошной неровный бетон.
Мы сняли обувь и, положив под головы кирзовые ботинки, легли спать. Но, несмотря на чрезмерное переутомление, сон нас не брал. Я поднялся и начал ходить по мокрому бетону. Стригин остался на нарах. Наконец Недоростков подал первые признаки жизни. Он зашевелил руками, которые лежали у него на груди, как у мертвеца, и начал что-то неразборчиво бормотать.
— Володя, тебе чего?
— А ты поставь мне самовар, — ответил он уже более разборчиво и таким тоном, словно обращался к кому-то из своих близких.
— Володенька, что ты говоришь? Ты знаешь, где находишься?
— Знаю.
— Где?
— Дома, — ответил он и снова затих.
Неожиданно в двери открылась кормушка, и в ней появилось молодое и очень приветливое женское лицо.
— Вам нужна медицинская помощь? — ласково спросило «лицо».
— Нет, — отвечаем. — Один, правда есть, лежит в беспамятстве, но как вы ему поможете? — Его здорово избили.
«Лицо» поникло.
— Он только что просил чаю, — добавили мы. «Лицо» осмотрелось и прошептало:
— Сегодня вам ничем не помогу, но завтра принесу из дому сахар, здесь вскипячу воду и подам вам в камеру. Заварить настоящий чай не смогу, — запах выдаст меня. Кормушка захлопнулась.
— Вот это да! — удивились мы. — Тюремный врач это или ангел небесный? Это, наверное, какое то недоразумение!
— Да-а-а, — протянул Строгин, — она здесь долго не пробудет!
Назавтра мы уже напоили Недоросткова сладким кипятком. Недоростков начал связно разговаривать.
А примерно через полторы недели наша докторка исчезла. На ее место пришла врачиха из 4-й зоны, которой из-за ее низкого роста и несколько кубической формы, заключенные дали кличку: «Тумбочка». Эта врачиха была на своем месте и полностью оправдывала доверие администрации.
На прогулки нас выводили только на пятнадцать минут, и обязательно в наручниках.
Поначалу мы со Строгиным вовсе не выходили из камеры, опасаясь оставить без присмотра больного Недоросткова, к тому же не хотелось встречаться лицом к лицу со с нашими надзирателями. В камере мы чувствовали себя в большей безопасности.
Где-то через неделю нам дали набитые стружкой матрасы, которые очень быстро напитались водой и начали распространять неприятный запах гнилья. А еще через неделю к нам зашла заведующая санотделом Горлага — подполковник мед службы Беспалова и спросила, на что мы жалуемся.
— Мы здоровы, только один, вот, лежит на нарах, очень болен и жалуется на нестерпимые боли в области почек; у него внутреннее кровотечение — ответили мы и, подняв Недоросткова, сняли с него рубаху, показали ей тело, похожее на отбивную.
— Здесь больно? — спросила она, с силой ударив его ребром ладони в темный кровоподтек под правой почкой. Недоростков скорчился от боли и заорал. Мы выпроводили Беспалову из камеры, заявив, что в такой помощи мы не нуждаемся.
Выйдя за порог камеры, Беспалова заговорщицки кивнула Ширяеву и сказала:
— Уже!.. Можно их отсюда выпроваживать.
Нас перевели в другую камеру, которая в отличие от нашей, была сухой. К нам никто не заглядывал. Мы могли спать и днем и ночью, нами вообще никто не интересовался.
Однажды вечером во всех камерах залязгали кормушки и раздался приглушенный, но настойчивый голос надзирателя:
— Ложитесь спать! Ложитесь спать!
Мы прилегли, притихли, но не спим — прислушиваемся: что это они надумали?
Наконец, слышим — идут! Прислушиваемся к быстрым шагам, шороху одежд и оцениваем, что идут человек пять, все в очень возбужденном состоянии. Вдруг возле одной из противоположных камер они останавливаются. Раскрылась с грохотом дверь. Мы вслушиваемся с таким страхом и напряжением, что все звуки, которые мы улавливали, мгновенно превращаются в четкое видение. Вот мы «видим», как его (кого его?) выводят за вахту, поворачивают налево, поворот еще за один угол, и вот они уже на нашей стороне. Теперь его ведут тропкой, по которой ходит на смену конвой. Эта тропа ведет к самому краю насыпи, над которой стояла тюрьма. Дальше — большая яма. Возможно, от этой ямы и происходило название тюрьмы.
Теперь тюремщики останавливаются, подталкивают обреченного к краю, кричат:
— Ну, беги!
Заключенный упирается, не хочет бежать. На него натравливают собаку. Он кричит от боли и бежит… С угловой вышки раздаются три карабинных выстрела… Всё стихло… Вскоре к месту события подкатывает задним ходом грузовик. На его помост падает мертвое тело. Борт закрывается, машина отъезжает…
После этого случая мы спали только днем, а ночью караулили и прислушивались: чья теперь будет очередь? А теперь уже была — моя очередь.
Но пока нас перевели еще в одну камеру, где сидел один из активистов сопротивления 1-го лаготделения — рязанец Михаил Измайлов. Он очень любил Есенина и просто засыпал нас его стихами. Мне навсегда запомнились слова Есенина адресованные Демьяну Бедному:
Ты руку поднял на царя небес. А сам перед земными ползаешь на брюхе!Или вот ещё:
Он говорит, а сам все морщит лоб: Да!.. Время!..Ты не коммунист? Нет!.. — А сестры стали комсомолки. Какая гадость! Просто удавись! Вчера иконы выбросили с полки. На церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться…Иногда, заканчивая какое-нибудь стихотворение, Измайлов сообщал:
— Это не Есенин писал, это я.
Однажды нас насторожил пронзительный женский крик. Мы вскочили.
— Что это? Привезли женщин
Мы многое видели, пережили и ко всему привыкли. Но к женскому крику и плачу в тюрьме привыкнуть никак не могли. В тюрьме женский плач нестерпимо больно ранит сердце, пробуждает в душе жалость и возмущение. Мы мгновенно наэлектризовались и подняли в камере неимоверные крики.
Появился Ширяев.
— Вы, почему женщин избиваете? — спрашиваем.
— Что, руки чешутся? Тогда выводите нас и бейте, сколько влезет, а женщин не трогайте! Не позволим!
— Никто их и не бьет, спокойно отвечает Ширяев. — Это какая-то одна из них закричала, не давала снять с себя трусы.
— Ах вы, гады! Кто давал вам право снимать с них трусы? Они — что, атомную бомбу могут сюда в трусах принести, что ли? А если уж так боитесь, то приведите сюда ваших поганых женщин, пусть они их обыскивают, а вы своими грязными лапами к ним не лезте!
Ширяев молча закрыл кормушку и отошел.
Криков больше не было. Восьмерых женщин разместили в двух камерах.
Это были: Мария Ныч, Мария Чорна, Стефания Ковыль, Анна Мазепа, Леся Зелинская, и Анна Петращук — наши молодые украинки. Кроме них, там ещё были: латышка Лидия Дауге и эстонка Аста Тофри.
После подавления 4-го и 5-го мужских лаготделений, Кузнецов сосредоточил все свое внимание на 6-й женской зоне. Так как женщины добровольно подчиниться не захотели, к ним применили силу. К счастью, в них не стреляли, только обливали из пожарных машин водой. И хотя, в конце концов, женщины вынуждены были сдаться, своих активисток они берегли так, что администрация никак не могла их арестовать. Только теперь их удалось как-то выловить и привезти сюда, в «яму».
Стефания Коваль описала расправу над женщинами 6-го лаготделения, происшедшую 7-го июля, такими рифмованными строчками:
Гей на Iвана, гей на Купала З шостоi зони нас виганяли, Кого у тюрми, кого за дроти… На катржанськi тяжкi работи… Ой ти, Iване, опам’ятайся! Життям дiвочим не раскидайся! Бо лiт дiвочих не повернути… Муки Норильска нам не забуты (Как на Ивана, как на Купалу Из шестой зоны нас выгоняли, Кого в тюрьмы, кого за проволоку… На каторжные тяжкие работы… Ой ты, Иване, опомнись! Девичьими жизнями не бросайся! Ведь девичьих лет не воротить… Муки Норильска нам не забыть)Непокоренной оставалась одна только третья зона.
Но ранним утром 4 августа мы услышали, как в тюремный двор въезхал грузовик, началась суета, беготня. Заработала молотобойка, через которую полные двое суток пропускали каторжан.
Как-то перед приемом очередной группы под нашим окном проходили тюремные стражи. Один из них хвалил какого-то надзирателя:
— Ну, я и не знал, что этот сержант настоящий мясник!
Наша камера пополнилась пятью новыми каторжанами.
Они рассказали нам, что после подавления 6-го лаготделения Кузнецов начал интенсивную подготовку к штурму их зоны. Но вдруг, на глазах у всех заключенных, к Кузнецову подходит курьер и вручает ему пакет. Кузнецов прочитал депешу, сел в машину и уехал. Больше его в Норильске не видели.
На какое-то время каторжан оставили в покое. Они собирались в помещении своего клуба, где постоянно работал стачечный комитет, запускали воздушных змеев с листовками и готовились к бою с солдатами, если те захотят силком прогнать их из зоны. Они так верили в справедливость своих требований, что даже не хотели думать, что против них могут пустить в ход оружие.
И даже когда 4-го августа какой-то неизвестный человек вывесил на ближайшей к ним заводской трубе белый флаг, что должно было послужить для них сигналом «сдавайтесь», они подумали, что флаг кто-то вывесил в знак солидарности с ними.
Однако в тот же день, 4 августа, ворота каторжной зоны вдруг отворяются и в зону въезжают на автомобилях вооруженные автоматами пьяные солдаты. Заключенные хотели остановить их, но солдаты ответили автоматным огнем. Первым в этом неравном бою погиб каторжник Мыкола Худоба. А когда машины продвинулись дальше, солдаты открыли огонь по всей массе людей, все попадали на землю; падали убитые, раненые и живые. Когда, таким образом, сопротивление каторжан было сломлено, солдаты соскочили с машин и разошлись по всей зоне, чтобы не дать людям подняться. В зону вошли офицеры, которые добивали раненых и разыскивали тех заключенных, которых хотели еще и расстрелять.
Эту расправу ярко иллюстрирует случай с представителем нашей зеленой и певучей Буковины, Костей Королем. Когда он лежал лицом к земле, к нему подошел офицер и выстрелил из пистолета в его левую лопатку. Но, наверное, потому что из-за чрезмерной стрельбы пистолет перегрелся, убойная сила пули ослабела и она не достигла своей цели, а застряла на поверхности тела Кости. Потом эту пулю вынули из него зубами. Шрам этот Костя носит на своем теле и поныне. Но как бы ни была подавлена и парализована воля людей, среди них нашелся один, набравшийся храбрости наброситься на солдата. Он отнял у вояки автомат, и, мгновенно разрядив магазинную коробку, бросил её в сторону, а автомат — другую, показал, таким образом, своё презрение к грубому насилию.
Совершенно не обращал внимания на смертельную опасность и лагерный фельдшер Иоазас Козлаускас. Он весь день бегал среди раненых и оказывал им первую медицинскую помощь.
За это ему пришлось потом расплатиться своими ребрами.
Мы не знаем и не можем точно узнать, сколько там было убитых и раненых. По примерным оценкам, убито было около ста человек, а ранено — около четырехсот. Погиб в этой бойне и тот славный румынский капитан, отказавшийся от освобождения! Об этом благородном румыне с восхищением рассказывали все каторжане, но никто не мог припомнить его фамилии.
После того, как администрация стала полновластным хозяином зоны, начался отбор активистов забастовки. Отобранных бросали в яму возле вахты, потом на них прыгали, били их и топтали, как только умели и могли. Особенно бесились конвоиры и надзиратели, когда видели на ком-нибудь кровь, над раненым издевались с запредельной жесткостью. Когда раненые спросили Беспалову, стоявшую над ямой, как она, врач, на все это смотрит, она ответила:
— Я, в первую очередь, чекист, а потом — врач.
После такой «санитарной обработки» заключенных набивали битком в воронок и отвозили в тюрьму, где их пропускали через тюремную молотобойку.
Здесь, коме обычных и традиционных методов избиения людей — кулаками, молотками, ногами и подбрасывание вверх с последующим ударом всем телом о землю, — было введено и такое «утонченное» издевательство: женщины из тюремного персонала вытанцовывали своими острыми каблуками танцевальные па на спинах избитых, искалеченных и раненых людей.
Все же никто не пал духом. Люди рассказывали, как в них стреляли, как их били и топтали, не с грустью, не с жалостью, не с гневом, а с веселым юмором. В камерах, среди хруста поломанных костей и стонов раненых, господствовало бодрое настроение, никто не плакал и не горевал.
Как-то меня вызвали из камеры вместе с заключенным Коваленко (из 5-го лаготделения) и повезли в Управление Горлага, где меня допросил подполковник Завольский.
— Кто был вашим телохранителем?
— Все пять тысяч заключенных.
— А конкретно?
— Это и есть конкретно.
— Жаль, жаль, что не нашлось человека, который бы убрал вас на тот свет, тогда бы не было всего этого в Норильске…
— Но все это должно было произойти!
Позже в нашей же тюрьме, какой-то капитан вызывал к себе Иозаса Казлаускаса и начал нападки:
— Ах вы, фашисты! Вы что, советскую власть хотели перевернуть?
— Мы боремся за ликвидацию всех тюрем и лагерей, а вы за их сохранение. Теперь подумайте, кто фашисты: мы или вы?
— Вы думаете, что говорите? — обозлился капитан. — Вы знаете, что это означило бы, если бы мы распустили все тюрьмы и лагеря? Это означало бы конец Советской власти!
Лучше и не скажешь. Этот капитан хорошо понимал, на чем держится советская власть!
Нас выводили на прогулку, скованными попарно наручниками. А так как нас было девять (Недоростков уже начал ходить) то последнего сковывали одного. Но как-то, хотя я и не был последним, а имел напарника, надзиратель «смилостивился» надо мной и сказал:
— Ты, Грицяк, наверное, любишь ходить сам, а не в паре? Да? Давай я надену наручники тебе одному.
Так мы вышли на очередную свою прогулку. Но только мы начали ходить по прогулочному дворику, огражденному от общего тюремного двора несколькими рядами колючей проволоки, как на проходной вахты показался начальник тюрьмы Ширяев и его заместитель Бейнер. Мы насторожились и остановились.
Низкого роста, плотной комплекции Ширяев шел впереди, а высокий, костлявый и несколько мосластый Бейнер — следом за ним. Оба очень бледные и, когда шли, смотрели в землю. От них исходил какой-то необъяснимый страх. Мы не спускали с них глаз. Когда они прошли мимо нас, мы увидели, что у них у обоих с собой пистолеты «ТТ». Вон оно что! Будет новая жертва!..
— Заходите! — крикнул нам надзиратель сразу после того, как Ширяев и Бейнер вошли в тюрьму.
— Мы пошли, так и не пробыв на свежем воздухе свои пятнадцать минут. Все шли попарно, а я, будучи один, шел последним. Когда уже все, кто шел передо мной, вошли из приемной в коридор, Бейнер остановил меня легким прикосновением руки и тихо шепнул:
— А ты, Грицяк, останься!
В одно мгновенье ко мне повернулось восемь вспотевших лиц. В их широко раскрытых глазах — испуг и молчаливое «прощай»! Я тоже смотрел на них и хотел всех запомнить. Сильней всего врезалось в память лицо терского казака Василия Цыганкова. Мы все словно окаменели. Наконец Бейнер говорит: — Ну, хватит вам, идите в камеру!
Еще одно молчаливое «прощай» и коридорная дверь закрылась.
— Становитесь вот здесь, — сказал мне Бейнер, подводя меня к стене.
— Почему здесь? — подумал я, а не в молотобойке, где это обычно делается? Может, они хотят оставить следы своей работы именно здесь, на виду, для острастки другим?
Ширяев и Бейнер подошли к столу. Я не спускаю с них глаз. Мой мир сузился до этих двух помощников Смерти. Тут Ширяев упирается пальцем правой руки, в какую — то бумагу, которая лежала, открыто на столе и вопросительно смотрел на Бейнера.
— Только не бойся! — подбадриваю себя. — Ты знал, на что шел. Прими свою смерть, как подобает, как одну из неотвратимых фаз своего бытия. Сейчас самое главное — не дрогнуть!
Наконец, Ширяев вяло поворачивается, делает несколько шагов в сторону, садится на одну из трех ступенек, ведущих к его кабинету, опирается локтями на колени и опускает голову на руки. Бейнер тяжело садится в кресло возле самого стола и так же отпускает голову. Оба сидят молча, напряженно.
А я тем временем ушел в прошлое и за считанные мгновения увиделся со своими родными и друзьями, снова пережил особо памятные события моей жизни.
Вот мне тринадцатый год. Я медленно, еле переставляя ноги, прохожу возле дома О.В. Почему-то очень хочется видеть ее. А она уже влезла на плетень и весело улыбается. Поравнявшись с нею, я смущаюсь и иду дальше ускоренным шагом. Будто я сюда просто так пришел, невзначай!
А вот незабываемое 13 апреля 1944 года. Меня впервые арестовывают в соседнем селе Пидвысока «ястребки» с двумя представителями городенковского МГБ. Они подводят меня к хате Василя Навчука, приставляют к стенке, нажимают на грудь стволами карабина и револьвера и пристают:
— Ну, где был? Говори!
А дальше я — боец Красной Армии и принимаю участие в самой большой и самой бессмысленной в истории человечества войне, где с обеих сторон миллионы людей положили свои головы не за свободу, не за справедливость, а за свой собственный гнет и свой собственный способ самоуничтожения, не за демократию, а за красную или коричневую диктатуру, не за народ, а за его тупых и кровавых тиранов!
Завершается цикл воспоминаний сном, который я видел накануне моего второго ареста: где-то я перехожу по мосту с правого берега реки на левый. Вдруг вижу — за мной гонится Смерть с белым платком на черепе и с косой в костлявых руках. Я убегаю, а она меня догоняет. Вот я уже бегу по берегу и снова взбегаю на мост. Смерть все еще стремиться достичь меня, не прекращает своего бега. Но взбежав на мост в третий раз, я подумал, что из моего побега ничего не получится, что я в конце — концов устану, и тогда Смерть догонит меня и легко прикончит. Лучше буду бороться с ней, пока еще не выбился из сил. И вот посреди моста я вдруг поворачиваюсь к ней лицом и становлюсь в боксерскую позицию. Смерть усмехается и легкомысленно подбегает ко мне поближе. Я начинаю дубасить ее по сухим белым ребрам. Смерть разворачивается и удирает…
Наконец, Бейнер зашевелился, тяжело вздохнул и, подняв голову, вопросительно смотрит холодными жестяными глазами на Ширяева. Тот тоже поднимает голову и, тяжело вздохнув, склоняет в сторону, пожимает плечами и разводит руками, словно говоря:
— Не знаю, делай, что хочешь.
Бейнер поднимется с кресла, выпрямляется. Его высокая худая фигура со скуластым лицом и впалыми щеками напоминает мне мою Смерть.
Наконец Смерть-Бейнер идет уже ко мне. Я стою тихо и спокойно.
Теперь приемная тюрьмы, Ширяев, Бейнер и я сам — все это стало для меня только тенями, а не живой реальностью. Мне казалось, что все это уже давно произошло, а теперь я только это все вспоминаю. Вся эта сцена казалась мне только продолжением цепи моих предыдущих воспоминаний. Реальный мир для меня больше не существует, все — иллюзия!
Но Бейнер почему-то не вынимает из кобуры пистолет, а достает из кармана ключ, открывает коридорную дверь, велит мне идти вперед. Я иду, он — вслед за мной.
Мне уже не раз приходилось слышать, что некоторые исполнители смертных приговоров не могут сделать свое дело, когда жертва смотрит им прямо в глаза. То ли они боятся, что эти страшные глаза будут будить в них укоры совести, а может их раздражает истерика, в которую впадают некоторые люди в свой предсмертный час — не знаю. Но я много раз слышал, что во многих тюрьмах смертные приговоры исполняются выстрелом в затылок, когда узник идет по коридору и не видит, что происходит сзади него. Среди заключенных Норильска было распространено мнение, что именно таким образом в этом коридоре окончили свой жизненный путь многие люди.
Но мне выпал иной жребий. Когда я сравнялся с дверью своей 12-й камеры, Бейнер остановил меня, открыл дверь и снял наручники. Я вошел в камеру и стал у порога.
Мне хотелось побыстрей лечь и обо всем забыть, но к нарам, где лежали люди, не хотелось приближаться. Я ушел в правый угол, где стояла большая параша, сел на ее широкую круглую крышку и, подтянув колени к подбородку, впал в забытье. Я уже не хотел видеть или слышать людей. Я лучше зарылся бы как-нибудь глубоко в землю, чтобы туда не могли проникнуть ни звуки человеческой сцены, ни даже свет дня. Я жаждал полного одиночества, тишины и мрака; я даже хотел забыть самого себя и впасть в забытье…
Мои сокамерники, наверное, понимали мое состояние и не трогали меня никакими расспросами. Они лежали на нарах напряженно, молча.
Нерешительность исполнителей моего приговора мы объясняли потом тогдашней неустойчивостью в верхах.
VII. Снова этап
6-го сентября нам неожиданно велели готовиться к этапу и начали нас перегруппировывать. Меня перевели в какую-то большую камеру, где было уже много назначенных в этап заключенных. Набрав таким образом 34 человека, нас вывели во двор и проверили по списку. Закончив проверку, офицер объявил:
— Вы будете ехать в третьем вагоне. Старшим вагона назначается заключенный Грицяк.
Обычно старшими в вагонах назначали тех, кто имел минимальные сроки заключения и хотя бы в какой-то степени пользовался доверием администрации. Обязанности старшего по вагону унижали заключенного в общем мнении, хотя практически никакой роли в охране этапируемых заключенных он не играл.
У меня был максимальный срок наказания 25 лет. К тому же своим поведением в лагере я никак не заслуживал ни малейшего доверия администрации. И все-таки вопреки здравому смыслу и установленному порядку меня назначили старшим.
Наверное, они хотят меня унизить в глазах других заключенных и вызвать у них какое-то подозрение ко мне, — подумал я про себя и не придал этому факту особого значения.
На этот этап было приготовлено семь таких групп. Каждую группу сопровождал к вагону отдельный конвой. Перейти из одной группы в другую никто не мог.
Мы разместились уже в своем вагоне, кто где, и начали гадать, куда нас вывозят. Конвоиры тем временем заполняли людьми другие вагоны. Нам не терпится побыстрей оставить Норильск.
Тут ко мне подходит один пожилой заключенный и говорит:
— Ты, старший, ты считал, сколько нас в вагоне?
— А с чего бы это я должен считать? — нахально отрезал я. — Я в помощники начальника конвоя не записывался. Пусть сами и считают, если им это нужно.
— Но, но! Ты не горячись, — продолжил старик, — а лучше подумай, чем это все может для тебя закончиться. Дело в том, что нас должно было быть тридцать четыре, а имеется тридцать три. Я слышал, что со всеми зачитали Дидуха, а почему же его с нами нет? Куда он мог деваться? Давай, подумаем! Все мы хорошо знаем, что он не убежал и никуда сам не мог отлучиться. Его могли отвести куда-то в другой вагон. А когда в тундре поезд остановится и конвой сделает проверку, то окажется, что у нас одного не хватает, а ты, старший вагона, об этом не доложил. Тебя тогда вытащат из вагона и расстреляют, либо так тебе всыплют, что ты даже до Дудинки живым не доедешь.
Так вон оно что! Норильск таки не хочет выпустить меня живым, а я наивно думал, что он только унизить меня хочет!
Я встал и пересчитал всех. Одного и вправду нет. Обращаюсь к конвоирам, чтобы позвали начальника конвоя. Начальник не идет. Я еще раз вызываю его — не идет. Только на четвертый раз он пришел и сердито спросил:
— Что случилось?
— У нас нет одного человека. Проверьте!
— Хорошо, — равнодушно бросил он и пошел прочь.
Я снова настойчиво зову его и требую сделать проверку. Дидуха вправду нет. Начальник в сердцах хлопнул дверью и вскоре привел к нам Дидуха, которого он же сам отделил от нас и затолкал было в другой вагон.
Опасность обошла меня.
В Дудинке мы просидели в вагонах еще полтора суток, снова размышляя о том, что нас ждет. Если нас запхнут в какую-то ветхую баржонку, наши шансы на жизнь будут мизерными.
8 сентября 1953 года, ровно через год с того времени, когда мы приехали сюда, нас разместили в трюмах пассажирского парохода «Мария Ульянова»
С сердца свалился тяжкий камень. Нас не перестреляли в Норильске, не потопят и Енисее. Мы будем жить!
Нас уже ждала Владимирская тюрьма…
Вместо послесловия
В 1978 году, то есть в 25-ю годовшину Норильского восстания, мой хороший знакомый, давний (тогда еще нелегальный) священник о. Зиновий Карась побудил меня написать воспоминания о том восстании. Я кратко описал течение тех событий под названием «Краткая запись воспоминаний» (для самого себя). Вскоре мне удалось передать рукопись на Запад, в чем мне очень помог широко известный деятель искусства и украинский политзаключенный Панас Залываха.
И вот в 1980 году мои воспоминания вышли из печати в издательстве «Смолоскып (Факел)» США.
Иваново-Франковские чекисты отреагировали на появление этой книги немедленно и весьма нервозно.
От меня потребовали:
1. Назвать канал передачи рукописи на Запад.
2. Отречься от своей работы и запретить ее распространение.
3. Сдать в КГБ копию рукописи.
Само собой разумеется, требования КГБ не были удовлетворены. Тогда мне пригрозили новым арестом и дали понять, что этот арест будет для меня уже последним.
В ответ на эту угрозу я написал открытое письмо Брежневу, которое также было опубликовано на Западе. Копию этого письма прилагаю к этому изданию.
И в этот раз те давние заключенные, что имели возможность прочесть мои воспоминания, были недовольны тем, что я привел там очень мало имен активных участников восстания. Это, должен признать, очень существенное замечание. Однако к тому времени я не мог поступить иначе, так как не хотел, чтобы на этих людей было обращено лишнее внимание со стороны КГБ.
Как это обычно делалось, поясню таким примером: после повторного ареста в январе 1959 года меня содержали несколько дней в Карагандинском изоляторе КГБ. Допрашивал меня «специалист по делам бандеровцев» капитан Шишигин, который среди прочего спросил:
— Вы в своем 4-м лаготделении были руководителем всего процесса. Так не могли бы вы нам сказать, кто там у вас подделывал ключи к тюремным дверям, чтобы с ними напасть на тюрьму и освободить из нее всех тех, кого там содержали?
— Меня удивляет, — отвечаю ему, — почему этот вопрос до сих пор Вас интересует? Во-первых, та тюрьма и даже та зона уже давно не существует. Если бы у кого-то и сохранились бы такие ключи, что с того? А во-вторых, если бы та тюрьма еще до сих пор существовала, а вы узнали о подготовке нападения на нее, то вы немедленно заменили замки, усилили охрану и никакого нападения на тюрьму не получилось бв. Я не понимаю, почему Вы до сих пор интересуетесь теми ключами?
— Мы интересуемся не ключами, — отвечает Шишигин, — а людьми! Нас интересует, кто на что способен!
Вот почему, дорогие друзья мои, я не мог объявить на страницах моих воспоминаний, кто из вас на что способен.
На сей день в памяти как моей, так и моих близких друзей сохранились такие имена:
Украинцев: Евген Горешко, Василь Николишин, Михайло Марушко, Кость Король, Степан Семенюк, Мелетий Семенюк, Роман Загоруйко, Данило Шумук, Мирослав Мелень, Игорь Петращук, Василь Друпак, Степан Венгрин, Степан Киндрацкий, Иван Гальчинский, Иван Кляченко-Божко, Павло-Кушта, Богдан Самотий, Степан Пополчак, Мыкола Малиновский, Тарас Супрунюк, Васыль Корбут, Мария Ныч, Мария Чорна, Стефания Коваль, Ганна Мазепа, Леся Зелинская, Лина Петращук, Уляна Стасюк.
Русских: Владимир Недоростков, Иван Стрыгин, Федор Смирнов, Петр Дикарев, Владимир Русинов, Павел Фильнев, Владимир Трофимов, Михаил Измайлов, Иван Касилов, Борис Шампаев.
Белорусов: Григор Климов, Семен Крот, Александр Шовейко, Виктор Ермолович, Лев Коваленко.
Литовцев: Иозас Лукшис, Ионас Леникас, Витас Петрушайтис, Иозас Козлаускас.
Латышей: Александр Валюмас, Лидия Дауге.
Эстонок: Атра Тофри.
Евреев: Семен Бомштейн, Григорий Санников, Ефим Гофман.
Чеченца: Ахмед Гуков.
Австрийца: Пауль Френкель.
Без какого-либо преувеличения могу уверенно сказать, что все эти бывшие узники Горного лагеря были инициаторами и руководителями той великой и тяжелой борьбы, что вошла в историю под названием Норильское Восстание.
Хотя Норильское восстание было первым и наибольшим восстанием в системе спецлагерей ГУЛАГа, оно не было единственным в своем роде. В том же 1953 году так же восстали узники Воркуты, в следующем, 1954 году, — заключенные Кенгира.
Все эти восстания имели столь большое политическое и историческое значение, что теперь ими заинтересовались многие исследователи — Алла Макарова из Норильска, Николай Формозов из Москвы и Марта Кравери из Рима.
Прежде всего, перед исследователями этих событий возник такой вопрос: А что там происходило на самом деле? Восстание, забастовка или просто массовое неповиновение? Алла Макарова настаивает на названии «восстание» и аргументирует свою позицию так: «…хотя термин «восстание» также предлагали работники МВД (во время следствия и суда над руководителями комитета возникла идея квалификации их действий как «антисоветского контрреволюционного вооруженного восстание») мы остановимся все же на нем, имея в виду не вооруженное выступление заключенных, а его противоположность — «восстание духа» — как высшее проявление ненасильственного сопротивления бесчеловечной системе ГУЛАГа»
Однако перед исследователями этого движения возникает еще один вопрос: Как это произошло? Была ли это хорошо организованная и заранее спланированная акция, или это был стихийный порыв заключенных в ответ на систематические провокации со стороны администрации лагеря?
Теперь мы уверенно можем сказать, что это была общая и хорошо организованная реакция заключенных на бесчисленные провокации со стороны администрации лагеря.
Здесь следует отметить, что кроме известной всем серии расстрелов, администрация старалась вызвать среди нас массовые беспорядки и иным способом, о чем красноречиво свидетельствует выписка из жалобы заключенного 1-го лаготделения И.С. Касилова, которую цитирует в журнале «Воля» Алла Макарова: «… примерно 9 мая 1953 года з/к Вольяно был посажен в ШИЗО. Находясь в изоляторе, Вольяно каким-то образом узнал о том, что в этом изоляторе находится группа заключенных, завербованных работниками оперативного отдела для производства так называемой «волынки». Эта группа получила инструктаж от работников оперативного отдела и администрации лагеря, как и когда начинать «массовые беспорядки». 22 мая з/к Вольяно был выпущен из ШИЗО, отсидев срок.
Надо заметить, что в это время, т.е. между 20 и 25 мая, из всех штрафных изоляторов и БУРов Горного лагеря были выпущены ранее содержавшиеся в них, чтобы эта озлобленная и завербованная масса смогла начать беспорядки. Так как с Вольяно я был очень хорошо знаком по двухгодичному пребыванию в одной бригаде, то при встрече на руднике «Медвежий ручей» Вольяно сказал мне: «Иван, готовится ужасное дело. Люди, которым все верят (кому это все верят и кто те, кто верят, я еще не знал) завербованы оперотделом, чтобы подвести массу заключенных под расстрел». Я был чрезвычайно поражен этим, так как до этого не подозревал, что в лагере что-то готовится. Услышав об этом, я посоветовал Вольяно, чтобы оповестил всех заключенных… Вольяно страшно перепугался и начал упрашивать меня, чтобы я никому не рассказывал об услышанном, т.к. в противном случае нас немедленно убьют… Уже 26–27 мая в жилую зону 1-го лаготделения были занесены 200 ломов и топоров, чтобы устроить настоящую резню. Но благодаря тому, что некоторые лагерники поняли провокацию, резни не произошло. Причем весьма интересно отметить, что вокруг зоны была срочно выставлена дополнительная охрана (солдаты стояли на расстоянии 10 метров друг от друга), чтобы во время резни заключенные не могли выскочить за зону.
1-го июня в производственной зоне рудники «Медвежий ручей» группой в шесть человек, одетых в бушлаты с номерами, была предпринята попытка взорвать главный трансформатор на ГПП, питающей электроэнергией рудник «Медвежий ручей» и рудник 3/6. Когда же заключенные, заметившие диверсантов, хотели их поймать, эта группа пустилась наутек и была пропущена сквозь колючую проволоку. Часовой, стоявший на вышке, огня не открыл…» (От себя добавлю, что в это же время один из моих знакомых предложил мне приобрести пистолет ТТ).
Все тогдашние события и доступные нам теперешние документы дают основание утверждать, что наиглавнейшим фактором, подвигнувшим нас на решительные действия, были систематические провокации против нас.
После выхода из печати моего первого варианта воспоминаний о Норильском восстании (США, 1980 г.) мне очень часто приходилось беседовать на эту тему в высокими чинами КГБ. Один из них, полковник Павленко, как-то спросил меня:
— Как вам удалось все это организовать?
— Мы ничего не организовали, — ответил я — нас на это спровоцировали.
— Да, подтвердил Павленко, — вас провоцировали, но они не ожидали таких масштабов…
— А какие именно масштабы были им нужны?
Наверное, они ожидали таких масштабов, какие бы дали им возможность, как в свое время сказал подполковник Сарычев, половину из нас перерезать. Но случилось непредвиденное!
Здесь напрашивается еще один вопрос: стреляли ли солдаты в нас по приказу или, может быть, действовали по собственной инициативе, как того требовали обстоятельства и соответствующая инструкция?
На этот вопрос могут пролить свет обстоятельства убийства Эмиля Софронюка.
Вот как это произошло.
25 мая 1953 года из штрафного изолятора 4-го лаготделения конвой этапировал 16 заключенных в 5-е лаготделение. Тогда уже таял снег, в тундре было много воды.
Конвой вел заключенных прямо на яму с водой (потом следствием было установлено, что яма имела размеры 8x12 метров). Заключенные отказались идти в воду и сели перед ямой на землю. От вахты к месту события прибыл конвойный сержант Цыганков. Он спросил у конвоиров, кто здесь зачинщик. Конвоиры указали на Эмиля Сафронюка, который сидел в передней пятерке средним. Сержант Цыганков убил Софронюка прямым выстрелом в голову.
В своем письме от 2 августа 1954 года Цыганков так оправдывал свои действия: «Нас информировали, что заключенные 4-го лаготделения готовят план разоружения нашего батальона. По их плану предполагалось: вечером, в час, когда одна часть батальона будет на службе, вторая выйдет на смену первой, третья будет конвоировать заключенных к месту работы и обратно с работы, сделать «рывок» при выводе на работу вечерней смены и, ворвавшись в воинскую часть, завладеть запасным оружием и боеприпасами… развивать свои действия на захват Норильска и Дудинки в свои руки, после чего связаться с США…
Нас постоянно предупреждали, что готовится к побегу большая группа заключенных. Когда и где произойдет побег, сказать нам не могли. Но нас информировали, что к побегу уже все готово и только ожидают случая. Лучшего момента, чем 25 мая 1953 года, им и не надо было, потому что у нас был хозяйственный день и в подразделениях никого не было, все были в бане. Офицерский состав выехал на автомашинах на обед и если бы заключенные 70-го квартала сделали рывок на воссоединение с теми заключенными, что были за зоной (16 человек), то их никто бы не остановил, потому что конвой применить оружие не мог, на помощь не было кому придти. Неужели я был обязан ждать этого момента? Хотя бы и не было заключенных в 70 квартале, неужели я должен был ждать, когда заключенные бросятся на конвой?»
А вот как расценивает события тех дней начальник тюремного управления полковник Кузнецов.
Справка
25 мая этого года при этапировании заключенных 1-го лаготделения в 5-е охраной было применено оружие, в результате был убит заключенный Шигайлов и ранен заключенный Дзюбук.
Того же 25 мая при этапировании заключенных 4-го лаготделения в количестве 16 человек в 5-е отделение за неповиновениение охраной было применено оружие, в результате был убит заключенный Сафронюк Эмиль Петрович.
26 мая младший сержант Дятлов, 1931 года рождения, призыва 1951 года, беспартийный, разводящий караул в производственную зону кирпичного завода, без всякого основания открыл автоматную стрельбу по заключенным, находившимся в жилой зоне 5-го лаготделения, в результатае ранил 7 заключенных — Климчука, Медведева, Коржева, Надейко, Уварова, Юркевича и Кузнецова.
Эти факты озлобили заключенных 4-го, 5-го лаготделений в количестве 7000 человек, последние отказались выйти на работу, ведут себя крайне возбужденно, отказались выполнять распоряжения администрации лагеря, выставили категорическое требование о приезде московской комиссии…
27 мая 1953 года.
Начальник тюремного Управления МВД СССР, полковник М. Кузнецов
Сопоставив все факты и даты, уже упоминавшаяся нами Алла Макарова пришла к такому выводу: «… Норильское восстание началось стихийно и неодновременно (курсив мой). 4-е лаготделение (3,5 тысячи человек) и оставленные в окружении Горстроя 1,5 тысячи заключенных отказались от работы 25 мая, после убийства Софроника. 5-я и 6-я зоны забастовали в ночь с 26-го н а 27 мая — после расстрела Дятловым заключенных в 5-й зоне… Что касается 1-го лаготделения, то оно включилось в забастовку лишь во второй половине дня 1 июня, а каторжане (3-е лаготделение Горлага) — 4-го июня, после инцидента у штрафного изолятора и расстрела заключенных в жилой зоне…»
Все эти обстоятельства, причины и события так туго переплелись между собой, что их тяжело, да и невозможно, расчленить, чтобы определить первенство какого-либо одного из них. Но, несмотря на это все, мы уверенно можем назвать события тех дней НОРИЛЬСИМ ВОСТАНИЕМ, положившего НАЧАЛО КОНЦА порочной политико-экономической системы.
Во что нам это обошлось?
По приблизительным и вероятным оценкам в Норильске во время нашего восстания погибло около 150 заключенных. Все они похоронены на кладбище для заключенных Норильска возле горы им. Шмидта, где силами норильского «Мемориала» построена часовенка.
Из архивных документов известны только имена тех заключенных, которые погибли во время обстрела 3-его каторжного лаготделения 4-го июля. Командовал этой акцией майор Полостяной.
Ниже приведены справки обо всех тех, кто тогда погиб. Справки взяты из упомянутого журнала «Воля».
Справка
по личному делу заключенного Хомик А.Т.
Заключенный Хомик Андрей Тихонович, 1926 г. рождения, уроженец и житель села Волыця Берестецкого района Волынской области, украинец.
Военным трибуналом войск НКВД Волынской области 11 мая 1945 г. по ст. 54–16 УК УССР осужден к 20 годам каторжных работ.
4 июня убит во время беспорядков в 3-й лагерном отделении.
Справка
по личному делу заключенного Деркач И.С.
Заключенный Деркач Игнат Селиверстович, 1923 г. рождения, уроженец и житель Почаивского района Тернопольской области, украинец.
Военным трибуналом гарнизона г. Чорткова 24–25 мая 1946 года по ст. 54-1а УК УССР осужден к 15 годам каторжных работ.
4 июля 1953 года убит во время беспорядков в 3-ем лагерном отделении.
Справка
по личному делу заключенного Прокопчук Р.И.
Заключенный Прокопчук Роман Иванович, 1923 г. рождения, уроженец села Пивча Мизочского района Ровенской области, украинец.
Военным трибуналом воиск НКВД Ровенской области 31 мая 1945 года по ст. 54-1а УК УССР осужден к 15 годам каторжных работ.
4 июля 1953 года убит во время беспорядков в 3-м лагерном отделении.
Справка
по личному делу заключенного Осташ Б.М.
Заключенный Осташ Богдан Николаевич, 1925 г. рождения, уроженец села Ляцьке-Шляхецке Пидгорное Тысменецкого района Станиславской области, украинец, беспартийный.
Военным трибуналом войск МВД Львовской области 18 июня 1946 г. по ст. 54-1а УК УССР осужден к15 годам каторжных работ.
4 июля 1953 года убит во время беспорядков в 3-м лагерном отделении.
Справка
по личному делу заключенного Попик И.И.
Заключенный Попик Иван Иванович, 1925 г. рождения, уроженец и житель с. Крупско Николаевского района Дрогобычской области, украинец.
Военным трибуналом войск НКВД Дрогобычской области 28 апреля 1945 г. по ст. 54-1а и 54-II УК УССР осужден к 15 годам каторжных работ.
4 июля 1953 года убит во время беспорядков в 3-м лагерном отделении.
Справка
по личному делу заключенного Прийдук И.А.
Заключенный Прийдук Иван Андреевич, 1921 г. рождения, уроженец и житель села Ценивка Козовского района Тернопольской области, единоличник, с нишим образованием, беспартийный.
Военным трибуналом войск НКВД Тернопольской области 13 июля 1945 г. по ст. 54-1а УК УССР осужден к 15 годам каторжных работ.
4 июля 1953 года убит во время беспорядков в 3-м лагерном отделении.
ПОМЯНЕМ ИХ
Дополнение
Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Леониду Ильичу Брежневу,
товарищу по фронту, по перу,
по единому советскому гражданству.
Открытое письмо по поводу нашего равноправия.
Уважаемый товарищ, Леонид Ильич Брежнев!
«Это что за товарищ у меня объявился?»- мимоходом спросите Вы, прочитав мое к Вам обращение. И это совершенно естественно, ведь и я же сам скорее назвал бы себя Вашим антиподом, нежели товарищем: ибо по своей сути себя наше товарищество чисто формальное, а не настоящее.
А началось оно еще тогда, когда Вы возглавляли Политуправление 4-го Украинского фронта, а я в составе 265-й отдельной штрафной роты, того самого фронта, «искупал свою первую вину перед Отечеством».
Как видите, наши жизненные пути уже тогда не сходились, а после войны и службы в армии они разошлись еще больше. Вы пошли по линии служения родине на наивысших и наиответственнейших партийно-государственных постах, а я — по линии дальнейшего «искупления вины перед родиной» в так называемых «исправительно трудовых лагерях». Вас родина отмечала золотыми медалями и высочайшими полномочиями, меня — лагерным номерным знаком и лишением всех прав. Ваш путь широкий и светлый, мой — узкий и сумрачный.
Однако каждому человеку перед окончанием его пути (каким бы он ни был), хочется оглянуться назад, вспомнить главнейшие этапы и, если есть такая возможность, зафиксировать их на бумаге. И мы оба это сделали: Вы написали всемирно известную трилогию воспоминаний, в которой зафиксировали важнейшие этапы Вашего светлого пути, а я сделал мало кому известную «Краткую запись воспоминаний», в которой отметил только один, но, по-моему, важнейший этап моего сумрачного пути.
И хотя мы писали свои воспоминания, исходя из противоположных позиций и на разном уровне, нас все таки объединяет то, что мы оба писали чистую правду об одном и том же, то есть, о советской действительности. Иными словами, мы описали две различные стороны одной и той же медали. И поскольку мы писали в одинаковом жанре, я осмелился назвать Вас товарищем по перу.
Третье, и в юридическом смысле важнейшее, наше товарищество состоит в едином советском гражданстве.
Но тут следует отметить, что я родился не в Советском Союзе и советское гражданство получил вопреки моему желанию. Вот поэтому, да и не только поэтому, я уже дважды подавал официальное заявление в соответствующие органы советской власти с просьбой разрешить мне и моей семье выехать из СССР. Однако получил категорический отказ и остаюсь советским гражданином по настоящее время.
Но, несмотря на все это, мне все же приятно отметить, что все граждане Советского Союза перед законом равны, хотя в то же время горько сознавать, что советская власть не всегда этому закону подчиняется. А там, где есть возможность не подчиниться закону, либо обойти его, там его нет!
Возьмем для примера нас с Вами. Оба мы равноправные граждане Советского союза и как я уже отмечал, оба написали свои воспоминания. Вы описали свой путь, я — свой. И оба мы писали о том, что видели, сами пережили, и что глубоко запало в нашу память. Вы опубликовали свои воспоминания в Советском Союзе и за рубежом, я — только за рубежом. Но Вас не вызывают, как меня, в КГБ, и не спрашивают, каким путем Вы передали за рубеж Ваши воспоминания, от Вас не требуют отречения от Вашего труда, Вам не грозят судом, на Вас не расставляют провокационные силки. Наоборот, Вас восхваляют и вами восхищаются.
Теперь я хочу спросить Вас, почему получается так, что два одинаковых действия двух равноправных граждан так неодинаково оцениваются? Почему Вы, товарищ Брежнев, подписав заключительный акт Хельсинкских соглашений, в которых, среди прочего, говорится, что граждане всех стран — участниц Соглашений имеют право получать и распространять информацию независимо от государственных границ, сами пользуютесь этим правом, а мне, через органы госбезопасности, угрожаете судом?
Вот пример: как-то ко мне домой в с. Устя пришел работник оперативного отдела Ивано-Франковского УКГБ майор Петренко и говорит: «Ну что, Евгений Степанович, вы, наверное, полагаете, что органы притихли и вам все так сойдет. Нет, ошибаетесь, так вам не пройдет. Мы уже имеем все необходимые доказательства: вашу книжку, что вышла в США, мы уже имеем. Стилистическая экспертиза установила, что стиль ваш. И напрасно вы не хотели отдать нам копию вашей рукописи, побоявшись, что она может быть использована против вас, как вещественное доказательство. Вашу рукопись мы уже имеем, ну а вы имеете машинку, сопоставить не трудно. Вот и все. А может, — продолжает он, — вы рассчитываете, что на Западе поднимут вопли из-за вас и потому мы вас не тронем? И тут вы ошибаетесь. Мы теперь имеем две головные боли: это Афганистан и Польша, а на такие мелочи, как вы, мы уже не обращаем внимание»
Я никак не отрекался от своих воспоминаний, наоборот, я всегда говорил: «Да, я написал их и сам передал в печать. Они изданы с моего ведома и разрешения».
Поэтому все доказательства, что привел майор Петренко, я считаю совершенно излишними, и они меня нисколько не интересуют. Интересует меня совсем другое: почему меня собираются судить? Ведь вас никто не судит?!
10 октября 1981 года
Грицяк Евгений Степанович
с. Устье Снятинского района
Ивано-Франковской области
Украинской ССР.


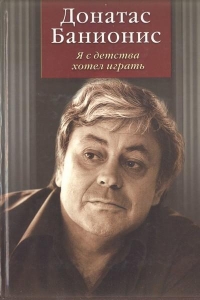
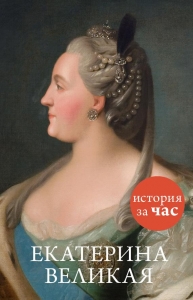
Комментарии к книге «Норильское восстание», Евгений Грицяк
Всего 0 комментариев