Антон Иванович Деникин Очерки русской смуты Том V. Вооруженные силы Юга России
Глава I. Операции Вооруженных сил Юга в каменноугольном бассейне, на Донце и Маныче с января по 8 мая 1919 года
Надежды на осуществление плана кампании при поддержке союзных армий давно уже были подорваны, если не совсем потеряны. Приходилось рассчитывать только на русские силы. В предвидении близкого освобождения Северного Кавказа являлся вопрос о дальнейшем направлении Кавказской Добровольческой армии.
В январе намечена была переброска армии на царицынское направление, с одновременным наступлением против Астрахани, для захвата стратегически важного пункта Царицына и нижнего плеса Волги и для установления связи с армиями адмирала Колчака. Это движение в тесной связи с наступлением в харьковском и воронежском направлениях должно было вылиться впоследствии в общее наступление к центру России.
В этом смысле штабу Кавказской армии предложено было разработать план операции. Но к тому времени, когда явилась возможность начать переброску сил, то есть к началу февраля, обстановка на Северном фронте коренным образом изменилась. Первоначальная линия фронта, подходившая к Курску и Воронежу и обусловливавшая возможность выполнения этого плана, с падением гетманской и петлюровской Украины, откатилась уже к Азовскому морю. Донская армия, доходившая до Лиски, Поворино и Камышина, упавшая духом и совершенно расстроенная, находилась в полном отступлении к Северному Донцу и к Салу. Чувство усталости и безнадежности охватило не только казаков, но и часть донской интеллигенции. Советские войска наступали почти безостановочно, направляясь на Новочеркасск. Круг, атаман, правительство указывали на смертельную опасность, угрожавшую Дону, и просили помощи.
На крайнем левом фланге Донской армии, прикрывая ростовское направление, стоял отряд генерала Май-Маевского[1] — малочисленный, но состоявший из старых испытанных добровольческих полков[2]. К началу января отряд этот, заняв главными силами район Юзовки, выдвинулся в харьковском направлении до Бахмута и Константиновки, в бердянском — до Пологи. На этой линии, перехватив все пути, идущие с севера и запада к Донецкому каменноугольному бассейну, Май-Маевский, то наступая, то отходя, непрестанно маневрируя, с необыкновенным упорством выдерживал напор значительно превосходящих сил: левого крыла Украинского и правого — Южного большевистских фронтов.
На это направление сосредоточено было особое внимание Москвы: там бился пульс хозяйственной жизни страны. И Бронштейн-Троцкий в своих приказах-воззваниях неустанно призывал «пролетариат… вперед — на борьбу за советский уголь»: «В первую голову нам нужен уголь. Фабрикам, заводам, железным дорогам, пароходам, домашним очагам смертельно нужен уголь… В Донецком бассейне зарыт великий клад, от которого зависит благополучие, процветание и счастье всей страны. Этот клад необходимо добыть с оружием в руках…» «Донецкий фронт является сейчас, без всякого сомнения, важнейшим фронтом для всех советских республик. Говоря это, я не забываю о Петроградском фронте, но вполне сознательно считаю, что потеря Петрограда не была бы для нас так тяжка, как длительная потеря Донецкого бассейна. Поскольку советская республика является сейчас крепостью мировой революции, постольку можно сказать, что ключ этой крепости находится сейчас в Донецком бассейне. Вот почему все внимание сосредоточивается сейчас на этом участке обширнейшего фронта советской республики».
Нечего и говорить о том, какое значение имел этот вопрос и для нас — для областей Юга и для всего черноморского транспорта.
Передо мною встала дилемма: приводить ли немедля в исполнение первоначальный план движения главными силами на Царицын и, следовательно, бросить на произвол судьбы Дон и отдать большевикам каменноугольный бассейн… Или, не оставляя царицынского направления, сохранить Донецкий бассейн — этот огромной важности плацдарм будущего нашего наступления, сохранить от окончательного падения и разложения Донское войско. Без малейших колебаний я принял второе решение, и с начала февраля на север потянулись эшелоны Добровольческой армии — в голове Кавказская дивизия генерала Шкуро, за ней 1-я Кубанская дивизия корпуса генерала Покровского, 1-я Терская дивизия и другие части.
Появление помощи оказало решительное влияние на поднятие духа Войска Донского. Имевшая в декабре на фронте свыше 50 тысяч бойцов, Донская армия отошла за Донец с 15 тысячами. Противник нажимал все сильнее в сторону Новочеркасска и в феврале в нескольких местах между Доном и Юго-Восточной железной дорогой прорвался уже через Донец. Во второй половине февраля, однако, донские дивизии переходят в короткие контратаки и с большими потерями отбрасывают противника за реку. Моральное состояние донских войск крепнет. Разлитие Донца вскоре делает этот фронт пассивным, и отступление прекращается.
Большевистские дивизии начинают постепенное передвижение к западу. В районе Луганска вырастает новый сильный кулак красных войск, а южнее возобновляются жестокие, кровопролитные, но безрезультатные атаки на корпус Май-Маевского на фронте Дебальцево — Гришино. Имея разновременно 3–6 тысяч против 10–30 тысяч большевиков, Добровольческий корпус наносит им ряд поражений, и к концу февраля наши сводки отмечают впервые на донском фронте признаки некоторого разложения красных: «части начали митинговать, иногда отказываясь от наступления, а некоторые из них расформировываются…»
Только на крайнем правом фланге, на царицынском направлении, донские войска, в значительной мере потерявшие боеспособность, под напором конницы Думенко медленно, но почти безостановочно отходили к Манычу.
К началу марта стратегическое положение на Северном фронте Вооруженных сил Юга было таково:
1. На царицынском направлении донские войска генерала Мамонтова, номинально 5–6 тысяч, придержались несколько между реками Салом и Манычем, опираясь левым флангом в Дон против станицы Константиновской, и правым — в Манычские озера.
За Манычем сосредоточивалась группа генерала Кутепова, частью в районе Великокняжеской, частью южнее у Дивного — Приютного. Численность ее была 9-11 тысяч, но, кроме 2-го Кубанского корпуса генерала Улагая, прочие части ее находились в стадии формирования, и боевой эквивалент их был невысок[3].
2. Прикрываясь Донцом, располагались главные силы Донской армии генерала Сидорина — около 12–13 тысяч, имея на левом фланге в луганском направлении активную группу генерала Коновалова.
В районе Александро-Грушевского, севернее Новочеркасска, сосредоточивались дивизии генерала Покровского и Шкуро, перебрасываемые также на луганское направление.
3. От станции Колпаково на Волноваху и Мариуполь шел фронт Кавказской Добровольческой армии[4], насчитывавшей всего с подошедшими дивизиями 12 тысяч бойцов. Ввиду наличия одной только железнодорожной магистрали, связывавшей Кавказ с Донецким районом, сосредоточение войск шло крайне медленно.
Таким образом, на всем 750-верстном Северном фронте ВСЮР стояло 42–45 тысяч штыков и сабель[5]. В группировке по различным участкам фронта численное соотношение не играло существенной роли ввиду крайне разнообразной боевой ценности войск. В этом отношении Кавказская Добровольческая армия, прикрывавшая Донецкий бассейн, и конные донские дивизии, действовавшие на луганском направлении, представляли из себя тогда наиболее прочную и внушительную силу.
С севера на юг наступали советские армии Южного (подполковник Гиттис) и Украинского (Антонов-Овсеенко) фронтов. Ввиду неудавшейся операции по захвату Новочеркасска прямым наступлением с северо-востока 8-й и 9-й армиями советское командование изменило план и приступило к перегруппировке.
1. Вдоль железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая наступала, пока еще только конными частями, 23-тысячная 10-я армия полковника Егорова, в состав которой вошла и степная группа, около 10 тысяч, действовавшая восточнее по большому Ставропольскому шляху.
2. По Дону от Чира до устья Донца и по Донцу до впадения Луганчика на широком фронте раскинулась 9-я армия полковника Всеволодова силою в 28 тысяч[6].
3. Западнее, сдвинувшись с воронежского направления, 8-я армия штабс-капитана Тухачевского, около 27 тысяч, производила вкруговую переброску войск на правый берег Донца, в район Луганска.
4. Южнее до Юзовки был фронт 13-й армии Кожевникова, из украинских формирований, усиленной к тому времени до 20–25 тысяч, с главными силами в направлении Никитовки.
5. В районе Юзовки находился стык Южного и Украинского большевистских фронтов, причем на левом фланге последнего развернулась 2-я Украинская армия (позднее 14-я, включавшая «украинские» дивизии, повстанческие отряды Махно, Опанасюка и другие). Эта группа, усиленная до 20–25 тысяч, располагалась главными силами против Юзовки — Волновахи; далее по линии Бердянск — Мелитополь — Перекоп (исключительно) стояла особая Крымская группа.
Таким образом, против Северного фронта Вооруженных сил Юга большевики располагали силами в 130–150 тысяч, расположенными в двух главных группах: на царицынском направлении — 10-я армия и на линии Луганск — Волноваха — 8-я, 13-я и большая часть 2-й Украинской армии. Как следовало из полученных нами позднее в половине апреля сведений из Москвы, советским войскам поставлена была задача уничтожить группу, прикрывающую Донецкий бассейн, для чего: удерживая в центре линию Донца и Дона, нанести главный удар тремя армиями в юго-восточном направлении на Ростов — Новочеркасск[7], одновременно угрожая нашему тылу ударом по Великокняжеской.
2 марта мною отдана была армиям директива, впоследствии несколько видоизмененная в деталях, но в общем ставившая войскам следующие основные задачи: 1) продолжать переброску войск с Кавказа в донецкий район; 2) активно обороняясь на Западном фронте Донецкого бассейна, а также по Донцу и Дону, правым флангом Кавказской Добровольческой армии и левым флангом Донской нанести удар главной массе противника, направляя его на фронт Дебальцево — Луганск; 3) группе генерала Кутепова, по сосредоточении, совместно с правым флангом Донской армии наступать в царицынском направлении, имея ближайшей целью отбросить большевиков за реку Сал.
С конца февраля началось жестокое сражение. На всем пространстве между Азовским морем и Донцом перешли в решительное наступление советские армии, в 3–4 раза превосходившие нас численно. В районе между верхним Миусом и Донцом[8] шли встречные бои между 8-й армией и частью 13-й и нашей ударной группой. Корпуса генералов Коновалова (донской), Покровского (кубанцы и донцы) и Шкуро (кубанцы и терцы), непрестанно маневрируя, наносили один за другим удары советским армиям. В бесчисленных конных атаках они несли тяжелые потери, но наносили противнику еще большие, расстраивая его морально, наводя панику в ближайшем тылу и парализуя наступление неприятельских армий. С большим порывом действовал генерал Коновалов и, преследуя разбитые части большевиков, дважды врывался в Луганск…
На Западном фронте в совершенно исключительной обстановке корпус генерала Май-Маевского[9] вел «железнодорожную войну», применяя особые методы тактики ввиду подавляющего превосходства сил противника. Пользуясь густою сетью железных дорог Донецкого бассейна, он занимал небольшими отрядами важнейшие пункты по линии фронта и держал в тылу на узловых станциях бронепоезда и в вагонах подвижные резервы, которые бросались в угрожаемом направлении, с тем чтобы на другой день, иногда в тот же, переброситься в противоположный конец фронта. У противника создавалось впечатление нашей силы на всех направлениях, но это были одни и те же люди, бессменно, изо дня в день, дерущиеся то там, то здесь, отдыхающие в пути, в вагоне, потерявшие представление о времени суток, истомленные физически, но полные мужества. Недели, месяцы по всему фронту гремели выстрелы, станции переходили из рук в руки, лилась кровь, добровольческие части таяли, но продолжали бороться.
Волна советских войск, захлестнувшая уже Северную Таврию, заливавшая Донецкий бассейн, спадала опять — разбитая и распыленная.
В середине марта после переброски новых крупных советских сил наступление на этом фронте возобновилось с особенной силой в направлении Дебальцева, Гришина и Мариуполя. Фронт Кавказской Добровольческой армии был потеснен. Мы оставили Юзово, Долю, Волноваху, Мариуполь. Ввиду этого коннице генерала Шкуро, взявшей 17-го Дебальцево, была дана задача ударить по тылам Западного фронта. В течение двух недель — с 17 марта по 2 апреля — он прошел от Горлова до Азовского моря, наводя страх на большевиков, разогнав, порубив и взяв в плен несколько тысяч человек, бронепоезда и другую военную добычу[10]. Между Волновахой и Мариуполем генерал Шкуро разгромил, между прочим, «дивизию» Махно, полки которого, как сообщалось в донесении, «обратились в паническое бегство, бросая оружие, шубы, шинели и даже сапоги…». По мере движения конницы и одновременно с нею переходили в наступление войска генералов Май-Маевского и Виноградова, вновь занимая утерянную временно линию.
8 апреля «товарищ» Сокольников, член революционного Военного совета Южного фронта, телеграфировал в Москву:
«Замедление операций на Южном фронте объясняется разложением N-ской армии (вероятно, 13-й?), а также полной небоеспособностью частей Махно. Противник получил отсрочку, которую великолепно использовал… Вместо разбитой Донской армии перед нами стоит новая армия с более свежими силами, чем наши… Наше положение еще нельзя считать поколебленным, но за последние два месяца соотношение сил изменилось в пользу противника».
Советская статистика в феврале, марте и апреле давала официальные цифры дезертиров Южного фронта соответственно в 15, 21, 23 процента.
О «превосходстве» нашем в силах упоминалось постоянно в речах и воззваниях Троцкого: «Наши армии встретились на своем пути с очень многочисленными и свежими (!) деникинскими войсками…», «на многих участках фронта они превосходят нас численно вдвое, втрое…».
Силы Кавказской Добровольческой армии, вместе с донцами ударной группы, не превосходили в ту пору 15–16 тысяч, и успехи наших войск должны быть отнесены исключительно за счет их доблести.
В то время как на Западном фронте разбивался нами напор трех ударных армий, 9-я советская армия на линии Донца не оставалась пассивной. Неоднократно части ее переправлялись в разных местах на южный берег, но попытки их отражались донцами. В конце марта большевики предприняли здесь операцию крупными силами, перейдя реку одновременно у Каменской и Усть-Белокалитвенской[11], отбросили донские части и начали распространяться в глубь района. Но снятый с луганского направления конный корпус полковника Калинина[12] разбил и сбросил в реку большевиков у Каменской и, повернув к Калитве совместно с корпусом генерала Семилетова, с таким же успехом повторил удар и здесь. Повторенные в первой половине апреля попытки 9-й армии переправиться в низовьях Донца окончились также полной неудачей, и на этом фронте наступило затишье.
Одновременно с переправой у Каменской на луганском направлении противник, воспользовавшись ослаблением там наших сил, продвинулся вперед, но переброшенные туда вновь корпуса Калинина и Шкуро, совместно с другими левофланговыми частями Донской армии, в 20-х числах апреля с большим уроном отбросили противника за реку Белую.
Донское войско явно выздоравливало от того повального маразма, который охватил его в январе, вновь приобретало веру в себя, в свои силы, в возможность дальнейшей борьбы. Продолжались еще явления боевой неустойчивости и развала, требовавшие даже воздействия вооруженной силой, но масса очнулась. Донское командование использовало умело прочные части для маневра и деятельно вело реорганизацию армии, упраздняя не отвечавшее силам давление на «фронты», «армии», сводя в нормальные части многочисленные отряды — наследие партизанства, ополчения и развала.
Очнулись и казаки Верхне-Донского округа, некогда «воткнувшие штыки в землю», подчинившиеся советской власти и погубившие фронт. Восстание там вспыхнуло неожиданно для большевиков и приняло широкие размеры. Мы узнали о нем в начале марта, но лишь позднее, в апреле, когда донцам удалось установить воздушную связь с восставшими, обнаружились потрясающие картины большевистского властвования на Дону. Со всех сторон неслись вопли, рассказы о массовых злодействах, об осквернении церквей, о поджогах и грабежах, об изнасиловании женщин и детей… «Душа казака не вынесла такого испытания», — писал окружной совет восставших. Они просили передать своим одностаничникам на Донце, что «их матери, жены, дети, еще оставшиеся в живых, с изможденными лицами, оборванные и голодные, просят помощи».
Летчиков встречали колокольным звоном и забрасывали цветами. Вести с донецкого фронта подняли еще более настроение восставших, а вести оттуда заставили призадуматься малодушных на фронте.
По большевистской терминологии, это было «кулацкое восстание», хотя даже Бронштейн в своих воззваниях не счел возможным отрицать, что «казаки терпели несправедливости от отдельных проходивших воинских частей и отдельных представителей власти». Советское командование для усмирения восстания снарядило «экспедиционный корпус» из состава 9-й армии, но он успеха не имел. Бронштейн писал пламенные воззвания, посылал «прекрасные подкрепления, лучших работников-организаторов» и требовал «нанести быстрый, суровый, сокрушающий удар». Но шли недели за неделями, экспедиционные войска терпели неизменно неудачи[13], район восстания ширился, и к апрелю у восставших насчитывалось до 30 тысяч бойцов и 6 орудий. У них не хватало оружия и патронов, но зато было мужество отчаяния.
Восстание в тылу ставило советское командование в весьма рискованное положение.
В конце концов, к середине апреля, то есть через полтора месяца после начала наступления советских армий, войска Кавказской Добровольческой и Донской армий стояли на той же линии, сохранив Донецкий каменноугольный бассейн и донской плацдарм.
Менее благополучно складывалось положение на манычском фронте. В середине марта большевики, отбросив наши части от Великокняжеской к Манычу, вследствие разлива реки держали себя пассивно. И лишь на крайнем южном фланге в ставропольском направлении продолжали непрерывные атаки, неизменно отражаемые кубанцами генерала Улагая. Но в конце месяца 10-я советская армия перешла вновь в наступление и отбросила наши части за реку на всем нижнем течении Маныча. Один из донских корпусов, совершенно разложившийся, ушел за Дон, отдав большевикам неиспорченным мост и станицу Богаевскую — в одном переходе от Новочеркасска. Сводные части великокняжеской группы генерала Кутепова также не проявили достаточной стойкости, и с 12–14 апреля противник стал переправляться на левый берег Маныча, угрожая Владикавказской железной дороге, тылу и сообщениям Кавказской Добровольческой и Донской армий.
На очереди стояла серьезная задача парировать этот удар…
Кавказской Добровольческой армией командовал временно начальник штаба генерал Юзефович. Генерал Врангель поправлялся после сыпного тифа — сначала в Кисловодске, потом на Черноморском побережье. Юзефович сообщал, что под влиянием перенесенной тяжелой болезни в душе командующего происходит реакция: он говорил, что «Бог карает (его) за честолюбие, которое руководило до тех пор его жизнью», и что после выздоровления он покинет службу и обратится к мирной работе «для своей семьи, для детей…». Считая, что это настроение лишь временное и оценивая боевые качества генерала Врангеля, я послал ему тотчас же письмо, в котором отметил его заслуги и выразил уверенность, что он останется во главе Кавказской Добровольческой армии. Получил в ответ: «…До глубины души тронут тем сердечным отношением с Вашей стороны, которое неизменно чувствовал во все время моей болезни. От всего сердца благодарю Вас и прошу верить, что, если Богу угодно будет вернуть мне здоровье и силы, то буду счастлив под Вашим начальством вновь отдать их на служение дорогой Родине и Армии».
Получая доклады от своего штаба, генерал Врангель был в курсе боевых операций. И он и Юзефович резко расходились во взглядах со Ставкой в отношении плана текущей операции. С февраля сначала Юзефович, потом Врангель многократно и настойчиво добивались изменения этого плана; вокруг вопроса создавалось нервное настроение, далеко выходившее из области чистой стратегии и из специально-технической заинтересованности… Выбор направления на север или на Царицын неожиданно для меня превращался в лозунг — внешний по крайней мере — более сложных, тогда еще не вполне выявившихся настроений…
Генерал Врангель считал «главнейшим и единственным» направление на Царицын, дающее возможность установить связь с армией адмирала Колчака. С этой целью он предлагал «пожертвовать каменноугольным районом, в котором нам все равно не удержаться…», оттянуть наши части на линию реки Миус — станция Гундоровская с целью прикрытия железной дороги Новочеркасск — Царицын и, воспользовавшись «сокращением (?) фронта на 135 верст», оставить на правом берегу Дона только Донскую армию, а Кавказскую Добровольческую перебросить на царицынское направление, по которому и наступать, прикрываясь Доном.
Последствия такого решения представлялись мне и начальнику моего штаба с непререкаемой ясностью.
Донская армия тогда только и поддерживалась морально присутствием и соседством добровольцев. Уход их возлагал на донцов задачу совершенно непосильную: прикрытие нового 120-верстного фронта, причем освобождавшиеся 13-я, 14-я и часть 8-й советской армии получали возможность нанести удар во фланг и тыл Донской. Нечего и говорить, что донцы ни одного дня не удержались бы на правом берегу. «Если бы Кавказская Добровольческая армия, — писал с полным основанием генерал Романовский Юзефовичу, — ушла и обнажила левый фланг донцов, не будучи вынуждена к тому силой противника, я убежден, что не только не стали бы донцы защищать никакого плацдарма, но все, что есть у них, развалилось бы совершенно, и мы имели бы за Доном массу беженцев и незначительные донские партизанские отряды[14]… Конечно (при этом), на главнокомандующего со стороны донцов, возможно, и кубанцев, легло бы обвинение в предательстве».
Таким образом, план этот приводил к потере не только каменноугольного бассейна, но и правобережной части Донской области с Ростовом и Новочеркасском, к деморализации Донской армии и к подрыву духа восставших казаков Верхне-Донского округа. Главная масса войск Южного советского фронта (8-я, 9-я, 13-я и 14-я армии) получила бы возможность на плечах донцов форсировать Дон и обрушиться на тыл и сообщения Кавказской Добровольческой армии (Новороссийск — Торговая) или, прикрываясь, в свою очередь, Доном, перекинуться к Волге. Дальнейшее успешное развитие операции к северу от Царицына — армии, линия сообщения которой длиною в 756 верст проходила бы, большей своей частью параллельно фронту и под угрозой противника, — представлялось совершенно неправдоподобным, подвергая армию опасности быть сброшенной фланговым ударом в Волгу. К тому же путь к Царицыну шел, по словам самого генерала Врангеля, через «безлюдную и местами безводную степь», исключавшую возможность местного пополнения и питания.
Мой план был иной.
В полном единомыслии с командованием Донской армии я хотел удержать в наших руках Донецкий бассейн и северную часть Донской области по соображениям моральным (поддержание духа Донского войска и восставших казаков), стратегическим (плацдарм для наступления кратчайшими путями к Москве) и экономическим (уголь). Я считал возможном атаковать или по крайней мере сковать действия четырех большевистских армий севернее Дона и одновременно разбить 10-ю армию на царицынском направлении. А наше победное наступление, отвлекая большие силы и средства советов, тем самым облегчало бы ж значительной степени положение прочих белых фронтов.
Возможно ли это было? В ближайшее время жизнь ответила утвердительно, ответила разгромом не только 10-й, но и 8-й, 9-й, 13-й и 14-й советских армий.
Угроза со стороны 10-й армии становилась весьма серьезной, и штаб мой спешно стал перебрасывать на манычское направление подкрепления. Предстояло немедленно объединить командование всем манычским фронтом для предстоящей операции, и я решил поручить это дело генералу Врангелю; в случае же, если состояние его здоровья не позволит, принять непосредственное командование на Маныче на себя. Генерал Врангель находился в то время уже в Екатеринодаре. Поздно вечером 14 апреля к нему зашли генерал Романовский и генерал-квартирмейстер штаба Плющевский-Плющик переговорить по этому поводу.
— Я могу согласиться не иначе, — ответил Врангель в очень резком тоне, — как при условии переброски на царицынское направление всего моего штаба со всеми органами снабжения.
Романовский возразил, что сейчас ввиду тяжелого положения донецкого района убирать оттуда штаб армии немыслимо; речь может идти лишь о выделении маленького полевого штаба… И что раз вопрос ставится так, главнокомандующему остается выехать в Тихорецкую и принять руководство операцией в свои руки.
Генерал Врангель отбыл на другой день в Ростов, в штаб Кавказской Добровольческой армии, я 18-го переехал в Тихорецкую для непосредственного командования на царицынском направлении.
18-20-го закончилось сосредоточение войск манычского фронта в трех группах: генерал Покровский[15] — в районе Батайска, генерал Кутепов[16] — западнее Торговой и генерал Улагай[17] — к югу у Дивного в ставропольском направлении. Главную массу группы составляли кубанские казаки.
Противник к этому времени вышел уже на линию железной дороги Батайск — Торговая, и передовые части его подходили на переход к Ростову.
18 апреля я отдал директиву войскам манычского фронта «разбить противника и отбросить его за Маныч и Сал», причем генералу Улагаю развивать успех в направлении Ставрополь — Царицынского тракта, перехватив железную дорогу.
21 апреля началось наше наступление, и к 25-му 10-я советская армия на всем течении Маныча была отброшена за реку. В центре дивизия генерала Шатилова дважды переходила через Маныч, доходя передовыми частями до станции Ельмут, в тылу Великокняжеской, по пути своему разбив несколько полков противника, взяв несколько тысяч пленных и орудия; генерал Улагай перешел Маныч и разбил большевиков у Кормового и Приютного.
Так как форсирование Маныча в низовьях не увенчалось успехом, я оставил для прикрытия его отряд генерала Патрикеева (Командовавший здесь генерал Кутепов вступил в командование корпусом Май-Маевского, предназначенного командовать армией.) и донцов, а все остальные конные дивизии левого крыла и центра 1 мая перевел к устью реки Егорлык. Конная масса из 5.5 дивизии должна была нанести решительный удар по Великокняжеской с юго-востока.
Между тем напор противника на корпус Май-Маевского в донецком районе становился все отчаяннее. И 25-го начальник штаба корпуса доносил штабу армии: «Положение на фронте такое, что командир корпуса накануне решения об общем отходе корпуса. Командир корпуса считает, что сохранение остатков корпуса возможно лишь в том случае, если корпус своевременно будет выведен из боя. Время наступило. Нельзя требовать от людей невозможного. Ввиду этого командир корпуса просит директивы от армии, в каком направлении начать отход… Быть может, марковцы восстановят положение, а самурцы снова и снова займут свое расположение… Быть может, корниловцы опять, в сотый раз, отобьют все атаки… Быть может, противник не будет делать того, что подсказывает ему обстановка, здравый смысл и соответствие сил, и начнет митинговать и забастует, — но все это такие элементы, которые командир корпуса, конечно, использует, но на которых он не считает возможным строить свои планы…»
Генерал Врангель ответил выражением уверенности в доблести войск и их начальника и в случае полной невозможности удержать фронт указал отходить, «прикрывая Иловайскую, в таганрогском направлении». Одновременно ввиду грозного положения он просил меня приехать в Ростов и вновь возбудил вопрос об отводе Кавказской Добровольческой армии.
Чувствовался некоторый душевный надрыв, который необходимо было побороть во что бы то ни стало.
Я остался при своем первоначальном решении: сохранение фронта — вопрос необычайной важности; директивы об отступлении не будет; оно может явиться только результатом абсолютной невозможности держаться дольше; в определении этого момента всецело полагаюсь на твердость командира корпуса.
Между тем ввиду настойчиво выраженных пожеланий генерала Врангеля о переводе его на царицынский фронт вопрос этот был предрешен мною окончательно. После окончания Великокняжеской операции войска царицынского фронта должны были составить новую армию под начальством генерала Врангеля, а во главе Кавказской Добровольческой армии, получившей наименование Добровольческой, я решил поставить генерала Май-Маевского, вынесшего на своих плечах всю тяжесть шестимесячной обороны Донецкого бассейна. 30 апреля барон Врангель вновь обратился к начальнику штаба генералу Романовскому об ускорении его переезда на царицынское направление, чтобы попасть к началу операции, тем более, как говорил он, «настроение в городе (Ростове) вполне спокойное, и момент для (его) отъезда наиболее благоприятный». Генерал Романовский, полагая, что «фронт в угольном районе более важный, а здесь (на царицынском направлении) операция протекает нормально», обусловливал время переезда окончанием формирования штаба и, главным образом, оперативной части для генерала Май-Маевского.
1 мая штаб Кавказской Добровольческой армии уславливался со штабом 1-го корпуса относительно линии предстоящего отхода. В тот же день генерал Врангель запросил разрешение прибыть ко мне в Торговую для личного доклада. Цель приезда его 2 мая была несколько непонятна, так как обо всем уже мы переговорили раньше и никаких серьезных новых обстоятельств не появилось. Генерал Врангель повторил опять, что пределы сопротивления перейдены и необходимо отступить. Неожиданным для меня после екатеринодарского эпизода явилось то обстоятельство, что генерал Врангель сразу и охотно принял мое предложение стать во главе конной группы, собранной мною против Великокняжеской. С тремя офицерами Генштаба он выехал к Бараниковской (на Маныче) и вступил в командование группой.
С 1 по 5 мая там шли обстоятельные приготовления к переправе.
Между тем на нашем правом крыле генерал Улагай, выполняя данную ему задачу — наступать Царицынским шляхом с выходом части сил в тыл Великокняжеской с целью перерезать железную дорогу Великокняжеская — Царицын, прошел севернее Маныча более чем на 100 верст, достигнув села Торгового (на реке Сал). В боях у Приютного, Ремонтного, Граббевской он разгромил до основания всю Степную группу 10-й армии, взяв в плен шесть полков 32-й стрелковой дивизии, штабы, обозы, свыше 30 орудий. Встревоженный выходом генерала Улагая на сообщения своей армии, «товарищ» Егоров направил от Великокняжеской наперерез ему шесть полков лучшей советской конницы Думенко. В полдень 4 мая возле Граббевской произошла встреча, причем после ожесточенного боя Улагай разбил конницу Думенко, которая бросилась бежать в беспорядке на запад, преследуемая кубанцами. Один из отрядов Улагая вышел к железной дороге у станции Гашун и разрушил там путь.
Этот успех предрешил исход Великокняжеской операции.
На другой день с рассветом переправилась через Маныч конная группа генерала Врангеля. В трехдневном бою под Великокняжеской, где противник оказывал нам весьма упорное сопротивление, генерал Врангель нанес поражение центральной группе противника и взял Великокняжескую.
10-я советская армия, потеряв за время Манычской операции (22 апреля — 8 мая) одними пленными более 15 тысяч человек, 55 орудий, расстроенная и деморализованная, поспешно отступала на Царицын, преследуемая всеми войсками манычского фронта, получившими название Кавказской армии. Командующим этой армией был назначен генерал Врангель.
Войска бывшей Кавказской Добровольческой армии наименованы были Добровольческой армией. Во главе ее стал генерал Май-Маевский[18].
От генерала Май-Маевского с тех пор тревожных сведений не поступало, 4 мая противник на всем донецком фронте перешел вновь в общее наступление, которое было отражено с большим для него уроном, и Добровольческая армия, перейдя в контрнаступление, в течение нескольких дней овладела вновь всем юзовским районом и Мариуполем, захватывая тысячи пленных, бронепоезда и орудия.
В начале мая на всем фронте от Донца (левый фланг Донской армии) до Азовского моря в стане большевиков наступил моральный перелом. Огромные потери, понесенные в боях и в большей еще степени от дезертирства, ослабили большевистские армии. Они разбились о сопротивление добровольцев и казаков, и в рядах их все более, все глубже нарастало паническое настроение. Появление впервые на этом фронте английских танков произвело на большевиков большое впечатление и еще более увеличило их нервность.
В тылу у большевиков было не лучше. 24 апреля поднял восстание против советов атаман Григорьев и, находя живой отклик в населении, вскоре занял Елисаветград, Знаменку, Александрию, подходил к Екатеринославу. Для борьбы с ним направлены были резервы советского Южного фронта. Нарастало столкновение между советской властью и Махно, отражавшееся на положении приазовского фронта… Украина кишела повстанческими отрядами во главе с многочисленными атаманами, не признававшими никакой власти, гулявшими по тылам, расстраивавшими сообщения, осаждавшими не раз и самый Киев. Московские «Известия» констатировали вообще во всей прифронтовой полосе целый ряд «контрреволюционных вспышек», в которых принимали вооруженное участие «не только кулаки и черносотенцы, но и некоторые группы обманутых (!) середняков и бедняков». Причины этого явления официоз видел в бесчинствах советских войск, в тяжести поборов и разверсток и в «самодурстве опьяненных властью помпадуров…».
Большевистские армии явно и быстро разлагались.
Начало мая было резким поворотным моментом в судьбах Вооруженных сил Юга. Фронт большевистский дрогнул, и все наши армии — от Каспийского моря до Донца и от Донца до Черного моря — были двинуты в решительное наступление.
Глава II. Признание Югом Верховной власти адмирала Колчака
27 мая по поручению «Парижского совещания» в Екатеринодар приехали: генерал Щербачев, Аджемов и Вырубов, как писал князь Львов, для того, чтобы «облегчить (мне) трудную задачу ориентировки в сложной мировой политической жизни». Конкретно вопрос был поставлен о необходимости немедленного подчинения моего адмиралу Колчаку. Со мной беседовали отдельно генерал Щербачев и потом Аджемов с Вырубовым. К удивлению своему, я не чувствовал в их речах никакого пафоса, скорее некоторое смущение — то ли в силу пошатнувшегося положения Восточного фронта наряду с развивающимися успехами армий Юга, то ли потому, что принятая на себя миссия казалась им исключительно трудной и щекотливой. Генерал Щербачев был вообще краток и, передав сущность вопроса, сослался на предстоящее более детальное выяснение его своими спутниками.
Мотивы, которые они приводили в пользу подчинения, сводились в общем к следующему: 1) мощь сибирских армий и огромная, освобожденная ими от большевиков территория, подчиненная адмиралу Колчаку; 2) впечатление, произведенное на правительства и общественное мнение Европы быстрым выходом сибирских войск к Волге; 3) ожидающееся официальное признание союзными правительствами адмирала Колчака при условии объединения в его лице всей Верховной власти; 4) наконец, признание Всероссийской власти сделает невозможным признание власти советской и облегчит нам борьбу с сепаратными течениями.
О признании адмирала Колчака союзниками, в случае подчинения ему Юга, Аджемов и Вырубов заявили в форме категорической, генерал Щербачев — с большей осторожностью: «Союзные представители делали намеки…»
Единственным «документом», причем несколько условным, было обращение Клемансо. Казалось странным, что екатеринодарские представители союзников никогда не поднимали этого вопроса в разговорах со мною.
Я предложил парижским представителям ознакомить с их поручением «Особое совещание», а последнему обсудить его и дать мне свое заключение.
Весть о предложении прибывшей из Парижа миссии быстро распространилась и вызвала большое возбуждение в политических кругах. Общественные настроения нашли, несомненно, отражения в памятном для участников заседании «Особого совещания» в день 28 мая.
К. Н. Соколов в своих воспоминаниях[19] пишет:
«После ухода Вырубова и Аджемова «Особое совещание» приступило к прениям. Разногласия по существу не было, и все сошлись на том, что надо оставить наши отношения к адмиралу Колчаку в прежнем виде до фактического соединения фронтов. Была принята во внимание и возможность лишения нас помощи союзниками, и наши специалисты успокоили нас заявлением, что мы снабжены всем необходимым на продолжительный срок. Я не могу припомнить все доводы, которые приводились против принятия присланных из Парижа советов. Но я помню хорошо ход моих мыслей, кажется, отвечавших настроению большинства. Я доказывал, что при гадательности признания союзниками адмирала Колчака мы, немедленно подчинившись Омску, рискуем напрасно принести немалые жертвы. В отказе от притязания главного командования на государственный суверенитет крылись, как мне казалось, опасности и юридического, и политического порядка. Юридически ослаблялась бы наша позиция по отношению к казачьим «образованиям». Политически мы обязывались бы внезапно и под влиянием извне, автоматически принять политическую программу омского правительства, то есть отказаться от собственного нашего южно-русского политического опыта. К изумлению многих, и лидеры «Национального центра» как будто уже не защищали тезиса о немедленном подчинении. Астров и Федоров ограничивались тем, что очень решительно подчеркивали огромную морально-политическую важность скорейшего создания единой национальной власти. Впервые, и по такому принципиальному вопросу, «Особое совещание» было, таким образом, совершенно единодушно… Мы разошлись глубоко взволнованные, условившись собраться на другой день для окончательного принятия нашего постановления».
Другой член «Особого совещания» Н. И. Астров приводит точку зрения «Национального центра» и мотивы, побудившие его изменить первоначальное мнение о необходимости немедленного признания.
«Настроение большинства было совершенно определенно против признания Колчака. Нужно было найти формулу, наиболее приемлемую для совещания, единство мнения которого в этом вопросе представлялось желательным.
Содержание моей заключительной речи сводилось к следующему.
…Поставлен вопрос о воссоздании России. Вопрос поставлен не приезжими из Парижа. Они только осложнили его и внесли трудности в его разрешение, ибо отказ от положительного ответа будет истолкован как отказ от признания, как начало борьбы из-за власти. Если не борются вожди, то в их штабах начинается состязание и соревнование[20]. Нужно вернуть вопрос к его нормальной постановке, освободив от вредных осложнений. Поставленный перед нами сейчас вопрос распадается на две части, смешивать которые не следует: нужно ли немедленное образование национального правительства России — один вопрос и нужно ли для этого немедленное признание Колчака — другой. Основной вопрос об образовании национального правительства, казалось бы, не требует доказательств, он ясен сам собой и подлежит разрешению в положительном смысле. Сложнее вопрос о признании Колчака этой национальной властью. Ходом событий вопрос этот предрешен, и медлить с его окончательным решением нельзя, ибо Европа может признать Колчака без участия в этом признании генерала Деникина и тем отбросить в тень Екатеринодар. С другой стороны, может исчезнуть благоприятный момент для признания России субъектом прав, и внимание Европы может снова повернуться к большевикам. Но без переговоров с Колчаком вопрос все-таки решить трудно. Для переговоров, конечно, нельзя ждать соединения армий и личного свидания вождей. Необходимо срочное сношение с Омском через Париж для выяснения условий признания и, по выяснении их, принять окончательное решение…»
Наконец, третий член «Особого совещания», правый, писал мне впоследствии об этом заседании:
«Вопрос этот внес большую сумятицу в умы. Отрицательные стороны признания были очевидны большинству, однако имелись серьезные возражения против того, чтобы оставить все по-старому. Два члена «Особого совещания», признавая пользу объединения всего Белого движения в одном лице, относились, однако, отрицательно к тому, чтобы таковым был признан Колчак. Близкие к правым кругам, монархически и легитимистски настроенные, эти члены указывали, что признание Колчака вызовет в этих кругах противодействие, недоверие, будет учтено, как переходная мера бонапартизма… Казалось, что если пора возглавить движение, то это надо сделать иначе, другим лицом. Должен сказать, что в легитимистских кругах в этом отношении никогда не было колебания и всегда при всех обстоятельствах тяготение было к одному и тому же имени. Все остальные мыслились как главные сотрудники, предтечи, предшественники. Но эти чаяния были скорее в области внутреннего чувства, а не в виде результата зрелой мысли».
Предложенная Н. И. Астровым формула постановления, принятая единогласно «Особым совещанием» и являвшаяся по существу уклонением от решения вопроса, имела следующую редакцию: «Признавая настоятельно необходимым образование в России единого национального правительства, «Особое совещание» полагает, что жизненные интересы Российской державы властно требуют, чтобы такое правительство было образовано путем непосредственного соглашения между генералом Деникиным и адмиралом Колчаком на началах, изложенных в официальном сообщении от 10 апреля текущего года»[21].
Мне остается еще добавить, что как с прениями в этих заседаниях «Особого совещания», так и с проектом резолюции я ознакомился только при составлении «Очерков».
Тем временем и я — в одиночестве — обдумывал создавшееся положение. Принципиально вопрос о подчинении решен был мною давно, о чем было известно многим. Я предполагал при близком, казалось, соединении без торга, без сговоров и «условий» объявить армиям о подчинении «отныне Верховной власти Верховного правителя», как об естественном следствии установления с ним связи. Принятие этого решения облегчало то обстоятельство, что, не встречавшись ни разу в жизни с адмиралом Колчаком, я тем не менее составил себе о нем определенное представление, как о человеке умном, смелом и благородном.
Вопрос поэтому вызывала лишь своевременность такого акта.
Но соединение территорий затягивалось… Перспектива признания союзниками Всероссийской власти адмирала Колчака представлялась фактором чрезвычайно важным, укреплявшим международное положение новой России… Она требовала оказания адмиралу политической и нравственной поддержки… Факт единения русских противобольшевистских сил не мог не вызвать подъема в армиях и в обществе и лишал почвы наших недругов, сеявших рознь… Наконец, с меня спадало лишнее бремя, облегчая значительно нравственную возможность требовать от других исполнения долга и повиновения.
Вывод был ясен.
Я сказал о своем решении 30 мая И. П. Романовскому. Не ответив ни слова, он крепко пожал мою руку. Мы условились, что пока это останется между нами, а завтра я отдам приказ, который должен быть немедленно и широко распространен. В течение дня составить его, однако, не удалось.
Вечером состоялись проводы уезжавшего в Англию генерала Бриггса, отличавшиеся исключительной сердечностью. Узнав, что экстренный поезд его уходит в Новороссийск не на другой день, как предполагалось, а в ту же ночь, и желая использовать оказию в Константинополь, я тут же на клочке бумаги написал приказ, который и огласил в собрании, после чего приказ был тотчас размножен.
ПРИКАЗ
Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России
№ 145
30 мая 1919 года.
г. Екатеринодар.
Безмерными подвигами Добровольческих армий, кубанских, донских и терских казаков и горских народов освобожден Юг России, и русские армии неудержимо движутся вперед к сердцу России.
С замиранием сердца весь русский народ следит за успехами русских армий с верой, надеждой и любовью. Но наряду с боевыми успехами в глубоком тылу зреет предательство на почве личных честолюбий, не останавливающихся перед расчленением Великой, Единой России.
Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной власти и нераздельном с нею едином Верховном командовании.
Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку, как Верховному Правителю Русского Государства и Верховному Главнокомандующему Русских Армий.
Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России.
Генерал-лейтенант Деникин.
Взрыв патриотического подъема, который охватил собрание, служил первым показателем сочувствия этому шагу.
Верховный правитель в ответ на мой приказ прислал телеграмму:
«С чувством глубокого волнения приветствую Ваше патриотическое решение, продиктованное Вам истинной государственной мудростью. Вы в пору государственного распада и морального разложения великого народа один из первых в ряду славных выступили под стягом Единой России. Ныне Вашим решением Вы подаете пример солдата и гражданина, превыше всего ставящего благо Родины и будущее ее исторических судеб. В великом подвиге служения Вашего России да поможет Вам Бог.
Верховный правитель адмирал Колчак».
Никогда еще общественное настроение не было так единодушно, как в оценке этого события. Никогда в период борьбы проявление общественного удовлетворения не носило таких трогательных и в большинстве искренних форм. Я получил множество телеграмм, писем, адресов со всех концов белой России и из стран расселения зарубежной эмиграции — от отдельных лиц, обществ, групп, правителей и военных начальников. Все эти обращения свидетельствовали, как сильно жаждало русское общество объединения расколотой Родины и… как высоко котируется на бирже мирской суеты власть, отказ от которой или самоограничение вменяются человеку в подвиг.
Я остановлюсь на некоторых откликах, вызванных актом соединения, оставляя элемент личный лишь в тех случаях, когда это существенно необходимо для освещения событий.
Российский посол В. Маклаков в письме из Парижа делился со мною своими впечатлениями:
«Не то важно или, вернее, не только то важно, что Вы устранили ту смуту в умах наших союзников, которую усердно на этой почве подготовляли и раздували всевозможные наши враги. Важнее было то впечатление, которое этот beau geste[22] произвел в смысле «откровения». Вы не подозреваете, какая упорная и тонкая агитация велась лично против Вас; над этим старались и левые партии, и германофилы, и германцы. А мотив всегда один и тот же: реакционер. И когда Вы с такой простотой разрубили узел и в момент Ваших успехов признали Колчака, в этом увидели и оценили наглядное и простое доказательство, что Вы слуга России, а не просто реставратор-честолюбец».
Южные политические организации откликнулись целым рядом заседаний и постановлений, посвященных вопросу признания.
До признания, днем 30 мая, после доклада Аджемова «Совет государственного объединения России» вынес постановление: «Считать, что интересам и достоинству России не отвечает стремление добиваться в срочном порядке признания единой Всероссийской власти в лице главы одной из вооруженных сил, ведущих борьбу за Россию». Мотивы официальные: «предъявление союзниками адмиралу Колчаку условий, являющихся посягательством на независимость России…» Неофициальные — те, которые приведены были выше в словах правого члена «Особого совещания». 3 июня состоялось вновь заседание, в котором «Совет», считаясь со свершившимся фактом, постановил обратиться ко мне с приветствием — «с восторгом встречая зарю светлого русского будущего» и полагая, что «приказ этот является краеугольным камнем вновь зарождающейся Единой и Великой России».
С горячим и искренним сочувствием отнесся к событию «Национальный центр», видевший в нем «выход России из ее разрозненности и слабости — к сплоченности и мощи…». «Союз возрождения» находил, что таким путем устранен главный камень преткновения в отношениях его к командованию, так как с признанием адмирала Колчака, обязавшегося созвать Учредительное собрание, не страшна «недоговоренность» политической программы Юга. Мякотин при этих условиях допускал «самую строгую диктатуру в некоторые моменты жизни страны», а Титов писал мне: «Мне лично и через своих сотрудников по союзу городов пришлось услышать, как восторженно был встречен приказ среди низов Добровольческой армии — среди рядового офицерства, студенчества, среди всех тех, которые видят в Добровольческой армии ядро новой, прозревшей России, символ бескорыстного служения возрождающейся Родине…»
Такие взгляды высказывали союзы городов, земств и многие, многие другие.
5 июня состоялось торжественное объединенное заседание трех политических организаций, впервые после разрыва в Одессе засвидетельствовавших «общее согласие взглядов и полное единодушие в высокой оценке акта 30 мая».
Только социалисты, стоявшие левее «Союза возрождения», молчали или утешали себя надеждою на «возможность острых конфликтов» между силами Юга и Востока, «которые в один прекрасный день внесут в историю новую дату, обратную 30 маю…». Но голос их был слаб и робок.
Невзирая на огромное моральное значение объединения Востока и Юга, реальные политические последствия его не оправдали наших надежд. Прежде всего признания Всероссийской власти Верховного правителя державами Согласия не состоялось. В первых числах июня Версальская конференция сообщила в Омск свое решение: «Союзные и дружественные державы счастливы, что общий тон ответа адмирала Колчака и его основные положения находятся в соответствии с их предположениями. Ответ содержит удовлетворяющие их заверения о свободе, мире и самоуправлении русского народа и его соседей. Поэтому они готовы предоставить адмиралу и присоединившимся к нему помощь, упомянутую в предыдущем сообщении…»
Это заявление возвращало нас к прежнему положению, оставляя открытым «русский вопрос» во всем его объеме, и не исключало возможности и дальнейших попыток держав прийти к соглашению с советами. Не изменилась политика держав Согласия, и не усилилась их реальная помощь.
Чем объяснить остановку Версальской конференции на полпути? Начальник русского отделения в английском министерстве иностранных дел Грегори говорил русскому поверенному в делах Саблину[23]:
«По моему мнению, признание адмирала Колчака настоятельно необходимо; но премьер-министр (Ллойд Джордж) не окончательно еще уверен в падении большевиков и не уверен в намерениях русских национальных вождей установить в России демократический режим…»
Официальное лицемерие государственных деятелей, готовых признать советский, каннибальский, какой угодно режим, лишь бы это соответствовало интересам их стран… Конечно, все дело было в наглядном проявлении нашей силы. Но успех наш зависел во многом от широкой помощи союзников, а помощь их ставилась в зависимость от нашего успеха. Получался заколдованный круг.
Большинство западных и южных новообразований в своих заявлениях конференции резко отмежевались от «русской государственной власти». В прежнем неопределенном положении остались и взаимоотношения наши с южным казачеством.
6 июня я собрал у себя атаманов и председателей правительств казачьих войск. Очертил им военно-политическую обстановку и обстоятельства, сопровождавшие признание. Убеждал, что при той розни, при тех центробежных стремлениях, которые существуют на Юге, возможны, быть может, военные успехи, но совершенно невозможно возрождение России. Призывал их идти вместе, признать Верховного правителя, чтобы «дать ему большую возможность во всеоружии силы и власти перед друзьями и недругами России защищать ее кровные интересы». Атаманы ответили ссылкой на «вековую несправедливость в отношении казаков» и на «систематическое отстранение казачества, составляющего оплот вооруженных сил Юга, от государственного строительства».
Еще один заколдованный круг: я недоумевал, как осуществить это сотрудничество, как влить новую струю «казачьего демократизма» в старые мехи «российской бюрократии», когда с октября 1918 года делались бесплодные попытки организации Южной власти путем сговора, когда Кубань отказывалась вовсе от ведения переговоров, и все три войска как раз в эти дни приступали к организации «Юго-Восточного союза» без участия в нем правительства Вооруженных сил Юга — «для закрепления прав, приобретенных казачьими войсками в области государственного строительства России…»[24], когда враг был у ворот.
Выяснилось в результате, что казачьи войска согласны признать военное возглавление адмирала Колчака, верховную же гражданскую власть оставляют за своими представительными учреждениями.
Словом, российский Екатеринодар отметил акт 30 мая торжественным молебствием с провозглашением многолетия «Державе Российской и благоверному Верховному правителю ее». А Екатеринодар казачий — торжественными обедами во дворце кубанского атамана при участии четырех атаманов и четырех премьеров, речами и символами, демонстрировавшими казачьи заслуги (несомненные), казачье единение (сомнительное) и казачью суверенность.
7 июня отправлена была за границу миссия во главе с генералом Драгомировым в составе Астрова, Нератова и Соколова. Ввиду невозможности прямой телеграфной связи с Омском на миссию возложено было, по прибытии в Париж, войти в сношение с Верховным правителем, представить ему доклад о положении дел на Юге России и испросить у него необходимые указания и полномочия. Попутно делегация должна была в Париже и Лондоне разрешить ряд не терпящих отлагательства вопросов экономического характера, ознакомиться с положением «русского вопроса», а также осведомить союзные правительства и западноевропейское общественное мнение о положении Юга.
Соколовым был составлен конспект доклада Верховному правителю, в котором в конце предрешался объем моих полномочий. Раз подчинившись, я не считал возможным ставить какие-либо условия, и поэтому в доклад внесено было лишь одно пожелание — о предоставлении Южной власти права внешних сношений по вопросам, касающимся исключительно Юга России, и в согласии с общими директивами Верховного правителя.
Ответ был получен только в конце августа. Верховный правитель излагал общие основания о пределах власти главнокомандующего на Юге России: «Самостоятельное руководство иностранной политикой в пределах вопросов, касающихся территорий Юга… Общее же руководство в области внешней политики, а равно в вопросах денежного обращения, валютной и земельной политики принадлежит Российскому правительству». Главнокомандующему предоставлена была в области управления — полнота власти, в области законодательства — «право издания постановлений, имеющих силу закона, и право помилования». Допускалось образование «междуобластного совета» из представителей отдельных областей и губерний нормального типа.
На практике применение этих норм вызвало некоторые разногласия между ведомствами, как, например, по вопросу о распоряжении черноморским транспортом, иностранной валютой, бывшей на учете «Особого совещания» в Константинополе, и так далее. Но все эти вопросы получали в конце концов благополучное разрешение. Омск предоставлял нам достаточную свободу в деле управления, и только однажды по вопросу проведения земельной реформы Верховный правитель, опасаясь расхождения, высказался о невозможности допустить в этом деле местное законодательство.
13 августа состоялся указ о назначении начальника Управления иностранных дел Нератова товарищем российского Министерства иностранных дел, чем достигалась известная согласованность в направлении внешней политики. Расхождения в ней в сущности не было. Я разделял общие основания, изложенные в декларации Верховного правителя по отношению к новообразованиям; в частности в «польском вопросе» и Омск и Екатеринодар приняли предложенную Сазоновым формулу: этнографический принцип при определении восточных границ Польши и отнесение окончательного решения до Учредительного собрания.
В октябре между нами состоялся обмен мнений по вопросу большой важности — об общем направлении нашей внешней политики, 18-го (нового стиля) адмирал Колчак телеграфировал мне:
«По полученным мною сведениям, положение фронтов генералов Юденича и Миллера чрезвычайно тяжелое.
Положение Восточного фронта осложнилось очень серьезно вследствие предположения союзников снять с охраны линии Омск — Владивосток чешские и польские войска. Положение армий Гольца в Курляндии при неопределенности — пойдет ли он против большевиков или с ними — внушает мне большие опасения за окончательный результат Ваших успехов, имея в виду двойную игру, проведенную германцами в марте 1918 г. на Украине. Наши отношения к Германии определяются отсутствием всяких сношений и формально продолжением войны; практически же военных действий нет, Брест-Литовский мир аннулирован Версальским постановлением; ныне Германия выступает активно и вмешивается в наши внутренние дела. Представляется необходимым разрешить это ненормальное положение, и надо принять решение о взаимоотношениях с Германией, явно игнорировать которую долее невозможно. Донесите мне посему Ваше заключение в связи с внутренним положением. № 1326».
В этом обращении между строк чувствовалось нечто более важное, чем урегулирование внешних форм взаимоотношений. Вопрос шел, очевидно, о перемене ориентации. Впоследствии наше предположение подтвердилось. В Сибири, как и на Юге, под влиянием политики союзников, наряду с враждебным к ним чувством, нарастала тогда волна германофильства. Она, по словам Гинса, находила отражение в печати и живой отклик «среди высших чинов армии». Общественные настроения достигли, по-видимому, большого напряжения, так как вопросу этому было посвящено специальное заседание Совета министров. Совет высказал, однако, отрицательное отношение к перемене курса. Как раз в эти дни и была послана приведенная выше телеграмма. По чьей инициативе — не знаю. Но пришла она не обычным путем через Министерство иностранных дел, а из Ставки военным шифром.
Я составил ответ, который был прочтен мною в заседании «Особого совещания» и не встретил возражений.
«Доношу: как бы тяжело ни складывались обстоятельства, их необходимо побороть. Политическая обстановка нисколько не изменилась. Немцы по-прежнему ведут борьбу против русской государственности — явно в Прибалтике, Малороссии, на Кавказе и тайно — среди русских партий, применяя старые бесчестные приемы. Версальский мир не закончил борьбу, а лишь приостановил ее и углубил непримиримые противоречия между двумя политическими группировками. В будущем намечаются впервые широкие возможности всеславянского объединения. Союзники оказывают нам реальную помощь, диктуемую, правда, их собственными интересами, но не расходящимися с идеей воссоздания русской государственности. В то же время немцы продолжают политику растления и разъединения, поддерживая русский большевизм и наши центробежные силы. Отсутствие всяких сношений с ними является не слабостью, а силою, придавая устойчивость, прямоту и искренность русской политике в глазах тех, с которыми нам суждено идти по одному пути. № 014158».
По поводу этой телеграммы Гинс говорит: «Адмирал был очень доволен: Совет министров и Деникин помогли ему сбросить тяжелый камень сомнения, который кто-то старательно вдвигал в его наболевшую душу».
И мы шли старым путем, приносившим нам не раз глубочайшие разочарования, потому что иного не было, потому что в сонме и победителей и побежденных национальная Россия оказалась чужой и одинокой.
В сентябре 1919 года получено было письмо Верховного правителя, в котором он, препровождая свой указ от 11 июня, писал мне:
«…Для обеспечения создавшегося ныне единства Русской Армии, ведущей борьбу против большевиков… по моему предложению Совет министров издал закон о создании должности заместителя Верховного главнокомандующего, после чего я указом назначил Вас моим заместителем.
Таким образом, я считаю, что преемственность Верховного командования будет обеспечена. Я решил этот вопрос только в отношении армии, ввиду его спешности; что же касается до преемственности власти Верховного правителя, то я оставляю это положение открытым ввиду большой политической сложности его».
Лояльность омского правительства и сердечные, искренние отношения адмирала Колчака создали простые и легкие взаимоотношения. Так было до декабря, когда от Верховного правителя получена была последняя телеграмма[25]:
«Обстановка требует предоставления генералу Деникину всей полноты власти на занятой им территории; я прошу передать генералу Деникину полную уверенность мою, что я никогда не разойдусь с ним в основаниях нашей общей работы по возрождению России».
Эти слова таили в себе гораздо более серьезный смысл, чем тот, который давало их начертание. Но судьба могла ведь изменить свой трагический ход — и я не огласил этого сообщения.
Между тем на Востоке начиналась уже великая драма сибирских армий, и приходила к концу личная драма их вождя.
Глава III. Наступление ВСЮР весною 1919 года: освобождение Дона и Крыма, взятие Харькова, Полтавы, Екатеринослава и Царицына. «Московская директива». Внутренние настроения
С мая 1919 года развилось широко наступление армий Юга.
Войска Северного Кавказа выделили отряд для движения на Астрахань. Кавказской армии поставлена была задача — взять Царицын, Донской — разбить донецкую группу противника и, наступая на линию Поворино — Лиски, очистить север области от большевиков, войти в связь с восставшими и отрезать Царицын от Поворина. Добровольческой армии, отбрасывая 14-ю советскую армию к низовьям Днепра, разбить 13-ю и часть 8-й армии на путях к Харькову, 3-й армейский корпус с Ак-Манайских позиций был двинут в наступление для освобождения Крыма, в то время как особый отряд Добровольческой армии, направленный к перешейкам, должен был отрезать большевикам выход из Крымского полуострова.
На Северном фронте к середине мая установилось более благоприятное для нас соотношение сил: против 50.5 тысяч войск Вооруженных сил Юга сражалось уже только 95-105 тысяч красных войск Гиттиса.
Добровольческая армия, наступая безостановочно, к 22 мая заняла Славянск, отбросив части 8-й и 13-й советских армий, расстроенные и растаявшие, за Северный Донец. На сопротивление 13-й армии не было уже никаких надежд, и советское командование с лихорадочным напряжением формировало новые центры обороны в Харькове и Екатеринославе. Туда стягивались подкрепления, отборные матросские коммунистические части и красные курсанты. Бронштейн со свойственной ему экспансивностью «пред лицом пролетариата Харькова» свидетельствовал о «жестокой опасности», призывал рабочий класс к поголовному вооружению и клялся, что «Харькова мы ни в коем случае не сдадим».
Одновременно в районе Синельникова сосредоточивалась ударная группа из сборных частей бывшей 2-й Украинской армии и войск, подвезенных из Крыма и Екатеринослава, составившая 14-ю армию, во главе которой был поставлен Ворошилов — человек без военного образования, но жестокий и решительный. Советское командование поставило себе задачей вывести из-под наших ударов 8-ю и 9-ю армии, движением во фланг от Синельникова на Славянск — Юзово 14-й армии остановить наше наступление на Харьков и затем одновременным ударом 14-й армии и харьковской группы[26] вернуть Донецкий бассейн.
План этот потерпел полную неудачу.
14-я армия еще не успела сосредоточиться, как между 23–25 мая Кавказская дивизия корпуса Шкуро разбила Махно под Гуляй-Полем[27] и, двинутая затем на север к Екатеринославу, в ряде боев разгромила и погнала к Днепру Ворошилова. В то же время южнее группа генерала Виноградова успешно продвигалась к Бердянску и Мелитополю, а 3-й армейский корпус, начавший наступление с Ак-Манайских позиций 5 июня, гнал большевиков из Крыма.
Прикрыв, таким образом, западное направление, генерал Май-Маевский двигал безостановочно 1-й армейский корпус генерала Кутепова и Терскую дивизию генерала Топоркова на Харьков. Опрокидывая противника и не давая ему опомниться, войска эти прошли за месяц 300 с лишним верст. Терцы Топоркова 1 июня захватили Купянск; к 11-му, обойдя Харьков с севера и северо-запада, отрезали сообщения харьковской группы большевиков на Ворожбу и Брянск и уничтожили несколько эшелонов подходивших подкреплений… Правая колонна генерала Кутепова 10 июня внезапным налетом захватила Белгород, отрезав сообщения Харькова с Курском. А 11-го, после пятидневных боев на подступах к Харькову, левая колонна его ворвалась в город и после ожесточенного уличного боя заняла его.
16 июня закончилось очищение Крыма, а к концу месяца мы овладели и всем нижним течением Днепра до Екатеринослава, который был захвачен уже 16 числа по собственной инициативе генералом Шкуро.
Разгром противника на этом фронте был полный, трофеи наши неисчислимы. В приказе «председателя Реввоенсовета республики» рисовалась картина «позорного разложения 13-й армии», которая в равной степени могла быть отнесена к 8-й, 9-й и 14-й: «Армия находится в состоянии полного упадка. Боеспособность частей пала до последней степени. Случаи бессмысленной паники наблюдаются на каждом шагу. Шкурничество процветает…»[28]
Остатки разбитых неприятельских армий отошли: 13-й и группы Беленковича — на Полтаву, 14-й и крымской группы — за Днепр.
В середине мая началось наступление и Донской армии. Правая группа Мамонтова, форсировав Дон выше устья Донца, в четверо суток прошла 200 верст, преследуя противника, очищая правый берег Дона и подымая станицы. 25 мая он был уже на Чире, а 6 июня, прорвав железнодорожный путь Поворино — Царицын, двинулся дальше, частью вверх по Медведице, частью в тыл Царицыну.
Другая группа, переправившись у Калитвы, направилась по Хопру на Поворино; третья, форсировав Донец по обе стороны Юго-Восточной железной дороги, преследовала отступавшую 8-ю армию красных на Воронеж, в то время как отдельный конный отряд генерала Секретева двинулся на северо-восток прямым путем в район восставших казаков Верхне-Донского округа.
Результатом этого искусного и полного порыва наступления Донской армии было поражение 9-й и части 8-й советской армии, соединение с восставшими и очищение всей Донской области.
В июне донцы вышли из пределов области на линию Балашов — Поворино — Лиски — Новый Оскол и на ней в течение июня — июля вели бои, особенно упорные в воронежском и балашовском направлениях, с переменным успехом.
На Дону царил высокий подъем. 16 июня войско торжественно праздновало в Новочеркасске освобождение своей земли от нашествия красных. А Донская армия, насчитывавшая к середине мая 15 тысяч бойцов, росла непрестанно, дойдя к концу июня до 40 тысяч.
Тотчас же вслед за взятием Великокняжеской Кавказская армия генерала Врангеля начала преследование противника, отступавшего на Царицын. Путь шел малонаселенной степью, прорезывался рядом болотистых речек, представлявших хорошие оборонительные рубежи. 10-я советская армия, прикрываясь сохранившими боеспособность конными полками Думенко, отходила, разрушая единственную железнодорожную линию, питавшую армию, и в двух местах взорвала мосты, на несколько недель задержав тем сквозное сообщение. Поход проходил в обстановке чрезвычайно трудной и полной лишений.
11 мая Кавказская армия настигла противника на Сале и, форсировав реку, опрокинула его. Неприятельской конницей, спасая положение, руководил сам командир 10-й советской армии полковник Егоров и был ранен. Его заменил Клюев. Так шаг за шагом, ведя упорные бои на каждом рубеже, неся большие потери и двигаясь неизменно вперед, в бою 20 мая армия овладела последней серьезной преградой перед Царицыном — позицией на реке Есауловский Аксай. В дальнейшем могло быть два решения: дождаться починки мостов, возобновления железнодорожного движения и подвоза бронепоездов, танков, самолетов или, использовав элемент быстроты и внезапности, гнать безостановочно противника, чтобы на плечах его ворваться в Царицын.
Генерал Врангель принял второе решение, и в начале июня войска Кавказской армии атаковали царицынские укрепленные позиции.
Между тем советское командование спешно подвозило к Царицыну пополнения и новые части из Астрахани и с Восточного фронта — до девяти отдельных полков. Проволока, многочисленная артиллерия и богатые запасы снарядов делали царицынские позиции трудноодолимыми. И двухдневные кровопролитные атаки доблестной Кавказской армии разбились о вражескую позицию. Части понесли опять большие потери, противник перешел в контрнаступление, но моральное состояние его было подорвано давно, и наша армия, отойдя на несколько верст, закрепилась на линии реки Червленой, где и оставалась в течение ближайших полутора недель.
За это время возобновилось железнодорожное движение, подошла на поддержку 7-я пехотная дивизия, переброшенная из состава Добровольческой армии, подоспели технические средства. 16 июня генерал Врангель вновь атаковал Царицын: танки, броневики, бронепоезда прорвали неприятельское расположение, за ними хлынули в прорыв пехота и кавалерия, и первая позиция была взята. Но большевики, подогреваемые пулеметами коммунистических частей, дрались еще упорно на второй — возле города, и только на следующий день войска группы генерала Улагая ворвались в Царицын с юга, в то время как корпуса Покровского и Шатилова обошли город с запада.
10-я советская армия была разбита вновь и отходила вверх по Волге, преследуемая кубанцами.
На пути своем армия генерала Врангеля взяла много пленных, орудий и большие военные материалы поволжской базы, которую большевики решили защищать до последней крайности и, будучи уверены в успехе, вовремя не эвакуировали. Стоил этот успех крови немалой. В одном командном составе убитых и раненых было пять начальников дивизий, два командира бригад и одиннадцать командиров полков — свидетельство высокой доблести войск, в особенности кубанцев.
Только отряд из состава войск Северного Кавказа силою до 5 тысяч, направленный генералом Эрдели на Астрахань двумя колоннами — от Святого Креста степью и от Кизляра берегом моря, — не имел успеха. Ненадежность кавказских формирований, пустынность театра и трудность питания, восстания в тылу — в Чечне и Дагестане — все это повлияло на течение операции. Наконец, до конца июня англичане тормозили передачу нам Каспийской флотилии, и наши ничтожные тогда морские силы не в состоянии были обеспечить береговую линию от сильного красного Волжско-Каспийского флота.
В середине июня колонны подходили на 50 верст к Астрахани, но были оттеснены. Наступление на этом фронте не получило развития и после взятия Царицына. Моральное состояние многих частей было неудовлетворительным, и операция понемногу замирала.
С конца июня англичане сдали нам все суда Каспийской флотилии — около 10–12 вооруженных пароходов и десяток быстроходных катеров. Под командой капитана 1-го ранга Сергеева флотилия, с большим трудом укомплектованная, преодолевая ведомственные трения, столкновения с сухопутным начальством и свои внутренние, весьма существенные нестроения, выполняла свою главную задачу: запереть большевистский флот в устье Волги, не допустить подвоз к Астрахани и обеспечить свободное плавание наших судов по водам Каспия[29].
К концу июня армии Юга России, преследуя разбитого противника, вышли на фронт Царицын — Балашов — Белгород — Екатеринослав — Херсон (исключительно), упираясь прочно своими флангами в Волгу и Днепр.
20 июня в Царицыне я отдал армиям директиву:
«…Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю:
1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов — Ртищево — Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее — Нижний Новгород, Владимир, Москву.
Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и для очищения нижнего плеса Волги.
2. Генералу Сидорину правым крылом, до выхода войск генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин — Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях: а) Воронеж, Козлов, Рязань и б) Новый Оскол, Елец, Кашира.
3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с Запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав — Брянск.
4. Генералу Добровольскому выйти на Днепр от Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие Херсона и Николаева.
…
6. Черноморскому флоту содействовать выполнению боевых задач… и блокировать порт Одессу».
Директива 20 июня, получившая в военных кругах наименование «Московской», потом в дни наших неудач осуждалась за чрезмерный оптимизм. Да, не закрывая глаза на предстоявшие еще большие трудности, я был тогда оптимистом. И это чувство владело всем Югом — населением и армиями. Это чувство нашло отклик там, на севере, за линией фронта, среди масс, придавленных еще большевистским ярмом и с нетерпением, с радостью ждавших избавления. «Кассандры» примолкли тогда. Оптимизм покоился на реальной почве: никогда еще до тех пор советская власть не была в более тяжелом положении и не испытывала большей тревоги.
Директива в стратегическом отношении предусматривала нанесение главного удара в кратчайших к центру направлениях — курском и воронежском, прикрываясь с запада движением по Днепру и к Десне. В психологическом — она ставила ребром перед известной частью колебавшегося казачества вопрос о выходе за пределы казачьих областей. В сознании бойцов она должна была будить стремление к конечной — далекой, заветной цели. «Москва» была, конечно, символом. Все мечтали «идти на Москву», и всем давалась эта надежда.
Конец июня и первая половина июля были ознаменованы новыми успехами. На западе Добровольческая армия, отбросив 13-ю советскую армию и группу Беленковича, взяла Полтаву; в низовьях Днепра 3-й армейский корпус, при содействии Черноморского флота и английского крейсера «Карадог», занял Кинбурнскую косу и Очаков, укрепившись в низовьях Днепра; на востоке — Кавказская армия, совместно с правым флангом Донской, разбила вновь перешедшую в наступление 10-ю советскую армию и 15 июля овладела Камышином. Передовые части подходили на 80 верст к Саратову…
Военные операции протекали не без серьезных внутренних трений. Малочисленность наших сил и наша вопиющая бедность в технике и снабжении создавали положение вечного недохвата их на всех наших фронтах, во всех армиях. Выведение частей в резерв главнокомандующего наталкивалось поэтому на огромные трудности. Каждый командующий придавал преимущественное значение своему фронту. Каждая стратегическая переброска вызывала коллизию интересов, обиды и проволочки. Когда с Северного Кавказа мы двигали на царицынский фронт прочные кубанские части, генерал Эрдели доносил, что это «вызовет восстание горских народов и полный распад всего Терского войска…». Генерал Врангель требовал подкреплений из состава Добровольческой армии, «которая, по его словам, почти не встречая сопротивления, идет к Москве», а генерал Май-Маевский не без основания утверждал, что в таком случае ему придется бросить Екатеринослав или обнажить фланговое полтавское направление… Когда первые отряды танков, с трудом вырванные у Добровольческой армии, направлялись в Кавказскую, донское командование утверждало, что оборона большевиками Царицына «основывалась, главным образом, на огне артиллерии, но отнюдь не на оборонительных сооружениях», и добивалось всемерно поворота танков к себе, на миллеровское направление… Во время операции на Волге генерал Врангель тянул 1-й Донской корпус к Камышину, генерал Сидорин — к Балашову, и оба доносили, что без этого корпуса выполнить своих задач не могут… И так далее, и так далее.
Но если сношения с «Харьковом», «Новочеркасском» и «Пятигорском» имели характер обмена оперативными взглядами и не выходили из пределов дисциплины и подчиненности, иначе обстояло дело с «Царицыном». Не проходило дня, чтобы от генерала Врангеля Ставка или я не получали телеграмм нервных, требовательных, резких, временами оскорбительных, имевших целью доказать превосходство его стратегических и тактических планов, намеренное невнимание к его армии и вину нашу в задержках и неудачах его операций. Особенное нерасположение, почти чувство ненависти, он питал к генералу Романовскому и не скрывал этого.
Эта систематическая внутренняя борьба создавала тягостную атмосферу и антагонизмы. Настроение передавалось штабам, через них в армию и общество. В борьбу вовлекалось и английское представительство, как я узнал впоследствии. Интрига получала лишнюю благодарную тему, а политическая оппозиция — признанное орудие.
Эти взаимоотношения между начальником и подчиненным, невозможные, конечно, в армиях нормального происхождения и состава, находили благодатную почву вследствие утери преемства Верховной власти и военной традиции и имели прямое отражение на периферии.
Ввиду важного не только военного, но и политического значения, которое приобрели впоследствии наши взаимоотношения, я вынужден остановиться на них несколько подробнее.
В ряде телеграмм за май — август и в обширном письме-памфлете от 28 июля барон Врангель давал яркую апологию своей деятельности и выдвигал тяжелые обвинения главному командованию. Эта переписка вызывала недоумение своей слишком явной подтасовкой фактов, легко опровержимой. Только позднее стало ясным, что письмо предназначено было не столько для меня, сколько для распространения.
На царицынский фронт переброшены были лучшие кубанские части с Северного Кавказа и из Добровольческой армии; это ослабило последнюю до такой степени, что дальнейшее удержание ею каменноугольного района генерал Врангель — тогдашний командующий этой армией — считал невозможным. Наступление на Царицын совершалось в обстановке действительно тяжелой — по опустошаемой большевиками местности, при наличии одной линии полуразрушенной железной дороги. Штаб главнокомандующего, Управления военное и военных сообщений напрягали все усилия, чтобы предоставить армии имевшиеся в их распоряжении скудные средства, и на упрек начальника штаба по поводу сыпавшихся градом несправедливых обвинений генерала Врангеля последний отвечал: «Относительно моих просьб о помощи в отношении моего тыла и в мыслях не имел упрекнуть Вас… Хотел лишь всемерно подчеркнуть, насколько настоящая операция зависит от помощи сверху…»[30]. А со следующего дня нападки продолжались.
Барон Врангель требовал от Добровольческой армии пехоты, которая не могла быть выведена без срыва операции, усиления техническими средствами, которые не были готовы или не могли быть подвезены до починки разрушенных железнодорожных мостов. Мосты восстанавливались путейским ведомством с большой энергией под наблюдением штаба Кавказской армии, и срок готовности наибольшего из них (через реку Сал) генерал Врангель исчислял не ранее 3 июня[31]. И хотя время и план операции предоставлены были всецело его усмотрению, 20 мая, когда наступление на Есауловском Аксае начало захлебываться, он телеграфировал: «Доколе не получу всего, что требуется, не двинусь вперед ни на один шаг, несмотря на все приказания…» 22-го, донося об успехе на Аксае, прибавлял: «Неиспользование полностью успеха считаю преступлением… Конница может делать чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может». Очевидно, неиспользование успехов Добровольческой и Донской армий на направлениях Харьков, Полтава, Воронеж преступлением не считалось. А в конце мая, рискнув все же атаковать Царицынскую позицию до подвоза технических средств, сообщал: «Мои предсказания, к сожалению, сбылись: остатки армии разбились о подавляющую численность противника…»
В начале июня починены были мосты и немедленно вслед за сим подвезены к армии бронепоезда, танки, новые авиационные средства. Переброшена туда же из Ростова, в ущерб главному направлению, единственная дивизия Добровольческой армии, не втянутая в бой. Это была 7-я дивизия, бывшая бригада Тимановского, в конце апреля прибывшая из Румынии[32] без обоза и артиллерии и в течение мая с огромным напряжением и поспешностью восстанавливавшая свою организацию… Эти эпизоды были изложены в первом письме в таком виде: «Только тогда, после кровавого урока, армия получила помощь, и… Царицын пал…»
Ко времени взятия Царицына блестящие успехи на курском и киевском направлениях и общая обстановка на театре войны определили вполне наглядно ошибочность идеи генерала Врангеля — движения главными силами на Царицын. Теперь в его глазах волжское направление утратило первостепенное значение, и 18 июня барон Врангель и его начальник штаба генерал Юзефович подали мне записки с предложением образовать конную массу в кратчайших направлениях на Москву — воронежском и курском, под его, генерала Врангеля, начальством. Для этой цели из Кавказской армии предлагалось взять 3.5 конных дивизии. Считая, что такое ослабление Кавказской армии угрожает потерей Царицына и выходом большевистских сил вторично в тыл Ростову и нашим сообщениям, я отклонил это предложение. Действительно, как увидим ниже, советское командование в июле сосредоточило в волжском направлении 50-тысячную группу, которая и обрушилась вслед за сим на Кавказскую армию и правый фланг Донской.
В Добровольческую армию возвращена была 7-я дивизия, и в целях организационных приказано было передать туда же 2-ю Терскую пластунскую бригаду[33], Осетинский конный полк[34] и батальон[35], взамен чего, с согласия барона Врангеля, ему посланы были пять горских и инородческих полков. И вот, умалчивая о своем желании перебросить с царицынского на добровольческий фронт 3.5 лучших дивизии, одновременно, впрочем, со своим уходом, перечисляя взятые части и не называя приданных, барон Врангель бросает в первом письме такую фразу: «В то время как Добровольческая армия, почти не встречая сопротивления в своем победном шествии к сердцу России[36], беспрерывно увеличивается потоком добровольно становящихся в ее ряды опомнившихся русских людей… Кавказская армия, истекая кровью в неравной борьбе и умирая от истощения, посылает на добровольческий фронт последние свои силы…»
В то время Добровольческая армия занимала фронт около 600 верст, а Кавказская — 40 верст.
Генерал Врангель обвинял Ставку в приостановке предложенной им Астраханской операции, могшей обеспечить ему водный транспорт[37]. Но не упоминал, что перед тем доносил мне[38]:
«Начало Астраханской операции намечал лишь по выполнении (Камышинской) и по выходе на более короткий фронт Балашов — Волга».
Барон Врангель жаловался, что после взятия Царицына я отменил обещанный его переутомленным войскам отдых и приказал преследовать противника, но скрыл, что, «учитывая создавшуюся обстановку, (он сам) еще до получения (моего) приказания отдал распоряжение продолжать наступление»[39].
Кавказской армии не отпускались якобы и кредиты, и «в то время, как там у Харькова, Екатеринослава и Полтавы войска одеты, обуты и сыты, в безводных Калмыцких степях их братья сражаются для счастья одной родины оборванные, босые, простоволосые и голодные…».
В каждом слове письма и телеграмм были желчь и яд, рассчитанные на чувства военной массы и без того нервной, ревнивой к боевым соседям и плохо разбирающейся в обстановке. Как можно было изменить группировку сил, когда это определялось ясно относительной важностью направлений и событиями на театре войны?.. Кто мог переменить природные условия Задонья и Поволжья и условия комплектования в них армии «русскими» людьми?.. Какими средствами возможно было заставить Кубань слать в армию пополнения или принимать в свои полки «русских» (не казачьих) офицеров?..
На мой запрос по поводу жалоб генерала Врангеля на материальные недочеты начальник Военного управления генерал Лукомский, лицо близкое и дружественно расположенное к барону Врангелю, донес мне, что Кавказская армия требует довольствие на весьма большое число людей — в июле на 80 тысяч и в августе на 110 тысяч. Что «кредиты всегда переводились своевременно и жалоб от Кавказской армии на недостаточность кредитов не было»[40]. Что, наконец, царицынский район вовсе не так уже беден, ибо сам барон Врангель телеграфировал ему[41]:
«Район широко должен быть использован в продовольственном отношении. Данные силы и средства Кавказской армии недостаточны, чтобы в полной мере использовать богатства района. Необходимо спешно сформировать интендантский округ и приемную комиссию, которые взяли бы на себя эксплуатацию района и заготовки для всех армий…»
И, перечислив все несчастья Кавказской армии, барон Врангель назвал их виновников:
«До назначения меня командующим Кавказской армией я командовал теми войсками, которые ныне составляют армию Добровольческую, числящую в своих рядах бессмертных корниловцев, марковцев и дроздовцев… Борьба этих славных частей в каменноугольном районе — блестящая страница настоящей великой войны… Безмерными подвигами своими они стяжали себе заслуженную славу… Но вместе со славой они приобрели любовь Вождя, связанного с ними первым, «Ледяным», походом. Эта любовь перенеслась и на армию, носящую название Добровольческой, название, близкое Вашему сердцу, название, с которым связаны Ваши первые шаги на великом крестном пути… Заботы Ваши и Ваших ближайших помощников отданы полностью родным Вам частям, которым принадлежат Ваши сердца. Для других ничего не осталось…»
Было больно за тех, чью работу и страдания в каменноугольном районе недавно еще, командуя ими, барон Врангель считал «сверхчеловеческими», тех, которым «отданы были все заботы» и о которых начальник штаба генерал Юзефович писал тогда[42]:
«С правого берега (Дона) надо убрать ядро Добровольческой армии — корниловцев, марковцев, дроздовцев и другие части, составляющие душу нашего бытия, надо их пополнить, сохранить этих великих страстотерпцев — босых, раздетых, вшивых, нищих, великих духом, на своих плечах потом и кровью закладывающих будущее нашей родины… Сохранить для будущего. Всему бывает предел… И эти бессмертные могут стать смертными».
Этим-то людям волею судьбы и в силу стратегической обстановки ни одного дня отдыха не было дано.
Впрочем, «быть может, я ошибаюсь, — писал барон Врангель. — Быть может, причина несчастья моей армии кроется в том, что я, а не другой, стою во главе ее… Благополучие части, к сожалению, сплошь и рядом зависит от того, насколько командир ее пользуется любовью старшего начальника…».
Все это писал барон Врангель «с открытым сердцем» и в то же время с содержанием памфлета знакомил старших военных начальников. Я не считал возможным выносить на улицу эту прискорбную тяжбу подчиненного с начальником и ответил письмом «в собственные руки», приведя ряд фактов в опровержение заведомых наветов. В отношении последнего тяжелого обвинения в лицеприятии я мог бы сказать многое: я выдвинул барона Врангеля на высшую ступень военной иерархии; я уговорил его в минуты потери душевного равновесия остаться на посту командующего (март 1919 года); я предоставил ему, по его желанию, царицынский фронт, который он считал наиболее победным; наконец, я терпел без меры, без конца пререкания, создававшие вокруг Ставки смутную и тяжелую атмосферу и подрывавшие в корне дисциплину. В этом я вижу свою большую вину перед армиями и историей.
На последний вопрос я ответил кратко: «Никто не вправе бросать мне обвинение в лицеприятии. Никакой любви ни мне не нужно, ни я не обязан питать. Есть долг, которым я руководствовался и руководствуюсь. Интрига и сплетня давно уже плетутся вокруг меня, но я им значения не придаю и лишь скорблю, когда они до меня доходят».
Барон Врангель писал, что, «как человек (мне) искренно преданный», он «высказал все, что наболело на душе, почитая бесчестным затаить камень за пазухой…». Но высказал он не все — камень таился и весьма увесистый. Непригодный совершенно в дни блестящих успехов армий Юга и при жизни адмирала Колчака этот камень позже был брошен в водоворот разгулявшихся страстей, в трагический момент существования армии.
В широко распространявшемся генералом Врангелем втором, февральском, памфлете имелись, между прочим, такие строки:
«Моя армия освободила Северный Кавказ.
На совещании в Минеральных Водах 6 января 1919 года я предложил Вам перебросить ее на царицынское направление, дабы подать помощь адмиралу Колчаку, победоносно подходившему к Волге[43].
Мое предложение было отвергнуто, и армия стала перебрасываться в Донецкий бассейн, где до мая месяца вела борьбу под начальством генерала Юзефовича, заменившего меня во время болезни.
Предоставленный самому себе, адмирал Колчак был раздавлен и начал отход на Восток. Тщетно Кавказская армия пыталась подать помощь его войскам. Истомленная походом по безводной степи, обескровленная и слабо пополненная, она к тому же ослаблялась выделением все новых и новых частей для переброски их на фронт Добровольческой армии, войска которой, почти не встречая сопротивления, шли к Москве.
В середине июля мне, наконец, удалось связаться с уральцами[44] и с целью закрепления этой связи я отдал приказ 2-й Кубанской дивизии генерала Говорущенко переброситься в район Камышина на левый берег Волги[45]».
Далее в письме приводятся две телеграммы, которыми обменялись генералы Романовский и Врангель в середине июля. Переоценивая значение победы под Камышином, генерал Врангель 15-го решил перебросить на левый берег один из Кубанских корпусов[46]. Ввиду сосредоточения новых крупных сил противника в саратовском направлении[47] и опасаясь за свой правый фланг, генерал Сидорин запросил начальника моего штаба, чем вызвано такое «перенесение центра тяжести операции за Волгу». Начальник штаба обратился с этим вопросом к генералу Врангелю, указав на опасность ослабления его сил на главном направлении. Получился ответ 16 июля: «Переброска частей генерала Говорущенко… имела целью скорейшее соединение с войсками Верховного правителя… Отход уральцев на восток и намеченная передача донцам 1-го Донского корпуса, задержание Добровольческой армией пластунской бригады и приказание направить туда же терцев в корне меняют положение. При этих условиях не только перебросить что-либо на левый берег не могу, но и от всякой активности в северном направлении вынужден отказаться».
Положение за сутки (15–16) не только «в корне», но никак не изменилось. Армии известно было, что Донской корпус придается ей только на время Камышинской операции, приказание об отправке терцев получено было генералом Врангелем (и не исполнено) еще 20 июня, а эшелоны кубанских пластунов двинулись в Кавказскую армию в тот же день, 1 августа, когда выступили эшелоны терцев в Добровольческую.
Если к этому прибавить, что 20 июня генерал Врангель сам предлагал бросить направление вдоль Волги, оставив на нем лишь заслон и увести на харьковское 3.5 дивизии, что в первом памфлете он, наоборот, жаловался на ослабление его сил переброской на левый берег Волги дивизии Мамонтова[48], что центр сибирских армий, начав отступление в половине апреля, к тому времени был уже на марше к Челябинску[49], что ближайшие части давно уже изолированной Уральской армии, имевшей к тому же задачу наступать не к Волге, а на север[50], отстояли от нас на 300 с лишним верст, весь эпизод приобретает колорит совершенно своеобразный.
Опасение моего и донского штабов оказались не напрасными: через неделю началось новое наступление крупных сил противника правым берегом Волги, потребовавшее участия там и 1-го Донского корпуса и Говорущенко и заставившее все же Кавказскую армию бросить Камышин и отойти к самому Царицыну…
Но кто станет разбираться в таких стратегических деталях!.. И вопрос о «соединении с войсками Верховного правителя» стал именно тем камнем, который готовился задолго и был брошен открыто в февральском письме…
После признания мною власти адмирала Колчака все командующие армиями и отрядами от себя и от имени войск свидетельствовали о высоком нравственном удовлетворении свершившимся объединением. Кроме одного… Через две недели я получил письмо от барона Врангеля: по его словам, он молчал, считая исполнение приказа прямым своим долгом, как подчиненного. Но, прочитав в газетах обращения других командующих, спешит отозваться, чтобы я не подумал, что он иначе, чем они, относится к свершившемуся…
А впоследствии написал:
«Боевое счастье улыбалось Вам, росла слава, и с ней вместе стали расти в сердце Вашем честолюбивые мечты… Совпавший с целым рядом наших побед Ваш приказ о подчинении Вас адмиралу Колчаку доказывал, казалось, противное. Будущая история покажет, поскольку этот Ваш шаг был доброволен… Вы пишете, что подчиняетесь адмиралу Колчаку, «отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине» и «ставя превыше всего ее счастье…». Не жизнь приносите Вы в жертву Родине, а только власть, и неужели подчинение другому лицу для блага Родины есть жертва для честного сына ее… Эту жертву не в силах был уже принести возвестивший ее, упоенный новыми успехами честолюбец.
Войска адмирала Колчака, предательски оставленные нами, были разбиты…»[51]
Верховный правитель был тогда уже мертв и не мог сказать свое слово. По иронии судьбы и с ним при жизни произошел такой же эпизод.
Осенью 1919 года я получил объемистый пакет из Нью-Йорка от Завойко[52], который, будучи в Омске, вел какую-то интригу против правительства и адмирала Колчака и был выслан за границу. В пакете оказались литографированные экземпляры «обличительного» письма Завойки, адресованного адмиралу Колчаку, и два памфлета. В общем конверте на мое имя заключалось еще несколько писем, в том числе адресованные барону Врангелю, Кривошеину и другим лицам. Я передал всю корреспонденцию комиссии, которая, вскрыв один из этих пакетов и убедившись, что там та же агитационная литература, все остальные сожгла. В одном из памфлетов Завойки, между прочим, говорилось:
«Чрезвычайно характерны все документы, связанные с эпохой продвижения сибирских войск вперед.
Во-первых, составление и проведение в жизнь явно преступного стратегического плана. Удар на Глазов, Вятку, как ближайшее направление на Москву, и оставление без внимания южного направления, единственного обеспечивающего успех и связывающего с силами генерала Деникина».
Во-вторых, не прикрываемое ничем в официальных документах открытое признание опасности занятия Москвы силами генерала Деникина ранее, чем войсками Сибирской армии, то есть, иначе говоря, стремление во что бы то ни стало к народному пирогу, к спасению России, исключительно во имя свое личное.
В-третьих, все отдельные приказы и распоряжения по армиям, выходившие из омской ставки и имевшие единственной целью уничтожение популярности отдельных вождей, созданной ими на фронте».
Памфлеты разносили по свету поистине страшное обвинение: как Колчак и Деникин предавали друг друга и Россию…
Глава IV. Наступление ВСЮР летом и осенью 1919 года. Контрнаступление большевиков на Харьков и Царицын. Взятие нами Воронежа, Орла, Киева, Одессы
Стратегия внешней войны имеет свои законы — вечные, неизменные, одинаково присущие эпохам Цезаря, Ганнибала, Наполеона и минувшей мировой войне. Но условия войны гражданской, не опрокидывая самоценность незыблемых законов стратегии, нарушают их относительное значение — иногда в такой степени, что в глазах поверхностного наблюдателя двоится мысль: не то ложен закон, не то свершается тяжкое его нарушение…
Стратегия не допускает разброски сил и требует соразмерной им величины фронта. Мы же расходились на сотни верст — временами преднамеренно, временами вынужденно. Так, отданная 20 июня основная директива, ограничивавшая наше распространение берегами Днепра и Десны, через месяц была расширена. Генерал Шкуро взял Екатеринослав, что не было предусмотрено; мы были слишком слабы, чтобы надежно оборонять екатеринославский район и могли выполнить эту задачу только наступлением, только удачной атакой и преследованием, которое завлекло наши части на 200 с лишним верст к Знаменке. Можно было или бросить весь занятый район на расправу большевикам или наоборот — попытаться покончить со слабыми правобережными частями 12-й и 14-й армий большевиков и, таким образом захватив все нижнее течение Днепра, надежно обеспечить фланг Добровольческой армии, идущей на Киев и Курск.
И 30 июля в развитие основной директивы было приказано генералу Май-Маевскому удерживать Знаменку, а генералу Шиллингу (3-й армейский корпус) при содействии Черноморского флота «овладеть в кратчайший срок Херсоном и Николаевом и выйти на линию Вознесенск — Раздельная, овладев Одессой».
Мы занимали огромные пространства, потому что, только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, устроиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численно его сил. Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали ее хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армии. В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила. Истощенный многими мобилизациями Северный Кавказ уже не мог питать надлежаще армию, и только новые районы, новый прилив живой силы могли спасти ее организм от увядания.
Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче. Добровольческая армия[53] к 5 мая в Донецком бассейне числила в своих рядах 9600 бойцов. Невзирая на потери, понесенные в боях и от болезней, к 20 июня (Харьков) боевой состав армии был 26 тысяч, к 20 июля (Екатеринослав — Полтава) — 40 тысяч. Донская армия, сведенная к 5 мая до 15 тысяч, к 20 июня насчитывала 28 тысяч, к 20 июля — 45 тысяч. Для наступления в киевском направлении в конце июля от Добровольческой армии отделилась группа всего в 6 тысяч. В начале июня с Ак-Манайских позиций начал наступление 3-й армейский корпус силою около 4 тысяч, который, пополняясь по пути, прошел весь Крым, вышел на Херсон и Одессу и составил группу войск Новороссийской области под начальством генерала Шиллинга, к 20 сентября увеличившуюся до 16 тысяч.
Состав Вооруженных сил Юга с мая по октябрь возрастал последовательно от 64 до 150 тысяч[54]. Таков был результат нашего широкого наступления. Только при таком условии мы имели возможность продолжать борьбу. Иначе мы были бы задушены огромным превосходством сил противника, обладавшего неисчерпаемыми человеческими ресурсами. Наконец, движение к Киеву приводило нас к соединению с противобольшевистской польской армией, что значительно сокращало фронт и должно было освободить большую часть войск Киевской области и Новороссии для переброски их на гомельское и брянское направления.
Теория говорит о закреплении рубежей, практика гражданской войны с ее огромными расстояниями и фронтами, с ее исключительным преобладанием психологии не только в армиях, но и в населении пораженных войной областей свидетельствует о непреодолимой трудности и зачастую полной негодности метода позиционной войны. Разлив Донца задержал наступление 8-й и 9-й советских армий в феврале, Царицынская укрепленная позиция остановила движение генерала Мамонтова и первый налет генерала Врангеля. Но, снабженный некоторой техникой, генерал Врангель в два дня покончил с «Красным Верденом». Добровольческая армия без труда справилась с «крепостными зонами» Харькова и Екатеринослава. Шкуро и Бредов форсировали широкий Днепр. Разбухшая Кубань не остановила русских армий, отступавших к Черному морю, а идеальный, исключительный по конфигурации и природным свойствам, «неприступный» оборонительный рубеж крымских перешейков оказался паутиной в трагические дни осени 1920 года…
Освобождение нами огромных областей должно было вызвать народный подъем, восстание всех элементов, враждебных советской власти, не только усиление рядов, но и моральное укрепление белых армий. Вопрос заключался лишь в том, изжит ли в достаточной степени народными массами большевизм и сильна ли воля к его преодолению? Пойдет ли народ с нами или по-прежнему останется инертным и пассивным между двумя набегающими волнами, между двумя смертельно враждебными станами.
В силу целого ряда сложных причин, стихийных и от нас зависевших, жизнь дала ответ сначала нерешительный, потом отрицательный.
Советское командование после весенних поражений напрягало чрезвычайные усилия, чтобы восстановить свой Южный фронт. Реорганизовались бывшие Украинские армии на началах регулярства; смещен был целый ряд неудачных начальников; главнокомандующего вооруженными силами советской России Вацетиса сменил полковник Каменев, бывший командующий Восточным фронтом; Гиттиса сменил генерал Егорьев; революционные трибуналы, заградительные и карательные отряды применяли жестокий террор для внедрения в войска дисциплины; тысячи новых агитаторов наводнили фронт; новые мобилизации 18 — 45-летних возрастов усилили приток пополнений. Наконец, на Южный фронт было переброшено 6.5 дивизий с Восточного и 3 дивизии с Западного фронтов. Этими мерами в середине июля советскому командованию удалось довести состав своих южных армий до 180 тысяч при 700 орудиях[55]. И 16 июля Бронштейн писал в приказе: «Вся страна заботится теперь об Южном фронте. Нужно, чтобы командиры, комиссары, а вслед за ними красноармейцы поняли, что уже сейчас на Южном фронте мы сильнее Деникина. Воинские эшелоны и маршрутные поезда снабжения непрерывным потоком идут на юг. Теперь все это… нужно вдохновить идеей решительного наступления…»
План этого наступления, по словам Бронштейна, заключался в том, «чтобы нанести контрудар противнику в двух важнейших направлениях: 1) с фронта Балашов — Камышин на нижний Дон и 2) с Курско-Воронежского участка на Харьков. Первое направление было признано решающим». На этих направлениях были сосредоточены ударные группы: на первом — Шорина из 10-й и 9-й армий, силою в 50 тысяч, на втором — генерала Селивачева — из 8-й, 13-й и левобережной части 14-й армии, силою до 40 тысяч. Общее наступление было назначено на 1–3 августа.
1 августа 10-я армия Клюева[56] с многочисленной конницей Буденного на западном крыле, поддержанная Волжской флотилией в составе до 20 вооруженных судов, обрушилась на Кавказскую армию. Ведя непрерывные тяжкие бои, под напором сильнейшего противника в течение трех недель армия вынуждена была отходить на юг, отдав Камышин, и к 23-му дошла до самого Царицына. В этот день началось решительное сражение, в котором, атакуя с севера и с нижней Волги от Черного Яра, противник прорвал уже было укрепленную позицию и доходил до орудийного завода. Но введением в бой последних резервов и атаками кубанской конницы генерал Врангель нанес противнику жестокий удар, отбросив его в обоих направлениях. Атаки Клюева, повторенные в последующие дни, становились все слабее и постепенно замерли.
Эти тяжелые и славные бои — одна из лучших страниц боевой деятельности Кавказской армии, ее командующего, генералов Улагая, Топоркова, Писарева, трижды раненного генерала Бабиева, получившего четырнадцатую рану генерала Павличенко и многих других.
Одновременно перейдя в наступление от Балашова против правого крыла Донской армии, противник оттеснил донцов за линию Хопра и Дона. Большевики переправились уже во многих местах на западный берег, но контрударом своим, в особенности удачным в группе Коновалова, донцы отбрасывают их за Хопер, наносят большой урон и вновь выходят на левый берег реки. Однако в связи с неудачами на лискинском направлении правая группа Донской армии под угрозой обхода обоих флангов в середине сентября вынуждена отступить за Дон на всем течении его от Павловска до устья Хопра. Оттеснив донцов, камышинская группа Клюева, усиленная еще за счет Восточного фронта, в конце сентября вновь атаковала Царицын и после 9-дневного боя контратакой войск генерала Врангеля была опрокинута и в беспорядке отошла верст на 70 на север. В свою очередь донцы перешли в наступление и в первой половине октября отбросили балашовскую группу большевиков за Хопер, выйдя вновь к железнодорожной линии Поворино — Царицын.
В начале октября после двухмесячного сражения правое крыло Вооруженных сил Юга удержало Царицын и линию Хопра; ударная группа Шорина, ослабленная огромными потерями, перешла к пассивному образу действий и, соответственно новому плану советского командования, начала передвижение части сил к западу.
Ударная большевистская группа генерала Селивачева 3 августа должна была нанести удар по Харькову комбинированным наступлением частей 14-й и 13-й армий с северо-запада на Готню и главными силами (частями 13-й и 8-й армий) — с северо-востока на Купянск. Но за эти три дня до начала операции большевиков генерал Кутепов перешел в наступление 1-м армейским корпусом в северо-западном направлении, разрезал 13-ю и 14-ю армии, разбил их и отбросил первую к Курску, вторую — за Ворожбу. Оставив в этих направлениях заслоны, корпус сосредоточился частью сил к Белгороду. Между тем воронежская группа большевиков, смяв левый фланг донцов, ударила в стык между Добровольческой и Донской армиями и, наступая затем почти без сопротивления, заняла Волчанск, Купянск и Валуйки, углубившись к 14 августа в тыл нашего расположения на 100 верст и подойдя передовыми частями своими верст на 40 к Харькову. Создавалась весьма серьезная угроза тылу армии.
Генерал Май-Маевский, перегруппировав войска, ответил ударом добровольцев со стороны Белгорода и корпусом Шкуро с юго-запада. В течение второй половины августа под нашими ударами, оставляя пленных и орудия, воронежская группа Селивачева уходила на северо-восток. Окончательное ее окружение не состоялось только благодаря пассивности левого крыла (3-го корпуса) Донской армии. К концу августа Добровольческая армия, вернув прежнюю линию, наступала неудержимо к Воронежу, Курску, к Десне… Донской армии указано было, перейдя к обороне на всем своем фронте, обратить исключительное внимание на левый фланг, повернуть к Воронежу и бывший в набеге конный корпус генерала Мамонтова, чтобы совместными действиями с Добровольческой армией разбить расстроенную уже 8-ю советскую армию и овладеть Лисками и Воронежем. Это сосредоточение вне Донской области, необходимое стратегически и вызывавшее ослабление чисто донского фронта, с перспективой оставления части территории на поток и разграбление большевикам, вызывало всегда большие психологические трудности. Левый фланг донцов был слаб, доставляя не раз затруднения правому флангу Добровольческой армии.
В конце июля генерал Сидорин собрал между Таловой и Новохоперском конную группу около 7–8 тысяч сабель генерала Мамонтова, которой дана была задача, прорвав фронт противника, «овладеть железнодорожным узлом Козловом для расстройства управления и тыла Южного большевистского фронта». Позднее, ввиду пассивности левого крыла армии, направление было изменено на Воронеж, чтобы выходом на северо-запад, в тыл лискинской группе противника, содействовать ее поражению.
Мамонтов под предлогом дождей, вызвавших распутицу, приказания не исполнил и, пройдя с боем через фронт, пошел на север, совершая набег в глубокий тыл противника — набег, доставивший ему громкую славу, звание народного героя и… служебный иммунитет.
5 августа он взял Тамбов, затем, последовательно занимая Козлов, Лебедин, Елец, Грязи, Касторную, 29-го очутился в Воронеже. По всему пути генерал Мамонтов уничтожал склады и громадные запасы противника, разрушал железнодорожные мосты, распустил несколько десятков тысяч мобилизованных, вывел целую бригаду крестьян-добровольцев, нарушил связь, снабжение и вызвал среди большевиков сильнейшую панику.
Но, обремененный огромным количеством благоприобретенного имущества[57], корпус не мог уже развить энергичную боевую деятельность. Вместо движения на Лиски и потом по тылам 8-й и 9-й советских армий, куда требовали его боевая обстановка и директива, Мамонтов пошел на запад, переправился через Дон и, следуя по линии наименьшего сопротивления, правым берегом его вышел 6 сентября к Короткову на соединение с корпусом генерала Шкуро, наступавшим с юга на Воронеж. Открылись свободные пути, и потянулись в донские станицы многоверстные обозы, а с ними вместе и тысячи бойцов. Из 7 тысяч сабель в корпусе осталось едва 2 тысячи. После ряда неудавшихся попыток ослабленный корпус только 23-го после взятия генералом Шкуро Воронежа двинулся в ближний тыл Лисок и тем содействовал левому крылу донцов в овладении этим важным железнодорожным узлом.
Это было единственное следствие набега, отразившееся непосредственно на положении фронта.
Генерал Мамонтов поехал на отдых в Новочеркасск и Ростов, где встречен был восторженными овациями. Ряды корпуса поредели окончательно.
Будем справедливы: Мамонтов сделал большое дело, и недаром набег его вызвал целую большевистскую приказную литературу, отмеченную неприкрытым страхом и истерическими выпадами. Сам Бронштейн, находившийся тогда в районе набега и с необычайной поспешностью отбывший в Москву, писал по дороге: «Белогвардейская конница прорвалась в тыл нашим войскам и несет с собою расстройство, испуг и опустошение пределов Тамбовской губернии…» Взывал тоном растопчинских афиш: «На облаву, рабочие, крестьяне… Ату белых! Смерть живорезам!..» И в конце концов смилостивился над «казаками, обманутыми Мамонтовым», приглашая их сдаться: «Вы в стальном кольце. Вас ждет бесславная гибель. Но в последнюю минуту рабоче-крестьянское правительство готово протянуть вам руку примирения…»
Но Мамонтов мог сделать несравненно больше: использовав исключительно благоприятную обстановку нахождения в тылу большевиков конной массы и сохранив от развала свой корпус, искать не добычи, а разгрома живой силы противника, что, несомненно, вызвало бы новый крупный перелом в ходе операции.
Наступление Добровольческой армии между тем шло с огромным порывом. Оно прикрывалось надежно с запада движением группы генерала Юзефовича на Киев и 3-го (отдельного) корпуса генерала Шиллинга на Одессу. Наступление это не было приостановлено и в те трудные дни начала августа, когда создалась большая и непосредственная угроза Харькову.
5-й кавалерийский корпус захватил Конотоп и Бахмут, прервав прямую связь Киева с Москвой, в то время как 2-й армейский корпус, двигаясь обоими берегами Днепра и опрокидывая 14-ю армию противника, шел к Киеву и Белой Церкви. И 17 августа войска генерала Бредова форсировали Днепр и вошли в Киев одновременно… с галичанами Петлюры, наступавшими с юга.
Так же успешно продвигались войска генерала Шиллинга. Овладев в начале августа при деятельной помощи возрождавшегося Черноморского флота Херсоном и Николаевом, корпус продолжал движение на Вознесенск и Раздельную. 12-я советская армия, стоявшая на фронте Киев — Одесса — Херсон, была отвлечена к востоку, в Одессе царила паника. В ночь на 10-е наша эскадра капитана 1-го ранга Остелецкого совместно с судами английского флота появилась внезапно у Сухого Лимана и высадила десант[58], который, соединившись с восставшими одесскими офицерскими организациями, при могучей поддержке судовой артиллерии захватил город, прервав эвакуацию его[59].
В дальнейшем войска Киевской области и Новороссии наступлением с севера, востока и юга постепенно занимали территорию между Днепром и Черным морем. Остатки правобережной группы 14-й советской армии ушли за Днепр, части 12-й армии пробились к Фастову.
В то время, когда происходили эти события, главное ядро Добровольческой армии генерала Май-Маевского, нанося тяжелые удары советским армиям, двигалось на Москву. 7 сентября 1-й армейский корпус генерала Кутепова, разбив наголову двенадцать советских полков, взял Курск… 17-го генерал Шкуро, переправившись неожиданно через Дон, захватил Воронеж… 30-го войска 1-го корпуса овладели Орлом и продолжали движение к Туле… В начале октября 5-й кавалерийский корпус генерала Юзефовича взял Новгород-Северск…
На всем фронте войска Добровольческой армии захватывали десятки тысяч пленных и огромные трофеи.
Удар, нанесенный советским командованием правой группой Южного фронта, завершился ее поражением.
Чрезвычайно интересным является освещение, данное этому периоду кампании Бронштейном, приоткрывающее завесу над советской стратегией. Ниже я привожу документ из «секретного архива», относящийся к сентябрю 1919 года и опубликованный в 1924 году[60]. Бронштейн писал:
«Априорно выработанный план операций на Южном фронте оказался безусловно ложным. Неудачи на Южном фронте объясняются в первую голову ложностью основного плана.
1. В основе плана лежало отождествление деникинской белогвардейской опасности с донским и кубанским казачеством. Это отождествление имело больший или меньший смысл, пока центром Деникина был Екатеринодар, а пределом его успехов — восточная граница Донецкого бассейна. Чем дальше, тем больше отождествление становилось неверным. Задачи Деникина наступательные, задачи донского и кубанского казачеств — оборонительные в пределах их областей. С продвижением Деникина в донецкий район и на Украину элементарные соображения подсказывали необходимость отрезать его выдвинувшиеся на запад силы от их первоначальной базы — казачества. Удар на Харьков — Таганрог или Харьков — Бердянск представлял собою наиболее короткое направление по территории, населенной не казачеством, а рабочими и крестьянами, и обещал наибольший успех с наименьшей затратой сил.
2. Казачество в значительной своей части оставалось бы враждебным нам, и ликвидация специально казаческой контрреволюции на Дону и Кубани оставалась бы самостоятельной задачей. При всей своей трудности — это местная задача, и мы могли бы и имели бы полную возможность разрешить ее во вторую очередь.
Дон, как база, истощен. Большое число казаков погибло в непрерывных боях, что касается Кубани, то она в оппозиции к Деникину. Нашим прямым наступлением на Кубань мы сближаем кубанцев с деникинцами. Удар на Харьков — Таганрог, который отрезал бы деникинские украинские войска от Кубани, дал бы временную опору кубанским самостийникам, создал бы временное замирение Кубани в ожидании развязки нашей борьбы с деникинцами на Донце и на Украине.
3. Прямое наступление по линии наибольшего сопротивления оказалось, как и было предсказано, целиком на руку Деникину. Казачество Вешенской, Мигулинской, Казанской станиц поголовно мобилизовалось, поклялось не сдаваться. Таким образом, самим направлением нашего движения мы доставили Деникину значительное количество бойцов.
4. Для поверки оперативного плана нелишне посмотреть на его результаты. Южный фронт получил такие силы, какие никогда не имел ни один из фронтов: к моменту наступления на Южном фронте имелось не менее 180 тысяч штыков и сабель, соответственное количество орудий и пулеметов. В результате полуторамесячных боев мы имеем жалкое топтание на месте в восточной половине Южного фронта и тяжкое отступление, гибель частей, расстройство организации в западной половине. Другими словами, наше положение на Южном фронте сейчас хуже, чем было в тот момент, когда командование приступало к выполнению своего априорного плана. Было бы ребячеством закрывать на это глаза.
5. Попытки свалить ответственность на состояние армий Южного фронта, организацию аппарата и прочее являются в корне несостоятельными. Армии Южного ни в каком отношении не хуже армий Восточного фронта. 8-я армия вполне равняется 5-й. Более слабая 13-я армия, во всяком случае, не ниже 4-й. 9-я армия стоит примерно на том же уровне, что и 3-я. В значительной мере эти армии строились одними и теми же работниками, и для всякого, кто наблюдал эти армии в периоды их удач, как и неудач, чрезвычайной фальшью звучат речи о каких-то организационных и боевых различиях Южного и Восточного фронтов.
6. Верно лишь то, что Деникин несравненно более серьезный враг, чем Колчак. Дивизии, перебрасывавшиеся с Восточного фронта на Южный, отнюдь не оказывались выше дивизий Южного фронта. Это относится целиком к командному составу. Наоборот, в первый период дивизии Восточного фронта оказываются по общему правилу слабее, пока не приобретают сноровки в новых условиях против нового врага.
7. Но если враг на юге сильнее, то и мы были несравненно сильнее, чем были когда-либо на каком-либо из фронтов. Поэтому причины неудачи необходимо искать целиком в оперативном плане. Мы пошли по линии наибольшего сопротивления, то есть части средней устойчивости направили по местности, населенной сплошь казачеством, которое не наступает, а обороняет свои станицы и очаги. Атмосфера «народной донской» войны оказывает расслабляющее влияние на наши части. В этих условиях деникинские танки, умелое маневрирование и прочее оказываются в его руках колоссальным преимуществом.
8. В той области, где меньшие силы с нашей стороны могли дать несравненно большие результаты — на Донце и на Украине, мы предоставили Деникину полную свободу действий и, таким образом, дали ему возможность приобрести колоссальный резервуар новых формирований.
9. Все разговоры о том, что Деникин на Украине ничего не формирует, являются пустяками. Если на Украине мало политически воспитанных пролетариев, что затрудняло наши формирования, то на Украине очень много офицеров, помещичьих, буржуазных сынков и озверелого кулачья. Таким образом, в то время, как мы напирали грудью на Дон, увеличивая казачий барьер перед собой, Деникин почти без помех занимается на всей территории новыми, особенно кавалерийскими, формированиями.
10. Ошибочность плана сейчас настолько очевидна, что возникает вопрос: как вообще этот план мог возникнуть?
Возникновение его имеет историческое объяснение. Когда Колчак угрожал Волге, главная опасность состояла в соединении Деникина с Колчаком. В письме к Колчаку Деникин назначал свидание в Саратове. Отсюда задача, выдвинутая его старым командованием, создать на царицынско-саратовском плесе крепкий кулак[61].
Восточный фронт считал невозможным в этот период передавать свои части. Тогдашнее командование обвиняло Восточный фронт в задержке. Последнее напирало на то, что проволочка не будет слишком долгой и опасной, ибо части будут поданы непосредственно на левый приволжский фланг Южного фронта.
Отголоски этих старых планов плюс второстепенные соображения об экономии времени на переброску частей с Восточного фронта привели к созданию особой группы Шорина. Все остальные соображения (о решающем ударе по донской, кубанской базе и прочим) были притянуты за волосы уже постфактум, когда несообразность априорного плана стала обнаруживаться все резче.
11. Теперь, чтобы скрасить действительные результаты, выдвинута новая гипотеза: если бы главные силы не были сосредоточены на царицынско-новочеркасском направлении, то Деникин был бы в Саратове, и Сызранский мост был бы взорван. Все эти воображаемые страхи должны служить нам компенсацией за реальную опасность, угрожающую Орлу и Туле, после потери нами Курска. При этом игнорируется, что донскому казачеству было бы так же трудно наступать на Саратов, как нам сейчас на Новочеркасск».
В начале октября Вооруженные силы Юга России занимали фронт параллельно нижнему плесу Волги до Царицына и далее по линии (примерно) Воронеж — Орел — Чернигов — Киев — Одесса. Этот фронт прикрывал освобожденный от советской власти район, заключавший 16–18 губерний и областей, пространством в 810 тысяч кв. верст с населением в 42 миллиона.
Положение советской России в глазах Совета народных комиссаров представлялось критическим. Советские правители, не исключая Ленина, не только в своем замкнутом кругу, но и в открытых, многолюдных собраниях не могли скрыть чисто животного страха перед приближением южных армий… «Экономическая жизнь», орган Высшего совета народного хозяйства, осенью 1919 года писала:
«Как это ни тяжело, но в настоящее время необходимо отказаться от дальнейшего продвижения в Сибири, а все силы и средства мобилизовать для того, чтобы защитить само существование советской республики от деникинской армии…»
Глава V. Большевистское наследие в освобожденных районах. Повстанчество и махновщина
Армии Юга, двигаясь вперед, шаг за шагом освобождали огромные территории России, встречая повсюду более или менее однообразные следы разрушения.
Первою на московском пути была освобождена Харьковская область. «Особая комиссия», обследовав всесторонне тяжесть и последствия шестимесячного большевистского владычества в ней, нарисовала нам картину поистине тяжелого наследия.
Жестокое гонение на церковь, глумление над служителями ее; разрушение многих храмов, с кощунственным поруганием святынь, с обращением дома молитвы в увеселительное заведение… Покровский монастырь был обращен в больницу для сифилитиков-красноармейцев. Такие сцены, как в Спасовом скиту, были обычными развлечениями чиновной красноармейщины:
«Забравшись в храм под предводительством Дыбенки, красноармейцы вместе с приехавшими с ними любовницами ходили по храму в шапках, курили, ругали скверно-матерно Иисуса Христа и Матерь Божию, похитили антиминс, занавес от Царских врат, разорвав его на части, церковные одежды, подризники, платки для утирания губ причащающихся, опрокинули Престол, пронзили штыком икону Спасителя. После ухода бесчинствовавшего отряда в одном из притворов храма были обнаружены экскременты»[62].
В Лубнах перед своим уходом большевики расстреляли поголовно во главе с настоятелем монахов Спасо-Мгарского монастыря… В одной Харьковской губернии было замучено 70 священнослужителей…
Вся жизнь церковная взята была под сугубый надзор безверной или иноверной власти: «Крестить, венчать и погребать без предварительного разрешения товарищей Когана и Рутгайзера, заведующих соответственными отделами Харьковского исполкома, было нельзя…» Интересно, что религиозные преследования относились только к православным: ни инославные храмы, ни еврейские синагоги в то время нисколько не пострадали…
Большевики испакостили школу: ввели в состав администрации коллегию преподавателей, учеников и служителей, возглавленную невежественными и самовластными мальчишками-комиссарами; наполнили ее атмосферой сыска, доноса, провокации; разделили науки на «буржуазные» и «пролетарские»; упразднили первые и, не успев завести вторых, 11 июня декретом «Сквуза»[63] закрыли все высшие учебные заведения Харькова…
Большевистская власть упразднила законы и суд. Одни судебные деятели были казнены, другие уведены в качестве заложников (67 лиц). Достойно внимания, что из числа уцелевших чинов харьковской магистратуры и прокуратуры ни один, невзирая на угрозы и преследования, не поступил в советские судебные учреждения… На место старых установлении заведены были «трибуналы» и «народные суды», подчиненные всецело губернскому исполнительному комитету. Глубоко невежественные судьи этих учреждений не были связаны «никакими ограничениями в отношении способов открытия истины и меры наказания, руководствуясь… интересами социалистической революции и социалистическим правосознанием…»[64]. Практика этих судов, как свидетельствовали оставленные ими дела, были полным издевательством над правом и человеческой совестью или пошлым анекдотом.
Большевики упразднили городское самоуправление и передали дело в руки «Отгорхоза»[65]. Благодаря неопытности, хищничеству, невероятному развитию штатов[66], тунеядству и введению 6-часового рабочего дня, городское хозяйство было разрушено и разграблено, а дефицит в Харькове доведен до 13 миллионов.
Земское дело перешло к исполкомам и совнархозам — комиссиям, составленным преимущественно из городских рабочих-коммунистов. В результате: «Земские больницы, школы были исковерканы, почтовые станции уничтожены, заводские конюшни опустошены, земские племенные рассадники скотоводства расхищены, склады и прокатные пункты земледельческих орудий разграблены, телефонная сеть разрушена… мертвый инвентарь имений роздан был «комбедами» по рукам, запасные части растеряны и многие машины оказались непригодными… Если лошади и скот не расхищались, то они гибли из-за реквизиции фуража, а реквизировался он членами продовольственных комитетов и совнархозов, военной властью и чрезвычайкой… Хозяйничанием большевиков уничтожены почти окончательно четыре государственных конных завода»[67].
Комиссия пришла к заключению:
«Пять месяцев власти большевиков и земскому делу, и сельскому хозяйству Харьковской губернии обошлись в сотни миллионов рублей и отодвинули культуру на десятки лет назад».
Все стороны финансово-экономической жизни были потрясены до основания. В этой области политика большевиков на Украине, усвоив многие черты немецкой (во время оккупации), проявила явную тенденцию наводнить край бесценными бумажными знаками, выкачав из него все ценности — товары, продукты, сырье. По поводу разрушения торгового аппарата орган 1-го всеукраинского съезда профессиональных союзов, собравшегося 25 марта в Харькове, говорил: «Нищий и разрушающийся город пытается в процессе потребления накопленных благ «перераспределять» их и тешится, стараясь облечь это хищническое потребление в форму национализации и социализации. Производство… разваливается. Крестьянство за «керенки» ничего не дает, и, в стремлении наладить товарообмен с деревней и выжать из производства побольше изделий, предприниматель-государство стало на путь утонченной эксплуатации рабочей силы»[68].
Такой же хищнический характер носила и продовольственная политика. Декретом от 10 декабря 1918 года было разрешено всем организациям и жителям северных губерний закупать на Украине продукты «по среднерыночным ценам». На деревню обрушился поток мешочников, 17 заготовительных организаций Великороссии, кроме того Губпродком и три «Че-ка». Конкуренция, злоупотребления, насилия, отсутствие какого-либо плана привели к неимоверному вздорожанию цен[69], исчезновению продуктов с рынка и голоду в этой российской житнице. Харьковская губерния вместо предположенного по разверстке количества хлеба 6850 тысяч дала всего 129 тысяч пудов. Подобные же результаты получились по всей Украине.
Советская власть приняла меры чрезвычайные: на деревню за хлебом двинуты были воинские продовольственные отряды (в Харьковскую губернию — 49) и начали добывать его с боем; одновременно, декретом от 24 апреля, в южные губернии приказано было переселить наиболее нуждающееся рабоче-крестьянское население севера. Наконец, ввиду полной неудачи всех мероприятий и назревшей катастрофы, совет комиссаров объявил продовольственную диктатуру незадолго до прихода в район добровольцев. В результате — в деревне перманентные бои, требовавшие иногда подкреплений карательных отрядов от войск, и в городе голод. Буржуазия была предоставлена самой себе, а наиболее привилегированная часть населения — пролетариат Донецкого бассейна — горько жаловался Наркомпроду: «Большинство рабочих рудников и заводов голодает и лишь в некоторых местах пользуется полуфунтовым хлебным пайком… Надвигающаяся черная туча не только захлестнет рабочую корпорацию, но и угасит революционный дух рабочих».
Такое положение установилось повсеместно. Коммунистические верхи гальванизировали еще политические идеи борьбы, но в их призывах все чаще и настойчивее звучали мотивы иного порядка — экономические, более понятные, более соответствовавшие массовой психологии: голодный север шел войной на сытый юг, и юг отстаивал цепко, с огромным напряжением, свое благополучие.
Заводы и фабрики обратились вообще в кладбища — без кредита, без сырья и с огромной задолженностью; вдобавок перед приходом добровольцев они были частью эвакуированы, частью разграблены. Большинство заводов стояло, а рабочие их получали солидную заработную плату от совнархоза, за которую, однако… нельзя было достать хлеба. Добыча угля Донецкого бассейна, составлявшая в 1916 году 148 миллионов пудов (в месяц), после первого захвата большевиками (январь — май 1918) понизилась до 27 миллионов и, поднявшись, вновь за время немецкой оккупации Украины до 48 миллионов, нисходила к концу второго захвата (декабрь 1918 — июнь 1919) до 16–17 миллионов пудов[70]. Южные и Северо-Донецкие дороги, по сравнению с 1916 годом, за пять месяцев большевистского управления дали на 91.33 процента уменьшения количества перевозок, на 108.4 процента увеличения расхода угля и общий дефицит 110 миллионов рублей.
Повсюду — нищета и разорение.
Наконец, эти могилы мертвых и живых — каторжная тюрьма, чрезвычайка и концентрационный лагерь, где в невыносимых мучениях гибли тысячи жертв, где люди-звери — Саенко, Бондаренко, Иванович и многие другие — били, пытали, убивали и так называемых «врагов народа», и самый неподдельный, безвинный «народ»!
«Сегодня расстрелял восемьдесят пять человек. Как жить приятно и легко!..» Такими внутренними эмоциями своими делился с очередной партией обреченных жертв знаменитый садист Саенко. По ремеслу столяр, потом последовательно городовой, военный дезертир, милиционер и, наконец, почетный палач советского застенка.
Ему вторил другой палач — беглый каторжник Иванович: «Бывало, раньше совесть во мне заговорит, да теперь прошло — научил товарищ стакан крови человеческой выпить: выпил — сердце каменным стало».
В руки подобных людей была отдана судьба населения большого культурного университетского города.
Я остановился на положении при большевиках харьковского района, важнейшего театра наших военных действий, на котором развертывались операции Добровольческой армии; но, за малыми различиями в ту или другую сторону, в таком же положении находились Киевщина и Новороссия. Менее других пострадал Крым, где вторичный захват власти большевиками длился всего лишь два месяца (апрель — май), и страшнее всего, убийственнее всего было состояние царицынского района, где большевистский переворот совершился задолго до «октября» — еще в конце марта 1917 года, где коммунистическая власть правила без перерыва в течение двух с лишним лет, а самый город, представляя ближайший тыл постоянно угрожаемого фронта, навлекал на себя чрезвычайные репрессии. «В конце концов, — говорится в описании «Особой комиссии», — все население, кроме власть имущих и их присных, обратилось в какие-то ходячие трупы. Не только на лицах жителей не было улыбки, но и во всем существе их отражались забитость, запуганность и полная растерянность. Два с лишним года владычествовали большевики в Царицыне и уничтожили в нем все — семью, промышленность, торговлю, культуру, самую жизнь. Когда 17 июня 1919 года город, наконец, был освобожден от этого ига, он казался совершенно мертвым и пустынным, и только через несколько дней начал, как муравейник, оживать».
На четвертый день после занятия Царицына я посетил город, в котором не только от людей, но, казалось, от стен домов, от камней мостовой, от глади реки веяло еще жутким мертвящим дыханием пронесшегося смерча…
Система большевистского управления отчасти оживила повстанческое движение на Юге, уходившее истоками своими к временам гетманщины и австро-немецкой оккупации, отчасти создавала новые очаги восстаний, захватывавших огромные районы по преимуществу правобережной Украины, Новороссии, Екатеринославщины и Таврии. В одной только полосе — между Днепром и Горынью, западнее Киева, — насчитывалось 22 «атамана» во главе сильных повстанческих банд. Они то работали самостоятельно, то объединялись в крупные отряды под начальством более популярных «атаманов» и «батек». Особенной известностью пользовались Зеленый, действовавший в западной части Полтавской губернии и в окрестностях Киева, Григорьев — в низовьях Днепра и Махно — в Таврии и Екатеринославской губернии.
Чрезвычайно сложна массовая психология, питавшая повстанческое движение, разнообразны его внешние формы и искусственно навязываемые ему политические лозунги. Я остановлюсь на тех элементах движения, которые представляются мне неоспоримыми.
Прежде всего в основании его лежали, несомненно, историческая быль и легенда, оживленные революцией и определившие территориальное распространение повстанчества. Сообразно с этим прошлым и территорией характер его, сохраняя общий колорит, различен в деталях. Так, на севере Украины более спокойное и хозяйственное крестьянство вносило в повстанчество более организованные формы и положительные цели — самообороны и правопорядка; на юге свирепствовали без плана и определенной цели гайдамачина и «вольное казачество» — буйное, бесшабашное и распутное. На востоке располагалась вотчина батьки Махно — в районе, где начавшийся в XVIII веке прилив великороссов-переселенцев из наиболее беспокойного элемента создал богатейшие поселения, по внешности только малорусские. Атавизм, типичные черты русского безыдейного анархизма, соседство и близкое общение с крупными промышленными центрами, простор полей, сытость и вместе с тем тяга к ненавидимому городу и к его привлекательным соблазнам наложила здесь особый колорит на повстанческое движение. Ограбление городов, например, было одним из серьезнейших двигателей махновского воинства[71].
Толчком к повстанческому движению послужил, несомненно, аграрный вопрос. Деревня поднялась «за землю» против «пана», против немца, как защищающего «пана» и отбирающего хлеб. Объектами жестокой расправы повстанцев были поэтому помещики, «державная варта» и австро-германцы, когда с последними можно было справиться. Но с уходом оккупационных войск и по мере ликвидации помещичьего землепользования и удовлетворения земельной жажды этот стимул теряет свою остроту на западе и мало выдвигается в махновском районе.
Антиеврейское настроение в повстанчестве было всеобщим, стихийным, имело корни в прошлом и подогревалось видным участием евреев в составе советской власти. Большинство «атаманов», отвечая этому настроению, призывали открыто к еврейским погромам; Григорьев звал на борьбу «с политическими спекулянтами… из московской обжорки и той земли, где распяли Христа»; Махно, как говорит его апологет Аршинов[72], наоборот, преследовал погромщиков и даже в 1919 году, очевидно, под влиянием наехавших членов анархической группы «Набат», в числе которых было немало евреев, подписал воззвание против национальной травли и в защиту «бедных мучеников-евреев», противополагая их «еврейским банкирам». В искренности самого Махно, в качестве защитника евреев, позволительно усомниться; что же касается махновцев, то и настроение, и практика их ничем не отличались от чувств и дел правобережной гайдамачины.
И волна еврейских погромов заливала всю Украину.
Таким же всеобщим, стихийным настроением была ненависть к большевикам. После краткого выжидательного периода, даже после содействия, которое оказывали немногие, впрочем, повстанческие отряды в начале 1919 года вторжению на Украину большевиков, украинское крестьянство стало в ярко враждебное отношение к советской власти. К власти, приносившей им бесправие и экономическое порабощение; к строю, глубоко нарушавшему их собственнические инстинкты, теперь еще более углубленные; к пришельцам, подошедшим к концу дележа «материальных завоеваний революции» и потребовавшим себе крупную долю… Расправы с большевистскими властями носили характер необыкновенно жестокий.
Шесть режимов, сменившихся до того на Украине, и явная слабость всех их вызвали вообще в народе обострение тех пассивно-анархических тенденций, которые были в нем заложены извечно. Вызвали неуважение к власти вообще, независимо от ее содержания. Безвластие и безнаказанность таили в себе чрезвычайно соблазнительные и выгодные перспективы по крайней мере на ближайшее время, а власть, притом всякая, ставила известные стеснения и требовала неукоснительно хлеба и рекрут. Борьба против власти, как таковой, становится со временем главным стимулом махновского движения, заслоняя собой все прочие побуждения социально-экономического характера.
Наконец, весьма важным стимулом повстанческого движения был грабеж. Повстанцы грабили города и села, буржуев и трудовой народ, друг друга и соседей. И в то время, когда вооруженные банды громили Овруч, Фастов, Проскуров и другие места, можно было видеть сотни подвод, запружавших улицы злополучного города с мирными крестьянами, женщинами и детьми, собирающими добычу. Между «атаманами» не раз безмолвно или полюбовно устанавливались зоны их действий и не только для операций против большевиков, но и для сбора добычи… 14 июля 1919 года Махно, заманив Григорьева на повстанческий съезд, собственноручно убил его. Официальная версия партийных анархистов называет это убийство казнью «врага народа», устроившего еврейский погром в Елисаветграде и для борьбы с большевиками не пренебрегавшего никакими союзниками, даже якобы Добровольческой армией… Гораздо правильнее, однако, другая версия — о двух пауках в одной банке, о борьбе двух «атаманов» за власть и влияние на тесном пространстве нижнего Днепра[73], куда загнали их судьба и наступление Вооруженных сил Юга.
Как бы то ни было, всеобщий популярный лозунг повстанцев, пронесшийся от Припяти до Азовского моря, звучал грозно и определенно: «Смерть панам, жидам и коммунистам!»
Махновцы к этому перечню прибавляли еще и «попов», а понятие «пан» распространяли на всех «белогвардейцев», в особенности на офицеров.
И когда последние попадались в руки махновцам, их постигала неминуемо лютая смерть.
В гораздо меньшей, почти незаметной, степени отражались в повстанчестве элементы политический и национальный (самостийный), которые привносили в дело только верхи.
Повстанчество действительно привело Директорию в Киев, но тотчас же сбросило ее, когда Петлюра попытался положить предел бесчинствам банд. Весною и летом 1919 года при большевистском режиме прежние связи Директории с некоторыми из отрядов возобновились вновь, но едва ли не исключительно ради снабжения их деньгами, оружием и патронами, которые щедро отпускал петлюровский штаб. Интересы совпадали, и совместная борьба продолжалась, но борьба «против большевиков», а не «за Петлюру». Григорьев[74] с херсонскими повстанцами в январе 1919 года изменил Петлюре и перешел к большевикам, а в апреле изменил большевикам. И в своем «универсале», понося и гетманщину, и петлюровщину и «московскую обжорку», призывал украинский народ «взять власть в свои руки»: «Пусть не будет диктатуры ни лица, ни партии. Да здравствует диктатура трудящегося народа!» При этом объявлял мобилизацию и разъяснял туманную форму этой «народной» диктатуры: «Приказ мой прошу исполнить, все остальное сделаю сам…» Махно[75] отметал самостийность и искал «братской живой связи с революционной Украиной и революционной Россией»; дважды он поступал на службу к советской власти для совместной борьбы против Вооруженных сил Юга и дважды, по миновании в нем надобности, был разгромлен большевиками.
Наша киевская тайная организация по собственной инициативе связалась со штабом Зеленого[76] в Триполье. Прибывших туда офицеров не допустили к самому атаману; они беседовали только с двумя лицами политического окружения его, назвавшимися один — бывшим редактором украинской газеты «Народная воля», а другой — бывшим офицером лейб-гвардии Измайловского полка Грудинским. Оба они заявили, что стоят на точке зрения независимости Украины. Ее должен отделять от Великороссии «кордон», так как «теперь среди белого дня происходит грабеж украинского хлеба». «Мы признаем советы, — говорили они, — но наши советы особые… Должна быть украинская советская республика». При этом редактор и измайловец уверяли, что Зеленый ни в каких отношениях с Петлюрой не состоит.
Повсюду в районе Зеленого расклеены были плакаты упрощенного политического содержания: «Хай живе Вильна Украина! Геть всероссiскiх узурпаторiв! Геть Раковского и жидiв комиссарiв!»[77]
Все эти политические союзы, самостийные лозунги и схемы государственного устройства исходили или лично от «атаманов» и «батек», или от их политического окружения» вербовавшегося, главным образом, из украинских социалистов и тонкого слоя украинской полуинтеллигенции — сельских учителей, кооператоров и других — почти сплошь приверженцев Директории. В народе же и повстанчестве ни самостийничество, ни шовинизм сколько-нибудь серьезно не проявлялись. Если понятие «москаль» становилось одиозным, то вовсе не по признаку национальному, родовому, а по отождествлению его с теми пришлыми людьми — комиссарами, членами военно-революционных комитетов, чрезвычаек и карательных отрядов, с теми «кровопийцами и паразитами народными», которые сделали жизнь вконец непереносимой. К ним, и только к ним, оставалось неизменным чувство смертельной вражды.
Если на западе сохранилась все же известная видимость петлюровского влияния, то на востоке его не было никогда. Вообще, все стремления как националистических, так и партийных организаций овладеть повстанческим движением и использовать его в своих интересах не увенчались успехом. Оно оставалось до конца низовым, народным. Национализм его — от Сагайдачного, анархизм — от Стеньки Разина. К нему пристраивались украинские социалисты, но никогда не вели его.
Партия русских анархистов вначале не решилась отождествлять себя с махновщиной, заявив, что махновщина «не была определенной анархической организацией, будучи шире ее и являясь массовым социальным движением украинских тружеников». Тем не менее анархисты приложили к движению свой штамп и ныне облекают его легендой. Весною 1919 года в гуляй-польский район прибыли представители анархических организаций, и в том числе «конфедерации «Набат». Анархисты взяли в свои руки «культурно-просветительный отдел армии», стали издавать газеты «Набат», «Путь к свободе» и подводить «платформу» и идеологию под махновское движение: «Отрицание принципа государственности и всякой власти, объединение трудящихся всего мира и всех национальностей, полное самоуправление трудящихся у себя на местах, введение вольных трудовых советов крестьянских и рабочих организаций…» «Просветительная» деятельность апостолов анархизма и практика повстанцев шли, однако, расходящимися путями. «Безвластные формы управления» не получили никакого развития «по обстоятельствам военного времени». Напротив, жизнь ответила погромами, «добровольной» мобилизацией и самообложением — по типу, принятому в современной Венгрии[78], и «добровольной» дисциплиной — со смертной казнью за неповиновение… Один из участников борьбы с махновцами, шедший долгое время по их следам, свидетельствует, что положение там мобилизованных, составлявших половину сил Махно, было весьма тяжелым: «Им не верили, их пороли плетьми и за малейшее желание уклониться от службы расстреливали; в случае же неудачного боя бросали на произвол судьбы».
Легенда облекает и личность Махно — отважного и очень популярного разбойника и талантливого партизана — в одежды «идейного анархиста», хотя, по признанию его же биографа и апологета, «каторга была собственно единственной школой, где Махно почерпнул исторические и политические знания, послужившие ему огромным подспорьем в его политической деятельности…»[79] Но русский анархизм, давший всемирно известных теоретиков Кропоткина и Бакунина, в практической деятельности партии на всем протяжении Русской Смуты представляет один сплошной трагический фарс[80]. И было бы, конечно, непредусмотрительным не присвоить себе единственного серьезного движения и не канонизировать в свои вожди Махно — столь яркую фигуру безвременья, хотя и с разбойничьим обличьем… Тем более, что колесо истории может повернуться… На это обстоятельство рассчитывает также и польское правительство, проявившее в отношении Махно, интернированного в 1922–1924 годах в Польше[81], несвойственное полякам благодушие. Махно считается, по-видимому, полезным сотрудником для будущего.
Действия повстанческих отрядов вносили подчас весьма серьезные осложнения в стратегию всех борющихся сторон, ослабляя попеременно то одну, то другую, внося хаос в тылу и отвлекая войска с фронта. Объективно повстанчество являлось фактором положительным для нас на территории, занятой врагом, и тотчас же становилось ярко отрицательным, когда территория попадала в наши руки. Поэтому с повстанчеством вели борьбу все три режима — петлюровский, советский и добровольческий. Даже факты добровольного перехода к нам некоторых повстанческих банд являлись только тяжелой обузой, дискредитируя власть и армию. «Наибольшее зло, — писал мне генерал Драгомиров[82], — это атаманы, перешедшие на нашу сторону, вроде Струка. Это типичный разбойник, которому суждена, несомненно, виселица. Принимать их к нам и сохранять их отряды — это только порочить наше дело. При первой возможности его отряд буду расформировывать». Вместе с тем генерал Драгомиров считал необходимым поставить борьбу с бандитизмом на первый план, ибо «ни о каком гражданском правопорядке невозможно говорить, пока мы не сумеем обеспечить самое элементарное спокойствие и безопасность личную и имущественную…».
Атаманство приносило с собой элементы дезорганизации и разложения; махновщина, кроме того, была наиболее антагонистична идее Белого движения. Эта точка зрения впоследствии, в крымский период, претерпела в глазах нового командования некоторые изменения. В июне 1920 года по поручению генерала Врангеля в стан Махно явился посланец, привезший письмо из штаба:
«Атаману Повстанческих войск Махно.
Русская армия идет исключительно против коммунистов с целью помочь народу избавиться от коммуны и комиссаров и закрепить за трудовым крестьянством земли государственные, помещичьи и другие частновладельческие. Последнее уже проводится в жизнь.
Русские солдаты и офицеры борются за народ и его благополучие. Каждый, кто идет за народ, должен идти рука об руку с нами. Поэтому теперь усильте работу по борьбе с коммунистами, нападая на их тыл, разрушая транспорт и всемерно содействуя нам в окончательном разгроме войск Троцкого. Главное командование будет посильно помогать Вам вооружением, снаряжением, а также специалистами. Пришлите своего доверенного в штаб со сведениями, что Вам особенно необходимо и для согласования боевых действий.
Начальник штаба главнокомандующего Вооруженными силами, Генерального штаба генерал-лейтенант Шатилов, генерал-квартирмейстер, Генерального штаба генерал-майор Коновалов.
18 июня 1920 года.
г. Мелитополь».
На заседании повстанческого командного состава по инициативе Махно было решено: «Какой бы делегат ни был прислан от Врангеля и вообще справа, он должен быть казнен, и никаких ответов не может быть дано»[83].
Посланца тут же публично казнили.
Я приведу общую оценку наследия, полученного нами от большевиков, исходящую из враждебного Белому движению меньшевистского лагеря[84].
«Добровольческая армия шла, предшествуемая и поддерживаемая крестьянскими волнениями. В стране происходили глубокие сдвиги… Широкие слои населения оказались захваченными национально-реакционными настроениями. В эти дни национального психоза, взрыва утробной ненависти к революции, диких расправ на улицах над коммунистами и «коммунистами» те, кто был против Добровольческой армии, представляли из себя узкую и вынужденно молчаливую общественную среду, одиноко затерявшуюся среди поднявшихся волн враждебных настроений.
Обнаружилось и еще одно явление. Крыло реакционных настроений коснулось и рабочей массы. Как могло это случиться? Это глубоко интересный и важный политический и социально-психологический вопрос. Ответ на него лежит в том историческом материале, который характеризует советскую фазу 1919 года. В ней — корни позднейших настроений… На разбитой, разворошенной украинской почве большевистский терроризм в этот период вырос в анархическое, антиобщественное явление. Специальные условия места и времени создавали какую-то гипертрофию «военного коммунизма». Деклассированные элементы получали все большую свободу своего формирования и господства. Делались тысячи нелепостей и преступлений. Кровь лилась потоками бесцельно, как никогда. Положение рабочих организаций становилось все более стесненным. Изоляция власти от пролетариата шла подстегнуто быстрыми шагами. Быстро сгорали иллюзии и настроения после «петлюровской весны».
Сильное распространение разочарования, настроений недовольства и часто озлобления на почве указанных общих свойств политики предыдущего периода (советского) и продовольственного кризиса замечалось в пролетариате все более ярко…»
На русском «погосте» еще не смолкли «плач и рыдания» у свежих могил, у гекатомб, воздвигнутых кровавой работой Лациса, Петерса, Кедрова, Саенко и других, в проклятой памяти чрезвычайках, «подвалах», «оврагах», «кораблях смерти» Царицына, Харькова, Полтавы, Киева… Различны были способы мучений и истребления русских людей, но неизменной оставалась система террора, проповедуемая открыто с торжествующей наглостью. На Кавказе чекисты рубили людей тупыми шашками над вырытой приговоренными к смерти могилою; в Царицыне удушали в темном, смрадном трюме баржи, где обычно до 800 человек по несколько месяцев жили, спали, ели и тут же… испражнялись… В Харькове специализировались в скальпировании и снимании «перчаток». Повсюду избивали до полусмерти, иногда хоронили заживо. Сколько жертв унес большевистский террор, мы не узнаем никогда[85]. Безумная большевистская власть не щадила ни «алой», ни «черной» крови, земля оделась в траур, и приход армии-освободительницы отзывался как радостный благовест в измученных душах.
Иногда, впрочем, в этот радостный перелив врывались тревожные звуки набата… Так было в Екатеринославе, в Воронеже, Кременчуге, Конотопе, Фастове и в других местах, где набегающая волна казачьих и добровольческих войск оставляла и грязную муть в образе насилий, грабежей и еврейских погромов.
Никаких, решительно никаких оправданий этому явлению не может быть. И не для умаления вины и масштаба содеянных преступлений, но для уразумения тогдашних настроений и взаимоотношений я приведу слова человека, окунувшегося в самую гущу воспоминаний, свидетельств и синодиков страшного времени:
«Нельзя пролить более человеческой крови, чем это сделали большевики; нельзя себе представить более циничной формы, чем та, в которую облечен большевистский террор. Эта система, нашедшая своих идеологов, эта система планомерного проведения в жизнь насилия, это такой открытый апофеоз убийства, как орудия власти, до которого не доходила еще никогда ни одна власть в мире. Это не эксцессы, которым можно найти в психологии гражданской войны то или иное объяснение.
«Белый» террор — явление иного порядка. Это прежде всего эксцессы на почве разнузданности власти и мести. Где и когда в актах правительственной политики и даже в публицистике этого лагеря вы найдете теоретическое обоснование террора, как системы власти? Где и когда звучали голоса с призывом к систематическим, официальным убийствам? Где и когда это было в правительстве генерала Деникина, адмирала Колчака или барона Врангеля?..
Нет, слабость власти, эксцессы, даже классовая месть и… апофеоз террора — явления разных порядков»[86].
Несомненно, подобное сравнение находило тогда отклик в широких народных массах, которые не могли не чувствовать глубокой разницы между двумя режимами — красным и белым, невзирая на все извращения и «черные страницы» Белого движения.
Большевистское наследие открывало одновременно и огромные положительные возможности, и огромные трудности. Первые — в общем чувстве ненависти к свергнутой коммунистической власти и в сочувствии к избавителям; вторые — в страшном расстройстве всех сторон народно-государственной жизни.
Я лично из своих поездок по освобожденным районам вскоре после их занятия, в особенности из посещений Харькова и Одессы — в их неофициальной, нерегламентированной расписаниями части — вынес много отрадных впечатлений. Крепло убеждение, что Белое движение не встречает идейного противодействия в народе и что успех его несомненен, если только сочувствие страны претворится в активную помощь и если «черные страницы» не затемнят Белую идею.
И еще одно «если», едва ли не важнейшее…
Однажды в собрании ростовских граждан[87], заканчивая обзор общей политики правительства, я говорил:
«Революция безнадежно провалилась. Теперь возможны только два явления: эволюция или контрреволюция.
Я иду путем эволюции, памятуя, что новые крайние утопические опыты вызвали бы в стране новые потрясения и неминуемое пришествие самой черной реакции.
Эта эволюция ведет к объединению и спасению страны, к уничтожению старой бытовой неправды, к созданию таких условий, при которых были бы обеспечены жизнь, свобода и труд граждан, ведет, наконец, к возможности в нормальной, спокойной обстановке созвать Всероссийское учредительное собрание.
Страшно тяжел этот путь. Словно плуг по дикой, поросшей чертополохом целине, национальная идея проводит глубокие борозды по русскому полю, где все разрушено, все загажено, где со всех сторон встают как будто непреодолимые препятствия.
Но будет вспахано поле, если…
Я скажу словами любимого писателя. Давно читал. Передам, быть может, не дословно, но верно.
«Бывают минуты, когда наша пошехонская старина приводит меня в изумление. Но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болеть по ней, я положительно не запомню. Бедная эта страна, ее любить надо».
Вот в этой-то чистой любви нашей к Родине — залог ее спасения и величия».
Глава VI. Внешние сношения Юга во второй половине 1919 года: Франция и Англия
Внешняя политика правительства Юга во вторую половину 1919 года не претерпела серьезных изменений.
После Одессы и Крыма по Югу пронеслась волна германофильства, как следствие горького разочарования в союзниках, и особенно французах. Вероятно, Париж имел преувеличенное представление об этих настроениях, потому что они вызвали явное беспокойство в правящих сферах Франции и целый ряд предостережений со стороны русских политических деятелей Парижа. Так, Маклаков, выражая крайнее опасение перед возможностью восстановления политического влияния Германии на Россию, предостерегал, что оно «будет и глубже, и вреднее, и бесповоротнее…».
«Понимая все, что накипело в душе, — писал он, — в окончательном выводе все-таки можно с уверенностью сказать следующее: Франция ни в какой мере не заинтересована в ослаблении России, наоборот: сильная Россия ей необходима, так как без нее она в Европе будет изолирована. У нас нет ни малейшей противоположности интересов с Францией, а ее денежные претензии к нам сами по себе требуют и сильной, и богатой, и единой России… Никто из великих держав меньше Франции не требует за свою дружбу и союз…»
Опасения были неосновательны. Вероятно, и убежденные германофилы не могли бы указать, какую реальную помощь была в состоянии оказать русскому делу в то время Германия — поверженная, оккупированная, зависимая от победителей — без их санкции.
Главное командование не предполагало изменять политический курс. Так же относилось к этому вопросу и «Особое совещание», на заседании 28 ноября 1919 года единогласно подтвердившее необходимость придерживаться союзной ориентации.
Выбора не было.
Причины столь неудачной до той поры политики Франции Маклаков объяснял известным легкомыслием, незнанием России, пристрастием к демократизму, боязнью своих демократических партий, боязнью реставрации в России ее германофильства» и т. д.
«Конечно, был некоторый флирт с украинцами, продолжается он с поляками и финляндцами, но не забудьте, что все это основано отчасти на незнании, отчасти на традиционных воспоминаниях и симпатиях, основанных в значительной степени на позиции русских передовых кругов, которые в своей ненависти к старому режиму преувеличивали страдания и Польши, и Финляндии, а еще больше на том, что в момент крушения России, когда можно было опасаться, что Россия есть действительно расслабленный колосс, от которого скоро ничего не останется, Франции приходилось цепляться за остатки ее прежней мощи. Но как только появляется вера в то, что будет сильная Россия, все симпатии Франции, самые искренние, идут опять к ней».
В таком же роде писал граф Коковцев, ссылаясь на свою осведомленность благодаря обширным связям в политическом мире Франции:
«В настоящее время[88] французы переживают новый поворотный этап… Их страшит будущая беззащитность перед призраком возможного возрождения Германии. Они преувеличивают до крайности эту способность возрождения, быть может, искренне даже не верят в нее, но для них и для всех сторонних наблюдателей здесь ясны два положения:
1. Глубокое внутреннее расстройство Франции, упадок настроения большинства народных масс к продолжению вооруженной борьбы, организованность рабочего класса, не желающего возвращаться к упорному труду, и неизбежность отсюда искать сближения с другими народами.
2. Крайняя ненадежность помощи Америки в будущем, неустойчивость ее внешней политики, стремление ее вовсе отойти от европейских осложнений, вернуть себе недавнюю замкнутость в сфере собственных интересов и невозможность поэтому рассчитывать на нее в минуту действительной опасности.
Отсюда больше, чем от серьезной веры в близкую германскую опасность, с каждым днем крепнет страх перед изолированностью Франции и необходимость подготовить в будущем восстановление союза с Россией, вернуть к себе наши симпатии и сделать все возможное, чтобы не допустить Россию или броситься в объятия Германии или же считать единственным своим другом Англию и подпасть целиком под ее политическое и экономическое влияние.
Здесь начинает даже пробиваться болезненная мысль, как бы не зародилась в один прекрасный день страшная перспектива взаимного сближения Германии, России, Японии и Италии на почве нынешнего хаоса изо дня в день осложняющихся отношений недавних союзников».
В связи с отправлением из Парижа на Юг России миссии генерала Манжена граф Коковцев «по всем доходящим до него сведениям» заключал, что она «имеет истинной целью попытаться (заставить) забыть прошлое и положить начало лучшему будущему, усматривая в Вас и Ваших силах ту ближайшую и реальную власть, которая способна возродить Россию из хаоса и разорения».
Во время поездки нашей делегации в Париж[89] генерал Драгомиров после посещения Клемансо в письме ко мне излагал свои впечатления:
«Все понимают необходимость союза с нами. Панически боятся реванша Германии и чтобы мы не соединились с Германией против Европы. Клемансо был со мною очень предупредителен. Сначала резко пытался нападать на нас, что мы «враги Франции»; ссылался на какое-то письмо Ваше к Колчаку, в котором Вы будто бы весьма резко критиковали политику Франции. Пытался обвинять в том же и меня. Я дал ему на это… резкий отпор, что «врагами Франции» никогда не были, но, несомненно, весьма отрицательно относились к французским генералам, создавшим одесскую катастрофу. Клемансо в конце концов несколько раз объявил, что будет оказывать нам всяческую помощь, но, конечно, не людьми. От «людей» я поспешил отказаться, а настаивал на скорейшей моральной поддержке, путем немедленного формального признания правительства Колчака и принятия наших представителей в сонм официальных послов других держав. На это я ответа не получил. Разговор кончился почти дружески повторением обещания — помочь всем, чем может. Из письма Нератова Вы узнаете, что такую же помощь обещает и Пишон».
Я убежден, что и эти, и другие мои осведомители совершенно правильно освещали настроения правившей Франции. Казалось несомненным, что положительные отношения ее к противобольшевистской России имели под собою твердый базис: 1) угроза русского большевизма, 2) опасность русско-немецкого сближения, направленного против Франции и 3) преимущественная заинтересованность ее в признании и уплате российского государственного долга.
И тем не менее французская политика не сделала своего «выбора», оставшись на распутье: Франция делила свое внимание между Вооруженными силами Юга, Украиной, Финляндией и Польшей, оказывая более серьезную поддержку одной лишь Польше, и только для спасения ее вступила впоследствии в более тесные сношения с командованием Юга в финальный, крымский период борьбы. Это обстоятельство придавало всей политике Франции в «русском вопросе» характер нерешительности, неустойчивости, беспочвенного гадания и отсутствия той доли риска, которая законна и неизбежна во всяком большом политическом предприятии.
В итоге мы не получили от нее реальной помощи: ни твердой дипломатической поддержкой, особенно важной в отношении Польши, ни кредитом, ни снабжением.
После неудачного представительства капитана Фуке во главе французской военной миссии стал полковник Корбейль — человек серьезный и уравновешенный, с которым установились вполне дружелюбные отношения. Но он был представителем только главного командования на Востоке, имел весьма ограниченные полномочия и служил, главным образом, передаточной инстанцией в наших сношениях с Константинополем и Парижем. Мы связывали большие надежды с приездом осенью 1919 года миссии генерала Манжена, командированного уже правительством, обладавшего «широкими полномочиями», как гласила верительная грамота[90], обязанного «облегчить сношения между Добровольческой армией и французским командованием для вящей пользы противобольшевистской борьбы и укрепления связей, соединяющих издавна Францию с Россией».
Надежды не оправдались. В таганрогской миссии не было никакой русской политики, потому что ее не было и в Париже. Все попытки сдвинуть вопрос с мертвой точки не увенчались успехом, и миссия сохранила свой прежний характер, главным образом, осведомительного и отчасти консульского органа. Мы вели длительную переписку и разговоры по поводу захвата французами черноморского транспорта[91] и возвращения интернированных судов русского военного флота; по поводу претензий французских предпринимателей Кривого Рога и Донецкого бассейна; франкофобских выходок некоторых южных органов печати и так далее, и так далее. Разговоры — нудные и раздражающие. Была попытка со стороны французского командования и к осуществлению пресловутой англо-французской конвенции о «зонах действий…». В августе 1919 года я получил уведомление, что на основании этой конвенции «контроль над пассажирами, следующими во все (русские) порты на запад от входа в Азовское море, будет производиться французскими властями». Для этой цели французы решили послать свои паспортные бюро сначала в крымские порты, потом в Одессу. Начальнику французской миссии было сообщено о недопустимости вмешательства в наши внутренние дела и о том, что «контроль над лицами, прибывающими в район ВСЮР, осуществляется российскими дипломатическими и военными представителями за границей, без разрешения которых никто в пределы Юга России не может быть допущен»[92]. В конце концов штаб генерала Франше д'Эспере свел вопрос к «недоразумению», и французские контрольные пункты из чинов, «аккредитованных при русских властях», были допущены на побережье, но лишь для контроля лиц, выезжающих из России в Константинополь, то есть в фактическую зону союзной оккупации…
Мы ли были недостаточно логичны, французы ли слишком инертны, но экономические отношения с Францией также не налаживались. Только в декабре французское правительство аккредитовало при «Особом совещании» своего представителя, директора русского отдела «L'Offict commercial» господина Cottavoz для установления этих «огромной важности отношений». Как раз ко времени, когда началось уже отступление армий Юга…
Англичане, доставляя нам снабжение, никогда не возбуждали вопроса об уплате или компенсациях[93]. Французы не пожелали предоставить нам огромные запасы, свои и американские, оставшиеся после войны и составлявшие стеснительный хлам, не окупавший расходов на его хранение и подлежавший спешной ликвидации. Французская миссия с августа вела переговоры о «компенсациях экономического характера» взамен за снабжение военным имуществом и после присылки одного, двух транспортов с ничтожным количеством запасов[94]. Маклаков телеграфировал из Парижа, что французское правительство «вынуждено остановить отправку боевых припасов, что было бы особенно опасным для Юденича», если мы «не примем обязательство — поставить на соответствующую сумму пшеницу»[95].
Это была уже не помощь, а просто товарообмен и торговля. Такое соглашение, помимо наших финансовых затруднений, осложнялось значительно тем еще обстоятельством, что, в корне разрушая принцип морального обязательства союзной помощи в борьбе с общим врагом, могло вызвать, как о том предупреждал и Маклаков, соответственные требования и со стороны Англии. Казне Вооруженных сил Юга такая тягота была бы не под силу.
И тем не менее я был искренен, когда в октябре на приеме французской миссии во главе с генералом Манженом говорил:
«В жизни народов бывают моменты падения и возрождения, моменты сдвига с исторического пути и переоценки взаимоотношений. Но неумолимый закон бытия не допускает уклонения от поставленных им вех. В таком положении находятся русско-французские отношения, созданные не людьми, а взаимными жизненными интересами народов. Эти отношения не могут измениться без глубоких потрясений. Нам суждено идти по одной дороге, и все препятствия на ней должны быть устранены».
Отправляя в мае 1919 года на Юг нового главу британской миссии генерала Хольмэна, военный министр Черчилль писал мне:
«Я надеюсь, что Вы отнесетесь к нему с полным доверием… В согласии с политикой правительства Его Величества, мы сделали все возможное, чтобы помочь Вам во всех отношениях. Мое министерство окажет Вам всякую поддержку, какая в нашей власти, путем доставки военного снаряжения и специалистов-экспертов. Но Вы, без сомнения, поймете, что наши ресурсы, истощенные Великой войной, не безграничны… тем более, что они должны служить для выполнения наших обязательств не только в Южной, но и в Северной России и Сибири, а в сущности на пространстве всего земного шара».
Вскоре в состав миссии был включен морской представитель капитан Фримантль, а в конце года и дипломатический; последним был назначен состоявший ранее начальником штаба военной миссии полковник Киз (Keys). Характерно, что, перейдя в ведомство иностранных дел Керзона, полковник Киз сразу изменил той прямой, открытой и доброжелательной политике, которая отличала всегда английскую военную миссию.
И английская политика в «русском вопросе» за вторую половину 1919 года не стала прямолинейнее, обстоятельство тем более важное, что Ллойд Джордж пользовался весьма большим влиянием и в Верховном совете, заседавшем в Версале.
Несомненно, колебания английской политики находились в большой зависимости от успехов или неудач на белых фронтах, укрепляя попеременно то друзей наших, то недругов среди общественных и парламентских кругов Англии. Весьма чутким барометром для этих настроений служил глава ее правительства, имевший всегда большое тяготение к сближению с большевиками. Осенью 1919 года, когда обнаружились крупные неудачи на Восточном фронте, Ллойд Джордж стал подготавливать общественное мнение к крутому повороту политического курса: «Я не могу решиться, — говорил он, — предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света, в стране, где проникавшие внутрь ее чужеземные армии всегда испытывали страшные неудачи… Я не жалею об оказанной нами помощи России, но мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне… Большевизм не может быть побежден оружием, и нам нужно прибегнуть к другим способам, чтобы восстановить мир и изменить систему управления в несчастной России…»
Подымая вновь свой неудавшийся проект конференции на Принцевых островах, он высказывал надежду, что «с наступлением зимы все существующие в России правительства несколько одумаются, и тогда великие державы будут иметь возможность предложить вновь свое посредничество, дабы в России установились, наконец, порядок и спокойствие…». Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более вопросом спорным, что они «борются за Единую Россию…». «Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании… Один из наших великих людей, лорд Биконсфильд, видел в огромной, могучей и великой России, катящейся подобно глетчеру по направлению к Персии, Афганистану и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи…»[96].
Впечатление от этих заявлений на Юге России — на фронте и в тылу — было весьма тяжелым. В них увидели окончательный отказ от борьбы и от помощи противобольшевистским силам в самый трудный для нас момент. Российская общественность, печать, политические организации отозвались на лондонские речи статьями и постановлениями, полными горькой обиды и резкого осуждения. Необходимо отметить, что и в Англии точка зрения Ллойд Джорджа также далеко не встретила единодушного признания. В горячих речах сторонников России, в повременной печати мы находили тогда не раз отголоски наших собственных чувств и мыслей.
«Сейчас для нас важно решить, — писали газеты, — бросим ли мы дружественный народ на произвол судьбы после всего того, что им сделано для нас, или же будем помогать ему всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении… Совершенно верно, что военное вмешательство ныне немыслимо. Но верно также и то, что мы можем путем оказания полной материальной и нравственной помощи нашим русским друзьям содействовать их конечному торжеству».
Существовало, наконец, еще одно течение, представленное Асквитом, довольно безразлично трактовавшее политическую и моральную сторону обязательств по отношению к России и допускавшее на практике только одно из двух противоположных решений: «Либо оказывать России помощь в полной мере, либо предоставить ее собственным силам».
Пока такими извилистыми линиями начертывались судьбы «русского вопроса» в мировых центрах, на Юге непосредственные взаимоотношения складывались вполне благоприятно. В августе — сентябре английские войска покинули Азербайджан и Грузию, чем устранено было много острых поводов для столкновений. Оккупационный отряд занимал еще Батум, судьба области оставалась неопределенной, и генерал-губернатор ее Кук-Колис продолжал без изменения ту политику, которая была так характерна для английской оккупации в Закавказье… Английское общество «Левант» захватывало закавказский марганец, и шли какие-то разговоры о проведении транс-Кавказской железнодорожной линии от Батума через Карс и Персию… Но и миссия, и английское военное министерство вносили умеряющее начало в деятельность Кук-Колиса.
Англичане передали нам Каспийскую флотилию. Генерал Гринли, военный представитель в Румынии, по поручению Черчилля поддерживал там весьма настойчиво наши интересы. Генерал Бриггс с ведома военного министерства и при некотором противодействии дипломатического ведомства, направившись в Варшаву, так же как и член парламента Мак-Киндер, склонял всемерно польское правительство к совместным с нами наступательным действиям. И так далее, и так далее.
Военное снабжение продолжало поступать, правда, в размерах, недостаточных для нормального обеспечения наших армий, но все же это был главный жизненный источник их питания.
Глава британской миссии генерал Хольмэн и его многочисленный штаб не отделяли совершенно русских интересов от английских. В одном интервью генерал Хольмэн заявил: «Находясь здесь, я считаю себя прежде всего офицером штаба генерала Деникина, в котором должен так же работать на пользу России, как работал во время войны, во Франции, в штабе генерала Раулинсона». И это не было только фразой. Он работал с большой энергией, увлечением и пользой для нашего дела. В узких пределах, не вызывавших пристального внимания и тревоги парламента и в особенности лейбористской партии, английское командование допускало участие англичан и в боевых действиях. Так, Черноморская британская эскадра оказывала нашим войскам серьезную поддержку в операциях на побережье Азовского и Черного морей; английские авиационные отряды вели самоотверженно разведку и бои в рядах наших армий, и сам Хольмэн лично участвовал в воздушных атаках…
Две морали, две политики, две «руки» — дающая и отъемлющая. И двойной след, оставленный в памяти русских людей: горечь при мысли о пропавших, неповторимых возможностях и благодарность сердечная тем, кто искренне нам помогал.
Глава VII. Взаимоотношения Юга с казачьими войсками: Донским, Терским, Астраханским
Взаимоотношения Южной власти с казачьими областями до конца сохраняли те характерные особенности, которые мною неоднократно отмечались уже в «Очерках».
Эти отношения не были одинаковыми. Самый состав правивших и влиятельных в политическом отношении кругов казачества предопределял их до известной степени: либералы на Дону, либералы и консерваторы на Тереке, социалисты на Кубани; автономисты на Дону, автономисты и централисты на Тереке и самостийники на Кубани.
Поэтому-то после ухода генерала Краснова трения с Доном потеряли прежнюю свою остроту; так же удовлетворительны, хотя и достаточно неопределенны, были, в конце концов, отношения с Тереком; только кубанское правительство и Рада находились в постоянной оппозиции, вернее, непрекращающейся борьбе с командованием и правительством Юга. Можно было бы думать, что слишком тесное сожительство в екатеринодарский период и переплет власти являлись главным источником такого отношения… Но еще более сложный переплет существовал на Тереке, и, с другой стороны, перенесение всех наших штабных и правительственных учреждений на территорию Дона не ухудшило отношений с последним и не улучшило их с Кубанью. Наоборот, освободившись от непосредственного воздействия командования, кубанские правители бросились очертя голову в роковую игру, в которой ставка была поставлена на «Вольную Кубань», а верный проигрыш ложился на «Белый Юг».
Могло ли быть иначе!
Эти отношения не были и постоянными… Периоды острой опасности, нависавшей временами над Доном и Тереком, территории которых почти все время были театром войны[97] или находились в прифронтовой полосе, побуждали эти области к большей сговорчивости и укрепляли в них чувства благоразумия и осторожности.
Кубань же вся с 29 октября 1918 года была освобождена от большевиков и представляла глубокий тыл, не испытывавший непосредственно в течение более года ни ужасов войны, ни гнетущего страха за свое существование. Стратеги из Законодательной и Краевой Рад переоценивали безопасность края и прочность положения Вооруженных сил Юга на линии Царицын — Курск — Киев, когда вели к окончательному разрыву с командованием.
Эти отношения, наконец, создавались и поддерживались, главным образом, верхами. Рядовое казачество оставалось более или менее безучастным к политической борьбе двух властей, и только к концу 1919 года кубанским верхам удалось вывести свое казачество из равновесия. Маятник кубанских настроений сильно качнулся тогда влево и, не пристав к борту черноморских самостийников, остановился вовсе в роковом бессилии.
Все эти обстоятельства приводят к убеждению, что не только или вернее не столько непреодолимые антагонизмы между диктатурой и народовластием, между централизмом и казачьей вольностью препятствовали органическому объединению действенных сил Юга, сколько люди и страсти.
Донской Круг, избравший атаманом генерала Богаевского, заседал очень долго — целых четыре месяца[98]. По-видимому, на длительность сессии влияло то обстоятельство, что северные округа были заняты большевиками и депутатам этих районов некуда было деваться. Обязавшись в дни борьбы с Красновым перед Кругом, правящая партия вынуждена была мириться с его все усиливавшимся давлением: непрестанное вмешательство в дела управления, постоянные комиссии, бравшие на себя не только ревизию и контроль, но и руководство отдельными действиями донских министерств, парализовывали зачастую их деятельность. Это обстоятельство становилось тем более тягостным, что состав Круга был довольно случайным и интеллектуально малопригодным для разрешения государственных вопросов, вытекавших из суверенного бытия Дона. Председателю Круга — Харламову, опытному парламентарию, не раз стоило больших усилий, чтобы удержать Круг от превращения в заурядный митинг. На сером фоне Круга боролись и сводили счеты правые — «красновцы», кадеты и левые, представленные соответственно своими лидерами — Яновым, Харламовым и Агеевым. Специальные казачьи интересы густо окрашивали политическую идеологию всех групп. Кадеты были у руля, прочие группы в оппозиции. Непримиримые во всех других отношениях, оба фланга донской общественности сходились, однако, во враждебном отношении к главному командованию и правительству Юга, прибегая по отношению к нам к приемам чисто демагогическим. Весною, впрочем, когда судьба Дона зависела от помощи Добровольческой армии, их голоса притихли вовсе. Но летом — в апогее успехов донского фронта — они сильно мутили Круг, причем Агеев вел кампанию против «Особого совещания» и в печати, в формах необыкновенно резких. На этой же почве в угоду Кругу скользил иногда осторожно и командующий Донской армией генерал Сидорин, объясняя, например, недочеты снабжения тем обстоятельством, что «ввиду реакционных выступлений «Особого совещания» корабли с английским вооружением и снаряжением задерживаются в Константинополе…». Конечно, ничего подобного не было. Такие выступления командующего армией случались, впрочем, редко и благодаря сдерживающему влиянию Харламова и умиротворяющему — атамана Богаевского Круг не выходил из рамок лояльной оппозиции.
Приверженность к «демократическим лозунгам» составляла слабость казачьих политиков, покрывая иногда далеко не демократическую сущность, создавая легенды и неправильные противоположения иному режиму — «реакции» и диктатуры. Не в суд и не в осуждение донских деятелей, без сомнения, немало потрудившихся для устроения родного края, но для восстановления исторического критерия я коснусь некоторых отрицательных сторон жизни Дона, присущих в той или другой степени и другим демократическим режимам.
По инициативе генерала Сидорина Донской Круг решил «выявить свое демократическое лицо» и «сказать России… с чем и зачем мы идем». Эта мысль осуществлена была оглашением декларации от 1 июня 1919 года.
Декларация, не предрешая государственного устройства России — «единой, свободной, демократической страны», ставила, однако, непременным условием его «государственную автономию… с правом заключения областных политических, экономических и национальных союзов…». Вручая судьбу России Учредительному собранию, созванному по четырехчленной формуле, Дон у себя лишал права участия в управлении большую половину неказачьего населения… «Неотложной задачей строительства» России декларация ставила восстановление органов земского и городского управления, а в самой области почти за два года ее самостоятельного существования не было введено самоуправление, и такой, например, крупный центр, как Ростов, — по существу столица Юга, испытывал перманентный кризис назначенного городского правления, хозяйственную разруху и гнет часто сменявшихся «генерал-губернаторов», среди которых были персонажи анекдотического и криминального типа…
Декларация требовала для России «политических свобод» и либерального рабочего законодательства[99], а практика донской власти применяла неутверждение уставов социалистических партий[100], вынужденных уйти в подполье, и борьбу как с ними, так и с профессиональным движением, имея рабочую массу всегда в числе своих недругов.
Декларация считала «недопустимым решение земельного вопроса за пределами Войска в форме возвращения дореволюционных земельных отношений…». А донской аграрный закон, проведя отчуждение частновладельческих земель — и казачьих и «русских» — в земельный фонд Войска и оставляя за последним право собственности, обязался помочь малоземелью коренных крестьян (23 процента населения) и ничего не обещал другой четверти населения (24 процента) — «пришлому»[101] крестьянству, на долю которого приходилось лишь 1.3 десятины надельной и купленной земли в среднем на хозяйство… Отчуждение или взимание солидной арендной платы стало реальным фактом с осени 1919 года, а наделение являлось вопросом более или менее отдаленного будущего, вызывая недоверие и возбуждение… Круг в октябрьской сессии торопился изъять из частного владения и недра, но в пользу Войска, не оговаривая несомненных общегосударственных прерогатив в этом вопросе…
Декларация «не допускала мысли о мести в отношении к широким массам, хотя бы и брошенным в братоубийственную бойню», а практика донских полков, наступавших на север, изобиловала эпизодами грабежа, насилия и раздевания пленных, в то же время на донской территории, в районах преимущественного расселения иногородних — Ростовском, Таганрогском и Донецком округах — крестьянские села стонали под бременем самоуправства, реквизиций, незаконных повинностей, поборов, чинимых местной администрацией. 18 августа 1919 года задонские волости торжественно праздновали годовщину освобождения от большевиков, и закулисные руководители придали этим празднествам демонстративный характер прославления новой власти и крестьянско-казачьего единения. Тем удивительнее было слышать от делегации этих волостей, прибывшей ко мне в Таганрог, дышавшие страхом и волнением жалобы на горькое их житье.
Как вообще могло относиться казачество к иногородним, которых оно отождествляло с большевиками, можно судить по тому, что делалось в его среде. В конце марта в одном из закрытых заседаний Круга рассматривался вопрос о массовом явлении насилий, творимых в задонских станицах отступившими казаками верхних округов: «иногда идет отряд всадников 300, бывают там и офицеры, тянут часто за собой пушку… обстреляют сначала станицу, потом начинают насилия над женщинами и девушками и грабеж…» По поводу предложения применить репрессивные меры из среды фронтовиков раздался предостерегающий голос: «…Вы хотите создать карательные отряды?.. Смотрите, как бы у нас не было в тылу войны… Часто денег не было за отсутствием аванса, ну и вынуждены были тащить».
Суровое время и жестокие нравы.
Как бы то ни было, факт непреложный: реакционный режим атамана Краснова в расчете на казачью силу игнорировал положение иногородних и в ответ вызвал враждебное с их стороны отношение; либеральный режим атамана Богаевского и демократические декларации правительства и Круга не привлекли неказачий «народ» ни к добровольному «боевому сотрудничеству», ни даже к дружественному расположению с казаками.
Наконец, казачье народоправство далеко не гарантировало от спекуляции, казнокрадства и взяточничества. И не то было самым скверным, что по поводу одной из «панам», раскрытой в отделе продовольствия и интендантства, председатель ревизионной комиссии Мельников поведал Кругу: «И брали, и берут…»
…А отношение общества к этой разъедавшей государственный строй язве: «За все время нашей работы, — жаловался Мельников, — несмотря на все мои печатные призывы, никто не пришел нам (комиссии) на помощь…»[102].
Свидетельствуют ли все эти отрицательные стороны о непригодности демократического режима вообще или отсутствии доброй воли в донских правителях? Отнюдь. Но они поддерживают достаточно ясно ряд бесспорных в моих глазах положений: самым демократическим декларациям — грош цена, самые благие намерения остаются праздными, когда встречают сильное сопротивление среды; самые демократические формы правления не гарантируют от попрания свободы и права в те дни, когда эти ценности временно погасли в сознании народном, в те дни, когда право восстанавливается насилием, а насилие претворяется в право.
История казачьего народоправства являет самобытную черту, особенность «казачьего демократизма» — замкнутость его в сословных рамках и территориальных границах. Демократизм — более как источник прав, нежели обязанностей. И когда донской демагог Агеев требовал отнятия «помещичьих шарабанов», поломанных уже к тому времени революцией, Круг бурно рукоплескал. Но когда тот же Агеев предлагал распространить земельные права на «граждан Всевеликого войска Донского», Круг так же бурно протестовал[103].
Взаимоотношения Дона с правительством Юга с большим трудом и трениями, но все же мало-помалу приводили к известному объединению. Мы добились восстановления деятельности Правительствующего Сената на территории Дона и Вооруженных сил Юга, объединения денежной единицы, управления железной дорогой и санитарной части. Круг согласился на учреждение центрального банка — мероприятие, которое, впрочем, не было доведено до конца и, главное, не привело к справедливому распределению эмиссии, пределы которой находились в зависимости «от взаимного соглашения государственных образований…». К концу 1919 года уничтожены были «пограничные рогатки»… Донская власть не нарушала сепаратными выступлениями единства в направлении внешней политики, и так далее, и так далее.
Только в военном отношении все оставалось по-старому: Донская армия представляла из себя нечто вроде «иностранной — союзной». Главнокомандующему она подчинялась только в оперативном отношении; на ее организацию, службу, быт не распространялось мое влияние. Я не ведал также назначением лиц старшего командного состава, которое находилось всецело в руках донской власти.
Такое положение было глубоко ненормальным. Я не могу сказать, чтобы до новороссийской катастрофы донское командование проявляло прямое неповиновение. Но оно оказывало иногда пассивное сопротивление, проводя свои стратегические комбинации и относя к force majeure[104] уклонения от общей задачи. Так, в июне я не мог никак заставить донское командование налечь на Камышин, а в октябре — на воронежское направление, и никогда я не мог быть уверенным, что предельное напряжение сил, средств и внимания обращено в том именно направлении, которое предуказано общей директивой; переброски донских частей в мой резерв и на другие фронты встречали большие затруднения[105]; ослушание частных начальников, как, например, генерала Мамонтова, повлекшее чрезвычайно серьезные последствия, оставалось безнаказанным.
Все это, наряду с понятным тяготением донских войск к преимущественной защите своих пепелищ, вносило в стратегию чуждые ей элементы, нарушавшие планомерный ход операций. «О, ужас! — говорил лидер донской оппозиции Агеев. — За Днепр посылаются войсковые части в то время, когда донцы напрягают до крайности свои силы в борьбе с большевиками, когда почти два округа заняты их бандами…»
С такой психологией, весьма распространенной, стратегия находилась в постоянной и острой коллизии.
Тем не менее Дон, как временное государственное образование, и Донская армия, невзирая на тягчайшие осложнения, проистекавшие от раздельного существования власти и командования, представляли весьма важный и объективно положительный фактор в истории борьбы Юга. Коэффициент духа — элемент переменный и трудно поддающийся исчислению. Но данные, характеризующие тяготу, поднятую войском в борьбе с большевиками, весьма красноречивы: в момент наивысшего напряжения, в октябре 1919 года Войско Донское выставило на фронт 48 тысяч бойцов, что составляло 32 процента всех Вооруженных сил Юга. И донской атаман генерал Богаевский однажды после очередного столкновения «добровольческого централизма» с «донским сепаратизмом» не без основания писал мне:
«…Если бы Дон изменил матери России, я швырнул бы атаманский пернач в лицо своему преемнику, который повел бы мою Родину на самоубийство, а сам ушел бы к Вам хоть рядовым в свой Партизанский полк. Не верьте сплетням и будьте справедливы к Дону: падая и подымаясь, борясь с огромными силами противника, он несет тяжкую службу Родине, и без него едва ли возможны были бы блестящие успехи доблестных добровольцев…»[106].
Главные черты из жизни Терека и наших взаимоотношений… не подверглись существенному изменению до конца. На Тереке более, чем в других казачьих землях, чувствовалась неразрывная и не ослабленная лихолетием связь с общерусской государственностью — в психологии казачества, в речах на Круге и в правительственной деятельности. Терская власть почитала своей первой и важнейшей задачей интересы борьбы, полагая, что «только решительная победа над большевизмом и возрождение России создадут возможность восстановления мощи и родного Войска, обескровленного и ослабленного гражданской борьбой»[107].
Поэтому и в политике, и в области социальных и экономических отношений оно избегало радикальных мероприятий. Даже такой животрепещущий вопрос, как аграрный, в конце 1919 года находился только еще в стадии «изучения земельного фонда… и выяснения площади частновладельческой и другой земли, могущей быть предоставленной окрестному населению для использования угодий и распределения этой земли…».
Терская власть, ввиду непрекращающейся борьбы с чеченцами и ингушами, озабочена была численным увеличением казачества и привлечением в свою орбиту соседей — союзников. Так в Терское войско включен был кара-ногайский народ; после продолжительных переговоров при участии представителей главноначальствующего Терский Круг третьего созыва выразил принципиальное согласие на присоединение к Войску «на равных правах» осетин и кабардинцев. Окончательные переговоры, не законченные благодаря разразившейся вскоре катастрофе, встречали, однако, большие затруднения ввиду требования осетин упразднить войсковой Круг и ввести взамен его «краевую думу». Терцы не могли решиться на такое, по их мнению, обезличение Войска.
Подобные требования предъявляли и иногородние. Съезд их, собравшийся в конце октября 1919 года и состоявший преимущественно из крестьянских представителей, признал конституцию края, отнесся благожелательно к власти, потребовал уравнения в правах, главным образом, земельных, чтобы создать «одну общую семью терских граждан», требовал своего пропорционального участия как в Круге, так и в органах центрального и местного управлений. Съезд выразил готовность разделить с казаками все тяготы военной службы, но при этом высказал пожелание о создании особой терской «территориальной армии»…
Более осторожно, чем к предложению горцев, отнеслось казачество к пожеланиям своих российских сограждан: поощряя вхождение иногородних в казачье сословие, терцы с большим предубеждением относились к «паритету».
Города, наоборот, стремились всеми средствами эмансипироваться от казачьей власти, признавая компетенцию правительства Юга.
В результате двоевластия трения между Таганрогом и Пятигорском продолжались, в особенности по спорным вопросам управления Минеральноводской группой и грозненским районом. Но никогда эти трения не переходили границ. Атаман был всегда лоялен и никогда не принимал участия в выступлениях против власти Юга.
Терские дивизии и пластунские бригады входили в состав армий Юга и беспрекословно исполняли боевые задачи. Политические недоразумения кончались обыкновенно компромиссом. Этих отношений не могли испортить и кубанские сепаратисты, воздействовавшие всеми способами — в том числе посылкой специальной делегации Рады — на терское правительство и Круг, чтобы склонить Терек к разрыву с главным командованием. И даже к концу, когда нависали уже грозовые тучи и Верховный казачий Круг, кипя страстями, выбирал новые пути казачества, терская фракция его сохраняла лояльные отношения к правительству Юга, исходя прежде всего из побуждений реальных: «Путь сепаратизма с самостоятельным управлением для Терека не пригоден, — говорил председатель терского правительства Абрамов, — ввиду существующих там различных течений. Общую идею должно объединять неказачье лицо…» А депутат Баев прибавил: «…Казачьи территории со всех сторон окружены землями Добровольческой армии[108]. И если вы не пойдете с ней, то мы, терцы, не пойдем на Дон, потому что у нас разыграются события, которые заставят нас у вас же просить помощи…»
Исторический ход событий волей или неволей связал железной цепью государственные образования Юга, и ослабление, а тем более разрыв одного из звеньев ее могли вызвать потрясение и гибель.
Астраханское казачье войско, фигурируя в официальной жизни Юга в лице атамана и правительства, представляло до известной степени фикцию, так как в состав территории ВСЮР входило разновременно лишь несколько казачьих станиц и часть калмыцкой степи.
1 июня 1917 года в силу закона Временного правительства Астраханский край получил новое устройство, будучи подразделен на четыре самостоятельных административных единицы — Астраханская губерния, Астраханское войско, область калмыков и область киргизов Букеевской орды[109]. В том же году состоялось вхождение астраханских калмыков в состав Астраханского казачьего войска на условиях раздельного управления — двумя Кругами, двумя правительствами, объединенными казачьим атаманом с калмыцким помощником. Большевистский переворот нарушил нормальное развитие новых учреждений и внес в жизнь края исключительное даже для большевистской практики разрушение и жестокость: советский террор в Астрахани и в калмыцких степях — одна из наиболее кровавых страниц русского лихолетья.
Атаман, генерал Бирюков, был посажен в тюрьму, где и умер. Другие деятели, в том числе помощник атамана ротмистр (именовавшийся полковником) князь Тундутов, председатель казачьего Круга Ляхов, председатель калмыцкого Круга и правительства «полковник» Криштофович[110] нашли приют на Дону; несколько тысяч калмыков с семьями и скарбом потянулись также на освобожденную от большевиков территорию.
Князь Тундутов — определенный авантюрист, хотя и обладавший весьма посредственным умственным развитием, объявил себя, как известно, астраханским атаманом и стал формировать армию, не без успеха мистифицируя Берлин и Новочеркасск. С падением атамана Краснова и упразднением Астраханского корпуса, части которого пошли на пополнение Вооруженных сил Юга[111], Тундутов временно остался не у дел. В кубанской станице осели самодовлеющие астраханские власти, ведя между собой большие раздоры; с одной стороны — на почве разногласия между казаками и калмыками, с другой — от столкновения в калмыцкой среде представителей двух начал — «феодального»[112] и «демократического»[113]. Особым постановлением соединенных «правительств», князь Тундутов был лишен атаманского звания и, получив 20 тысяч рублей «отступного», вначале примирился с фактом своего низложения. Но вскоре передумал и объявил о расторжении договора между астраханским казачеством и калмыками и об образовании из последних особого войска «Волжского», назвавшись его атаманом. Тундутов пробрался затем в Баку, спекулируя калмыцким народом в сношениях с азербайджанским правительством и даже с агентами Кемаль-паши, добывая везде деньги и предаваясь широкому разгулу. В сентябре он вернулся в калмыцкие степи и стал подымать калмыков против вновь избранного «правительствами» атамана Ляхова. Чтобы положить конец всем этим выступлениям, волновавшим степь и вызывавшим дезертирство из калмыцких полков, в октябре 1919 года я приказал выслать Тундутова и двух его сподвижников из пределов Северного Кавказа[114].
Ляхов и члены его правительства привлечены были к разработке положения об управлении Астраханским краем и к организации управления освобожденными калмыцкими округами.
Глава VIII. Взаимоотношения Юга с Кубанью
Взаимоотношения, сложившиеся между властью Юга и Кубанью, вернее — правившей ею группой, я считаю одной из наиболее серьезных «внешних» причин неудачи движения.
Ближайшими поводами для междоусобной борьбы, поднятой кубанской «революционной демократией», совмещавшей «казачий» социализм с самостийностью, служили вопросы о полной эмансипации Кубани от правительства Юга, о создании собственной армии, о пресловутой «экономической блокаде», вызванной кубанскими рогатками, и некоторые другие, тесно связанные с интересами противобольшевистской борьбы. В область внутренних отношений и местного законодательства мы по-прежнему не вмешивались вовсе.
Внешне эта борьба преподносилась общественному мнению как противоположение «казачьего демократизма» «монархической реакции»; на самом деле она представляла поход кубанской самостийности против национальной России вообще. При этом кубанские самостийники вкладывали в свои отношения к нам столько нетерпимости и злобы, что чувства эти исключали объективную возможность соглашения и совершенно заслоняли собою стимулы борьбы с другим врагом — советской властью. Можно сказать, что со времени полного освобождения Кубанского края самостийные круги, преобладавшие в составе Законодательной Рады и третьего правительства (Курганского), все свои силы, всю свою энергию и кипучую деятельность направили исключительно в сторону «внутреннего врага», каким в глазах их была Добровольческая армия.
14 июня в Ростове произошло прискорбное событие, вызвавшее обострение — еще большее — в наших отношениях. В этот день был убит председатель Краевой Рады Рябовол. Следствие донских властей не обнаружило лиц, совершивших убийство. Так как покойный являлся одним из наиболее непримиримых противников власти Юга, то в смерти его Кубанская Рада обвинила добровольцев. Событие это послужило поводом для больших политических демонстраций, организованных кубанским правительством и Радой. В изложении официозов, в воззваниях и речах преступление приписывалось «врагам народа, слугам реакции, монархистам», на которых обрушился гнев кубанских республиканцев. Некоторые речи и статьи расшифровывали, впрочем, эти «общие понятия», указывая прямо на «Особое совещание», как на «силу, стремящуюся отдать демократию в рабство»; на «Осваг», «длинными реакционными щупальцами охвативший Кубань»; на Добровольческую армию, «поющую Боже, Царя храни». Про армию кубанский официоз позволил себе сказать: «…И только в демократических кругах с истинным негодованием относятся к свершившемуся факту и ждут возможных последствий. Говорят о возможности ухода кубанцев с фронта. Говорят и сами пугаются… Так как все отлично сознают, что на фронте — там, далеко, — кубанцы, терцы, донцы, а добровольцы ютятся в штабах, театрах и интендантствах…»
Даже представитель Грузии, с которой по существу мы находились в состоянии войны, счел возможным в Екатеринодаре — Ставке главнокомандующего воюющей стороны, с кафедры Рады грозить «неведомому» противнику: «Грузия хочет видеть рядом с собой доблестную соседку — Кубань… Она не может разговаривать с теми, кто идет завоевывать и подчинять, а не освобождать… Я уверен, что когда на Кубани настанет момент опасности для демократии и свободы, то демократия Грузии не платонически, а кровью своей докажет стремление защищать общность демократических интересов…»
Грузия в качестве защитницы Кубани!
Это официальное лицемерие встречено было бурными аплодисментами собрания, ослепленного навеянным чувством в ущерб логике и действительности.
В числе прочих мер Законодательная Рада постановила[115]: 1) закрыть все газеты, поносившие Раду и покойного Рябовола, а редакторов их выслать из пределов края[116]; 2) закрыть все отделения «Освага» на кубанской территории, а агентов его выслать[117]; 3) екатеринодарский гарнизон передать в надежные руки и составить его из «верных частей»; 4) все гарнизоны в крае должны состоять исключительно из кубанских и горских частей[118]; 5) разработать мероприятия против лиц, ведущих борьбу с кубанскими краевыми установлениями…
Эти последние мероприятия были особенно сложны ввиду отрицательного отношения к местной власти не только Добровольческой армии, но и всей русской общественности, всей российской печати, кубанской «линейной» группы и большинства иногородних. Последние были настроены оппозиционно, преимущественно в области социальных и экономических взаимоотношений; в станицах — в особенности, где неискренние демократические лозунги центра претворялись в «казачью диктатуру» и самосуд, где все натуральные повинности отбывались исключительно иногородним населением принудительно и бесплатно. Только городской пролетариат, ведя борьбу с кубанской властью, в ее распре с командованием выражал обыкновенно свое сочувствие кубанцам. Но приемами довольно безобидными: резкими постановлениями профессиональных союзов, красными бантами, украшавшими их делегатов, и тому подобным.
Начавшаяся на Кубани задолго до июня кампания против Южной власти приняла размеры угрожающие. Она не ограничилась отстаиванием областных интересов; в программу кубанской «революционной демократии» в соответствии с практикой российских социалистов входила «энергичная борьба со стремлением слуг царского режима, помещиков и капиталистов установить диктаторскую власть в освобожденных от большевиков местностях России, ибо эта власть есть первый твердый и верный шаг к установлению самодержавно-полицейского строя»[119].
Нахождение аппарата власти (отдел внутренних дел) и краевых органов пропаганды («Коп»), поглощавших ежемесячно 4 миллиона рублей, в руках самостийной группы давало ей реальную силу и широкие возможности. Способы борьбы были разнообразны: скрытая работа по свержению атамана и явная — по удалению лиц высшего управления, приверженных к Добровольческой армии; специальный подбор администрации, административное давление, перлюстрация корреспонденции; подкупы — деньгами, спиртом, назначениями, производством в первый офицерский чин и так далее, и так далее. Так же разнообразна была пропаганда. Каждое заседание Рады являлось поношением Южной власти и возбуждением против нее казаков. Официальная печать распространяла эти речи и проводила эти идеи прямыми выпадами и тенденциозным подбором материала, зачастую грубо вымышленного.
«Коп» разносил агитационную литературу в тысячах экземпляров по станицам, а в витрине этого учреждения, в Екатеринодаре, изо дня в день вывешивались кубанские газеты с подчеркнутыми местами, особенно оскорбительными для Добровольческой армии, экземпляры «Известий» и «Красноармейца», описывавшие, например, с большим злорадством развал армии адмирала Колчака или в самых радужных красках торжества «пролетарского праздника 1 мая» в советской России…
Лидеры самостийников — Омельченко, Гатагоу, Воропинов, Макаренко, Белоусов и многие другие — по поручению Рады разъезжали по Кубани и на станичных сборах выясняли наши взаимоотношения в духе демагогии, затрагивавшей наиболее чувствительные места народной психики. Нет шпагата, дорога мануфактура — виновата «блокада Кубани…». Дорог хлеб — потому что весь урожай 1919 года будет отдан главным командованием Англии (?) в уплату за снабжение… Кубанцы босы и голы (!), тогда как добровольцы, даже пленные большевики, ходят в отличном английском обмундировании (!)… «Особое совещание» — это «тот коршун, который ждет лишь того времени, когда можно будет выклевать глаза Кубанскому краю и отнять у него землю и волю…» (Макаренко). На фронте не хватает сил, ибо кубанцев заставляют проливать кровь в борьбе с «дружественными кубанцам горцами Дагестана и Чечни, с родственными им украинцами Петлюры…». Иные агитаторы в своем толковании событий шли гораздо дальше, требуя от правительства снять с фронта кубанские части и поставить их сильными гарнизонами по Кубани, чтобы «заставить силою не желающих исполнять распоряжения кубанской власти»… (Воропинов). Или побуждали кубанских казаков оставить ряды Добровольческой армии, которая «является виновницей гражданской войны». Ибо, не преследуй она «целей насаждения монархизма, давно можно было бы окончить войну и примириться с большевиками, устроив в России народную республику…» (Омельченко).
Под таким воздействием изо дня в день на сытой и покойной Кубани среди казачества началось смущение. Часть станиц оставалась, впрочем, равнодушной к тому зрелищу, которое народный юмор определял фразой «паны дерутся»; другие под влиянием агитации выносили постановления — хвалебные по адресу печальников народных из Законодательной Рады и враждебные по отношению к Добровольческой армии; третьи, наконец, требовали удаления из состава Рады и правительства «Воропиновых и Макаренок», которые «ведут к пережитому уже нами и напоминают прямо о действиях этих лиц в первой Законодательной Раде перед большевизмом…». Одновременно многие станицы присылали постановления об избрании меня почетным казаком… Съезд уполномоченных Лабинского отдела (конец июня) признал деятельность Законодательной Рады вполне отвечающей чаяниям народным и послал приветствие Раде и… главнокомандующему.
Шел полный разброд в казачьих настроениях. Движение, вызванное кубанскими демагогами, оказалось бессильным поднять казачью массу к активным действиям. Но значение его тем не менее было велико и гибельно: всякий подъем в казачестве мало-помалу угасал и притом безвозвратно, цели борьбы затемнялись совершенно, понятие о долге заслонялось чувством самосохранения, находившим простое и доступное оправдание в речах и призывах «народных избранников», с фронта началось повальное дезертирство, не преследуемое кубанской властью. Дезертиры свободно проживали в станицах, увеличивали собою кадры «зеленых» или, наконец, находили покойный приют в екатеринодарских запасных частях — настоящей опричнине, которую путем соответственной обработки Рада готовила для своей защиты и к вооруженной борьбе против главного командования.
В то же время через головы полков, стоявших на грузинском фронте или дравшихся с войсками Петлюры, кубанская власть заключала договоры и союзы с Грузией (три экономических договора на поставку хлеба) и с Украиной; посылала делегации на Дон и на Терек, чтобы найти там поддержку в борьбе с главным командованием.
На русскую общественность произвело большое впечатление одно темное событие: председатель Кубанского военно-окружного суда Лукин, «первопоходник» и приверженец Добровольческой армии, приезжал в Ростов с докладом по вопросу о росте украинско-сепаратистского движения на Кубани и о прибытии в Екатеринодар тайной петлюровской делегации. Через день по возвращении, 1 октября, Лукин был убит лицами, не обнаруженными кубанскими следственными органами…
Были ли все нападки самостийных кругов на политику и власти Юга голословными и необоснованными? К сожалению, не всегда. Наши нестроения давали им не раз основания, скорее, впрочем, в масштабе общегосударственном, чем краевом. Основания, которые к тому же в азарте политической борьбы и в преломлении сквозь призму социалистическо-самостийной идеологии приобретали не раз преувеличенную и извращенную окраску. Давали ли мы поводы к обострению отношений? Помимо принципиального расхождения, наше не слишком почтительное отношение к людям, попавшим на роли народных избранников, законодателей и министров, вызывало обиды и уязвленное самолюбие. Атаман Филимонов этому обстоятельству приписывал даже исключительное значение в развитии кубанской фронды: «Протестантство Быча, Савицкого и других, — писал он мне 2 декабря 1919 года, — выросло не столько на почве политической и партийной борьбы (какой там Савицкий партийный человек!), сколько под влиянием постоянно уязвляемого самолюбия во время Первого кубанского похода определенно презрительным отношением к ним чинов Добровольческой армии… Я был постоянным свидетелем бешенства их по поводу недостаточно внимательного отношения к «избранникам народа» с Вашей стороны и со стороны штаба армии… Чувство мести, главным образом, толкнуло Быча и его сподвижников на преступную работу за границей».
Российская печать, органы «линейцев», иногда литература «Освага», правда, в порядке необходимой самообороны, отвечали на нападки самостийников тоном столь же резким и страстным. Поношению подвергались и люди, и идеи, я не ошибусь, вероятно, если среди многочисленных южных газет того времени назову лишь одну — «Утро юга» Мякотина, которая в общей бурной газетной кампании, в критике кубанской власти сохраняла поучительный, но сдержанный тон.
Изверившись в возможности соглашения, я предлагал председателю «Особого совещания» условиться, по крайней мере, с атаманом и кубанским правительством о прекращении взаимной газетной травли… Атаман и сам признавал, что «направление деятельности краевого отдела пропаганды с самого начала возникновения своего… вызывает недовольство (его) и отдельных членов правительства…». Принимал известные меры, временно умерявшие злобность официальной печати, но ненадолго. Власть атамана была весьма ограничена — отчасти конституцией, отчасти тем обстоятельством, что группы «линейцев», к которым принадлежал и сам генерал Филимонов, проявлявший лояльность и умеренность, не были достаточно сплочены, организованы и сильны, чтобы составить должный противовес самостийникам. Отчасти, наконец, по личным свойствам самого атамана-человека по характеру весьма мирного. Поэтому в течение более года своего атаманства генерал Филимонов балансировал с большим трудом между молотом и наковальней — между Радой и главным командованием. То сдерживал порывы демагогов, умиротворял настроения, сглаживал углы. То иногда, как, например, в вопросе о создании Кубанской армии, был солидарен с самостийными кругами и весьма настойчив, что было тем более непонятным, что с лета 1919 года кубанские лидеры в своих бурных речах, уже не стесняясь, ставили целью создания Кубанской армии борьбу с главным командованием.
Положение становилось чрезвычайно тягостным. Ни одна из наших попыток установления государственной связи не увенчалась успехом. Нам не было предъявлено к тому же ни одного контрпроекта со стороны кубанских правителей, если не считать неприкрытого пожелания — полного невмешательства главного командования в дела Кубани. Последнее было бы, быть может, и спасительным, но, к сожалению, невыполнимым: Кубань волею судьбы являлась нашим тылом, источником комплектования и питания Кавказской армии и связующим путем как с Северным Кавказом, так и с единственной нашей базой — Новороссийском. Кубанские части в октябре составляли все еще 12 процентов Вооруженных сил Юга.
Нас сковывали цепи, которые рвать было невозможно.
В конечном результате к осени 1919 года положение было таково: на царицынском фронте стояла страшно поредевшая Кавказская (кубанская по составу) армия, сохранявшая еще благодаря, главным образом, влиянию лояльного и национально настроенного кубанского генералитета и офицерства бодрость духа и дисциплину. Но с тыла, с Кубани, к армии не шло уже более на пополнение ни казаков, ни лошадей.
На мой взгляд, совершенно безразлично: верить ли искренности того лозунга, который в 1919 году проповедовала кубанская революционная демократия — «Единая Кубань в единой федеративной Российской республике»[120], лозунга, обусловившего якобы внутреннюю распрю между «кубанским народоправством» и «реакцией» во образе «Особого совещания»… Верить ли признанию, сделанному теми же лицами в 1921 году[121], что целью их была всегда «государственная независимость Кубани» и, следовательно, борьба велась между кубанской самостийностью и национальной Россией… В обоих случаях борьба кубанских правителей на два фронта — против большевиков и Добровольческой армии — являлась заведомо непосильной и потому безумной.
Она губила и их, и нас.
И не без основания Бронштейн-Троцкий еще в сентябре 1919 года избрал путь, параллельный с кубанскими правителями. Он считал невыгодным «трогать Кубань», наступая от Царицына на Тихорецкую. Бронштейн предпочитал харьковское направление, чтобы «отрезать деникинские войска от Кубани, что дало бы временную опору кубанским самостийникам и временное замирение в Кубани в ожидании развязки нашей борьбы с деникинцами на Донце и на Украине».
И хотя отрезать добровольцев от казаков большевикам не удалось, но работой самостийников «замирение» все-таки было достигнуто.
Глава IX. «Юго-Восточный союз» и Южно-русская конференция
В предыдущих книгах я очертил первые попытки южного казачества к объединению.
По словам Харламова, это было «стихийное стремление… коренящееся в психологических особенностях казачества, как отдельной бытовой группы русского народа… Оно есть не только эпизод прошлого, но имеет и будущее…». Этой стихийности я не наблюдал: все попытки организации «казачьего государства» являлись по замыслу плодом интеллигентского творчества, отнюдь не народного.
Первый опыт создания «Юго-Восточного союза» в 1917 году прошел под знаком полного игнорирования мятущимся казачеством и своей областной выборной власти, и «союзной». Второй — проект «Доно-Кавказского союза» — был совершенно искусственной, чисто политической комбинацией, которую проводил генерал Краснов в угоду германцам, видевшим в этой комбинации оплот против зарождавшегося Восточного фронта и одновременно против Добровольческой армии.
Весною 1919 года Круги и Рада разновременно выразили пожелание о воссоздании союза. Но формы его и цели, в особенности сокровенные, были различны.
Инициативу созыва конференции взяло на себя кубанское правительство, пригласив на нее к 5 мая и закавказские новообразования, и горские округа, подчиненные главному командованию. Расценивая подобный съезд как демонстрацию центробежных по преимуществу сил, я отнесся к нему резко отрицательно. О последовавших по этому поводу переговорах между казачьими деятелями сделан был доклад Донскому Кругу[122] председателем его Харламовым, посетившим незадолго перед тем во главе делегации Кубань и Терек. Выяснилось, между прочим, тождество мнений донских и терских правителей с «Особым совещанием» в вопросе о неприемлемости состава конференции. «В сущности, — говорил Харламов, — ни Филимонов, ни Сушков[123], да и вообще кубанское правительство, не верят в эту конференцию, но обязаны исполнить постановление Рады, проведенное «черноморцами».
Время тогда было тяжелое, 10-я большевистская армия с царицынского фронта подступала уже к Батайску, в тыл Ростова и северной группе наших войск… Поэтому Харламов советовал Кругу «направить все внимание на борьбу… было бы совершенно неудобно в данный момент идти резко против взгляда главного командования». Так же отнеслись к этому терцы, и вопрос заглох.
Но через полтора месяца, когда фронт большевистский дрогнул, когда наши армии перешли в широкое наступление и освобождение всей территории Дона стало вопросом ближайших дней, Донской Круг, прерывая свои работы 1 июня, вновь подтвердил, что считает «неотложной задачей… заключение… «Юго-Восточного союза», в первую очередь с Тереком и Кубанью, для укрепления экономической мощи края и утверждения кровью добытых автономных прав, при дружном боевом сотрудничестве с главным командованием Юга России в деле осуществления общих задач по воссозданию единой, великой Родины — России…».
20 мая председателем Круга разослано было приглашение в Ростов представителям Кругов (Рады) и правительств трех казачьих войск на конференцию, которая и собралась там 11 июня.
Российская общественность и печать отнеслись к этому факту с единодушным и резким осуждением. Отражением тех взглядов, которые сложились тогда, может служить конспект «протеста», выработанный на соединенном заседании (20 июня 1919 г.) правлений «Национального центра» и «Совета государственного объединения России», гласивший:
«а) Исторические заслуги казачества в деле собирания мощи России весьма велики.
б) В настоящей гражданской войне и борьбе с большевизмом казачество занимает первое место, как в деле защиты своего края, так и для восстановления единства и былой мощи России.
в) Эти великие заслуги казачества, а также особенности его быта и исторически сложившихся сословных преимуществ дают ему право на самостоятельное устройство своей внутренней жизни и отводят ему почетное место при разрешении вопросов об окончательном устройстве Русского государства.
г) Идея организации «Юго-Восточного союза» как государственного объединения, которое должно быть противопоставлено охваченной большевизмом России, имела в свое время известное значение.
д) Ныне, когда восстанавливается единство России, причем представителем ее является в Сибири Верховный правитель России — Колчак, а на Юге — Добровольческая армия, сплотившая все антибольшевистские силы и ныне победоносно двигающаяся к Москве, возобновление вопроса о создании «Южно-русского союза» не только не оправдывается современной обстановкой, но и политически вредно, так как препятствует воссозданию единой государственности.
е) Стремиться ныне к созданию новых государственных образований — значит бессознательно содействовать намерениям Германии и ставить себе целью расчленение России».
К этому протесту предложено было присоединиться и «Союзу возрождения». Последний, избегая общения со СГОРом, отказался, но в повременной печати появился ряд статей Мякотина, обстоятельно доказывавших, что «называть формы и порядки управления, существующие сейчас в казачьих областях, демократическими, значит — пользоваться весьма неточной терминологией…» и что «объединение казачьих областей в один союз едва ли может дать прочный оплот правам и интересам демократии[124]. А вместе с тем, раз такой союз возникнет, он неизбежно будет помехой для общегосударственной власти и, если даже признает ее, неминуемо явится ее конкурентом и будет затруднять ее действия». Мякотин призывал поэтому казачество к объединению «с властью адмирала Колчака».
Что касается более левых группировок, то, будучи принципиальными противниками «сословных организаций», они тем не менее, не желая оказывать хотя бы косвенной моральной поддержки Южной власти, хранили молчание.
Возмущение российских кругов было направлено не по надлежащему адресу. Взгляд на предполагаемый союз исключительно как на противовес общегосударственной власти проводили ярко и настойчиво одни лишь самостийные кубанские группы. И только под флагом казачьего объединения возможно было привлечение официального представительства Кубани к переговорам о создании общей власти. Дон и Терек в лице своих ответственных представителей и примыкавшие к ним астраханские делегаты держались иных взглядов. На конференции кадетов 20 июня Харламов заявил: «Пункт 7 резолюции, говорящей об отношении партии к краевым правительствам, отвечает моему credo; своим острием он направлен против кубанских самостийников. Они начинают сдавать свои неприступные позиции, и положение улучшается. На конференции в Ростове мы определенно заявили, что федерализм неприменим к России. Это книжная, надуманная схема, и процесс объединения идет мимо нее. Поэтому надо ясно учесть: идти с ним или против него. Я знаю, что кубанский атаман и большинство краевого правительства со мною, они не федералисты. Деникин нашему взгляду вполне сочувствует. С Терека получены известия от Баскакова, что все идет успешно. Переговоры между государственными образованиями и командованием не должны пугать: это не договор и не сговор, а только форма, обстановка для безусловного подчинения. Мы хотим лишь областной автономии, которая, обслуживая нас, принесет пользу и общему делу».
Эти взгляды, которым не чужды были также генералы Богаевский и Сидорин, нашли отражение и на конференции, хотя далеко не в такой решительной форме, как у Харламова. Кубанская делегация, возглавленная Рябоволом, оказалась поэтому в положении меньшинства, заранее обреченного на изоляцию. И если верить сведениям, появившимся после крушения Юга и ставящим убийство Рябовола в вину одной из вольных контрразведок, то акт этот, кроме своей моральной неприглядности, был вместе с тем нецелесообразен политически, создав чрезвычайные затруднения для главного командования.
Кубанская делегация, отправившаяся на похороны Рябовола в Екатеринодар, не возвращалась. Конференция, прождав напрасно три дня, приступила опять к своим занятиям, приняв 20 июня постановление: «Признать безотлагательную необходимость организации временной общегосударственной власти на Юге России на основе представительства от государственных образований Юга России и главного командования ВСЮР».
Кубанские представители — Шахим-Гирей (председатель) и И. Макаренко — по прямому проводу из Екатеринодара настойчиво, но безуспешно убеждали конференцию в том, что «переговоры с генералом Деникиным преждевременны». И 21 июня делегация конференция в составе Харламова, Баскакова[125] и Каклюгина[126] во время проезда моего через Ростов познакомила меня с ходом работ и принятыми постановлениями. При этом установлено было полное единомыслие наше относительно идеи построения общерусской власти: Верховный правитель (адмирал Колчак) и его полномочный представитель на Юге — главнокомандующий, палата областных и губернских представителей, общее правительство, автономия казачьих войск.
Это неожиданное для многих и в том числе для кубанцев превращение конференции о казачьем союзе в конференцию об организации Южно-русской власти представлялось тогда огромным шагом вперед в области устроения Юга и консолидации сил его в борьбе с большевиками. По существу же 21 июня 1919 года после восьми месяцев бесплодных исканий, многовластия и тяжелого внутреннего разлада мы вернули вопрос об Южной власти к тому исходному положению, в каком он находился 16 октября 1918 года, когда я и «Особое совещание» предложили казакам проект конституции, отвергнутый Кубанью.
Кубанская делегация выразила «чувства крайнего сожаления, что Кубань была поставлена перед совершившимся фактом». Но после горячих прений и настойчивых убеждений прибывшей в Екатеринодар донской делегации кубанцы решили принять участие в дальнейших работах конференции при непременном, однако, условии, чтобы «продолжение переговоров с генералом Деникиным состоялось лишь после того, как представители Дона, Кубани и Терека примут необходимые решения по основным вопросам».
Эта вторая подготовительная стадия работ конференции, собиравшейся в Екатеринодаре, Ессентуках и Новороссийске и прерывавшейся продолжительными поездками делегатов для доклада своим представительным учреждениям, длилась два с половиной месяца. Трижды главы делегаций являлись ко мне в Таганрог для обмена мнениями и решения спорных вопросов. В середине июля состоялись два совместных с моими представителями заседания конференции для выяснения основных положений будущей конституции, не приведшие к полному соглашению. После этого до начала сентября продолжались работы казачьей конференции и ее комиссий по выработке положений о Высшем совете, правительстве и казачьей автономии. И по окончании этих работ со 2 сентября конференция вступила в третью стадию своей деятельности — окончательного конструирования государственной власти совместно с представителями главного командования.
Совершенно исключительное положение занимала во всех этих переговорах кубанская делегация, парализовавшая деятельность конференции всеми мерами, начиная с постоянных перерывов, побуждавших делегатов остальных войск продолжать занятия без кубанцев. Обстоятельство тем более серьезное, что решения принимались не персональным голосованием, а по государственным образованиям. Неумеренность отстаиваемых кубанцами положений, явно ведущая к разрыву, вызывала не раз возмущение среди донцов и терцев. Саботаж принимал оттенок анекдотический, когда, например, И. Макаренко с упорством раскольничьего начетчика по целым часам доказывал, что в редакции «Положения» — «правителем Юга России является главнокомандующий…» — слово «является» необходимо заменить словом «почитается», ибо первое «противоречит конституции Кубани…». На почве всех этих недоразумений произошел раскол и внутри самой кубанской делегации. И когда все же к началу августа выразилось явно настроение конференции к полному соглашению с главным командованием, Законодательная Рада на бурных заседаниях своих (1–5 августа) поставила прямо вопрос об отозвании своих делегатов с конференции…
Голоса умеренной части собрания, в том числе атамана, обрисовавшего возможность полной изолированности Кубани в политическом и экономическом отношениях, на этот раз перевесили. Рада 25 голосами при воздержавшихся черкесах[127] и большей части «черноморцев» санкционировала дальнейшее участие делегатов в конференции, мотивируя это решение тем, что все равно «результаты работ ее подлежат утверждению органов законодательной власти». Ввиду такого постановления председатель и члены делегации — Шахим-Гирей, И. Макаренко и Белый — сложили свои полномочия. Рада согласилась на освобождение Шахим-Гирея и не приняла отказа других. И. Макаренко стал председателем, а вместо Шахим-Гирея был назначен другой черкес — Гатагоу, демагог еще больший и такой же враг соглашения.
О политических течениях, наблюдавшихся в то время в Раде, один из членов кубанской делегации, Скобцов, говорил: «Их два: одно — то, которое желает вывести Кубань на широкую российскую дорогу, то есть на путь, предложенный Харламовым — участия в строительстве Южно-русской власти; второе — топтание на месте со взглядами, обращенными на юго-запад, то есть на Украину, где ожидается устройство «Кубанско-украинского союза». Эти группы выжидают событий, в зависимости от которых пойдут или по пути строительства России, или за Украину…»
Разрыв был пока предотвращен. Но все обстоятельства, сопровождавшие заседание Рады, давали почву для глубочайших сомнений в возможность при сложившихся на Кубани настроениях благополучного исхода конференции…
Но и помимо кубанской обструкции было немало серьезных мотивов расхождения.
Обе стороны — и мы, и казачество, — недостаточно считаясь с требованиями момента, проявляли чрезвычайную осторожность и осмотрительность в отношении будущего. Мы стремились к тому, чтобы создать нормальные взаимоотношения казачества не только по отношению к временной власти ВСЮР, но и к России, не растрачивая государственных прав и не создавая опасных прецедентов для будущей общерусской власти. Казачество, наоборот, стремилось закрепить за собой maximum прав и «вольностей» именно в целях создания исторического прецедента, находя период безвременья наиболее подходящим для этой цели. В этом же стремлении кубанские делегаты требовали настоятельно предварительного заключения казачьего союза, чтобы во всеоружии силы ставить свои требования другой стороне. Притом непременно «с запросом». Эта черточка казачьей психологии весьма своеобразно проявлялась на Донском Кругу, где слышались речи: «Надо настаивать на федерации, тогда получим автономию; не то, говоря об автономии, получим… генерал-губернатора…»
«Торг» шел четыре месяца.
Государствоведы «Особого совещания» стояли твердо на том положении, что «русское государство, как единое целое, восстановлено с момента признания в нем единой Верховной власти в лице адмирала Колчака», и определяли поэтому порядок вхождения казачьих земель в общегосударственный строй односторонним актом власти Верховного правителя, осуществляемой через главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России… Казачество держалось иной точки зрения, требуя учредительного съезда и союзного договора, октроируемого законодательными учреждениями всех договаривающихся сторон. Казачью точку зрения весьма ярко выразил донской атаман генерал Богаевский в своей приветственной речи членам конференции: «Дон сам откажется от части своих временных суверенных прав в пользу будущей государственной власти, но его достоинство и заслуги в упорной борьбе с большевизмом не позволят ему принять, как подарок, признание его внутренней автономии. Волею судеб она есть и будет».
Принцип октроирования свыше в предстоящем образовании власти имел между тем далеко не одно лишь принципиальное значение. Ибо на первых же порах на конференции встал остро вопрос о признании адмирала Колчака, к которому донцы отнеслись неопределенно, терцы и особенно кубанцы вполне отрицательно. Официальными мотивами такого отношения были: тяжелое положение к тому времени Восточного фронта, «недостаточная солидность базы, на которую опирается адмирал», форма правления его, «далекая от народоправства», «отсутствие гарантий сохранения демократических установлений на Юге» и так далее.
Пойти на такой шаг — игнорирования признанной мною Верховной власти — я очевидно не мог.
Мы проводили идею полной концентрации власти в виде диктатуры, признавая такую форму правления единственно возможной в небывало тяжелых условиях гражданской войны… Казачество, допуская единоличную власть главнокомандующего, добивалось «гарантий», превращавших «единство» в федерацию, диктатуру — в чистейший парламентаризм. Оно требовало права образования союзов государственно-правового значения и автономных армий; учреждения законодательной палаты вместо законосовещательной; назначения председателя правительства по соглашению со «съездом»; права палаты выражать недоверие правительству; искусственно создаваемого численного преобладания в Совете казачьих представителей и так далее.
Помимо принципиального отрицания нами юридической зависимости правителя от предварительного органа в период борьбы, такой порядок после признания Верховной власти адмирала Колчака не мог бы быть осуществлен иначе, как путем переворота. И я поставил перед конференцией вопрос о законосовещательных функциях палаты в ультимативной форме. Точно так же после опыта одной автономной армии создавать таких три значило бы идти не к объединению, а к расчленению и ставило бы в еще более тяжелое положение главное командование. Поэтому нашим представителям дано было указание: «Автономные армии не допускаются. Единая армия и единое законодательство (военное), считающееся с особыми условиями исторически сложившегося казачьего быта».
Интересно, что восточное казачество (Сибирь), пережив период «атаманства»[128], также не оставляло притязаний на особую роль в государственном управлении. Казачья конференция требовала: 1) учредить министерство по казачьим делам с министром, избираемым казачьим Кругом (конференцией); 2) этот министр должен управлять ведомством при участии Круга; 3) ни один закон, касающийся казачества, не может быть проведен без рассмотрения Круга; 4) казачьими войсками должны командовать выборные походные атаманы…
«Прочитав этот проект в целом, — говорит омский министр Гинс, — можно было впасть в отчаяние безнадежности, до такой степени ясны были в нем личные стремления и политиканство…»
Возвращаюсь к Южной конференции.
С не меньшими трениями проходили у нас вопросы о казачьей автономии, в особенности в области экономических отношений. Представители командования блюли интересы государственные, казачьи представители стремились к возможно широкому обеспечению своих «вольностей» и своих богатств. Обе стороны вносили в переговоры ригоризм и большую страстность.
В такой сложной работе, оторванной от реальной жизни и не считавшейся с темпом быстро текущих событий — огромных и страшных, прошло целых шесть месяцев. Принципиальные вопросы, обеспечивающие полноту единоличной власти, удалось отстоять; в остальных — обе стороны пошли на уступки. И в конце декабря Дон и Терек пришли к полному соглашению с командованием о конструкции Южной государственной власти. Кубань же вновь воздержалась, а по станицам «Коп» рассылал многозначительные разъяснения: «Так что же казачество?.. Отвергнет ли оно мысль о диктатуре? Станет ли оно на защиту трудового народа, над которым уже вьются арканы, закидываемые помещиками, движущимися вместе с «Особым совещанием» при Добрармии?
Или его опять, как встарь, новоиспеченные цари и их лакеи обманут и приспят, опять обратят в опричников, в палачей свободы и народа?
Или, быть может, казакам, ушедшим далеко в глубь России, просто не дадут увидеть родной край, как не дали увидеть ближайшую судьбу родного народа и родного края Н. С. Рябоволу?»[129].
Принципиальное соглашение с Доном и Тереком было достигнуто как раз накануне общей эвакуации Ростова и Новочеркасска, перевернувшей вверх дном все предположения и в корне изменившей взаимоотношения наши с казачеством.
Глава X. Кубанское действо
К октябрю положение на Кубани окончательно запуталось.
Парижская кубанская делегация при молчаливом соучастии правительства и Законодательной Рады объявила об отторжении Кубанской области от России… Кубанские пограничные рогатки до крайности затрудняли торговый оборот и продовольственный вопрос Юга, в частности душили голодом Черноморскую губернию. Саботаж кубанцами конференции ставил под сомнение возможность лояльного разрешения вопроса о создании общей власти… Правительственная агитация побуждала казаков к прямым действиям против главного командования…
После чрезвычайных усилий кубанского военного начальства пошли, наконец, пополнения на фронт. Полки, сведенные в сентябре до ничтожного состава в 70–80 шашек, увеличились до 250–300. Но положение от этого не улучшилось: «На фронте оставалась лучшая часть казаков, в станицах засели (ушедшие в тыл) шкурники и грабители, — писал командующий Кавказской армией[130]… — Ныне… (они), в виде пополнений, вновь вернулись в части и вернулись развращенные теми, в чьих задачах разложить и ослабить армию. Усилия самостийников за последнее время направлялись на наиболее стойкие отделы — «линейцев», и пополнения из этих отделов наиболее развращены…»
Атаману Филимонову хорошо была известна закулисная деятельность самостийников. По его определению, игра их была рассчитана сначала на Петлюру, а потом на неудачи Добровольческой армии и армии Колчака… Когда в мае сибирские войска стали подвигаться к Волге, наши самостийники приготовились сложить оружие… И вновь зашевелились лишь после неудачи за Волгой и в связи со слухами о движении рабочих за границей… В последние месяцы, чувствуя, что зарвались, они решились на последнюю попытку — захватить власть на Кубани[131]. Для начала было выражено Законодательной Радой недоверие походному атаману генералу Науменко по вопросу об отдельной Кубанской армии, и Науменко вынужден был выйти в отставку (середина сентября). Предположено было в ближайшее время свергнуть и Филимонова. На пост кубанского атамана намечался Л. Быч, председателем правительства Воропинов, в состав кабинета — полковники Гончаров, Роговец и так далее — весь крайний сектор кубанских самостийников. Но генерал Филимонов продолжал относиться к положению с большим оптимизмом на том основании, что «значение на Кубани самостийников преувеличивается» и что «течение (это) никогда не имело корней в массах кубанского населения, а фабриковалось в г. Екатеринодаре в небольших и малозначащих партийных и радянских кругах». «Я всегда знал, — писал он, — что дело их давно осуждено на уничтожение». Поэтому атаман отвергал советы многих лиц выступить активно против самостийной группы.
Не отрицая отсутствия почвенности в самостийном течении, я не мог, однако, не считаться с тем, что эти «малозначащие» круги, не встречая должного отпора, в течение двух лет разлагали казачество, парализовали власть атамана и фактически правили и Радами, и Кубанью. И никаких объективных данных к переменам такого положения не было.
Объехав ряд станиц, генерал Филимонов имел возможность убедиться лично, что настроение в них крайне нервное: «с одной стороны, муссируются слухи, вызывающие враждебное отношение к Добровольческой армии, с другой — говорят о предстоящих чрезвычайных выступлениях самостийных групп». Генерал Филимонов решил поэтому обратиться к «голосу кубанского казачества», созвав на 15 октября чрезвычайную Краевую Раду.
Обе стороны — и «черноморцы» и «линейцы» — стали деятельно готовиться к решительной борьбе.
По горькому опыту предыдущей сессии Рады я не возлагал на нее никаких решительных надежд. Наоборот — мог ожидать лишь новых потрясений. Особенно в отношении армии. И потому решил принять чрезвычайные меры.
В начале октября в Таганрог прибыл генерал Врангель. Очертив ему политическую обстановку, я указал на необходимость покончить с тем злокачественным нарывом, который мутит кубанскую жизнь. По словам Врангеля, он на основании армейских нестроений пришел к тому же убеждению и ехал ко мне с тем же предложением.
Выполнение этой задачи я возложил на него как на командующего Кавказской армией. Генерал Врангель должен был переговорить со старшими кубанскими начальниками и представителями «линейской» группы и сосредоточить в район Екатеринодара ко времени открытия Краевой Рады надежные войска, чтобы затем действовать в зависимости от обстоятельств. Во избежание каких-либо ненужных эксцессов, не оправдываемых государственными интересами, я командировал в помощь генералу Врангелю в качестве советника по части политической начальника отделов законов и пропаганды К. Н. Соколова. Они приступили к действиям.
«Группой членов Рады, — как докладывал засим генерал Врангель, — составлен был проект изменения кубанской конституции, который предположено было внести на утверждение Краевой Рады». Сущность этого проекта, обсуждавшегося затем бароном Врангелем совместно с профессором Соколовым, заключалась в том, чтобы, не посягая на автономию края, придать выборному атаману действительную власть, сохранив ответственность его перед Краевой Радой. В общем схема управления представлялась в следующем виде:
1. Высшая власть в крае — Краевая Рада.
2. Исполнительная (отчасти и законодательная) власть — атаман и назначенное им правительство.
3. Законодательная Рада упраздняется.
4. Краевая Рада созывается и распускается атаманом ежегодно. На время созыва Рады вся власть принадлежит ей.
5. Необходимость создания отдельной Кубанской армии отвергается.
Вместе с тем принимавшие участие в составлении новой конституции кубанские деятели предъявили главному командованию ряд пожеланий, одобренных бароном Врангелем, главным образом, экономического и военно-служебного порядка. Среди них было, между прочим, одно бесспорное — урегулирование долгов нашего интендантства кубанским органам продовольствия. Другое — об установлении права Войска на получение определенной части захваченной Кавказской армией военной добычи — я отклонил, считая, что оно осложнит до чрезвычайности положение вопроса, вызовет обиды и соревнование и выльется в конце концов в организованный грабеж. Точно так же я отклонил требование привлечения иногородних на службу в кубанские части ввиду тех тяжелых отношений, которые существовали между двумя группами населения Кубани.
После ознакомления с настроением своих частей генерал Врангель несколько поколебался, не имея уверенности «в стойкости их в случае разрешения внутренних вопросов оружием» и опасаясь «бури на Дону» (Из письма к генералу Покровскому от 21 октября.). Поэтому он указывал находившемуся в Екатеринодаре генералу Покровскому, на которого возложено было им непосредственное выполнение задачи, «принять все меры к недопущению… вооруженного выступления, арестов и так далее… Предъявляя известные требования, можно опереться на армию, но использовав это оружие лишь как Дамоклов меч, отнюдь не нанося им удары». Барон Врангель надеялся на «благоразумие одной части Рады и на достаточность военной угрозы для другой». «По сведениям моим, — писал он, — призрак военного переворота уже пугает кубанских Мирабо…»
Эти надежды не оправдались. Около 50 членов Рады — «линейцев» — не прибыло вовсе, что еще более нарушило соотношение сил, и с первого же дня Рада, подчинившись вполне влиянию самостийной группы, приняла ярко враждебную нам позицию. Идеи борьбы с большевиками и устроения края отошли на задний план; весь пафос радян сосредоточился на борьбе с властью Юга.
После носившего демонстративный характер чествования памяти Рябовола в Раде оглашено было письмо донского демагога Агеева, прославлявшее казачество и необычайно резкое в отношении «классовой диктатуры», «политики помещичьего шарабана и карет с графскими и баронскими гербами». Это письмо, чтение которого сопровождалось бурными аплодисментами, в десятках тысяч экземпляров было распространено затем по Кубани. Естественным послесловием к нему была речь престарелого депутата Щербины, говорившего: «Прочь же с дороги темные силы! Кубанцы идут по битому пути демократизма и своих исторических заветов!..»
На третий день сессии, 26 октября, Рада, вопреки мотивированным протестам атамана и «линейской» группы и не допустив обсуждения кандидатур, избрала «заместителем» председателя Рады[132] И. Макаренко[133], лидера самостийников, человека чрезвычайно озлобленного против Южной власти и страдавшего анекдотическим самомнением. За несколько дней перед тем он с кафедры Законодательной Рады бросил тяжкое оскорбление кубанским войскам: «Кубань не родила до сих пор ни одного порядочного генерала!» И, агитируя в кубанских станицах, сообщал им «радостную весть»: «Идет батько Махно и несет свободу…»
Избрание это являлось только вызовом, так как И. Макаренко был абсолютно нетерпим в глазах меньшинства — «линейцев», да и в своих же кругах считался человеком «бестактным и политически ограниченным».
Атмосфера в Раде сгущалась все более. Неизменный вопрос об отдельной Кубанской армии всколыхнул вновь страсти и вызвал разъяснения атамана, что им сделано в этом отношении все возможное, но законное желание его и Рады встретило непреодолимые затруднения со стороны главнокомандующего, не сдержавшего данных Кубани обещаний…
«Объективные» доклады Шахим-Гирея об общей политике «Особого совещания», Иваниса — о «блокаде Кубани», Тимошенко — об «истинных виновниках голодания Кавказской армии», которыми он считал наши ведомства продовольствия и снабжения, накаливали атмосферу до крайних пределов.
С весны 1919 года Терско-Дагестанский край пылал в огне восстаний. В Чечне и Дагестане, то затихая, то вновь разгораясь, шла кровавая изнурительная борьба между Вооруженными силами Юга и горцами этих округов, поддержанными большевиками, Азербайджаном и Грузией и руководимыми созванным «Горским правительством» (меджилисом).
Борьба, ослаблявшая противобольшевистский фронт и угрожавшая подчас самому бытию терского казачества.
И терский атаман 14 октября писал мне: «…Чаша народного терпения переполнена… В то время, как казачья и добровольческая русская кровь льется за освобождение Родины, мобилизованные, снабженные русским оружием чеченцы и ингуши массами дезертируют и, пользуясь отсутствием на местах мужского населения, занимаются грабежами, разбоями, убийствами и поднимают открытые восстания…»
Чтобы лишить эту борьбу характера узкой племенной розни (исторические счеты терцев с горцами), терский атаман настаивал всегда на оставлении на горском фронте добровольческих и кубанских частей.
Вот в это-то время широко распространился в печати «Договор дружбы между правительствами Кубани и Республикой Союза горцев Кавказа»[134]. В нем между прочим заключались следующие статьи:
«1. Правительство Кубани и правительство Республики горских народов Кавказа настоящим торжественным актом взаимно признают государственный суверенитет и полную политическую независимость Кубани и Союза горских народов Кавказа.
…
3. Договаривающиеся стороны обязуются не предпринимать ни самостоятельно, ни в форме соучастия с кем бы то ни было никаких мер, клонящих к уничтожению или умалению суверенных прав Кубани и Республики Союза горских народов Кавказа.
4. Войсковые части одной из договаривающихся сторон могут переходить на территорию другой стороны не иначе, как по просьбе или с согласия правительства этой стороны. Войска одной стороны, находящиеся на территории другой, поступают в подчинение этой последней».
Договор этот предусматривал, следовательно, отторжение от Терско-Дагестанского края горских областей, гибель Каспийской русской военной флотилии, которая была бы отрезана от армии, и передачу кубанских частей Северного Кавказа на сторону и даже в подчинение меджилису.
Такая постановка вопроса выходила далеко за пределы областных интересов, если не фактически, то морально нанося удар общегосударственному делу и армии и внося смуту в ряды кубанцев, защищавших русское дело на Северном Кавказе. Это была последняя капля, переполнившая чашу долготерпения.
Я запросил кубанского атамана, действительно ли существует такой договор, и получил ответ, что атаману и правительству ничего не известно по этому поводу, но «по объяснению Султан-Шахим-Гирея договор был заключен и подписан Калабуховым и другими как проект, подлежащий утверждению Законодательной Рады, на случай, если бы Антанта признала власть большевиков»[135].
Это искусственное и наивное оправдание, намечавшее к тому же оставление Кубанью Добровольческой армии и Терека в самую трудную минуту международных осложнений, не могло иметь никакого значения. И 25 октября я отдал приказ[136]:
«В июле текущего года между правительством Кубани и меджилисом горских народов заключен договор, в основу которого положена измена России и передача кубанских казачьих войск Северного Кавказа в распоряжение меджилиса, чем обрекается на гибель Терское войско. Договор подписан Бычом, Савицким, Калабуховым и Намитоковым, с одной стороны, и Чермоевым, Гайдаровым, Хадзагаровым и Бамматом, с другой. Приказываю при появлении этих лиц на территории Вооруженных сил Юга России немедленно предать их военно-полевому суду за измену».
В то время в пределах Вооруженных сил Юга находился один только Калабухов.
27 октября на вечернем заседании Рады атаман огласил мой приказ, который, по словам отчетов, «произвел огромное впечатление». Правительство особым постановлением довело до сведения атамана и Рады, что делегация «превысила свои полномочия». Вместе с тем за подписью генерала Филимонова и Курганского (председателя правительства) послана была мне телеграмма, в которой между прочим говорилось: «…Если названные лица действительно подписали от имени краевого правительства договор с меджилисом горских народов, о чем краевому правительству по сие время официально не известно, то вопрос о превышении названными лицами данных им полномочий подлежит суждению краевого правительства, а существо договора — суждению Кубанской краевой Рады, на рассмотрение которой в данный момент и вносится. Во всяком случае, упомянутые лица являются дипломатическими представителями Кубани и, как таковые, пользуются неприкосновенностью, почему, в случае совершения ими незакономерных действий, могут подлежать суду только кубанской краевой власти, их делегировавшей».
Невзирая на настояния атамана — рассмотреть немедленно по существу этот вопрос во избежание роковых последствий, Краевая Рада только 1 ноября имела суждение о нем и постановила: «Не касаясь существа вопроса о договоре, протестовать самым решительным и энергичным образом против означенного приказа генерала Деникина и требовать срочной его отмены…» Сам атаман настойчиво просил Раду «сегодня же послать делегатов и убедить донцов и терцев вместе с нами настаивать перед генералом Деникиным на отмене приказа».
Рада отказалась осудить парижскую делегацию, и тем был окончательно предопределен дальнейший ход событий.
Продолжались заседания, отмеченные крайней напряженностью, бурными выступлениями и… нескрываемой тревогой. Атаман между тем «вместе с той частью Рады, которая (его) поддерживала, выработали особый план борьбы»: «Мы решили предоставить представителям оппозиции высказаться до логического конца и тем самым открыть свои карты…» «Я находил, — писал мне атаман впоследствии, — предпочтительным предоставление уродливому явлению естественно рассосаться или быть осужденным самим населением, для чего нужно… только время…».
Будто все это происходило в дни глубокого мира и покойной, безмятежной, тихо текущей жизни…
По мере развивавшихся событий барон Врангель терял надежду на мирный исход конфликта. 27 октября он писал генералу Лукомскому[137]:
«К сожалению, избрание председателем Рады И. Макаренко заставляет признать, что обнаглевшие самостийники окончательно закусили удила… Я сделаю все, но ход событий заставляет предвидеть возможность такого порядка вещей, когда отказ от военного вмешательства будет признанием слабости, а это, по моему убеждению, равносильно гибели…»
30-го он телеграфировал атаману, что оскорбительные выражения, допущенные председателем Рады по адресу старших начальников, и присутствие в ней лиц, объявленных изменниками, лишают его возможности воспользоваться приглашением — посетить Раду.
Генерал Врангель остановился в Кисловодске, связавшись прямым проводом с Екатеринодаром, где находился генерал Покровский и прибывшая с царицынского фронта кубанская бригада. По представлению барона Врангеля я включил в тыловой район Кавказской армии всю Кубанскую область, после чего он назначил «командующим войсками тыла» генерала Покровского. Это обстоятельство вызвало новую бурю в Раде, но вместе с тем еще большую растерянность и тревогу, так как Покровский пользовался репутацией человека весьма решительного и жестокого. Вероятно, и сам барон Врангель, передоверив выполнение задачи Покровскому, опасался несколько его решительности, потому что 29 октября по аппарату говорил генералу Науменко: «Ежели вы полагаете присутствие генерала Покровского в Екатеринодаре нежелательным, то я могу снестись с Таганрогом и просить об его вызове или вызвать его сюда».
Рада волновалась, атаман призывал к осторожности, И. Макаренко требовал отменить немедленно все приказы военных начальников, изгнать генерала Покровского из пределов Кубани и обратиться к населению с призывом «Отечество в опасности», подняв казаков на защиту Кубанского края…
29-30 октября генерал Врангель через профессора Соколова докладывал мне политическую обстановку в Екатеринодаре, оценивая шансы на успех выступления в «50 процентов». Сообразно этому он предлагал на мое усмотрение одну из следующих комбинаций, не имевших между собой никакой внутренней связи и отражавших лишь личные побуждения командующего армией: 1) уехать ему в армию, предоставив Покровскому свободу действий; 2) уехать, потребовав от Покровского «невмешательства во внутренние дела Кубани»; 3) произвести под его, генерала Врангеля, руководством выступление и 4) предоставить генералу Покровскому принять меры по его усмотрению и затем выступить самому генералу Врангелю в Раде…
Генерал Покровский иначе расценивал обстановку, что видно из телеграфного доклада генерала Науменко барону Врангелю: «Вчера (1 ноября) говорил с Покровским. У него все организовано, и он безусловно уверен».
Я не видел причин, чтобы менять исполнителей или останавливаться на полдороге, вполне разделяя первоначальное мнение генерала Врангеля, что в такой момент «отказ от военного вмешательства будет признаком слабости, что равносильно гибели». И потому 31 октября я послал барону телеграмму:
«Приказываю Вам немедленно привести в исполнение приказание мое № 016729 и принять по Вашему усмотрению все меры к прекращению преступной агитации в Екатеринодаре, входящем в Ваш армейский район. № 014598.
В тот же день барон Врангель послал нарочным соответственное приказание генералу Покровскому, которое должно было быть вручено последнему «по подаче войсковым атаманом в отставку, что ему одновременно с сим дан совет сделать». Атаман совета не принял…
5 ноября генерал Покровский предъявил Раде ультимативное требование о выдаче Калабухова и о «прекращении травли Добровольческой армии…».
Атаман убеждал Раду подчиниться этим требованиям. На этой почве произошло бурное столкновение между ним и Макаренко, который потребовал свержения атамана и передачи власти президиуму Рады. Последовавшим голосованием, однако, выражено было доверие атаману, после чего Макаренко заявил, что «ввиду такого непонятного поведения Рады он вынужден сложить с себя полномочия», и исчез. Утром 6-го генерал Покровский повторил свое требование, прибавив к нему выдачу двенадцати главарей самостийной группы, указав предельным сроком исполнения полдень, к какому времени назначен был «парад» екатеринодарского гарнизона[138]…
Рада подчинилась всем предъявленным требованиям. Указанные Покровским лица добровольно явились в атаманский дворец, где и были арестованы. Калабухов был предан военно-полевому суду и по приговору его повешен в ночь на 7 ноября. На другой день барон Врангель выступил в Раде, встретившей его шумными овациями…
Рада выслушала долгую речь генерала Врангеля стоя и впоследствии не могла простить и себе, и ему этого унижения…
Депутация Рады поздней ночью принята была мною в Ростове на вокзале, ходатайствуя о судьбе арестованных и свидетельствуя о готовности кубанцев вести борьбу до конца в полном единении с Добровольческой армией…
Не удовлетворение, а глубокую скорбь вызвали во мне их «покаянные» речи. Вынужденный в силу государственной необходимости на применение суровых мер, я знал, что удар по кубанским демагогам косвенно отзовется на самосознании кубанского казачества, имевшего большие заслуги и неповинного в политической игре, казачества, с которым нас связывали лучшие страницы боевой страды, к которому я относился с глубочайшей симпатией…
Но иного выхода не было.
Одиннадцать арестованных членов Рады я приказал выслать за границу. Скрывшийся И. Макаренко после нескольких недель скитаний по хуторам и плавням, получив от Ставки через третьих лиц гарантию безопасности, вернулся в Екатеринодар. Он явился к начальнику нашего Военного управления и поведал о том, что много пережил, передумал за это время и решил совершенно отойти от политической деятельности. Обещание свое выполнил.
Поднять против командования донцов и терцев кубанским послам не удалось. 7 ноября я посетил заседание Донского Круга и в большой, почти трехчасовой речи развернул перед ним картину военно-политического положения противобольшевистских фронтов — тяжелого и грозного. Основы и мотивы нашей внешней политики. Историю взаимоотношений с казачеством и распри с Кубанью. Круг слушал с глубоким вниманием и отзывчивостью. Создавшееся на Круге настроение побудило кубанских послов покинуть в тот же день Новочеркасск, не дожидаясь ответа Круга. Ответ последовал лишь 11-го, составлен был в примирительных тонах и заканчивался пожеланием, чтобы «происшедшие на Кубани печальные события не отразились на работе Рады, которая в целом должна быть выше всяких подозрений». Агеев — заместитель председателя Круга — под влиянием этих настроений сложил свои полномочия и отбыл для лечения в Грузию…
На Тереке кубанские послы встретили еще менее сочувствия, и председатель терского правительства в заседании Круга 19 ноября при общем одобрении говорил о «злокачественном нарыве», который, «к сожалению, был вскрыт другой силой, а не самими кубанцами».
В большинстве российских организаций и печати действия Южной власти в кубанском вопросе встретили полное сочувствие.
В ближайшие дни Рада вынесла ряд резолюций — об единении с Добровольческой армией, о скорейшем создании Южно-русской власти, о лишении полномочий парижской делегации. Поручила финансово-экономической комиссии пересмотреть экономическую политику края, в частности вопрос о таможенных рогатках[139].
Вместе с тем Рада изменила основные положения кубанской конституции:
1. Законодательная Рада упраздняется, и функции ее переходят к Краевой Раде.
2. Для избрания атамана учреждается особая атаманская Рада (временно эти функции несет Краевая Рада).
3. Правительство ответственно перед Краевой Радой.
4. Войсковому атаману в случае несогласия с вотумом недоверия правительству принадлежит право роспуска Краевой Рады. Рада нового состава должна быть собрана не позднее двух месяцев. Повторенный ею вотум недоверия правительству влечет за собой его отставку.
5. Положение об управлении Кубанским краем не может быть изменено правительством в порядке 57-й статьи.
10 ноября сложил свои полномочия кубанский атаман генерал Филимонов, невзирая на настойчивые просьбы Рады. Он объяснил свой отказ тем обстоятельством, что с изменением конституции атаманские права расширяются до пределов, превышающих определенные Радой при его выборах; что, как показали все предшествующие события, он не объединяет все слои населения края…
В письме своем ко мне он приводил другие мотивы:
«В событиях последних дней на Кубани для меня лично оказалось самым тяжелым — это переданное мне через третьих лиц Ваше мнение о неприемлемости моего пребывания на посту кубанского атамана… Являясь убежденным и последовательным сторонником идеи воссоздания России, я ни одной минуты не мыслил возможности работать без Вашего сочувствия и доброжелательства; поэтому, как только я узнал, что этих условий в настоящее время нет, я немедленно, несмотря на единодушное доверие Рады, сложил с себя полномочия…»
Главное действующее лицо екатеринодарских событий генерал Покровский предъявил свои права на атаманскую булаву…
Барон Врангель называл имена двух кандидатов — Науменко и Покровского. Я считал дальнейшее вмешательство в компетенцию Рады ненужным и ответил, что, «не зная обстановки на Кубани, воздерживаюсь от участия в этом деле…».
Покровский был настойчив. 11 ноября по аппарату между ним и генералом Врангелем происходил разговор:
Генерал Покровский: Отставка Александра Петровича[140] воспринята в окончательной форме. До восьми часов были заседания в отделах, обсуждались кандидатуры, выдвинуты: Науменко, Улагай, Филимонов, Успенский. Меня боятся… Полагаю, что нужно применить форс-мажор.
Генерал Врангель: …У Улагая шансов никаких нет, да, кроме того, он на это дело не пойдет. Филимонов здесь совсем неприемлем, и главнокомандующий разрешил мне определенно об этом сказать. Все решится между Вами и Науменко. В это дело теперь нам вмешиваться не следует.
Рада избрала атаманом генерала Н. М. Успенского, большого доброжелателя Добровольческой армии, и своим председателем Скобцова. Формирование кабинета поручено было Сушкову, стоявшему ранее уже во главе правительства в начале 1919 года.
Новый атаман после своего избрания заявил Раде: «Я считаю долгом заявить, что я, как гражданин и кубанский казак, глубоко оскорблен и потрясен событиями последних дней. Надеюсь на вашу мощную поддержку; опираясь на вас, я сделаю так, что события, имевшие место в прошедшем, не будут иметь места в будущем. Я сделаю так, чтобы никакие посторонние силы не мешали строить нашу жизнь так, как нам угодно».
Хотя в этом заявлении слышалось осуждение, но это была скорее дань чувству обиды, затаенному Радой. «Посторонние силы» не посягали более на «свободу народа», а политика атамана направлена была на борьбу с большевиками и на объединение с командованием.
Власть, таким образом, перешла к «линейской» группе. И хотя «Коп» и другие правительственные органы продолжали еще по инерции свою деятельность, восстанавливавшую казаков против власти Юга, хотя оставшиеся самостийники… перенесли в подполье свою «политическую работу», и в частности агитацию в пользу дезертирства и зеленоармейства, но кубанское казачество отнеслось к происшедшим событиям спокойно. И можно было думать, что укрепление новой власти остановит тот процесс разложения, который в течение более года точил организм Кубани, поражая день за днем, шаг за шагом ее армию.
Но судьба судила иначе.
Через месяц Н. М. Успенский, обходивший часто лазареты, заразился сыпным тифом и вскоре умер во цвете лет и сил. В конце декабря собралась вновь Краевая Рада для выбора атамана. Обстоятельства в это время были для нас несравненно хуже: Вооруженные силы Юга потерпели неудачу и, оставив Украину и север Донской области, ушли за Дон. Падало обаяние силы и вместе с ним авторитет Южной власти.
Это сразу почувствовалось в Раде. Она отменила все изменения кубанской конституции и постановления свои в ноябрьские дни и вернула к власти самостийников. Атаманом был избран генерал Букретов, лицо еврейского происхождения, чуждое Кубанскому войску, не имевшее перед ним никаких заслуг и состоявшее перед тем под следствием по обвинению в злоупотреблениях в продовольственном деле. Был он избран исключительно по признаку враждебности к главному командованию… Председателем своим Рада избрала Тимошенко, председателем правительства стал Иванис. Оба самостийники и демагоги.
«Кубанское действо» признается многими причиной последовавшего затем развала кубанских корпусов, отразившегося фатально на положении общего фронта…
Я представляю себе взаимную связь явлений иначе.
Вследствие причин весьма разнообразных на Кубани создавалась почва, гибельная для дела противобольшевистской борьбы и весьма благоприятная для того «замирения», о котором говорил Троцкий-Бронштейн.
В ноябре я сделал попытку остановить течение этого процесса.
Попытка не увенчалась успехом.
Потому ли, что меры были слишком суровы или что операция запоздала?
Вернее второе. Ибо «Рада Ивана Макаренки», несомненно, довела бы ход разложения кубанских войск до его естественного конца — только более быстрым темпом и с большим внешним эффектом.
Глава XI. Операции ВСЮР в октябре — ноябре 1919 года
В начале октября советские армии Южного и Юго-Восточного фронтов, приведенные в порядок и пополнившиеся, располагались[141]:
Южный фронт:
12-я армия, до 25 тысяч — по обе стороны Днепра от Мозыря, огибая Житомир, и по Десне на Чернигов до Сосницы[142].
14-я армия, 28 тысяч, от Сосницы до Кром (вблизи Орла).
13-я армия, 18 тысяч — от Кром до реки Дона (у Задонска, близ Воронежа).
8-я армия, 18 тысяч — между Задонском и Бобровом.
Конный корпус Буденного — в резерве, восточнее Воронежа.
Итого: 90 тысяч на фронте Житомир — Киев — Орел — Воронеж.
Юго-Восточный фронт:
9-я армия, 20 тысяч — от Боброва до устья Медведицы.
10-я армия, 16 тысяч — от устья Медведицы, севернее Царицына до Волги.
11-я армия, 15 тысяч — в районе Астрахани, имея операционные направления вверх по Волге против Царицына, на юг и на восток по Каспийскому морю против Северного Кавказа и Гурьева (уральцев).
Итого: 50 тысяч на фронте Воронеж — Астрахань.
Всего, следовательно, против ВСЮР большевики выставили 140 тысяч, имея две сильных ударных группы: 1) западнее Орла[143] и 2) против Воронежа. Так как в октябре и ноябре большевики подвезли еще пять пехотных и одну кавалерийскую дивизию, то силы их возросли до 160 тысяч. По большевистским источникам, лучшими войсками считались 14-я армия и группа Буденного; хуже 3-я, 11-я и 13-я; а 12-я «являла признаки расстройства и разложения».
Вооруженные силы Юга располагались:
Войска Киевской области (генерал Драгомиров), 9 тысяч — впереди Киева и по Десне у Чернигова (включительно).
Добровольческая армия (генерал Май-Маевский), 20.5 тысяч — от Чернигова к Орлу и до Дона (у Задонска).
Донская армия (генерал Сидорин), 50 тысяч — от Задонска до устья Иловли.
Кавказская армия (генерал барон Врангель), 14.5 тысяч — в районе Царицына, имея часть сил против Астрахани, на обоих берегах Волги.
Отряд из состава войск Северного Кавказа (генерал Драценко), 3–5 тысяч — против Астрахани с юга и юго-запада.
Всего на противобольшевистском фронте Киев — Орел — Воронеж — Царицын — Астрахань мы имели 98 тысяч против 140–160 тысяч большевиков[144]. Боевая ценность наших частей была далеко не одинакова, и поэтому численный эквивалент не выражает идеи развертывания.
Группировка противников к началу октября:
Что касается резервов, то не только они, но, как увидим ниже, и часть сил действующих армий к тому времени была отвлечена на «внутренние фронты» для усмирения восстаний, поднятых Махно и другими «атаманами» и заливших большие пространства Украины и Новороссии. В частности, Добровольческая армия была ослаблена выделением сил и на внутренний, и на киевский фронт, под Чернигов. Часть сил Киевской области вела борьбу с петлюровцами и повстанцами.
После неудачи августовского наступления советское командование изменило план операции. «В середине октября (нового стиля), — пишет Бронштейн[145], — была закончена подготовка для решительного контрудара. Образованы были две группы: одна — из резерва главкома и части 14-й армии к северо-западу от Орла для действия на Курско-Орловскую железную дорогу, вторая — к востоку от Воронежа, из конного корпуса Буденного, который должен был разбить противника под Воронежем и ударить в тыл орловской группе противника в направлении на Касторную».
Таким образом, в предстоящем новом общем наступлении главный удар с двух сторон был занесен против Добровольческой армии, выдвинувшейся к Орлу. Стратегически этот удар преследовал идею разобщения Донской армии от Добровольческой и разгрома последней, политически — разъединение добровольчества и казачества.
Группировка сил противника не была для нас тайной; но ввиду отсутствия у нас резервов парировать намеченные удары можно было лишь соответствующей перегруппировкой войск. Удар с линии Орел — Севск, выводивший противника на фронт Корниловской и Дроздовской дивизий, не внушал мне опасений. Угроза же со стороны Воронежа левому флангу Донской армии была более серьезна. Поэтому я, не приостанавливая наступления Добровольческой армии на линию Брянск — Орел — Елец, 17 сентября вновь предписал Донской армии ограничиться в центре и на правом фланге обороной, чтобы сосредоточить надлежащие силы на своем левом фланге, против Лиски и Воронежа[146]. В состав Донской армии передана была конница генерала Шкуро, находившаяся в воронежском районе.
Выполнение этих планов сторонами приводило к встречным боям, развернувшимся в генеральное сражение на пространстве между Десной, Доном и Азовским морем, сражение, которому суждено было решить участь всей кампании.
Конная группа Буденного, усиленная пехотной дивизией 8-й армии (12–15 тысяч), отбросив донцов к югу, повела наступление на Воронеж. После девятидневных боев с переменным успехом конница генерала Шкуро[147] вынуждена была оставить Воронеж и отойти на правый берег Дона. Переправившись через Дон, в свою очередь, Буденный с боями вышел к Нижнедевицку, угрожая Касторной и тылу 1-го (Добровольческого) корпуса.
Между тем с 1 октября началось наступление западной ударной группы большевиков.
На 500-верстном фронте от Бахмача до Задонска шли тяжелые бои Добровольческой армии против втрое превосходившего ее силами противника (20 тысяч против 50–60)[148].
Ослабив свое правое крыло и сосредоточив главные силы в брянском направлении, генерал Май-Маевский успел нанести ударной группе 14-й советской армии ряд поражений под Севском и Дмитриевском[149], в то время как войска его на орловском[150] и тульском[151] направлениях успешно отбивали наступление 13-й советской армии. Но общая обстановка у Воронежа заставила армию оставить Орел и Ливны. Встречая сопротивление лишь тонкой линии Марковской дивизии, 13-я советская армия продолжала наступление, и несколько полков ее в 20-х числах прорвались к Фатежу и Щиграм, угрожая Курску. В то же время группа Буденного с 24 октября атаковала Касторную, встречая сильный отпор занимавшего ее Марковского полка и конницы Шкуро.
В результате 30-дневных кровавых боев, непрестанно маневрируя, одерживая не раз частные победы[152] и неся большие потери, войска Добровольческой армии отошли на линию Конотоп — Глухов — Дмитриев — Касторная.
На донском фронте в течение октября происходили встречные бои с переменным успехом. Нанеся частное поражение левому флангу 8-й советской армии у Боброва и Таловой и частям 9-й советской армии на берегу Хопра, Донская армия в дальнейшем отошла правым флангом за Дон и центром за Хопер, удерживаясь за этими реками и на линии Лиски — Урюпино.
На западе войска Киевской области генерала Драгомирова, против ожидания весьма мало пополнившие свой состав, с трудом выполняли свою задачу — очищения правого берега Днепра и левого — Десны. Во второй половине сентября усиленные частями Добровольческой армии киевские войска имели крупные успехи на Десне и овладели Черниговом. Но в то же время правый фланг 12-й советской армии, освобожденный от угрозы со стороны поляков вследствие заключенного ими перемирия, неожиданно перешел в наступление от Житомира и, не встретив надлежащего отпора, овладел Киевом.
Трое суток на улицах города происходили бои, после чего противник был отброшен обратно за реку Ирпень. Между тем левобережные части киевских войск после ряда боев очистили от большевиков весь левый берег Десны и разбили противника, наступавшего на Чернигов. Но к концу октября новое наступление по всему фронту 12-й советской армии заставило нас отдать Чернигов и Макошинскую переправу[153], а 5 ноября большевики заняли Бахмач, что составило уже прямую угрозу левому флангу Добровольческой армии.
Еще хуже складывалась обстановка в тылу. После весеннего разгрома, понесенного Махно, он бежал с небольшим конным отрядом в район Александровска. Там вокруг него собрались спасшиеся за Днепром его мелкие отряды, присоединилась часть повстанцев Григорьева и красноармейцев разбитой советской крымской группы.
Теснимый с востока нашими частями, Махно подвигался в глубь Малороссии; в августе, задержавшись в районе Елисаветграда — Вознесенска, он был снова разбит правым крылом генерала Шиллинга и к началу сентября, продолжая уходить к западу, подошел к Умани, где попал в полное окружение: с севера и запада — петлюровцы, с юга и востока — части генерала Слащова…
Махно вступил в переговоры с петлюровским штабом, и обе стороны заключили соглашение: взаимный нейтралитет, передача раненых махновцев на попечение Петлюры и снабжение Махно боевыми припасами. Доверия к петлюровцам у Махно, однако, не было никакого, к тому же повстанцев тянуло неудержимо к родным местам… И Махно решился на смелый шаг: 12 сентября он неожиданно поднял свои банды и, разбив и отбросив два полка генерала Слащова, двинулся на восток, обратно к Днепру. Движение это совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной: 13-го — Умань, 22-го — Днепр, где, сбив слабые наши части, наскоро брошенные для прикрытия переправ, Махно перешел через Кичкасский мост, и 24-го он появился в Гуляй-Поле, пройдя за 11 дней около 600 верст.
В ближайшие две недели восстание распространилось на обширной территории между нижним Днепром и Азовским морем. Сколько сил было в распоряжении Махно, не знал никто, даже он сам. Их определяли и в 10, и в 40 тысяч. Отдельные банды создавались и распылялись, вступали в организационную связь со штабом Махно и действовали самостоятельно. Но в результате в начале октября в руках повстанцев оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, и Мариуполь — в 100 верстах от Ставки (Таганрога). Повстанцы подходили к Синельникову и угрожали Волновахе — нашей артиллерийской базе… Случайные части — местные гарнизоны, запасные батальоны, отряды Государственной стражи, выставленные первоначально против Махно, легко разбивались крупными его бандами.
Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Для подавления восстания пришлось, невзирая на серьезное положение фронта, снимать с него части и использовать все резервы. В районе Волновахи сосредоточены были Терская и Чеченская дивизии и бригада донцов. Общее командование над этими силами[154] поручено было генералу Ревишину, который 13 октября перешел в наступление на всем фронте. Наши войска в течение месяца наносили один удар за другим махновским бандам, которые несли огромные потери и вновь пополнялись, распылялись и воскресали, но все же катились неизменно к Днепру. Здесь у Никопольской и Кичкасской переправ, куда стекались волны повстанцев в надежде прорваться на правый берег, они тысячами находили смерть…
К 10 ноября весь левый берег нижнего Днепра был очищен от повстанцев.
Но в то время, когда наши войска начинали еще наступление, Махно с большой бандой, перейдя Днепр, бросился к Екатеринославу и взял его… С 14 по 25 октября злополучный город трижды переходил из рук в руки, оставшись в конце концов за Махно.
Между тем успех на фронте войск Новороссии дал мне возможность выделить из их состава корпус генерала Слащова[155], который к 6 октября начал наступление против Екатеринослава с юга и запада от Знаменки и Николаева. Совместными действиями право- и левобережных войск Екатеринослав был взят 25 ноября, и контратаки Махно, врывавшегося еще трижды в город, неизменно отбивались.
Переправы через нижний Днепр были закрыты, и тыл центральной группы наших армий, таким образом, до известной степени обеспечен. Но затяжные бои с Махно в Екатеринославской губернии продолжались еще до середины декабря, то есть до начала общего отступления нашего за Дон и в Крым.
Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время.
Как бы ни были серьезны события, разыгравшиеся на левом фланге и в тылу центральной группы армий, не они определяли грозность общего стратегического положения. С начала октября стало ясным, что центр тяжести всей операции перенесен на воронежское и харьковское направления… Только разбив ударную группу 8-й армии и корпус Буденного, мы приобретали вновь инициативу действий, возможность маневра и широкого наступления. Для этого необходимо было собрать сильный кулак, что по условиям обстановки можно было сделать лишь за счет Донской и Кавказской армий.
Попытки образования конной ударной группы на воронежском направлении, отражая сложные воздействия стратегии, политики, психологии и личных взаимоотношений, служат весьма образным показателем тех условий, в которых протекала деятельность Ставки.
Начиная с 1919 года все мои директивы[156] требовали от Донской армии растяжки фронта и сосредоточения сильной группы к левому флангу на воронежском направлении. Это стремление разбивалось о пассивное сопротивление донского командования, и донской фронт представлял линию, наиболее сильную в центре — на Хопре, где сосредоточена была половина всей донской конницы[157], и слабую — в лискинском районе[158], почти исключительно пехотного состава[159]. Это развертывание отвечало стремлению удержать и прикрыть возможно большую часть Донской области, но в корне расходилось с планом операции. По-видимому, на стратегию донца Сидорина и российского профессора Кельчевского производила сильнейший нажим психология донской казачьей массы, тяготевшей к родным хатам…
В ударную группу Дон выделил полуразвалившийся после тамбовского набега 4-й корпус генерала Мамонтова, насчитывавший к 5 октября 3.5 тысяч сабель[160]. После настойчивых требований Ставки к середине ноября донское командование включило в ударную группу пластунскую бригаду (пехотную) — 1500 штыков, кавалерийскую, не казачью дивизию — 700 сабель и направило в 4-й корпус пополнения. Не донские направления общего театра войны представлялись чем-то самодовлеющим. Генерал Сидорин считал и такое ослабление чисто донского фронта чрезмерным, выражая опасение, что «при дальнейшем нажиме противника армия не будет в состоянии удержаться на берегу Дона».
Не менее сложно обстояло дело на фронте Кавказской армии. Нанеся в начале октября под Царицыном сильный удар и северной и южной группам противника, генерал Врангель доносил, что достигнут этот успех «ценою полного обескровления армии и последним напряжением моральных сил тех начальников, которые еще не выбыли из строя». Но обстановка складывалась грозно и требовала нового чрезвычайного напряжения и новых жертв от всех армий. И начальник штаба генерал Романовский 16 октября запросил генерала Врангеля, какие силы он может выделить в ударную группу в центр… «или же Кавказская армия могла бы немедленно начать активную операцию, дабы общим движением сократить фронт Донской армии и дать ей возможность вести операцию на северо-запад». Генерал Врангель ответил, что развитие операции Кавказской армии на север невыполнимо «при отсутствии железных дорог и необеспеченности водной коммуникации». Что касается переброски, то «при малочисленности конных дивизий переброска одной, двух… не изменит общей обстановки, и не разбитый, хотя бы и приостановленный противник, оттеснив донцов за Дон, будет иметь возможность обрушиться на ослабленную выделением частей Кавказскую армию…». Барон Врангель предлагал «крупное решение»: взять из состава Кавказской армии четыре дивизии (при этом условии он не предполагал оставаться во главе ее) и, сведя остающиеся силы в отдельный корпус, поручить его генералу Покровскому.
Картина состояния Кавказской армии, нарисованная генералом Врангелем, была угнетающей, а потеря Царицына в то время, когда центр армии находился еще впереди Харькова, чреватой тяжелыми последствиями. Поэтому я счел возможным взять из Кавказской армии только 2-й Кубанский корпус[161].
И когда через некоторое время генерал Врангель принял Добровольческую армию и из Кавказской взята была еще одна дивизия, заместитель его генерал Покровский телеграфировал барону: «С переброской трех четвертей всей конницы армии и отнятием боевых пополнений, направляемых с Кубани только вам… обессиливание Кавказской армии перешло уже все пределы…»
Между тем в начале ноября ударная группа Буденного, отбросив конницу Шкуро, взяла Касторную, выйдя в тыл нашей пехоте. Под ударами 13-й, 14-й советских армий и группы Буденного Добровольческая армия, неся большие потери, особенно на своем правом фланге, с упорством отстаивая каждый рубеж, медленно отходила на юг.
К середине ноября мы потеряли Курск, и фронт Добровольческой армии проходил через Сумы — Лебедянь — Белгород — Новый Оскол, дойдя приблизительно до параллели донского фронта (Лиски). В ближайшем тылу ее, в губерниях Харьковской, Полтавской, разрастались восстания; банды повстанцев все более наглели, и для усмирения их требовалось выделение все новых и новых сил. Донская армия была прикована к своему фронту и не могла развить широкого наступления: левый фланг ее был отброшен от Лисок, центр и правый удерживались еще на Хопре и Доне.
Конная группа Шкуро, потом Мамонтова[162], действовавшая в стыке между Добровольческой армией и Донской, не могла противостоять большевистской ударной группе — по малочисленности своей, разрозненным действиям и внутренним недугам: кубанцы жаловались на развал и утечку в донском корпусе, донцы говорили то же о кубанцах…
Ко второй половине ноября в район Волчанск — Валуйки путем большого напряжения сосредоточены были подкрепления, которые вместе с основным ядром мамонтовской группы составили отряд силою в 7 тысяч сабель, 3 тысячи штыков и 58 орудий, снабженный танками, бронепоездами и авиационными средствами[163].
На него возлагались большие надежды…
Вместе с тем последние подкрепления с Северного Кавказа и с сочинского фронта двинуты были на север.
В начале ноября, будучи в Ставке, генерал Врангель предложил образовать из собиравшейся группы отдельную конную армию с ним во главе, перебросив для управления ею штаб Кавказской армии. Незначительность сил группы не оправдывала необходимости расстройства существовавших соединений и создания нового штаба для царицынского направления; отсутствие третьей меридиальной железной дороги не давало возможности вклинить новую армию между Добровольческой и Донской. Принимая во внимание обнаружившиеся недочеты генерала Май-Маевского и желая использовать кавалерийские способности генерала Врангеля, я решил упростить вопрос, назначив его командующим Добровольческой армией, со включением в нее конной группы Мамонтова.
Май-Маевский был уволен.
До поступления его в Добровольческую армию я знал его очень мало. После Харькова до меня доходили слухи о странном поведении Май-Маевского, и мне два, три раза приходилось делать ему серьезные внушения. Но теперь только, после его отставки, открылось для меня многое: со всех сторон, от гражданского сыска, от случайных свидетелей, посыпались доклады, рассказы о том, как этот храбрейший солдат и несчастный человек, страдавший недугом запоя, боровшийся, но не поборовший его, ронял престиж власти и выпускал из рук вожжи управления. Рассказы, которые повергли меня в глубокое смущение и скорбь.
Когда я впоследствии обратился с упреком к одному из ближайших помощников Май-Маевского, почему он, видя, что происходит, не поставил меня в известность об этом во имя дела и связывавшего нас боевого содружества, он ответил:
— Вы могли бы подумать, что я подкапываюсь под командующего, чтобы самому сесть на его место.
Май-Маевский прожил в нищете и забвении еще несколько месяцев и умер от разрыва сердца в тот момент, когда последние корабли с остатками Белой армии покидали Севастопольский рейд.
Личность Май-Маевского перейдет в историю с суровым осуждением…
Не отрицаю и не оправдываю…
Но считаю долгом засвидетельствовать, что в активе его имеется тем не менее блестящая страница сражений в каменноугольном районе, что он довел армию по Киева, Орла и Воронежа, что сам по себе факт отступления Добровольческой армии от Орла до Харькова при тогдашнем соотношении сил и общей обстановке не может быть поставлен в вину ни армии, ни командующему. Бог ему судья!
Глава XII. Отступление армий Юга на Одессу и Крым, за Дон и Сал
К концу ноября обстановка на противобольшевистском театре Вооруженных сил Юга была такова.
На западе, в Киевской области, войска наши удерживались на Ирпени и у Фастова; левое крыло 12-й советской армии, прервав связь между киевскими войсками и Добровольческой армией, подвигалось с боями по левому берегу Днепра к самому Киеву, одновременно угрожая Черкассам и Кременчугу.
В центре, отдав Полтаву и Харьков, Добровольческая армия вела бои на линии от Днепра на Константиноград — Змиев — Купянск; далее шел фронт Донской армии, отброшенный от Павловска и от Хопра к Богучарам и за Дон, главным образом, благодаря конному корпусу Думенко, вышедшему в разрез между 1-м и 2-м Донскими корпусами. Между Добровольческой и Донской армиями образовался глубокий клин к Старобельску, в который прорывалась конница Буденного[164].
На востоке в начале ноября 10-я советская армия перешла вновь в наступление на Царицын, но была отброшена Кавказской армией с большими потерями. В середине ноября, ввиду начавшегося ледохода, наши заволжские части были переведены на правый берег, и вся армия стянута к Царицынской укрепленной позиции. С тех пор многострадальный город подвергался почти ежедневно артиллерийскому обстрелу с левого берега, а части 10-й и 11-й советских армий вели на него демонстративное наступление с севера и юга, успешно отбиваемое Кавказской армией.
Общая идея дальнейшей операции ВСЮР заключалась в том, чтобы обеспечить фланги (Киев, Царицын), прикрываясь Днепром и Доном и перейдя на всем фронте к обороне, правым крылом Добровольческой и левым Донской армий нанести удар группе красных, прорывающихся в направлении Воронеж — Ростов[165].
Новое назначение генерала Врангеля внесло много осложнений и атмосферу внутреннего разлада, особенно тягостную в обстановке потрясений, переживаемых тогда армиями и мной.
Прежде всего последовал рапорт с изложением «пренебрежения (нами) основных принципов военного искусства» в прошлом и преимущества стратегических предположений генерала Врангеля. И этот рапорт был также сообщен им старшим начальникам… Новый командующий нарисовал удручающую картину наследия, полученного им от генерала Май-Маевского: систему «самоснабжения», обратившую «войну в средство наживы, а довольствие местными средствами — в грабеж и спекуляцию…». Развращенные этой системой и «примером некоторых из старших начальников» войска… Громадные «тылы», запрудившие все пути… Хаотическая эвакуация, осложненная нахлынувшей волной беженцев… И как вывод: «Армии, как боевой силы, нет!»
Велики и многообразны были прегрешения Добровольческой армии, но отнюдь, конечно, не большие, чем киевской, новороссийской, Донской и той, которой командовал барон Врангель, — Кавказской. Но так как про вины других никто из их начальников не говорил так громко, в общественном сознании могла получиться известная психологическая аберрация… Мне не хотелось бы сравнивать степень греховности… К сожалению, все армии грешили и всем есть в чем покаяться.
Но глубоко ошибочен был вывод. Армия, которая под ударами почти втрое превосходившего ее силами противника в течение двух месяцев на расстоянии 400 верст — от Орла до Харькова, потеряв в кровавых боях до 50 процентов своего состава, могла еще противостоять напору противника, маневрировать, отражать атаки, сама с успехом атаковать — такая армия не умерла.
Сквозь внешнюю неприглядную обстановку, под наносным слоем пыли и грязи жив был тот дух неумирающий, который горел в ней во времена Первого и Второго походов, который выводил горсть храбрецов из сплошного большевистского кольца, бросал их, почти безоружных, на бронированные поезда и давал им победу в столкновении с противником, во много раз сильнейшим…
Ближайшие недели борьбы за Доном и вся последующая история армии показали, что дух этот не угасал.
С первых же дней обнаружились и новые стратегические расхождения. Генерал Врангель считал, что обстановка на правом фланге понудит его оторваться от Донской армии и отходить в Крым. Ссылаясь на неизбежность в этом случае порыва связи со Ставкой[166], он просил о назначении общего начальника над армиями Киевщины, Новороссии и Добровольческой. Я ответил генералу Врангелю, что не допускаю и мысли об отходе в Крым. И, если удержаться нельзя будет, отступать можно только на Ростов в связи с Донской армией, каких бы жертв это ни стоило[167]. По этому поводу дважды еще запрашивал Ставку по телеграфу начальник штаба Добровольческой армии генерал Шатилов. В то же время общая линия фронта, группировка войск и направление подкреплений не давали уверенности в твердом стремлении командующего обеспечить ростовское направление. Это обстоятельство возбудило тревогу во мне и в особенности в донском командовании и заставило принять особые меры к предотвращению большого несчастья: уход Добровольческой армии в Крым вызвал бы неминуемое и немедленное падение донского и всего казачьего фронта, что обрекало бы на страшные бедствия, быть может, на гибель десятки тысяч больных, раненых воинов[168] и семейств военнослужащих, в особенности добровольческих, рассеянных по территории Дона и Северного Кавказа. Никакие стратегические соображения не могли бы оправдать в глазах казачества этого шага, и казаки отнеслись бы к нему, как к предательству с нашей стороны.
Надежды на нашу конную группу не оправдались.
Перед отъездом в армию в Таганроге генерал Врангель заявил мне, что он не потерпит присутствия в ней генералов Шкуро и Мамонтова, как главных виновников расстройства конных корпусов. Генерал Шкуро находился тогда на Кубани в отпуску по болезни, что касается Мамонтова, я предостерегал от резких мер по отношению к лицу, как бы то ни было, пользующемуся на Дону большой популярностью.
По прибытии в армию генерал Врангель назначил начальником конной группы достойнейшего и доблестного кубанского генерала Улагая. И хотя отряд этот был временный и назначение начальника его, всецело зависевшее от командующего армией, не могло считаться местничеством, оно вызвало крупный инцидент, Мамонтов обиделся и телеграфировал по всем инстанциям: «…учитывая боевой состав конной группы, я нахожу не соответствующим достоинству Донской армии и обидным для себя заменение, как командующего конной группой, без видимых причин лицом, не принадлежащим к составу Донской армии и младшим меня по службе. На основании изложенного считаю далее невозможным оставаться на должности командира 4-го Донского корпуса». Копии этой телеграммы Мамонтов разослал всем своим полкам, а на другой день, самовольно покидая корпус, не без злорадства сообщал, как полки под давлением противника панически бежали.
Этот неслыханный поступок не встретил, однако, осуждения на Дону. Я отдал приказ об отрешении Мамонтова от командования и встретил неожиданную оппозицию со стороны донского атамана и генерала Сидорина. Они указывали, что, помимо крайне неблагоприятного впечатления, произведенного удалением Мамонтова на Донскую армию, 4-й корпус весь разбегается и собрать его может только один Мамонтов. Действительно, когда корпус был передан обратно в Донскую армию, Мамонтов вступил вновь в командование им, собрал значительное число сабель, и впоследствии за Доном корпус этот нанес несколько сильных ударов коннице Буденного.
Успехи эти не могли изменить общего положения и не компенсировали тяжкого урона, нанесенного дисциплине…
Не лучше было и в других частях конной группы. Внутренние недуги и боевые неудачи угасили дух и внесли разложение. И генерал Улагай 11 декабря доносил о полной небоеспособности своего отряда: «…Донские части, хотя и большого состава, но совсем не желают и не могут выдерживать самого легкого нажима противника… Кубанских и терских частей совершенно нет… Артиллерии почти нет, пулеметов тоже[169]…»
Дезертирство кубанцев приняло массовый характер. Вместо того чтобы попытаться собрать части где-нибудь в армейском тылу, генерал Врангель отдал самовольно приказ об отводе «кадров» кубанских дивизий на Кубань для формирования, и эта мера вызвала новые тяжелые осложнения. Уклонявшиеся от боя казаки и дезертиры, которых раньше все-таки смущали совесть и некоторый страх, перешли на легальное положение. Их оказалось много, очень много: за Дон, домой, потекли довольно внушительного состава полки, на хороших конях, вызывая недоумение и озлобление в донцах, в подходящих подкреплениях и соблазн в кубанских дивизиях, еще остававшихся на фронте.
Дома они окончательно разложились.
Помимо всех прочих условий, большое влияние на неуспех конной группы имело то обстоятельство, что донская конница за все время отступательной операции, охотно атакуя неприятельскую пехоту, решительно избегала вступать в бой с конницей. По свидетельству полковника Добрынина[170], «донское командование пыталось понудить (ее) к активности, но ничего сделать не могло, так как она не исполняла приказов об атаке конницы противника».
С распадением конной группы положение Добровольческой армии становилось еще более тяжелым, и ей в дальнейшем приходилось совершать труднейший фланговый марш под ударами справа всей советской 1-й Конной армии.
После ряда резких выступлений по моему адресу я был удивлен, получив 11 декабря от барона Врангеля частное письмо следующего содержания:
«В настоящую грозную минуту, когда боевое счастье изменило нам и обрушившаяся на нас волна красной нечисти готовится, быть может, поглотить тот корабль, который Вы, как кормчий, вели сквозь бури и непогоды, я, как один из тех, что шел за Вами почти с начала на этом корабле, я нравственно считаю себя обязанным сказать Вам, что сердцем и мыслями горячо чувствую, насколько сильно должны Вы переживать настоящее испытание судьбы.
Если Вам может быть хоть малым утешением сознание, что те, кто пошел за Вами, с Вами вместе переживают и радости и горести, то прошу Вас верить, что сердцем и мыслями я ныне с Вами и рад всеми силами Вам помочь».
Я поверил этим словам, был тронут ими и ответил, что душевный порыв этот нашел во мне самый искренний отклик.
Между тем к 11 декабря под непрекращавшимся напором противника фронт центральных армий между Доном и Днепром отодвинулся еще далее на юг, до линии станица Вешенская — Славяносербск — Изюм; центр Добровольческой армии удерживался на среднем Донце, тогда как левый фланг, испытывавший меньшее давление, оставался у Константинограда. В тот же день командующий Добровольческой армией признал дальнейшее сопротивление в Донецком бассейне невозможным и вошел с рапортом об отводе центральной группы за Дон и Сал, оставив за нами лишь плацдарм по линии Новочеркасск — Таганрог. Вместе с тем генерал Врангель считал необходимым «подготовить все, дабы в случае неудачи… сохранить кадры армии и часть технических средств, для чего ныне же войти в соглашение с союзниками о перевозке в случае надобности армии в иностранные пределы…».
От командования Добровольческой армией барон Врангель отказывался, предлагая свернуть ее, ввиду малочисленности, в корпус. Прибывший в Таганрог по поручению барона генерал Науменко изложил его пожелание: предоставить ему, генералу Врангелю, формирование на Кубани трех конных корпусов, которые с придачей Терского корпуса, части донской и добровольческой конницы составили бы в будущем конную армию под его начальством[171].
Под влиянием частного письма генерала Врангеля, о котором я перед этим упоминал, желая верить в его лояльность, я согласился с этим предложением, тем более что оно давало мне возможность без возбуждения обид и страстей вручить судьбу добровольцев тому, кто верил в них, хотел и мог вести их дальше. Хотя и дорогой ценой: временно уходило из официального обихода наименование «Добровольческая армия», сохранявшееся по традиции и тогда, когда «армия» в боевом составе своем насчитывала не более 1.5 тысячи бойцов (31 марта 1918 г.)…
Я почувствовал это особенно тягостно при ближайшей встрече в Таганроге с генералом Врангелем, который говорил:
— Добровольческая армия дискредитировала себя грабежами и насилиями. Здесь все потеряно. Идти второй раз по тем же путям и под добровольческим флагом нельзя. Нужен какой-то другой флаг.
И, не дожидаясь моего вопроса, он спешно прибавил:
— Только не монархический…
О каком флаге он говорил, так и осталось тогда невыясненным.
Мы условились, что после оттяжки фронта армия будет свернута и генерал Врангель уедет на Кубань. Командующим Добровольческим корпусом, получившим позже наименование «Отдельного Добровольческого корпуса», был назначен старший доброволец генерал Кутепов, который со своими славными войсками вынес главную тяжесть отступления.
Итак, 10-го числа барон Врангель писал мне о своей лояльности, а на другой день произошел эпизод, рассказанный впоследствии генералом Сидориным…
11 декабря на станции Ясиноватой в штабе Добровольческой армии состоялось свидание генералов Врангеля и Сидорина[172], на котором барон, жестоко критикуя стратегию и политику Ставки, поднял вопрос о свержении главнокомандующего. Для решения этого и других сопряженных с ним вопросов генерал Врангель предполагал в один из ближайших дней созвать совещание трех командующих армиями (Врангель, Сидорин, Покровский) в Ростове. Действительно, это было сделано им в ближайшие дни телеграммой, в копии препровожденной в Ставку. Барон Врангель объяснял потом этот шаг «необходимостью выяснить целый ряд вопросов: мобилизация населения и коней в Таганрогском округе, разворачивание некоторых кубанских частей и так далее»[173].
Оставляя в стороне вопрос о внутренних побуждениях, которыми руководствовался барон Врангель, самый факт созыва командующих армий без разрешения главнокомандующего являлся беспримерным нарушением военных традиций и военной дисциплины.
Я указал командующим на недопустимость такого образа действий и воспретил съезд.
К середине декабря стратегическое положение Вооруженных сил Юга было таково.
К 3 декабря войска Киевской области под напором 12-й советской армии оставили левый берег Днепра и Киев. Ввиду общности с того времени задач войск киевских и новороссийских командование ими было объединено в руках генерала Шиллинга. Общая обстановка заставила меня отказаться от наступательных действий на этом театре и возложить на генерала Шиллинга лишь прикрытие Новороссии и Крыма, с тем чтобы главные силы направить спешно в район Екатеринослава для быстрой ликвидации банд Махно, по-прежнему сковывавших корпус Слащова, и для дальнейших действий во фланг и тыл противника, наступающего против Добровольческой армии[174].
Во исполнение этой директивы войска Шиллинга, ведя постоянные бои с повстанческими бандами и 12-й советской армией, нанеся последней сильный удар у Черкасс, отошли постепенно на линию Вапнярка — Бобринская (против Черкасс) и далее по Днепру, осадив лишь несколько у Кременчуга.
У Царицына установилось известное равновесие: и Кавказская и советские армии делали попытки частных наступлений, не имевшие серьезных результатов.
Добровольческая и Донская армии, продолжая отступление, отошли на линию Екатеринослав — Дебальцево — Каменская и далее в направлении к устью Хопра. Дон на всем участке между Хопром и Иловлей был перейден большевиками, выходившими в тыл центральной группе, а последняя продвинулась уже к Ростову на 200 и к Новочеркасску на 140 верст. Терялась всякая связь между Донской и Кавказской армиями.
Эти обстоятельства заставили меня принять более сосредоточенное расположение, оттянув войска с царицынского фронта. Директива от 15 декабря ставила войскам задачи: Кавказской армии отойти за линию реки Сал для прикрытия ставропольского и тихорецкого направлений; Донской и Добровольческой — стать между реками Миусом и Северным Донцом[175], прикрывая Ростов и Новочеркасск; войскам генерала Шиллинга при выполнении прежней задачи главное внимание указывалось обратить на прикрытие Крыма и Северной Таврии.
Задержка армий была необходима тем более, что не была еще закончена переброска к Ростову подкреплений и не эвакуированы армейские тылы, Таганрог, Ростов, Новочеркасск.
В ближайший плацдарм Ростова и Новочеркасска под начальством генерала Топоркова сосредоточивался мой резерв (1.5 конных дивизии, пластунская бригада и две офицерские школы). На этой позиции в случае надобности я предполагал дать решительный отпор противнику.
Указанная выше линия не была удержана. Инерция отступательного движения, в силу многообразных причин, преимущественно морального характера, влекла войска к естественному рубежу, каким являлся Дон. И к 23–24 декабря, вначале с боями, потом оторвавшись от противника, Добровольческая и Донская армии отошли в Ростово-Новочеркасский плацдарм.
Сосредоточив центральную группу на фронте не более 80 верст, я считал и необходимым и возможным даже для ослабленных наших войск дать здесь сражение. Тем более что к тому времени обозначились явно переутомление и расстройство неприятельских армий.
20 декабря ввиду объединения фронта генералу Сидорину подчинен был в оперативном отношении и Добровольческий корпус генерала Кутепова[176]. Генерал Сидорин развернул войска, прикрыв Ростов добровольцами, Новочеркасск — донцами и в центре на уступе поставив конные корпуса Топоркова и Мамонтова.
К 25-му противник подтянул главные силы к нашему расположению, бои продолжались два дня, являя переменчивую картину доблести и смятения, твердого выполнения долга и неповиновения, и окончились неудачей. В тот же день, 25-го, Донской корпус, прикрывавший Новочеркасск, под давлением конницы Думенко сдал город и отхлынул к Дону…
В центре конница генералов Мамонтова и Топоркова атаковала и разбила 1.5 неприятельских дивизии, взяв пленных и орудия, но после этого, не использовав успеха, Мамонтов отвел корпус в исходное положение… 26-го конница Буденного почти уничтожила Терскую пластунскую бригаду, поставленную в центре добровольцев, и опрокинула конницу Топоркова, а в то же время Мамонтов, невзирая на повторное приказание атаковать противника, посланное ему непосредственно мною через штаб Корниловской дивизии, бросил фронт и спешно уходил через Аксай на левый берег Дона, «опасаясь оттепели и порчи переправ…».
На остальном фронте Добровольческого корпуса весь день шел жестокий бой, причем все атаки противника неизменно отбивались; отбита была и ворвавшаяся в прорыв позиций терцев неприятельская конница. Левое крыло наше (дроздовцы и конница Барбовича) переходило в наступление, отбросив большевиков и преследуя их на 7 верст. Но со стороны Новочеркасска выходили уже в тыл колонны неприятеля. И когда дроздовцы и корниловцы, отступая по приказу, проходили через Ростов и Нахичевань, города эти были уже в руках противника; после тяжелого, упорного боя эти дивизии пробились на левый берег Дона…
27-го на левом берегу находилась уже вся армия. Ставка была переведена на станцию Тихорецкую. Наступила оттепель, переправа по льду становилась ненадежной. Советские армии сделали несколько попыток на плечах отступающих форсировать Дон, но были отражены с большим уроном.
К этому времени на востоке Кавказская армия совершала свой отход от Царицына под давлением неотступно следовавшей за ней 10-й советской армии, и к 4 января 1920 года сосредоточилась за Салом.
На западе генерал Шиллинг во исполнение своей задачи двинул корпус генерала Слащова из Екатеринослава вниз по Днепру для непосредственного прикрытия Северной Таврии; корпус генерала Промтова и бывшие киевские войска под начальством генерала Бредова — Шиллинг развернул на линии Бирзула — Долинская — Никополь (исключительно), тогда как Слащов, перебросив свои тылы в Крым, стал между Днепром и Азовским морем на высоте Мелитополя. В этих районах в течение второй половины декабря войска генерала Шиллинга вели бои против частей 12-й, 13-й и 14-й советских армий, Махно и повстанческих банд, наводнявших Новороссию.
Кончился 1919 год.
Год, отмеченный для нас блестящими победами и величайшими испытаниями… Кончился цикл стратегических операций, поднявших линию нашего фронта до Орла и опустивших ее к Дону… Подвиг, самоотвержение, кровь павших и живых, военная слава частей — все светлые стороны вооруженной борьбы поблекнут отныне под мертвящей печатью неудачи.
* * *
Трехмесячное отступление, крайняя усталость, поредение армий, развал тыла, картины хаотических эвакуаций произвели ошеломляющее впечатление на общественность, отозвались болезненно на состоянии духа ее и армии и создали благоприятную почву для пессимистических настроений и панических слухов. Появились люди, которые «все предвидели» и «все предсказывали»… Люди экспансивные и неуравновешенные, с невыдержавшими нервами, которые впадали в глубочайшую безнадежность, считали, что сопротивление сломлено и борьба проиграна. И это падение воли к борьбе — иногда в прямой открытой форме, иногда под маской гуманитарных соображений или стратегических предосторожностей — тонким ядом проникало в диспуты представительных и политических организаций, в доклады некоторых военных начальников.
Я употреблял все усилия, чтобы побороть инерцию отступательного движения, видя в затяжке операций одно из действенных средств подорвать силы противника. Поход в несколько сот верст и непрестанные кровавые бои не могли не ослабить его и морально, и физически, не могли не расстроить его сообщений. И я, и генерал Романовский считали, что и в каменноугольном районе, и на Донском плацдарме мы могли бы удержать противника, что, невзирая на неравенство сил, взаимоотношение их ценности таково, что достаточно было одного сильного удара, одного крупного успеха, чтобы перевернуть вверх дном всю стратегическую ситуацию и поменяться ролями с противником, подобно тому, как это было в мае в каменноугольном бассейне…
Люди, потерявшие равновесие, осуждали Ставку за такой «оптимизм». Между тем он покоился не только на интуитивном чувстве, но и на реальных данных. То, что открылось впоследствии, превзошло значительно наши тогдашние «оптимистические» предположения. Советские источники приоткрывают нам картину того тяжелого, почти катастрофического положения, в котором победители докатились до Дона. Страшнейшая эпидемия тифа, большие потери и дезертирство выкосили их ряды… У нас был хаос в тылу, но у них вовсе не было никакого тыла. «Железные дороги, — говорит советский официоз, — совершенно разрушенные противником (нами), стали. Между Красной армией и центром образовалась пропасть в 400 верст, через которую ни подвезти пополнения, ни произвести эвакуацию, ни организовать санитарную помощь было невозможно…»[177]. Красные войска, предоставленные самим себе, жили исключительно местными средствами — реквизициями и повальным грабежом. Советская приказная литература постоянно отмечала эту эпидемию насилий и грабежей. И если верхи для сохранения лица приписывали эти «печальные факты» влиянию «темных элементов, примазавшихся к армии, уголовных преступников и переодетых офицеров деникинской армии»[178], то низы были откровеннее: «Что мы сделали?.. Нас встречали, как освободителей, с хлебом-солью, но мы в пьяном виде делали насилие и грабеж, что на почве сего у нас в тылу за наши деланные разные незаконные проделки восставали против нас…»[179].
Если у нас в тылу бушевали повстанчество и бандитизм, то и линия наступающего советского фронта не смела повстанцев, а только перекинулась через них, и они работали теперь в тылу советских армий. Тот же Махно, который ранее приковывал к себе 1.5 наших корпуса, в конце декабря перейдя в гуляй-польский район, вклинился между частями 14-й советской армии, наступавшей на Крым. Советское командование предписало Махно перейти с его армией на польский фронт. Ввиду отказа Махно он и его армия Всеукраинским ревкомом объявлены были вне закона. С середины января 1920 года началась поэтому упорная и жестокая борьба Махно с советскими войсками, длившаяся до октября[180].
Эти обстоятельства содействовали обороне Крыма Слащовым.
Пехота противника была деморализована и «выдохлась» совершенно, и только конница Буденного и Думенко, состоявшая, главным образом, из донских и кубанским казаков, рвавшихся в родные места, не потеряла боеспособности и активности.
К началу января 1920 года Вооруженные силы Юга насчитывали в своих рядах 81 тысячу штыков и сабель при 522 орудиях. Из них на главном театре — по Дону и Салу — было сосредоточено 54 тысячи (Донская армия — 37 тысяч. Добровольческий Корпус — 19 тысяч и Кавказская армия — 7 тысяч.) и 289 орудий[181].
Донское войско: штыков — 18622, сабель — 19140, орудий — 154
Добровольческие части(на Дону, в Новороссии, Крыму, в Кавказской армии, на Северном Кавказе и на побережье): штыков — 25297, сабель — 5505, орудий — 312
Кубанское войско: штыков — 5849, сабель — 2468, орудий — 36
Терское войско: штыков — 1185, сабель — 1930, орудий — 7
Горские части: штыков — 490, сабель — 552, орудий — 8
Астраханские войска: штыков — нет, сабель — 468, орудий — 5
Всего: штыков — 51443, сабель — 30063, орудий — 522
(В оригинале — таблица. Прим. составителя fb-книги)
Настроение этой массы было неодинаково. В Добровольческом корпусе, невзирая на все пережитое, сохранились дисциплина и боеспособность, активность и готовность продолжать борьбу. Численно слабые[182], они были сильны духом. Я видел войска под Батайском и Азовом и беседовал с офицерами. Этот вечер в полутемном здании, в Азове, оставил во мне неизгладимое впечатление, напомнив живо другой такой же вечер и беседу — 18 октября 1918 года в станице Рождественской в дни тяжелого кризиса под Ставрополем. Так же, как и тогда, я не увидел ни уныния, ни разочарования. Так же, как тогда, измотанные, истомленные, оглушенные событиями, люди «жадно ловили всякий намек на улучшение общего положения и интересовались только тем, что облегчало нам дальнейшую борьбу».
В Донской армии последние два месяца было неблагополучно. Не только рядовым казачеством, но и частью командного состава был потерян дух. «В середине декабря, — говорит полковник Добрынин, — это определилось настолько ясно, что поступил (в штаб армии) ряд самых отчаянных донесений вплоть до советов о капитуляции; отчего, видимо, не прочь была и часть тыловых дельцов Новочеркасска»[183]. Генерал Сидорин, касаясь этого периода, говорил впоследствии[184]: «Был момент, когда командный состав подорвал свою душу, а это равносильно — подорвать армию…» Но периоды упадка в жизни Дона повторялись трижды, и казачество подымалось вновь. Так и теперь: отход за Дон и некоторая передышка вдвое увеличили силы Донской армии[185], успокоили несколько нервы, вернули самообладание. А первые успехи вернули и уверенность, и активность. Казачьи верхи — генералы Богаевский, Сидорин, Кельчевский, председатель Круга Харламов были тверды в своем решении продолжать борьбу.
Гораздо хуже обстояло дело на Кубани. С возвращением к власти в конце декабря самостийной группы процесс разложения области и кубанских войск пошел более быстрым темпом. И без того на фронте находилось ничтожное количество кубанских казаков — все остальные «формировались» или дезертировали. Но и оставшиеся выказывали признаки большого душевного разлада, вот-вот готового вылиться в полный развал.
Перед нашей задонской группой находился противник, ослабленный выделением 13-й и 14-й армий, которые ушли к западу против Украины и Крыма, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я и 1-я Конная армии располагались от Ростова до Астрахани. Войска эти образовали новый Кавказский фронт. Численность войск на главном театре составляла 50–55 тысяч, то есть столько же, сколько имели мы[186]. Командующий 8-й советской армией Ворошилов, стоявший на ростовском фронте, в докладе своем начальству так оценивал положение[187]: «Вследствие трудности похода, гигантской эпидемии тифа и потерь в боях части 8-й и соседних армий в численном составе дошли до минимума. К тому же старые бойцы заменены местными мобилизованными и пленными; пополнений нет… Противник, вопреки ложным донесениям увлекающихся товарищей, сохранил все кадры и артиллерию… Наше продвижение вперед без значительного пополнения и реорганизации может окончиться плачевно, так как в случае отхода будем иметь в тылу непроходимые, разлившиеся реки. Необходима радикальная переоценка всего положения на фронте, дабы избежать чрезвычайно тяжелых сюрпризов в близком будущем…»
Принимая во внимание известные тогда данные, я считал, что, если подымется кубанское казачество, успех наш будет скорый и окончательный. Если же нет, то положение наше станет весьма трудным, но далеко не безнадежным. Условия материального порядка для обеих сторон были более или менее одинаковы.
Победа довлела духу.
И войскам приказано было готовиться к наступлению.
Глава XIII. «Мы» и «они». Тыл. Традиции беззакония
Борьба Вооруженных сил Юга окончилась поражением. Это обстоятельство наложило свой мрачный колорит на восприятия и переживания, на мысль и память людей. И тех, что томились под властью большевиков и, пережив краткое время просвета, вернулись вновь во тьму советского застенка. И тех, что вместе с последним клочком родной земли потеряли все — Родину, семью, добро, весь смысл своего существования… Эти углубленные личными переживаниями картины прошлого — в рассказах, отчетах, мемуарах — вытесняют часто и те положительные стороны, которые были в истории Белого Юга.
«Народ встречал их с радостью, на коленях, а провожал с проклятиями…» Так формулируют часто приговор над белым прошлым.
С проклятиями!.. Не потому ли, что мы — побежденные — уходили, оставляя народ лицом к лицу с советской властью? Ведь следовавшие за нами большевики не вносили умиротворения; их правление было жестоким, их совдепы, чека и прочие институты не были гуманнее, справедливее «буржуазно-помещичьих губернаторов»; суды большевистские были беззаконны и бессмысленны; народу при большевиках не становилось ни легче, ни сытнее; наконец, Красная армия приносила гораздо более разорения, чем Белая…
Невзирая на все отрицательные стороны белого режима, разница его с отходившим советским была слишком наглядна и разительна. Прежде всего упразднялась система террора, и жизнь освобождалась от тяготевших над ней нестерпимого гнета, ужаса, неуверенности в завтрашнем дне, взаимной подозрительности. На смену тюремных оков, душивших мысль, совесть, всякое индивидуальное проявление личного и общественного, расходившееся со взглядами коммунистической партии, появлялась кипящая жизнь обществ, союзов, политических партий, профессиональных организаций[188].
Неизмеримо поднялась добыча в каменноугольном бассейне, и хотя очередной транспортный кризис парализовал в известной степени ее успехи, повлекши за собой одно время и топливный кризис, но «кладбище фабрик и заводов» оживало с каждым днем. Свобода торговли и общественная самодеятельность в хозяйственной области вызвали к жизни множество кооперативных товариществ, частью самостоятельных, частью объединенных в крупные союзы[189]. Городские и земские самоуправления жили почти исключительно на правительственные ассигнования; к осени начался переход от полуназначенных городских управлений к выборным, за немногими исключениями давший преобладание национально-демократическим элементам; в значительной степени устранялась правительственная опека над городским хозяйством.
Деревня испытывала общие тяготы и бедствия, сопряженные с гражданской войной. Обиды от проходящих войск, злоупотребления местных властей и «возвращающиеся помещичьи шарабаны» — факты бесспорные. Но тягость их все же ограничивалась и умерялась: во-первых, естественным путем — трудностью, зачастую невозможностью проникновения в деревню «шарабанов» вне фронтовой полосы и вне окрестностей крупных городов — с одной стороны, и обильным урожаем, посланным судьбою в 1919 году, — с другой; во-вторых, правительственными мероприятиями: запрещением самоуправного восстановления собственности, возмещением за незаконные реквизиции, ссудами, предоставленными сельским обществом на обсеменение и сбор хлеба, освобождением или отсрочкой по отбыванию воинской повинности хозяйственным одиночкам, нормированием и снижением арендной платы за землю и вообще рядом законодательных актов, подводивших некоторое юридическое обоснование под факт земельного захвата. Повсеместно переход к нам новых территорий вызывал в них резкое понижение стоимости хлеба и предметов первой необходимости.
Наконец, белый режим приносил свободу церкви, печати, внесословный суд и нормальную школу.
Все эти явления заглушались бездной наших нестроений и потонули в общей пучине того всеобъемлющего, всесокрушающего и всенивелирующего события, имя которому поражение. Когда пройдут сроки, отзвучат громы и переболеет сердце, бесстрастное перо историка остановится и на положительных сторонах государственного строительства Юга.
Распространяться об этом я не буду.
Вопрос об отношениях, создавшихся ко мне лично, принадлежит к области чисто субъективных восприятий и может быть освещен только извне. Скажу лишь, что успех или неудача прежде всего влияли на эти отношения и что напор шел и справа, и слева.
Я остановлюсь лишь несколько на крайних проявлениях общественного ко мне внимания в виде готовившихся на мою жизнь покушений…
О них органы сыска и контрразведки докладывали часто. Где там была правда, где заблуждение или вымысел, определить трудно. У меня лично не было никогда ощущения нависшей опасности. До лета 1919 года не было решительно никакой охраны, кроме почетного караула у дома, и я пользовался полной свободой передвижения. Затем под давлением общественных деятелей, вопреки моему запрещению, штаб установил секретную охрану, достаточно примитивную и только тяготившую меня. Простой прием — отъезд на автомобиле, а их было мало и не хватало для охранной службы — избавлял, впрочем, от этой тягостной опеки.
Розыскные органы сообщали о целом ряде готовившихся покушений со стороны большевиков, а с ноября 1919 года — и со стороны кубанских самостийников. Одна партия «террористов», направлявшаяся из Харькова в Таганрог, была обнаружена донской контрразведкой, и пятеро участников «боевого отряда» по приговору донского полевого суда были казнены. Но спустя некоторое время контрразведка Ставки получила сведения, что весь этот заговор явился якобы чистой провокацией и казнены были невинные… По этому весьма темному делу велось следствие, но результаты его до моего отъезда из России не были мне доложены.
Были сведения о командировке на Юг социал-революционера Блюмкина, убийцы Мирбаха, с поручением от большевиков…
На процессе правых социал-революционеров в Москве в 1922 году выяснились некоторые, лично меня касающиеся детали. Некто Семенов, оказавшийся провокатором, предложил ЦК партии «убрать обоих», то есть Колчака и Деникина, но получил отказ: «Колчак разогнал Учредительное собрание, расстрелял многих наших товарищей. Но Деникин еще Учредительного собрания не разгонял, его позиция не выявилась. Пока мы при нем имеем легальную возможность работать»[190].
Осенью 1919 года какой-то анонимный доброжелатель сообщал мне из Киева о боевой организации левых социал-революционеров, имевших задачей убить меня. Эти показания впоследствии совпали вполне с рассказом Каховской[191], находившейся в составе боевой дружины, которая, действительно, после убийства в Киеве Эйхгорна перебралась в Ростов, где довольно долго подготовляла покушение на меня. Не придавая тогда никакого значения письму, я его порвал, не передав в штаб. На это дело потрачено было социал-революционерами много времени и денег. Для реабилитации себя в неудаче не очень самоотверженные террористы ссылались на ряд встреченных ими совершенно непреодолимых трудностей, не раз анекдотического характера. Зачастую эс-эровская разведка, говорит Каховская, давала «сильно преувеличенные сведения»: «Деникин бывает в Ростове раз в неделю на заседании Верховного совета (очевидно, «Особое совещание». — Авт.). Каждый раз место заседаний меняется. С вокзала он едет загримированным, в закрытом автомобиле, причем всегда в ряду других, таких же автомобилей…»
По свидетельству той же Каховской, неудача постигла и боевые группы, посланные в Одессу и Харьков. При этом последняя, «растеряв по дороге взрывчатые вещества и оружие… бессильно смотрела в нескольких шагах на принимавшего парад Деникина».
Летом 1919 года появились сведения о готовящемся покушении со стороны крайних правых; в числе участников называли генерала Комиссарова, вероятно, и тогда уже состоявшего одновременно на службе и у большевиков. Некоторое время с этой стороны было тихо, и лишь в начале 1920 года в связи с усилившейся против меня кампанией в Севастополе «освящался нож», который должен был «устранить» меня. Желающего им воспользоваться, вероятно, не нашлось. Мне лично все эти рассказы казались следствием излишней впечатлительности осведомителей или бравадой заговорщиков. Тем более, что мои прогулки по улицам Екатеринодара, Новороссийска и Феодосии облегчали до крайности возможность убийства.
Оппозиция находила отклик и в недрах правительственных учреждений. В начале декабря 1919 года поступил доклад лица, занимавшего видное положение в «Осваге», о том, что якобы готовится убийство начальника штаба генерала Романовского и что центром организации является «бюро секретной информации» «Освага». Гражданской частью Государственной стражи произведено было по этому делу расследование, обыск в «бюро» и аресты. Улик по данному обвинению не нашлось. Но попутно развернулась картина интриги, питавшейся из казенного сундука, слежки за главнокомандующим, субсидирования оппозиционной правой организации и таинственной связи «бюро» с анонимными группами, стремившимися к перевороту. Расследование затрагивало и высокопоставленных лиц.
Считая неуместным возбуждение подобного политического дела в дни переживаемых нами тогда потрясений (декабрь), я ограничился удалением со службы нескольких чинов «Освага» и расследование велел прекратить.
Лучший следователь — история, если только ее будут занимать эти мелочи нашей жизни.
Развал так называемого «тыла» — понятие, обнимающее в сущности народ, общество, все не воюющее население — становился поистине грозным. Слишком узко и элементарно было бы приписывать «грехам системы» все те явления, которые, вытекая из исконных черт нации, из войны, революции, безначалия, большевизма, составляли непроницаемую преграду, о которую не раз разбивалась «система».
Классовый эгоизм процветал пышно повсюду, не склонный не только к жертвам, но и к уступкам. Он одинаково владел и хозяином и работником, и крестьянином и помещиком, и пролетарием и буржуем. Все требовали от власти защиты своих прав и интересов, но очень немногие склонны были оказать ей реальную помощь. Особенно странной была эта черта в отношениях большинства буржуазии к той власти, которая восстанавливала буржуазный строй и собственность. Материальная помощь армии и правительству со стороны имущих классов выражалась ничтожными в полном смысле слова цифрами. И в то же время претензии этих классов были весьма велики…
Долго ждали мы прибытия видного сановника — одного из немногих, вынесших с пожарища старой бюрократии репутацию передового человека. Предположено было привлечь его в «Особое совещание». Прибыв в Екатеринодар, при первом своем посещении он представил мне петицию крупной буржуазии — о предоставлении ей под обеспечение захваченных советской властью капиталов, фабрик и латифундий широкого государственного кредита. Это значило принять на государственное содержание класс крупной буржуазии, в то время как нищая казна наша не могла обеспечить инвалидов, вдов, семьи воинов и чиновников…
Чувство долга в отношении отправления государственных повинностей проявлялось очень слабо. В частности, дезертирство приняло широкое, повальное распространение. Если много было «зеленых» в плавнях Кубани, в лесах Черноморья, то не меньше «зеленых» — в пиджаках и френчах — наполняло улицы, собрания, кабаки городов и даже правительственные учреждения. Борьба с ними не имела никакого успеха. Я приказал одно время принять исключительные меры в пункте квартирования Ставки (Екатеринодар) и давать мне на конфирмацию все приговоры полевых судов, учреждаемых при главной квартире, о дезертирах. Прошло два-три месяца; регулярно поступали смертные приговоры, вынесенные каким-нибудь заброшенным в Екатеринодар ярославским, тамбовским крестьянам, которым неизменно я смягчал наказание; но, несмотря на грозные приказы о равенстве классов в несении государственных тягот, несмотря на смену комендантов, ни одно лицо интеллигентно-буржуазной среды под суд не попадало. Изворотливость, беспринципность вплоть до таких приемов, как принятие персидского подданства, кумовство, легкое покровительственное отношение общественности к уклоняющимся, служили им надежным щитом.
Не только в «народе», но и в «обществе» находили легкий сбыт расхищаемые запасы обмундирования новороссийской базы и армейских складов…
Спекуляция достигла размеров необычайных, захватывая в свой порочный круг людей самых разнообразных кругов, партий и профессий: кооператора, социал-демократа, офицера, даму общества, художника и лидера политической организации. Несомненно, что не в людях, а в общих явлениях народной жизни и хозяйства коренились причины бедствия — дороговизны и неразрывно связанной с ней спекуляции. Их вызвало общее расстройство денежного обращения и товарообмена, сильное падение труда и производительности и множество других материальных и моральных факторов, привнесенных войной и революцией. Торгово-промышленный класс видел средство «вырвать торговлю из рук спекулятивных элементов» в «широкой поддержке государственным кредитом, оказываемой крупным и солидным торговым организациям…». Но и этот способ возбуждал в нас известное сомнение, принимая во внимание ту суровую самокритику, которую вынесли сами представители класса: «…совещание считает своим долгом указать на угрожающее падение нравственного уровня во всех профессиях, соприкасающихся с промышленностью и торговлей. Падение это охватило ныне все круги этих профессий и выражается в непомерном росте спекуляции, в общем упадке деловой морали, в страшном падении производительности труда…» (из резолюции торгово-промышленного совещания в Ростове. Октябрь 1919 г.).
Обыватель не углублял причин постигшего его бедствия. Он видел их только в спекуляции и в спекулянтах, против которых нарастало сильнейшее и справедливое возбуждение. Под влиянием этих общественных настроений я предложил Управлению юстиции выработать законоположение о суровых карах за злостную спекуляцию. В. Н. Челищев затруднялся выполнить это поручение, считая, что само понятие «спекуляция» имеет столь неясные, расплывчатые формы, что чрезвычайно трудно регламентировать его юридически, что в результате могут получиться произвол и злоупотребления. Я провел все-таки через военно-судебное ведомство, в порядке верховного управления, «временный закон об уголовной ответственности за спекуляцию», каравший виновных смертной казнью и конфискацией имущества. Бесполезно: попадалась лишь мелкая сошка, на которую не стоило опускать карающий меч правосудия.
Лишь оздоровление народного хозяйства могло очистить его от паразитов. Но для этого, кроме всех прочих условий, нужно было время.
Казнокрадство, хищения, взяточничество стали явлениями обычными, целые корпорации страдали этим недугом. Ничтожность содержания и задержка в его получении были одной из причин этих явлений. Так, железнодорожный транспорт стал буквально оброчной статьей персонала. Проехать и отправить груз нормальным путем зачастую стало невозможным. В злоупотреблении проездными «литерами» принимали участие весьма широкие круги населения. В нем, например, изобличены были в свое время и состав редакции столь демократической «Родной земли» Шрейдера, и одна большая благотворительная организация, которая распродавала купцам предоставленные для ее нужд «литеры» по договору, обусловливавшему ее участие в 25 процентах чистой прибыли… Донское правительство, отчаявшись в получении хлеба с Кубани, поручило закупку его крупному дельцу Молдавскому. Хлеб действительно стал поступать массами, хотя и обошелся донской казне чрезвычайно дорого. При этом вся Кубань и все железные дороги края были покрыты контрагентами Молдавского, которые по таксе и по чину совершенно открыто платили попудную дань всей администрации от станичного писаря и смазчика до… пределов не знаю. В Кубанской Раде поднят был даже вопрос о том, что «Молдавский развратил всю администрацию». Мне, кажется, однако, что сетования Рады были не совсем основательны: лиходатели и лихоимцы только дополняли друг друга на общем фоне безвременья.
Традиция беззакония пронизывала народную жизнь, вызывая появление множества авантюристов, самозванцев — крупных и мелких. Для характеристики приведу несколько незначительных, но характерных эпизодов, задевавших непосредственно меня…
В одесской контрразведке подвизался в темных делах какой-то чин, именовавшийся моим «родственником» и приобретший служебный иммунитет… Такую же роль играла на черноморских курортах какая-то дама, назвавшаяся моей сестрой… Во время переезда по Азовскому морю одна неизвестная мне особа, предполагая скоро разрешение от бремени, принудила капитана большого пассажирского парохода изменить маршрут, назвавшись моей племянницей…
Однажды в Управление земледелия обратился полковник (фамилии его не помню) с запиской от «группы», в составе которой была названа моя фамилия, генерала Лукомского и других известных и неизвестных лиц, числом около пятидесяти, в том числе и автора записки. «Группа» указывала на необходимость колонизации Черноморья и наделения участками казенных дач лиц, оказавших услуги отечеству, в первую очередь членов «группы». Управление в спешном порядке занялось этим делом и готовило соответствующее представление в «Особое совещание».
Когда я узнал об этом эпизоде, я приказал разыскать полковника и посадить его под арест. Произведенное расследование обнаружило, что он не вполне нормален. Но служебный оппортунизм Управления земледелия!..
Все эти факты не вытекали из «системы». Это была давняя и прочная традиция.
В городах шел разврат, разгул, пьянство и кутежи, в которые очертя голову бросалось и офицерство, приезжавшее с фронта.
«Жизни — грош цена. Хоть день, да мой!..»
Шел пир во время чумы, возбуждая злобу или отвращение в сторонних зрителях, придавленных нуждой. В тех праведниках, которые кормились голодным пайком, ютились в тесноте и холоде реквизированной комнаты, ходили в истрепанном платье, занимая иногда очень высокие должности общественной или государственной службы и неся ее с величайшим бескорыстием. Таких было немало, но не они, к сожалению, давали общий тон жизни Юга.
Великие потрясения не проходят без поражения морального облика народа. Русская Смута, наряду с примерами высокого самопожертвования, всколыхнула еще в большей степени всю грязную накипь, все низменные стороны, таившиеся в глубинах человеческой души. Между тем только самодеятельность народных и общественных сил могла доставить перевес в борьбе.
И вот, учитывая слагаемые сил и средств боровшихся сторон, приходишь к заключению, что в отношении подъема и активности народных настроений Белое движение имело не многим больше шансов, чем большевизм.
Глава XIV. «Особое совещание»: вопрос о перемене политического курса. Наказ правительству
Осенью 1919 года с особенной остротой встал вопрос о дальнейшем существовании «Особого совещания».
После признания мною Верховной власти адмирала Колчака вместе с приветственным адресом «Особого совещания» председатель его генерал Драгомиров вручил мне свое письмо, в котором высказался о своей государственной деятельности. «На Юге, — писал он, — задача… устранить все трения к объединению разрозненных частей России… приобретает чрезвычайное государственное значение, ввиду ярких сепаратистских течений, борьба с которыми до сих пор не привела к успеху… По свойствам моего темперамента и характера… у меня совершенно отсутствует уменье сглаживать и смягчать отношения; каждый компромисс, без которого никакая политика невозможна, достается мне путем большого насилия над моей натурой и проводится в жизнь без того чистосердечия и искренности, которые в этих случаях столь необходимы… Род занятий всей моей жизни создал из меня генерала, но не политика. Переделать себя я не в состоянии… Я считаю себя неразрывно связанным и с той великой задачей, которую Вы исполняете, и лично с Вами… Но глубоко убежден, что по своей специальности я могу дать Вам большую помощь, чем на посту, ныне мною занимаемом».
Я не предполагал производить перемен до реорганизации всей структуры правительства и, отдав должное прямоте этого заявления, попросил Абрама Михайловича оставаться на посту. В ближайшие дни он уехал во главе миссии за границу, и когда в конце августа вернулся, то обстановка изменилась: с одной стороны, казалось близким государственное объединение с казачьими областями, и роль полуответственного перед Высшим советом (право запросов) главы правительства была бы для генерала Драгомирова еще более не по сердцу; с другой — открылся пост командующего войсками и главноначальствующего в Киевской области, с которой у генерала Драгомирова были давнишние связи, служебные и общественные. Пост этот требовал немедленного замещения. Я указал Абраму Михайловичу на предстоявшую возможность, и он после краткого размышления принял назначение в Киев.
Временным председателем «Особого совещания» стал другой мой помощник — генерал Лукомский, исполнявший эту должность летом, во время отсутствия генерала Драгомирова. Заместителем председателя был назначен В. Н. Челищев.
В этот переходный период круги, близкие к «Совету государственного объединения России», и правый сектор «Особого совещания» выдвигали усиленно положение, что главою нового правительства должно быть непременно лицо гражданское… Подразумевался А. В. Кривошеин.
Тяжкие внутренние настроения наши служили неоднократно предметом для обмена мнений в заседаниях «Особого совещания». В середине октября по частному поводу «махновщины» я предложил членам совещания подготовить фактический материал для суждения о причинах, питавших повстанческое движение. Сбор и обработка этого материала поручены были Н. И. Астрову, который в одно из ближайших заседаний совещания сделал доклад, охвативший общую картину наших бедствий, грехов правительственной системы, гражданского управления и армии.
Картина получилась глубоко безотрадная. «Черные страницы армии», произвол и беззакония гражданской администрации — тема большая и обширная. Но доклад не заключал в себе положительных, конкретных предложений, могущих уврачевать язвы и обосновать новый политический курс. Эта работа была произведена Н. И. Астровым дополнительно и вылилась в составление записки — «Тезисов по вопросу о политическом курсе», подвергнутой затем автором, по предложению председателя «Особого совещания», обсуждению совместно с членами совещания Савичем и Соколовым.
Записка Астрова состояла из неравноценных частей. В одной перечислялись цели, лозунги борьбы, всецело повторявшие наши неоднократные декларации и заявления. В другой — указывалось на необходимость пресечения ряда преступлений беспощадными карами. Эти положения также составляли тему десятков моих приказов, а смертная казнь являлась обычной мерой наказания военно-полевого и уголовного кодекса. Было, например, совершенно бесспорным, что «власть должна понудить тыл принять участие в предоставлении армии всего, что нужно для продолжения борьбы», а в армии «принять героические меры к ее оздоровлению, прекращению грабежей и поднятию дисциплины». Что власть «решительно отвергает месть, насилие, самоуправство и произвол над мирным населением…».
Наконец, третья часть записки касалась предстоящего изменения курса и смены личного состава центрального органа. Первый вопрос — на кого опираться — был разрешен в такой форме:
«В целях привлечения к делу строительства государства разных слоев населения, кровно заинтересованных в установлении порядка, власть должна действиями, не расходящимися с ее декларациями и обещаниями, дать населению ясное представление о том, какие цели ставит себе она и какие требования предъявляет к населению. Вместе с тем власть должна неукоснительно принимать решительные меры в области социальных реформ на демократических основаниях. Эти реформы, среди которых на первом месте должна стоять аграрная реформа, должны установить связь власти с разными слоями населения и по преимуществу с крестьянством, связанным с землей, со всеми элементами, занятыми производительным трудом в области промышленности и торговли, со служилым элементом, с городским населением, с его мещанством и мелким ремесленничеством. Опора на одну какую-либо часть населения и отбрасывание всего остального населения было бы непоправимой ошибкой, которую и использовали бы враги новой власти».
Эта формула не обнаруживала степени дерзания ни в аграрном, ни в прочих социальных вопросах, сильно напоминая наши всегдашние призывы к сотрудничеству «всех государственно мыслящих слоев населения», а некоторая неясность редакции этого пункта дала даже повод председателю «Особого совещания» генералу Лукомскому сопроводить ее замечанием: «то есть выбросить буржуев!..»
Наконец, вопрос о составе высшего органа власти:
«Преобразование Центрального органа управления и образование органа власти из лиц, связанных единством понимания политических задач и стремлением объединить свою волю с волей носителя высшей национальной власти и способных освободиться от умертвляющей энергию рутины.
Центральный орган должен привести местные органы в полное соответствие с планами и намерениями центральной власти, для чего должны быть пересмотрены все назначения на высшие административные посты, а новые кандидаты на эти должности должны быть проводимы через «Особое совещание» (Высший орган)».
Какая же политическая или общественная группа могла принять на свои плечи бремя власти?
«Особое совещание» в целом отнеслось скептически к «перемене курса», и записка Астрова долгое время не ставилась на обсуждение. Поэтому я вызвал членов комиссии для доклада в Таганрог 2 декабря. На этом докладе[192] все приведенные выше вопросы не только не разъяснились, но были затуманены еще более; каждый из трех членов комиссии придерживался особого мнения. Н. И. Астров, считая, что декларации главного командования в достаточной степени соответствуют требованиям жизни, говорил о необходимости претворить слово в дело, устранить расхождение обещаний с практикой, словом, принять «ясный политический курс», не поясняя, однако, кому надлежит приводить его в исполнение… Н. В. Савич говорил о том, что наша политика не удовлетворяет ни одно из течений, борющихся с оружием в руках, и о необходимости опереться на «класс, способный постоять за себя» — опять-таки не определяя, какой именно. Только К. Н. Соколов высказался вполне определенно: «Власть должна опереться на консервативные круги при условии признания ими факта земельной революции»[193]. Это предложение теряло свою ценность, принимая во внимание настроения правых кругов, в глазах которых тогда даже «третий сноп» считался «уступкой домогательствам черни…».
Пришлось дешифрировать беседу…
Итак, коалиции — конец. Предстоит выбор: либерализм, консерватизм или «левая политика правыми руками» — та политика, которая была испытана впоследствии в Крыму другими лицами без особого успеха.
Мои убеждения не были тайной и всецело соответствовали либеральному направлению. Но осуществление их встречало непреодолимые трудности. Если в конце июня, в разгар блестящих успехов армий и общего высокого подъема, либеральная общественность страшилась взять руль правления в предвидении «враждебного отхождения других влиятельных общественных сил и противодействия с их стороны», то теперь позиция ее была несравненно сложнее и тяжелее: армии уходили к Дону, теряя одну область за другой, замутилась вся жизнь страны, по которой катились уже людские волны эвакуаций — предвестниц катастрофы.
Полоса неудач вызвала сильный напор общественного мнения на власть. Искусно веденная политическая игра с особенным упорством перекладывала следствия безвременья, вины правителя и правительства на левый сектор «Особого совещания», на «засилье в нем левых, кадет». И хотя такая постановка вопроса была слишком элементарна, несправедлива и отзывала демагогией, но она находила отклик в армии и близких ей кругах, где систематически создавалось озлобление против «кадет», и в частности, либеральных членов «Особого совещания», которых называли «злыми гениями» и «главными виновниками» постигших нас бедствий. В такой обстановке либеральная общественность сочла для себя бремя власти непосильным и, предлагая известный политический курс, в то же время не давала своих людей, которые могли бы проводить его в жизнь. Очевидно, и не могла дать, так как, по признанию видных ее деятелей, помимо внутренних расхождений, в этом лагере было очень мало людей, которые «революционному разложению и распаду могли бы противопоставить понятную всем организующую силу». Это последнее обстоятельство встало передо мной особенно ярко, когда я задал вопрос при создавшихся условиях чисто академический:
— Кого же все-таки либеральная группа могла бы предложить в главы правительства?
После некоторого раздумья мне было названо имя В. Н. Челищева… Я высоко ценю и уважаю Виктора Николаевича и лично, и как государственного деятеля, но такое предназначение человека, глубоко мирного по природе своей, в дни жестокой борьбы и внутренних потрясений меня удивило. Вероятно, серьезные сомнения были и у Н. И. Астрова, потому что он не поддерживал свое предложение, заявив, что «если нельзя по каким-нибудь соображениям назначить штатское лицо председателем правительства», то эту должность мог бы занять генерал Романовский… Иван Павлович самым решительным образом отклонил это предложение. Его имя было бы не прикрытием, а яркою мишенью. Не подлежит сомнению, что подобная комбинация привела бы только к тому, что константинопольский выстрел прозвучал бы на несколько месяцев раньше.
Настаивать на образовании либерального правительства было, таким образом, нецелесообразно. Но и другая комбинация — переход власти всецело в руки правых элементов — не говоря уже об идеологических обоснованиях, представлялась немыслимой: этот уклон, и без того преобладавший в деятельности правительства и подчиненных ему органов, был осужден всем ходом событий. Фронт катился на юг, «российская» территория сокращалась до минимума, и стратегическая обстановка, кроме всего прочего, создавала и большую зависимость нашу от казачьих сил, казачьих настроений. Резкий поворот руля вправо там прозвучал бы как вызов.
Беседа моя с членами «Особого совещания», нося характер теоретического обмена мнений, не привела ни к каким конкретным результатам; по выражению одного из участников, «идеи не были персонифицированы». И, хотя в формах весьма туманных, вопрос как будто сводился к выбору: Челищев, Кривошеин или… Соколов.
Между прочим, со времени наименования кандидатуры Челищева правые круги стали проводить мысль, что главою правительства в переживаемое тяжелое время может быть только лицо военное.
Стратегическая обстановка требовала настоятельно принятия мер предосторожности. 6 декабря председатель «Особого совещания» был уведомлен Ставкой о необходимости начать эвакуацию центральных управлений за Дон. Это известие произвело большое впечатление на членов «Особого совещания», не вполне ясно воспринимавших грозность военного положения. Они считали свою эвакуацию преждевременным «бегством» — обидным и зазорным для правительства. В конечном результате с запозданием началась эвакуация правительственных учреждений, личный состав которых было приказано сократить наполовину и больше, в Черноморскую губернию и Крым. Вследствие враждебности кубанского правительства на Кубани оказалось возможным разместить только одно Военное управление… Ввиду отсутствия крупных центров в тылу и предстоявшей поэтому разбросанности расквартирования главы ведомств должны были обосноваться в Новороссийске лишь с небольшими ячейками своих управлений. До последнего дня они оставались в Ростове. Это решение, продиктованное чувством патриотизма и которому я не воспротивился, повлияло, однако, на планомерность общей эвакуации.
В связи с предстоявшим раздельным пребыванием Ставки и правительства по инициативе последнего мною отдан был приказ о расширении прав начальников управлений и председателя «Особого совещания», которому в известных случаях предоставлялось право утверждать постановления совещания за главнокомандующего. В связи с этим приказом «Особому совещанию» дан был мною «наказ», определявший тот «политический курс», который ставился главным командованием. В нем не было ничего нового. Наказ представлял из себя скорее более подробную сводку моих словесных и письменных заявлений и указаний, моральная ответственность за которые лежит на мне.
«В связи с приказом моим сего года за № 175 приказываю «Особому совещанию» принять в основание своей деятельности следующие положения:
1. Единая, Великая, Неделимая Россия. Защита веры. Установление порядка. Восстановление производительных сил страны и народного хозяйства. Поднятие производительности труда.
2. Борьба с большевизмом до конца.
3. Военная диктатура. Всякое давление политических партий отметать, всякое противодействие власти — и справа, и слева — карать.
Вопрос о форме правления — дело будущего. Русский народ создаст Верховную власть без давления и без навязывания.
Единение с народом.
Скорейшее соединение с казачеством путем создания Южно-русской власти, отнюдь не растрачивая при этом прав общегосударственной власти.
Привлечение к русской государственности Закавказья.
4. Внешняя политика — только национальная русская.
Невзирая на возникающие иногда колебания в русском вопросе у союзников — идти с ними. Ибо другая комбинация морально недопустима и реально неосуществима.
Славянское единение.
За помощь — ни пяди русской земли.
5. Все силы, средства — для армии, борьбы и победы.
Всемерное обеспечение семейств бойцов.
Органам снабжения выйти, наконец, на путь самостоятельной деятельности, использовав все еще богатые средства страны и не рассчитывая исключительно на помощь извне.
Усилить собственное производство.
Извлечь из состоятельного населения обмундирование и снабжение войск.
Давать армии достаточное количество денежных знаков, преимущественно перед всеми. Одновременно карать беспощадно за «бесплатные реквизиции» и хищение «военной добычи».
6. Внутренняя политика.
Проявление заботливости о всем населении без различия.
Продолжать разработку аграрного и рабочего закона в духе моей декларации; также и закона о земстве.
Общественным организациям, направленным к развитию народного хозяйства и улучшению экономических условий (кооперативы, профессиональные союзы и прочее), — содействовать.
Противогосударственную деятельность некоторых из них пресекать, не останавливаясь перед крайними мерами.
Прессе сопутствующей — помогать, несогласную — терпеть, разрушающую — уничтожать.
Никаких классовых привилегий, никакой преимущественной поддержки — административной, финансовой или моральной.
Суровыми мерами за бунт, руководительство анархическими течениями, спекуляцию, грабеж, взяточничество, дезертирство и прочие смертные грехи — не пугать только, а осуществлять их при посредстве активного вмешательства Управления юстиции, Главного военного прокурора, Управления внутренних дел и Контроля. Смертная казнь — наиболее соответственное наказание.
Ускорить и упростить порядок реабилитации не вполне благополучных по большевизму, петлюровщине и так далее. Если была только ошибка, а к делу годны — снисхождение.
Назначение на службу — исключительно по признакам деловым, отметая изуверов и справа и слева.
Местный служилый элемент за уклонение от политики центральной власти, за насилия, самоуправство, сведение счетов с населением, равно как и за бездеятельность — не только отрешать, но и карать.
Привлекать местное население к самообороне.
7. Оздоровить фронт и войсковой тыл работой особо назначенных генералов с большими полномочиями, составом полевого суда и применением крайних репрессий.
Сильно почистить контрразведку и уголовный сыск, влив в них судебный (беженский) элемент.
8. Поднятие рубля, транспорта и производства преимущественно для государственной обороны.
Налоговый пресс, главным образом, для состоятельных, а также для не несущих воинской повинности.
Товарообмен — исключительно за боевое снаряжение и предметы, необходимые для страны.
9. Временная милитаризация водного транспорта с целью полного использования его для войны, не разрушая, однако, торгово-промышленного аппарата.
10. Облегчить положение служилого элемента и семейств чинов, находящихся на фронте, частичным переводом на натуральное довольствие (усилиями Управления продовольствия и Ведомства военных снабжении). Содержание не должно быть меньше прожиточного минимума.
11. Пропаганде служить исключительно прямому назначению — популяризации идей, проводимых властью, разоблачению сущности большевизма, поднятию народного самосознания и воли для борьбы с анархией.
г. Таганрог.
14 декабря 1919 г.»
Глава XV. Упразднение «Особого совещания». Кризис русского либерализма
В кругах ростовской общественности, в политических организациях шли непрерывно совещания, царило возбуждение, углубляемое нервирующей обстановкой отступления и эвакуации.
16 декабря начальник Управления торговли и промышленности Фенин привез мне записку, являвшуюся по существу плодом мысли либеральной общественности и по форме — обращением ко мне левого сектора «Особого совещания»:
«В тяжелую пору новых испытаний, ставших на пути воссоздания нашей Родины, в минуты, особенно трудные для Вас, взявшего на себя все великое бремя ответственности, позвольте нам, до конца остающимся преданными Вам и великому делу, которому Вы служите, мнение которых Вы неоднократно выслушивали, по долгу чести и совести сказать Вам, как мы смотрим на сложившееся положение и какой выход мы предполагаем из тяжелых обстоятельств переживаемого времени.
Мы не станем перечислять ошибки и упущения, допущенные военными и гражданскими органами, призванными Вами служить делу борьбы за воссоздание государства и установление элементарного порядка. Ошибки эти многообразны. Главнейшие из них, по нашему мнению: допущение развития дурных нравов в армии и безнаказанность высших попустителей, а также отсутствие организованного, сильного аппарата центральной власти, объединенного в своем составе единым пониманием задач, стоящих перед властью, единством методов действий, и полная изолированность от жизни и населения того органа, который являет собою весьма несовершенный суррогат власти.
Эти недостатки и ошибки были бы сглажены и исправлены успехом и достигнутой целью. Но неудача, как возмездие, требует коренных и глубоких изменений в тех органах и устройствах, с которыми связаны эти ошибки. Общее смущение и тревога на фронте и в тылу требуют немедленных решительных и ярких действий.
Опыт всех стран свидетельствует, что в наиболее критические для государства минуты высшая власть, несущая перед страной всю тяжесть ответственности, распускает правительство и на его место призывает новых людей, более отвечающих новым задачам, ставшим перед страной.
Эти изменения в составе правительства достигаются не только привлечением новых лиц в его состав, но и освобождением этого состава от прежних руководителей и участников, а в нужных случаях путем изменений в самой конструкции центрального органа власти.
Мысль о необходимости преобразования «Особого совещания», состоящего при Вас, возникла давно, и едва ли кто стал бы теперь защищать его конструкцию и его состав.
Только не в меру затянувшаяся работа Южно-русской конференции задержала преобразование «Особого совещания» и остановила давно назревшую реформу. До осуществления этой реформы — в смысле создания Высшего совета и Совета начальников управлений — в виде переходной меры было бы совершенно необходимо распустить «Особое совещание» и на его месте образовать правительство в составе семи лиц с привлечением в него трех представителей от казачьих войск.
Это правительство — Совет при главнокомандующем — должно быть объединено общим пониманием поставленных ему задач и способно к энергичным и решительным действиям.
Оно должно дать Вам объявляемую армии и населению торжественную клятву в строгом исполнении принятых на себя обязательств.
Этот орган, представляя собой походное управление, должен быть возглавлен лицом, наиболее понимающим Ваши идеи и близким Вам по духу и воззрениям.
Семь лиц, входящих в состав правительства, должны сосредоточить в своих руках портфели министров: военного, финансов, внутренних дел, торговли и промышленности, юстиции, путей сообщения и снабжения. Если бы портфель министра внутренних дел можно было вручить председателю Совета, то состав членов можно было бы сократить до шести.
Министру снабжения должны быть подчинены все нынешние несовершенные органы снабжения армии, а бессильные органы продовольствия должны быть вовсе упразднены. Другие ведомства, ныне сокращенные, должны находиться под управлением начальников, действующих по указаниям Совета при главнокомандующем. Иностранная политика, как и ныне, остается в руках главнокомандующего, исполнение предуказаний которого осуществляется через особое управление, состоящее наравне с другими управлениями, руководители которых не входят в состав Совета. Государственный контроль получает указания непосредственно от главнокомандующего.
Подготовительная работа по законодательству временно, до образования Высшего совета, могла бы производиться в Совещании по законодательным предположениям, члены коего назначаются главнокомандующим.
Роспуск «Особого совещания» и образование Совета при главнокомандующем должны быть произведены особым актом, в котором могло бы быть указано, что преобразование «Особого совещания» вызвано тяжелыми условиями борьбы и необходимостью сосредоточить власть в руках лиц, все внимание которых должно быть сосредоточено на управлении, на действиях, столь необходимых в данное время.
В этом обращении к армии и населению могли бы быть указаны те начала, которые Вы преподали «Особому совещанию» сегодня, 15 декабря, к руководству, и особенно подчеркнуто, что новому правительству ставятся основные и главнейшие задачи — сосредоточить всю энергию на помощи и содействии армии, на ее снабжении, снаряжении, на заботах об ее раненых и больных, на обеспечении семейств борющихся; что помощь армии нужна быстрая и полная для скорейшего доведения до конца борьбы с большевиками за воссоздание России, за поруганную православную веру, за освобождение национального сознания русского народа от поработившего его ига большевизма и за скорейшее восстановление гражданского мира на началах права и справедливости; что новая власть устранит в своих действиях допущенные раньше ошибки и, беспощадно карая нарушителей гражданского мира, грабителей и насильников, возьмет под свою защиту все население, желающее прекращения смуты и междоусобия; что новой власти вменяется в обязанность привлечь население к установлению порядка и поднятию производительности труда.
Создавая новое правительство в минуты опасности и тревоги, Вы снова поднимете бодрость в армии и населении, снова окрылите надежды, ибо вместо непопулярного «Особого совещания» около Вас будет новый орган, которому будут поставлены новые ясные задачи.
Тогда можно будет начать решительную борьбу с пороками, разлагающими армию и тыл. Тогда можно будет противопоставить новую организованную власть развивающимся опасным течениям в армии и тылу. Тогда можно будет привлечь соседние государственные образования к борьбе за воссоздание Русского государства. Пусть этот орган возьмет на себя часть ноши, которую Вы несете, и примет на себя удары, направленные со стороны тех, кто ставит себе иные, чем Вы, цели и задачи.
Громоздкое и неспособное действовать «Особое совещание» исполнило свое назначение и пережило себя. Ни Вам, ни делу оно больше не может быть полезно.
Вместо того чтобы отсылать его от себя и тем самым лишать его всякого политического и делового значения, вместо того чтобы ставить его в положение укрывающегося и спасающего себя в наиболее суровые минуты и обрекать его на вынужденное бездействие и утрату последнего престижа в глазах армии и населения, лучше распустите его.
Твердо и горячо веруя в историческую правду движения, возглавляемого Вами, и в его конечный успех, мы всеми силами души желаем Вам мудрости и величия духа в Вашем великом и трудном подвиге».
Подписали: Н. Астров, М. Бернацкий, В. Степанов, В. Челищев, В. Юрченко, М. Федоров.
В тот же день получен был мною доклад председателя «Особого совещания» генерала Лукомского, затрагивающий «главнейшие вопросы, по которым необходимо знать (мое) мнение». Генерал Лукомский писал:
«1. Наиболее животрепещущий вопрос для данного момента — это наша неудача на фронте.
При неудаче всегда масса (и на фронте и в тылу) ищет виновников. Конечно, этим дела не исправишь, да и занятие, которое, хотя нервирует массу и создает известное настроение и в армии, и в тылу, довольно болезненное, ибо дела не исправит.
Но если для массы это занятие бесполезное, надо помнить, что известное настроение и впечатление от этой же массы передается и тем, от коих очень многое может зависеть.
Одни обвиняют Ставку, другие «Особое совещание». Те, кои обвиняют «Особое совещание», в свою очередь, разделяются на два лагеря: одни ругают за слишком правое направление, другие — за слишком левое направление.
Лично я думаю, что виновны обе стороны: и Ставка, и «Особое совещание».
Ставка, правильней штаб, виновен тем, что не организована была военная сила в тылу, что допущено было чрезмерное продвижение войск вперед без соответствующего устройства тыла (и в военном и в гражданском отношении) и что, по-видимому, штаб не знал состояния войск.
«Особое совещание» (главным образом, Управление внутренних дел) виновно тем, что не справилось с устройством тыла[194].
Это я отмечаю не с целью искать виновных, а для того, чтобы предостеречь от опасности искать причину неудачи в области политики.
А эта опасность есть.
И. П. Романовский на этих днях сказал мне примерно следующее: «Мы с вами несколько расходимся в наших политических воззрениях, и я не могу умолчать, что, по моему глубокому убеждению, мы сорвались на том, что в Малороссии фактически проводили слишком правую «гетманскую» политику.
Н. И. Астров, представляя свою записку об изменении политического курса, также считал, что одна из причин неудачи — это неправильная политика.
Я лично считаю, что здесь не в политике дело, а в том, что мы не умели устроить тыла, не умели и не могли обуздать грабежи и насилия, чинившиеся и войсками, и Государственной стражей, и органами контрразведки.
Если же мы теперь начнем менять политический курс, то попадем в еще более тяжкое положение.
2. Реорганизация «Особого совещания».
Сговориться с казаками теперь будет трудно. Вчера мне Харламов сказал: «Не скрою от вас, что настроение среди членов конференции несколько изменилось и некоторые говорят так: когда Добрармия занимала Орел, то с нами не церемонились и говорили очень твердым языком; теперь пора и нам заговорить другим языком».
Но если б даже разговоры с казаками шли гладко, вряд ли теперь своевременно создавать всю ту постройку, которая намечалась.
Н. И. Астров настойчиво доказывает (а Федоров к нему присоединяется), что «Особое совещание» отжило свой век, что теперь надо создать небольшое деловое правительство (из пяти-шести начальников главнейших управлений) и через него Вашему Превосходительству управлять всеми «министерствами». При таком небольшом «волевом» (как выражается Н. И. Астров) правительстве должен быть законосовещательный орган.
Этот вопрос члены «Особого совещания» просили поставить на обсуждение в присутствии Вашего Превосходительства.
Сегодня был у меня П. Б. Струве. Говорит, что все (и правые, и средние, и левые) ругают «Особое совещание».
Что, по его мнению, надо положить руль направо и, отметая всякое соглашательство, твердо проводить военную диктатуру.
Должен сказать, что с эвакуацией начальников управлений в Новороссийск, а управлений — в Крым дело осложняется чрезвычайно.
Ясно, что «Особое совещание» действительно надо реорганизовать, но как — это сказать трудно».
Эти два документа поставили вновь и весьма остро вопрос об «Особом совещании». Было ясно, что дальнейшее существование его становится невозможным психологически. Кроме того, и в техническом отношении общая обстановка требовала действительно большей концентрации власти, сокращения и упрощения ее органов.
Приказом моим от 16 декабря была проведена реорганизация управления, вылившаяся в такие формы:
1. «Особое совещание» упразднено.
2. Упразднены Отдел законов и Управление продовольствия, самостоятельный Отдел пропаганды подчинен начальнику Управления внутренних дел, и должности начальника военных сообщений и начальника путей сообщений соединены в одну; точно так же соединены в одно ведомства морское и военное.
3. Учреждена новая должность главного начальника снабжений, к которому перешли функции военного снабжения, санитарной части и общего продовольствия.
4. Образовано правительство из глав шести ведомств (военно-морского, внутренних дел, финансов, сообщений, снабжении, торговли и промышленности, юстиции)[195].
5. Начальник Управления иностранных дел и Главный контролер подчинялись непосредственно главнокомандующему; начальники Управлений земледелия и землеустройства, народного просвещения и исповеданий, также не входя в состав правительства, по вопросам, превышавшим их права, должны были входить с представлением к последнему.
6. При правительстве учреждалось «Совещание по законодательным предположениям.
Несравненно труднее обстоял вопрос о политическом курсе и составе правительства… Я ответил на него оставлением в силе данного мною «наказа» и оставлением в должности генерала Лукомского, стоявшего во главе правительства в течение нескольких месяцев — деятеля правого, но официально не носившего партийного штампа. При указанных выше условиях менять главу правительства не имело смысла.
Этот мой шаг произвел в свое время большое впечатление на общественные круги и вызвал всевозможные толки и догадки относительно внутренних, «скрытых» побуждений, вызвавших его.
Ближайшие дни показали, что и либеральная группа «Особого совещания» не вполне правильно восприняла свершившееся.
Отступление продолжалось, штаб Добровольческой армии перешел уже в Таганрог, и Ставка перенесена была временно в Ростов. Председатель правительства генерал Лукомский на первом же докладе сообщил мне, что либеральная группа «Особого совещания» обратилась к нему с просьбой ввести в состав правительства… А. В. Кривошеина и инженера Чаева[196]. Не сказав ни слова, я утвердил их назначения. Эта капитуляция побудила меня при ближайшей встрече с моими бывшими сотрудниками по «Особому совещанию» (либералами) бросить им фразу, выражавшую удивление и укор… В ответ один из них писал в то время генералу Романовскому:
«В нашей записке был дан план концентрации власти с привлечением в нее казачьих элементов. При этом имелось в виду, что опыт коалиции, вызвавший провал основной земельной реформы и всего местного гражданского строительства, осужден. Мы ожидали смены почти всего действующего состава, начиная с главы правительства. Но назначением генерала Лукомского предрешался вопрос о дальнейшем направлении внутренней политики. Этим устанавливалось ее правое направление с сохранением военной бюрократизации гражданского управления. Подчиняясь этому решению, мы должны были направить все внимание на создание сильной, а следовательно, однородной и технически наилучше оборудованной власти. Отсюда вытекала необходимость именно в рядах правых искать наиболее сильных, наиболее активных элементов. Мы прежде всего обратились к Савичу, но, когда он категорически отказался, остановились на Кривошеине и Чаеве. В тяжелых условиях переживаемого момента мы не считали себя вправе считаться с политическими и иными недочетами этих людей, на которые мы своевременно указывали и главнокомандующему, и считали себя, по долгу совести, обязанными указать на них, как на наиболее сильных и пригодных для однородного и способного к действию правого кабинета».
Впрочем, Н. И. Астров несколько иначе определял отношение либеральной группы:
«Мы не хотели усмотреть в этом принятие нового — правого — курса. Но это было и не то, что мы предполагали, ибо образовывалось новое правительство — не определенного политического курса, связанное с Вами единством понимания политических задач, а чисто техническое для наилучшего разрешения невероятно сложных технических задач, выдвинутых временем и обстановкой.
Политический момент отступал на задний план, стушевался перед техническими трудностями задач.
Отсюда — право выбора техников отовсюду».
Главы остальных ведомств остались на своих местах, а не получившие портфелей члены бывшего «Особого совещания», кроме Соколова, вошли в состав «Совещания по законодательным предположениям». В таком виде новое правительство — по существу старое, перейдя в Новороссийск, некоторое время еще продолжало свою деятельность, в силу сложившейся обстановки сводившуюся исключительно к ведению текущих дел.
Наступал период ликвидации и эвакуации.
Все эти перипетии, связанные с «реорганизацией» правительства, представляют, может быть, интерес для истории русской общественности. Но, как показало ближайшее будущее, то или иное решение никакого влияния на ход событий уже оказать не могло.
Я не знаю, нужно ли говорить о тех побуждениях, которые руководили мною в дни перестроения власти… Мне казалось, что и тогда они были достаточно ясны и вовсе не прикровенны.
В сущности, все в правительстве должно было оставаться по-старому до создания новых форм управления, слагавшихся в процессе работы Южно-русской конференции.
Последние приказы мои означали: невозможность опереться на либералов, нежелание передать власть всецело в руки правых, политический тупик и личную драму правителя.
В более широком обобщении они свидетельствовали об одном, давно назревшем и теперь особенно ярко обнаружившемся явлении: о кризисе русского либерализма.
«Особое совещание» и с ним целый период жизни противобольшевистского Юга отошли в прошлое. Судить нас будет история. Я хотел бы отметить одно только явление, общее для всех поднявшихся против безумного советского режима частей Российского государства — общее для Севера, Востока, Юга и Запада, для казачьих областей, закавказских новообразований и западных лимитрофов…
Первые же шаги насаждения государственного строя на обломках прежнего, поросших большевизмом, различаясь внешними формами, большей или меньшей радикальностью и демократизмом содержания, худшей или лучшей организацией, имели везде одну, проникавшую существо их черту: они направляли народную жизнь в старое русло.
Одни — в нетронутое, затянутое тиной, другие — в расчищенное, углубленное, но все же прежнее. В расчете на то, что над страной пронеслась только буря, опрокинувшая, изломавшая реальные ценности, накопленные веками, трудом и разумом поколений, а не наступил глубокий процесс, переродивший духовную природу и психологию нации.
Свидетельствовало ли это явление только о той цепкой связи и зависимости от прошлого, которое довлело над страной и строителями, быть может, иногда помимо сознания и воли их?.. Исходило ли оно из бессилия и неумения деятелей революции прорыть, не выжидая, новое русло, в которое могла бы хлынуть и успокоиться очищенная в крови и страданиях волна народной жизни?.. Или, наконец, было оно признаком жизненности основных вех, по которым шло последовательно, веками, русское строительство?..
Ответ даст будущее.
Глава XVI. Поход на власть
Начало 1920 года, наряду с тягчайшими трудностями стратегическими, осложнено было сильным походом на власть.
Шел он с двух сторон.
Генерал Врангель, получив назначение формировать казачью конную армию, прибыл в Екатеринодар, где имел ряд совещаний с кубанскими деятелями. На этих совещаниях были выработаны общие основания формирования трех кубанских корпусов, во главе которых должны были стать генералы Топорков, Науменко и… Шкуро.
Предназначение генерала Шкуро представилось мне довольно неожиданным.
После освобождения Шкуро от командования корпусом, в силу неприемлемости его для генерала Врангеля, Шкуро, по личной его просьбе, предоставлено было Ставкой объехать кубанские станицы и поднять сполох. Популярность его среди кубанцев сохранялась, а отрицательные стороны его деятельности в глазах казачества не были одиозны.
13 декабря барон Врангель послал телеграмму кубанскому атаману, с копией в Ставку: до сведения его дошло, будто Шкуро начинает формировать нештатные добровольческие части на Кубани. Барон просил задержать эти формирования до прибытия в Екатеринодар с его планом организации командируемого туда генерала Науменко.
Генералу Шкуро было предоставлено подымать казачество, а не вести формирования[197], и потому моим штабом отправлена была на его имя соответственная телеграмма. Местопребывание Шкуро не было точно известно, и служба связи отнеслась с исключительным вниманием к пожеланию генерала Врангеля, разослав телеграмму эту в целый ряд попутных станиц. Всюду, где появлялся генерал Шкуро, ему вручали телеграмму, содержание которой, довольно резкое, становилось известным и подрывало его престиж. Он протелеграфировал в Ставку о своей обиде, бросил «уговаривание» и вернулся в Екатеринодар. Дальнейшие эпизоды так излагаются генералом Шкуро:
«Мой поезд остановился напротив поезда генерала Врангеля. Прошло несколько минут, как адъютант мне доложил, что меня желает видеть генерал Шатилов. Я приказал просить. С генералом Шатиловым я был давно знаком, но за время гражданской войны нам как-то не приходилось встречаться. После взаимных приветствий генерал Шатилов заговорил о моих отношениях с генералом Врангелем. Сказал, что все недоразумения, которые произошли между нами, вызваны исключительно тем, что генерал Врангель был неправильно информирован о моей работе и деятельности, что теперь, ввиду тяжелого положения на фронте и общей опасности, нам всем надо объединиться для спасения общего дела, а затем просил, чтобы я зашел к генералу Врангелю. Не задумываясь, я ответил полным согласием и выразил готовность явиться к генералу Врангелю немедленно.
Спустя немного времени я пошел к генералу Врангелю. Будучи приглашен в салон, я там застал генералов Науменко и Шатилова. Генерал Врангель очень любезно принял меня, наговорил массу любезностей и просил помочь ему в той тяжелой работе, которую он на себя принял. Вскоре зашел только что прибывший с фронта генерал Улагай, но он был совершенно болен и сейчас же ушел. В тот же день он свалился от тифа и долго проболел. Когда ушел и генерал Науменко, то генерал Врангель начал расспрашивать о настроениях казачества на местах, о степени популярности генерала Деникина среди казачества и офицерства и вскользь несколько раз бросил мысль, что главное командование совершенно не понимает обстановки и всех нас ведет к гибели и что против этого надо бороться и искать какой-либо выход. Так как время было близко к Рождеству, то, помню, генерал Врангель сказал, что он хочет ехать на два-три дня в Кисловодск немножко отдохнуть, а также чтобы повидаться с терским атаманом и генералом Эрдели. Собираясь также выехать в Кисловодск, где была моя семья, я предложил генералу Врангелю и генералу Шатилову с супругами встретить у меня сочельник. Генералы очень любезно согласились.
Мы соединили наши поезда и 23 декабря мы все вместе выехали. По дороге я долго беседовал с генералом Врангелем, который настойчиво доказывал мне, что вся общественность и армия в лице ее старших представителей совершенно изверилась в генерале Деникине, считая его командование пагубным для дела и присутствие генерала Романовского на посту начальника штаба даже преступным, что необходимо заставить во что бы то ни стало генерала Деникина сдать командование другому лицу и что с этим вполне согласны и что он уже переговорил об этом лично с донским и кубанским атаманами, с председателями их правительств, а также с командующим Донской армией генералом Сидориным и его начальником штаба генералом Кельчевским, с кубанскими генералами Покровским, Улагаем и Науменко, с видными членами Кубанской Рады и Донского Круга, со многими чинами Ставки и представителями общественности и что все вполне разделяют его, Врангеля, точку зрения, и что теперь остановка только за мной и за терским атаманом, а тогда, в случае нашего согласия, мы должны предъявить генералу Деникину ультимативное требование уйти, а в случае нужды не останавливаться ни перед чем.
Я ответил, что я пока не могу дать своего согласия, что это слишком рискованный шаг, который может вызвать крушение всего фронта.
Затем я ушел, условившись вечером в сочельник встретиться у меня на даче в Кисловодске. 24 декабря утром, подъезжая к Пятигорску, я приказал отцепить свой вагон, а сам тотчас же проехал к терскому атаману генералу Вдовенко. Генерал Врангель также до вечера оставался в Пятигорске. Рассказав ему (генералу Вдовенко) все подробно, я спросил, как он думает поступить. На это атаман ответил: «Думаю, что это все не так, тут чувствуется какая-то провокация. Во всяком случае, полагаю, что подобная генеральская революция преступна и нас всех погубит. Этого допускать нельзя, и я сейчас же экстренным поездом отправлю председателя Круга Губарева к донскому атаману и к главнокомандующему. К вечеру мы все будем знать точно всю обстановку. Ты же никоим образом не соглашайся на ту роль, которая тебе подготавливается, а если придется действовать энергично, я тебе помогу». Немедленно после этого я поехал в Кисловодск.
Генерал Врангель оставался еще несколько часов в Пятигорске. Вечером часам к 8 приехал в Кисловодск генерал Врангель, которого я встретил на вокзале с почетным караулом, а оттуда поехали ко мне генералы Врангель и Шатилов с супругами. За обедом обменялись все очень любезными тостами, но никаких серьезных разговоров не поднимали. Вскоре пришел генерал Эрдели. Тотчас же генерал Врангель и генерал Эрдели уединились в соседнюю комнату и о чем-то долго и горячо говорили. Затем все ушли, а утром совершенно неожиданно генерал Врангель потребовал паровоз и выехал. Мы условились, что по приезде в Екатеринодар через два дня мы снова обо всем переговорим».
Посещение бароном Врангелем терского атамана генерала Вдовенко описано в записке последнего следующим образом:
«24 декабря 1919 года вместе с генералом Шатиловым приехал ко мне генерал Врангель.
Беседа происходила в присутствии П. Д. Губарева, который случайно был у меня. Предложения генерала Врангеля заключались в том, что у донцов и кубанцев возникла мысль о коренной реорганизации власти на Юге России. Власть эта мыслилась как власть общеказачья, и что, по мнению генерала Врангеля, обстановка требовала создания такой власти, а между тем генерал Деникин на создание такой власти не соглашается. Себе генерал Врангель отводил место командующего казачьими армиями: Донской, Кубанской и Терским корпусом. На вопрос, как же мыслилось дальнейшее существование Добровольческой армии, генерал Врангель подтвердил, что хотя генерал Деникин и грозит увести Добровольческую армию, но этого не будет, и армия безусловно останется, ибо недовольна генералом Деникиным. По словам генерала Врангеля выходило, что на признание его, Врангеля, своим вождем кубанцы уже согласились, согласие у донцов обеспечено и остановка только за терцами. Надо сказать, что генерал Врангель очень волновался, поэтому почти после каждой фразы обращался к генералу Шатилову: «Не правда ли, Павлуша?» Я высказал сомнение, чтобы эту идею, идею смены революционным путем командования на Юге России, в такой тяжелый для армии момент разделяли бы войсковые атаманы и командующий Донской армией. Все это только послужит к усилению развала и поможет большевикам. «Терек на это не пойдет», — сказал я, и этим беседа кончилась.
Почувствовав интригу, я в тот же день командировал П. Д. Губарева к донскому атаману и командующему Донской армией, чтобы он установил истину и доложил бы обо всем главнокомандующему, а затем бы заехал и на Кубань. Для официального Дона это была новость. На Кубань Петр Дементьевич не заехал, а потому я и не знал, как думала официальная Кубань, но для меня стало ясно, что и на Кубани эта идея не имела успеха».
В те же дни бывший помощник генерала Врангеля по должности главноначальствующего Харьковской области и будущий его министр внутренних дел Тверской собирал в Кисловодске видных общественных деятелей и осведомлялся: может ли генерал Врангель в случае переворота рассчитывать на поддержку общественных и финансовых кругов. Ответ получился отрицательный.
Между тем, как оказалось, с возглавлением казачьей группы бароном Врангелем вышло недоразумение и на Кубани. Заместитель атамана Сушков и председатель Кубанской Рады Скобцов отнеслись к такому предположению совершенно отрицательно, заявив, что «если это случится, то казаки не пойдут в полки, так как генерал Врангель потерял свой престиж на Кубани». Они просили генерала Науменко «принять меры, чтобы барон сам отказался от этой мысли». Науменко поручение исполнил.
Скобцов по этому поводу пишет:
«Генерал Врангель просил о свидании, которое и было назначено на первый или второй день Рождества. Мы были вдвоем с Сушковым. Генерал Врангель прибыл совместно с генералом Шатиловым…
Предупрежденный генералом Науменко, генерал Врангель… предупредил нас своим заявлением, что он решил отказаться от поручения главнокомандующего и срочно выезжает в Новороссийск.
В ответ на его предложение воспользоваться услугами его штаба при формировании частей мы указали, что это уже дело специалистов военных, которых мы назначаем из природных кубанцев».
Поезд Ставки перешел 27 декабря в Тихорецкую, и в ближайший день туда прибыли генерал Врангель и председатель Терского Круга П. Д. Губарев; последний с поручением от атамана Вдовенко и генерала Эрдели — выслушать его доклад ранее генерала Врангеля. Губарев сообщил мне почти дословно то, что изложено выше в позднейшей записке генерала Вдовенко, причем финал разговора описывал более образно: «Выслушав генерала Врангеля, Герасим Андреевич (Вдовенко) ударил по столу кулаком и сказал: «Ну, этому не бывать». После чего разговор сразу пресекся».
Через несколько минут после ухода Губарева в мой вагон вошел барон Врангель, и первыми его словами были:
— Ваше превосходительство, Науменко и Шкуро — предатели. Они уверили меня, что я сохранил популярность на Кубани, а теперь говорят, что имя мое среди казачества одиозно и что мне нельзя стать во главе казачьей конной армии…
Генерал Врангель считал поэтому дальнейшее свое участие в формировании ее невозможным. Свои взгляды на роль казачества и на продолжение борьбы он изложил в представленной мне тогда же записке, носившей дату 25 декабря.
«В связи с последними нашими неудачами на фронте и приближением врага к пределам казачьих земель среди казачества ярко обозначилось, с одной стороны, недоверие к высшему командованию, с другой, стремление к обособленности. Вновь выдвинуты предположения о создании общеказачьей власти, опирающейся на казачьи армии. За главным командованием проектом признается право лишь общего руководства военными операциями, во всех же вопросах как внутренней, так и внешней политики общеказачья власть должна быть вполне самостоятельной. Собирающаяся 2 января в Екатеринодаре казачья дума должна окончательно разрешить этот вопрос, пока рассмотренный лишь особой комиссией из представителей Дона, Кубани и Терека. Работы комиссии уже закончены, и соглашение по всем подробностям достигнуто. Каково будет решение думы, покажет будущее. Терек в связи с горским вопросом, надо думать, займет положение обособленное от прочих войск. Отношение Дона мне неизвестно, но есть основание думать, что он будет единодушен с Кубанью. Последняя же, учитывая свое настоящее значение, как последнего резерва Вооруженных сил Юга, при условии, что все донские и терские силы на фронте, а кубанские части полностью в тылу, стала на непримиримую точку зрения. Желая использовать в партийных и личных интересах создавшееся выгодное для себя положение, объединились все партии и большая часть старших начальников, руководимые мелким честолюбием.
Большевистски настроенные и малодушные поговаривают о возможности для новой власти достигнуть соглашения с врагом, прочие мечтают стать у кормила правления. Есть основания думать, что англичане сочувствуют созданию общеказачьей власти, видя в этом возможность разрешения грузинского и азербайджанского вопросов, в которых мы до сего времени занимали непримиримую позицию.
На почве вопроса о новой власти агитация в тылу наших вооруженных сил чрезвычайно усилилась.
Необходимо опередить события и учесть создавшееся положение, дабы принять незамедлительно определенное решение.
Со своей стороны, зная хорошо настроение казаков, считаю, что в настоящее время продолжение борьбы для нас возможно, лишь опираясь на коренные русские силы. Рассчитывать на продолжение казаками борьбы и участие их в продвижении вторично в глубь России нельзя. Бороться под знаменем «Великая, Единая, Неделимая Россия» они больше не будут, и единственное знамя, которое, может быть, еще соберет их вокруг себя, может быть лишь борьба за «права и вольности казачества», и эта борьба ограничится в лучшем случае очищением от врага казачьих земель.
При этих условиях главный очаг борьбы должен быть перенесен на запад, куда должны быть сосредоточены все наши главные силы.
По сведениям, полученным мною от генерала английской службы Киза, есть полные основания думать, что соглашение с поляками может быть достигнуто. Польская армия в настоящее время представляет собою вторую по численности в Европе (большевики, поляки, англичане). Есть основания рассчитывать на помощь живой силой других славянских народов (болгары, сербы).
Имея на флангах русские армии (Северо-Западную и Новороссийскую) и в центре поляков, противобольшевистские силы займут фронт от Балтийского до Черного моря, имея прочный тыл и обеспеченное снабжение.
В связи с изложенным казалось бы необходимым принять меры к удержанию юга Новороссии, перенесению главной базы из Новороссийска в Одессу, постепенной переброске на Запад регулярных частей с выделением ныне же части офицеров для укомплектования Северо-Западной армии[198], где в них огромный недостаток.
Генерал-лейтенант барон Врангель».
С тех пор правая оппозиция, главою которой считался барон Врангель, стала вести агитацию за разрыв с казачеством, за перенесение борьбы в Новороссию и возглавление там войск и власти генералом Врангелем. Это течение, находившее отклик среди тылового офицерства и проникавшее в армию, ослабляло импульс готовившегося решительного наступления.
Глава XVII. Верховный Круг Дона, Кубани и Терека. Совещание в Тихорецкой
Поход на власть шел и с другой стороны.
Наши военные неудачи, вызвав падение авторитета Южной власти, вместе с тем похоронили и результаты Южнорусской конференции. Казачество сочло возможным самостоятельно и односторонне разрешить вопрос о построении общей власти. 5 января в Екатеринодаре собрался казачий Верховный Круг[199], который приступил «к установлению независимого союзного государства», объявив себя «верховной властью по делам общим для Дона, Кубани и Терека». С первых же заседаний обнаружилась истинная физиономия этого парламента, едва ли не наиболее слабого из всех соборных опытов русского безвременья. Перечитывая теперь отчеты о заседаниях Верховного Круга, я укрепился еще более в его оценке: отсутствие национальной идеи, убогая мысль, потеря чувства реальности, оторванность от народных масс, личные или партийные интересы — во главе угла. И беспомощность немногих государственных людей, стремившихся безнадежно повернуть Круг на путь благоразумия, иной раз — просто пристойности. Самонадеянность сменялась подавленностью, жестокая и очень часто несправедливая критика, при забвении собственных вин, заменяла всецело положительную работу.
Сразу обнаружились три главных течения в Круге.
Часть донцов и почти все терцы призывали к продолжению борьбы в единении с главным командованием. Особенно твердо настаивали на этом донской атаман Богаевский и генерал Сидорин, рисуя перспективы полной военной катастрофы в случае ухода добровольцев.
Большая часть кубанцев, оба крайних фланга донцов (Агеев, Гнилорыбов, Янов) и несколько человек терцев (левый фланг) требовали полного разрыва с нами.
Чем же мыслили они восстановить равновесие сил перед лицом надвинувшихся уже на Кубань большевистских армий? Союзом с полумифическим в то время Петлюрой, помощью «живой силой» со стороны вступавших уже на путь переговоров с советами Грузии[200] и Азербайджана, наконец, «организацией масс», то есть поддержкой кубанских «зеленых» — отрядов Пилюка, Крикуна, братьев Рябоволов и других, с которыми поддерживали тесную связь многие члены Верховного Круга и которые мало-помалу из дезертиров превратились просто в бандитов.
Кубанский атаман Букретов вступил в переговоры с английскими и французскими представителями, и председатель Рады Тимошенко обнадежил ее, что Кубанская армия будет обеспечена английским снабжением. Тотчас же генерал Хольмэн послал атаману и опубликовал в газетах письмо, в котором было заявлено, что ни один мундир, ни один патрон не будет выдан никому без разрешения главнокомандующего… Тем не менее кубанские самостийники не теряли надежд и продолжали вести сильнейшую агитацию на фронте и в тылу. Кавказская армия разлагалась и разбегалась окончательно, пополнения отказывались идти на фронт, и славные некогда кубанские корпуса превратились в штабы без войск, а последние — в тучи дезертиров, осевших по станицам.
Наконец, третье течение — наиболее опасное. Оно захватывало левые фланги донцов и кубанцев, представители которых не осмеливались пока выявлять его открыто с кафедры, но на тайных сходках и заседаниях — ранее в Новочеркасске, теперь в Екатеринодаре — склонялись к прекращению борьбы. Встревоженные этим обстоятельством терцы потребовали, чтобы Верховный Круг высказался по поводу слухов о возможности мирных переговоров с большевиками, но председатель Тимошенко отклонил обсуждение этого опасного вопроса. Косвенно исчерпывающий как будто ответ давало «введение» к «положению о Круге», определявшее самую цель его «организацией решительной борьбы против большевиков и очищение от них наших территорий…». Но слухи ползли отовсюду, находя радостный отклик в самостийной прессе («Кубанская воля» и другие); назывались уже имена и факты…
Внутри Круга шла борьба между войсками, внутри войск — между партиями. Донцы и терцы с возмущением и яростью нападали на кубанцев за их потворство оставлению фронта кубанскими частями, за равнодушие и черствость в отношении донского беженства. В Донском Кругу углублялся раскол, осложнившийся кампанией, поведенной против атамана генерала Богаевского и председателя Круга Харламова, который вначале был даже забаллотирован в члены Верховного Круга[201].
Вражда между «черноморцами» и «линейцами» грозила перейти в полный разрыв, ставя вновь на очередь вопрос о выделении из Кубанского войска «линейских» (русских) округов и о присоединении их к Тереку… Только терцы — атаман, правительство и фракция Круга — почти в полном составе представляли единый фронт.
На Круге все громче слышались голоса, требующие ограничения борьбы «защитой родных краев», а при обсуждении вопроса о форме присяги подвергалось поношению само имя России… Даже лояльные казаки говорили открыто на Круге: «главнокомандующий не учитывает момент… «Москву» нужно держать в сердце, но говорить теперь можно только об освобождении казаков от большевиков…» Не понимали, что эти упрощенные лозунги убивают всякий импульс к борьбе в добровольцах: «Что же мы? — отвечали из их рядов. — Пушечное мясо для защиты ненавистных самостийников?..»
А на фоне общего бедствия и клокочущих страстей появлялись политические маклеры — чересчур дальнозоркие или чрезмерно близорукие, ссылаясь на исторические заслуги казачества и указывая панацею от всех взаимных столкновений и обид: «Нужно исправить северные границы Дона за счет Воронежской губернии и присоединить к нему Царицын (проект Доно-Волжского канала), разделить Ставропольскую губернию между Тереком и Кубанью и отдать последней Черноморскую губернию (порты Новороссийск и Туапсе)… Стоит только главнокомандующему поклониться этими землями казачеству, и все будет хорошо…»
Верховный Круг с первого же дня своего существования разлагался, дискредитируя идею народоправства. Не только «верховной», но никакой властью фактически он не обладал. Круг не мог указать путей, способных привлечь, и не обладал энтузиазмом, могущим увлечь казачество на борьбу. Но Верховный Круг имел достаточно еще сил и влияния, чтобы склонить чашу весов колеблющегося настроения уставшего, запутавшегося казачества к разрыву с Добровольческой армией и… к миру с большевиками. И с Кругом нужно было считаться.
Идея самостоятельного казачьего государства и самостоятельной казачьей армии под влиянием кубанских самостийников поначалу стала брать верх на Круге.
Еще до открытия Верховного Круга по поводу екатеринодарских настроений я телеграфировал генералу Богаевскому для передачи Кубанской Раде и Донскому Кругу, отмечая два важных случая последнего времени: отход Добровольческой армии с огромными потерями на Ростов для спасения казачьего фронта и… уход с фронта в самые тяжкие дни кубанских частей. «Невзирая на все случившееся, — писал я, — настоящее стратегическое положение, при условии принятия участия в борьбе кубанских казаков, обещает полную победу над большевиками… Но кубанские и донские демагоги, лишенные политического смысла, в ослеплении своем разжигают низкие страсти, возбуждают казачество против добровольчества и командования и тем рушат последние своды, поддерживающие еще фронт… Предвижу только два положения: с добровольцами или… с большевиками»[202].
Через несколько дней в отчете Круга появилась фраза, сказанная будто бы на заседании его генералом Богаевским: «Если Круг предложит генералу Деникину уйти, он уйдет» и так далее. Я телеграфировал Богаевскому: «Ни в малейшей степени не считаюсь с желанием в этом отношении Круга. Веду борьбу за Россию на данном театре до тех пор, пока это возможно. А если идея общерусской государственности будет здесь попрана, вместе с Добровольческой армией перенесу борьбу на другой фронт…»[203]
Разрыв грозил катастрофой обеим сторонам. Стратеги Верховного Круга могли заблуждаться, но Ставка и военачальники понимали прекрасно, что увод добровольцев повлечет за собой немедленное падение всего фронта, быть может, сдачу большевикам со всеми ее тягчайшими последствиями. С другой стороны, если Добровольческий корпус, хотя и с потерями, мог бы пробиться к Новороссийску даже сквозь большевистские полки и могущую стать враждебной ему казачью стихию, то на территории Кубани и Северного Кавказа оставались еще тысячи офицерских семейств, военные училища, гарнизоны, больные, раненые, чиновничество и вообще многочисленные элементы — российские, кубанские, донские и терские, связанные крепко с добровольчеством. Бросить их в пучине страстей, которые поднялись бы с уходом добровольцев, было немыслимо.
Вопрос для меня был ясен.
Никакие жертвы в области ограничения гражданской власти не велики, если благодаря им могло быть достигнуто оздоровление казачества и разгром большевиков.
С другой стороны, основы соглашения совершенно безразличны, если будет утеряна казачья территория, и в последнем случае важно лишь то, что ведет к возможно безболезненному исходу.
Эти мотивы легли в основу всех дальнейших моих отношений с Верховным Кругом и казачеством, приведших к ряду компромиссов, которые вызывали во многих российских кругах осуждение.
Я брал на свою голову, с полным сознанием своего долга, весь одиум «соглашательства» — ради победы или ради спасения тех, кто был связан с добровольчеством.
Имя генерала Лукомского было одиозно в казачьих кругах, и председателем правительства был назначен генерал Богаевский[204], в состав правительства я согласился ввести должности министров по делам трех казачьих войск.
Так как кубанцы не хотели идти в ряды Кавказской армии, то во исполнение их вожделений создана была Кубанская армия, во главе которой поставлен был популярный на Кубани генерал Шкуро[205].
Этими актами начался ряд уступок казачеству…
Верховный Круг шумел, хотя слухи об уходе добровольцев вызывали страх и уныние. Для вящего воздействия на Круг по инициативе военных начальников я собрал 12 января в Тихорецкой, где находилась Ставка, совещание из атаманов, правителей и командующих. На этом совещании, оставляя в стороне вопрос о личностях, оставляя всякие обвинения и ошибки, я поставил твердо и определенно основное положение:
Единство России и единство армии.
«Без этого ни я, ни тысячи людей, единомыслящих со мной, не можем идти с теми, кто эти идеи отвергает. Ответ необходим немедленный, ибо дальше в этой нездоровой политической атмосфере бороться не имеет смысла…».
Демонстрация полного единения всех военных начальников была внушительна и не оставляла сомнений во всеобщем негодующем чувстве по отношению к политиканствующему Екатеринодару. Прежде всего все сходились в оценке стратегического положения, не только допускающего возможность продолжения борьбы, но и обещающего успех. Генералы Сидорин и Кутепов свидетельствовали — и тогда это было истиной — о боеспособности Донской армии и Добровольческого корпуса, о сохранении в их рядах духа и желания драться. Кубанские начальники (генералы Покровский, Шкуро), не отрицая развала своих войск, относились, однако, с большим оптимизмом — и это оказалось ошибкой — к возможности поднять кубанское казачество. И даже председатель Кубанской Рады Тимошенко заявил, что Рада разослала своих членов для агитации в станицах и уверена, что «все кубанские части, как один, пойдут на фронт…». При этом, однако, кубанский атаман Букретов нашел лицемерное объяснение «той смуте, которая якобы (!) совершается в Екатеринодаре — этом сердце казачества»: весь вопрос был, оказывается, в малодушии российских людей. «Паника, буквальное бегство на Новороссийск… Вместо тыловых позиций на границах Кубани устраиваются позиции у Новороссийска… Впечатление такое, что Кубань защищать не хотят…».
Такие взгляды кубанский атаман (офицер Генерального штаба) проводил, по всей вероятности, и в среде казачества… В этом вопросе он не нашел поддержки даже со стороны Тимошенко, который заявил, что казаки понимают, что нельзя ограничиться защитой географических пределов.
Не менее единодушно высказано было осуждение Верховному Кругу и возобладавшим на нем течениям. Привожу несколько выдержек из отчета об этом совещании.
Донской атаман генерал Богаевский: «Все, что происходит в Екатеринодаре, приводит меня к убеждению, что многие люди вовсе не понимают обстановки: всюду господствуют личные интересы и все ставят на карту ради них. К моему глубокому сожалению, и у донцов случайно есть господа, думающие и говорящие о мире с большевиками, но и они записывают свои семьи на отходящие за границу пароходы. Создается совершенно ненужный союз. Предатели затевают нечестную кампанию и ставят крест на нашем существовании. Дезертиры громят тех, кто им мешает, и, громя их, губят армию и все дело борьбы. Офицеры сознают, что им несдобровать, и, если будет разрыв, все уйдут — они понимают, что их выдадут первыми большевикам. Я первый откажусь от поста атамана.
Что было сегодня в Екатеринодаре? Два часа бессмысленных речей людей, ничего не понимающих в военном деле. Там собрались, чтобы воткнуть нож в спину… Если добровольцы уйдут, все рухнет. Бредни о сборе двухсоттысячной армии на Дону против большевиков — бессмысленные бредни ничего не понимающих людей. Армия, собранная для заключения мира, воевать не будет. Если откажемся от общей власти, от общего командования, будет лишь совдеп, и все погибнет».
Председатель Донского Круга Харламов: «Я вижу, что вопрос о возможности продолжения борьбы ставится под сомнение. Открыто о мире не говорят, о нем упоминается лишь в частных беседах. Но зараза эта распространяется и охватывает слабых людей. Конечно, в той обстановке, в которой протекает политическая жизнь, благодаря созданию Верховного Круга и той атмосферы, которая вокруг него складывается, зараза идет и шире и глубже.
Изменение лозунга борьбы и замена идеи борьбы борьбой за собственный очаг, за собственную шкуру означает конец этой борьбы. Кубань счастливее Дона и Терека. Дон вдался клином в совдепию, Терек — вооруженный стан. Кубань богата и цветет и за нашей спиной может чувствовать себя спокойно; она может попытаться проводить в жизнь слепливание России по кусочкам. Мы это пережили и в августе, и в сентябре; потребовался особый указ Круга… Мы решили, что не географические границы области считать пределом борьбы, а стратегические требования. И когда донцы поняли большевизм, у них уже не было разговора о границах борьбы. То настроение, о котором говорил командующий армией, разделяется всеми, сделавшими отход; все свидетельствуют о готовности бороться и дальше. Не только нет разговоров о мире, не говорят даже о безнадежности борьбы. И у меня нет сомнений, что Донской Круг, который на этих днях соберется, не останется на прежней позиции, но станет на точку зрения государственности. Самостоятельное казачье государство для нас немыслимо.
Единая Россия может создаваться единой общерусской властью и единой вооруженной силой. Это непреложно. Демократическими лозунгами казачество никого не обманет, никого не удивит и ничего не завоюет.
Я считаю своим долгом отметить, что единственная речь, произнесенная на Верховном Круге, напоминавшая о государственной идее и говорившая об общегосударственной власти, единственная речь — говорю это с болью в сердце — вышла из уст осетина Баева, представителя Терского войска…»
Председатель Терского Круга Губарев: «Тяжелая обстановка и атмосфера на Круге. Этого отрицать никто не будет. Там слово «Россия» произнесено быть не может. Вопрос о борьбе с большевиками проходит очень тяжело и был принят с большим трудом и то после того, как был поднят вторично. Мы, терцы, до сих пор не можем заглянуть в душу и разгадать, что происходит, что делается там, чего хотят они. Мы считаем, что идея не должна умирать ни сегодня, ни завтра, ни после… Дальнейшее такое положение немыслимо. Мы чувствуем, что многие из вас спасутся, наши же лучшие люди погибнут».
Председатель Терского правительства Абрамов: «Без общей государственной власти и согласия с главным командованием ни бороться, ни жить Терское войско не может. Другого выхода Терское войско не видит. Если в мое и Губарева отсутствие прошла наша резолюция, то вы видите, каково настроение терцев. Лучше погибнуть с честью за Единство России…»
Терский атаман генерал Вдовенко: «Течение у терцев всегда одно. Золотыми буквами у нас написано: «Единая и Великая Россия». У терцев нет и мысли разрывать с Добровольческой армией. Не будет ее, не станет и борьбы».
В стороне от общего настроения собравшихся стояли только кубанские представители — атаман Букретов и председатель Рады Тимошенко, представлявший на совещании одновременно и Верховный Круг.
«Это не смута, а движение народа, — говорил Букретов, — которому нужно пойти навстречу и удовлетворить массу. Надо, быть может, посчитаться с личностями[206]. Нужны уступки, чтобы идти скорее в наступление».
Тимошенко, видимо, волновавшийся от града обвинений, сыпавшихся на Круг, косвенно и по его адресу, ответил весьма сдержанно. Он протестовал против опорочения Круга, представляющего «все лучшее, что могли дать Дон, Кубань и Терек». Заявил от имени Круга: «Мы повинуемся главнокомандующему, когда говорят о стратегии…» Но, видя центр тяжести гражданской войны в политической жизни, он требовал участия в ней Круга: «Мы, из народа, в состоянии не хуже военных авторитетов усвоить те идеи, которыми живет народ». Призывая «понять и оценить причины настоящего настроения масс», убеждал нас, что «утомление нельзя рассматривать как измену и предательство». Тимошенко признавал необходимость борьбы, невозможность разрыва с Добровольческой армией и даже единство России, лишь бы не произносилась сакраментальная для казачества фраза о походе на Москву…
Сущность всего высказанного на совещании сводилась к следующим выводам:
1. Продолжение борьбы возможно, необходимо и обещает успех.
2. Необходимо немедленно выдвижение на фронт кубанских частей для прикрытия обнаженных ими направлений и для наступления.
3. Донская и Кубанская армии имеют право на существование, но составляют с прочими единую русскую армию, управляемую единой властью, которая использует казачьи и добровольческие корпуса на тех фронтах и в тех армиях, где этого потребует стратегическая обстановка.
4. Разрыв с Добровольческой армией знаменовал бы немедленное падение фронта и конец борьбы.
5. Добровольческая армия, добровольческие части, входящие в состав казачьих армий, и русское офицерство местной власти не подчинятся.
6. Горские народы Северного Кавказа Верховного Круга не признают.
7. Без идеи единства России и единства армии продолжение борьбы немыслимо. То тягостное неопределенное положение, в котором ныне живет армия, долее выносить нельзя. Необходимо немедленное разрешение вопроса о власти, ибо русское добровольчество и офицерство готово сложить свои головы за Россию, но за благополучие одного лишь казачества умирать не будет. Это положение было высказано твердо не одними добровольческими начальниками, но и командующими Донской и Кубанской армиями.
Глава XVIII. Заседание Верховного Круга 16 января 1920 года
После совещания Тимошенко обратился ко мне с предложением прибыть на Круг, уверяя, что личное общение разрешит скорее и легче все недоразумения. Я ответил, что это будет зависеть от того, как отнесется Круг к вынесенным сегодня постановлениям.
После вторичного настойчивого приглашения я решил посетить Верховный Круг.
16 утром мой поезд прибыл в Екатеринодар. Тотчас начались посещения целого ряда лиц, имевших целью побудить меня к уступкам и предотвратить возможный разрыв. Явились английский и французский представители, принеся навеянный Кругом, но все же далекий от его пожеланий проект государственного устройства Юга. Их речи были неуверенны, понимание положения сбивчивое, но цели несомненно искренние. Пришел и Тимошенко, который в качестве аргумента в пользу уступок и соглашения с казачеством привел «достоверное сведение» о… брожении в добровольческих кругах. Уступки казачеству как средство успокоить добровольцев — это было несколько неожиданно…
В полдень я приехал на заседание Круга и сказал речь, с полным текстом которой были ознакомлены предварительно командующие генералы — Сидорин и Кутепов.
«1. В дни наших неудач все ищут причин, поколебавших фронт. Правые видят их в недостаточно твердом проведении своей программы; левые — в реакционности правительства; одни — в самостийных устремлениях; другие — в нетерпимости к новым «государственным образованиям; третьи — в главном командовании. И все — в грабежах и бесчинствах войск, даже те, кто толкал их на это, заменяя недостаток патриотизма жаждой наживы.
2. Теперь, когда все горит в огне политических страстей, трудно найти истину. Я отметаю поэтому всякие личности, всякие ошибки, всякую социальную и политическую нетерпимость… Умудренные печальным опытом прошлого мы должны напрячь все свои силы, чтобы искупить свои большие и малые, вольные и невольные вины перед Родиной, в безысходных страданиях ждущей избавления.
3. Что же случилось на фронте?
Если в харьково-воронежском районе мы имели против себя огромные силы большевиков, стянутые со всех сторон, под напором которых сдвинулся наш фронт, то уже под Ростовом и Новочеркасском, к стыду нашему, мы сами имели превосходство над противником и в технике, и в силе. Но дух был подорван: и отступлением, и наживой, и безудержной пропагандой, подрывавшей авторитет командования и затемнявшей цели борьбы. И вот в начале декабря южнее Купянска рассыпалась сильная конная группа, которая должна была решить участь всей операции… Когда шли горячие бои под Ростовом, я видел у Батайска бесконечные вереницы веселых, здоровых всадников на хороших лошадях с огромными обозами… И еще больше болело сердце за тысячи погибших добровольцев, которые, имея возможность безболезненно уйти в Крым, жесточайшими боями пробивались к Дону, чтобы вместе с донцами грудью прикрыть Кубань и Кавказ. Болело сердце за тысячи казачьих жизней, павших безрадостно, не дождавшись победы.
4. Но это прошлое.
Фронт поправился и стал прочно. На донском фронте даже численный перевес противника не велик… Конница казачья и добровольческая разбила недавно Буденного и потрепала Думенко. Вчера донцы вновь разбили Думенко, который бросил большую часть своей артиллерии. Добровольцы в двухдневном бою отбили многократные атаки и отбросили большие силы противника. Терцы отбросили большевиков далеко за Кизляр. Крым и Новороссия прикрыты. Возможны, конечно, еще неудачи, но даже дальнейший отход не страшен при данной силе и настроении главного нашего фронта и при непременном условии немедленного выхода на фронт кубанских частей для наступления и для прикрытия некоторых направлений, совершенно обнаженных и угрожаемых.
В самом деле, не кажется ли вам странным, что в час самой грозной опасности из всего Кубанского казачьего войска на боевом фронте дерется всего лишь 8.5 тысяч бойцов?
К сожалению, преступная пропаганда продолжает свое злое дело, и нежелание некоторых полков идти на фронт, большая утечка из других частей, медленное формирование — это лишь отзвуки нездоровой жизни Екатеринодара.
Если так пойдет дальше, то на успех рассчитывать трудно.
5. Какую же силу представляет из себя ныне большевизм? Я не стану излагать своего мнения и ограничусь оценкой, данной Троцким на заседании революционного военного совета Южного фронта.
«Отсутствие продовольствия, расстройство транспорта, голод, холод, глухое и открытое недовольство нами масс — все это грозит последствиями, которые до конца напряженная власть не в состоянии будет ликвидировать. Наш противник так же совершенно выдохся, и весь вопрос в том, кто из нас в состоянии будет выдержать эту зиму. Мы не в состоянии воевать, они тоже, поэтому во что бы то ни стало надо наступать».
Неужели вы не понимаете, что, невзирая на все видимые блестящие успехи большевиков, это крик отчаяния зарвавшегося игрока, и от нас требуется лишь последнее сильное напряжение, чтобы покончить с ним?
И если мы не напряжем всех сил своих, чтобы свергнуть большевиков, то окажемся такою слякотью, которая недостойна тех вольностей, о которых так много, горячо и красиво говорят во всех представительных учреждениях. Ибо рабам подобает ярмо, а не свобода.
6. Что же делает тыл для воодушевления борцов? Екатеринодар устранил Россию, создал казачье государство, формирует самостоятельную армию и готовится принять всю полноту власти военной и гражданской на юго-востоке. Одно только не приняли во внимание, что Добровольческая армия и главнокомандующий служат России, а не Верховному Кругу.
Тем не менее екатеринодарские речи сделали свое дело. На фронте явилась неуверенность в возможности продолжать при таких условиях борьбу. Весь командный состав, работая тяжко над фронтом внешним, принужден оглядываться на внутренний. Мысли казачества отвлекаются от борьбы. Сначала шепотком, потом все громче бросаются в армию новые лозунги, разрушающие всю идею борьбы, за которую тысячи людей бестрепетно сложили свои головы. Наконец, неумелыми руками разрушают военную организацию, ставя стратегию в полную невозможность исполнения своих планов. К таким больным вопросам относится и требование самостоятельных армий.
7. Вся наша борьба шла под флагом единства России и единства армии. Корнилов, Алексеев, Каледин, Марков и прочие великие и малые русские люди умирали за эту идею. Только эта идея могла спаять небольшой отряд Первого Кубанского похода. Только она могла создать армию, двинуть с большим трудом кубанцев на север, соединить бурлящие народы Северного Кавказа.
И только забвение этой идеи могло привести здесь к такому факту, как исключение самого имени России из официального акта[207].
Единство России… Только этим единством — колеблемым, оспариваемым, быть может, призрачным — мне удалось заставить уважать достоинство русского имени, получить огромную помощь и оградить от посягательств извне. Оградить от той судьбы, которая уготована всем мелким, враждующим, спорящим и поглощаемым иноземцами окраинам.
Эту политику считают нетерпимостью. Но разве может жить великая наша страна без Балтийского и Черного морей? Разве может она допустить переход во враждебный стан своих окраин, за которые пролито столько русской крови и особенно казачьей, вложено столько русского труда и народного достояния?
На просьбу союзников определить отношение к окраинам я дал ответ, дальше которого идти невозможно[208].
Ввиду того, что позиция, занятая конференцией по отношению к Азербайджану и Грузии, дала последним повод думать, что речь идет о признании независимости этих новообразований, я заявил протест. Но сегодня получил официальное разъяснение, что державы признали самостоятельность фактических правительств[209], а не самих окраин.
Это не нетерпимость, а соблюдение высших интересов русской державы, и этим не исключается вовсе возможность установления добрососедских отношений на тех именно основаниях, которые приведены в моем заявлении.
8. Вернемся, однако, к фронту.
12 декабря на собрании всех старших начальников выяснилась яркая картина положения и настроений фронта…»
Прочтя затем приведенные выше положения, принятые совещанием в Тихорецкой, я продолжал:
«…9. И если Верховный Круг все же найдет возможным принять рискованное решение — откажется от организации общерусской власти, создаст казачье государство, отдельную армию и поставит ей задачу только самозащиты, то ни мне, ни Добровольческой армии здесь не место. Надо искать других путей для освобождения России.
Я постараюсь нарисовать вам картину ближайшего будущего, основанную на ярких, образных докладах всех казачьих и добровольческих старших военачальников.
Я с Добровольческой армией уйду. Русские офицеры и добровольцы, заполняющие почти все технические части казачьих войск, уйдут с нами. Уйдет и значительное число казачьих начальников и того казачества, которое не в силах пойти под большевиков или не ждет от них пощады. Помните, что нет той силы, которая могла бы воспрепятствовать движению этой армии людей, связанных единой целью, общей опасностью, озлобленных крушением своих надежд…
В тот же день рухнет весь фронт. Большевики зальют Задонье и Кубань и выместят на них свои злоключения. Не забудут ни чрезвычайных судов, ни порки, ни выселения… Пощады не будет. Для Европы они ведь недавно торжественно отменили смертную казнь, а сами заливают кровью Ростов, Новочеркасск и донские станицы. А через два-три месяца казаки, ограбленные дочиста, униженные, не досчитывая многих умученных, восстанут вновь и начнут борьбу, поминая проклятием тех, кто их сбил с толку.
Не скрою от вас и того, что, если мне придется уходить, я сделаю это с глубокой скорбью в душе, со жгучей болью за разрушенные надежды и за тяжкую долю того честного казачества, с которым так долго делил и радость и горе.
10. Зачем же нужно разрушать жизнь, какие непримиримые противоречия возникли между казачеством и главным командованием, почему рождавшееся в таких долгих муках положение конференции об общегосударственной власти оказалось неприемлемым, зачем нужно расчленять Юг России на призрачные «государства», лишенные силы и голоса в международной политике?
Я веду борьбу за Россию, а не за власть. Но, к моему сожалению, борьба за Россию немыслима без полноты власти главнокомандующего. Эта власть, конечно, не может быть ни капризом, ни произволом.
В основе ее я мыслю следующие положения:
1. Единая, Великая, Неделимая Россия.
2. Донская и Кубанская армии составляют нераздельную часть единой русской армии, управляемой одними законами и единой властью.
3. Борьба с большевиками до конца.
4. Автономия окраин и широкая автономия казачьих войск, историческими заслугами оправдываемая. Широкое самоуправление губерний и областей.
5. Правительство, ведающее общегосударственными делами, из лиц честных, деловых и не принадлежащих к крайним воззрениям. Полное обеспечение в нем интересов казачьих войск вхождением казачьих представителей.
6. Представительное учреждение законосовещательного характера.
7. Земля — крестьянам и трудовому казачеству.
8. Широкое обеспечение профессиональных интересов рабочих.
9. Всероссийское Учредительное собрание, устанавливающее форму правления в стране.
Наконец, тем, кто хочет непременно читать в душах, я могу облегчить труд и совершенно искренно высказать свой взгляд на самое больное место нашего политического символа веры.
Счастье Родины я ставлю на первом плане. Я работаю над освобождением России. Форма правления для меня вопрос второстепенный. И если когда-либо будет борьба за форму правления, я в ней участвовать не буду. Но, нисколько не насилуя совесть, я считаю одинаково возможным честно служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский желает той или другой власти. И поверьте, все ваши предрешения праздны. Народ сам скажет, чего он хочет. И скажет с такою силою и с таким единодушием, что всем нам — большим и малым законодателям — придется только преклониться перед его державной волей.
Вот те мысли, которые я с полной откровенностью счел необходимым изложить вам. Если возможно идти дальше рука об руку с казачеством, пойду с радостью и с глубокой верой в конечный успех. Если же нельзя, разойдемся, и пусть Бог и Россия рассудят нас».
Отвечал мне председатель Круга Тимошенко.
«Триста лет создавалась мощь и величие России костьми, потом и кровью русского народа. Триста лет во имя величия России погибал русский народ.
И хорошо жилось в это время на Руси немногим, и, во всяком случае, не русскому народу.
Разразилась русская революция, и народ сбросил ярмо и рабство. Но целый ряд волнующих обстоятельств повел к тому, что русскому народу не пришлось устроить свою жизнь так, как ему хотелось и подобало. На смену одних насильников явились другие, которые дали народу новых сатрапов-комиссаров, чрезвычайки и прочее.
И вот на далеких окраинах государства великие русские патриоты восстали против этих новых насильников. Два года длится упорная ожесточенная борьба во имя обесчещенной Родины, борьба, в которой рука об руку сражаются казаки и добровольцы.
Мы уже далеко были продвинуты в этой нашей борьбе и были около Москвы.
И что же?
Наши войска, предводимые блестящей плеядой полководцев, окружающих главнокомандующего, вахмистры Буденный и Думенко отбросили к исходному положению.
Не будем прислушиваться к тому, что говорят правые, что говорят левые, но давайте учтем причины этого нашего поражения.
Великую идею освобождения Родины, этот драгоценный сосуд, можно пронести в Москву только с народом и только через народ. Мы ценим талант главнокомандующего и его соратников, но в гражданской войне, кроме таланта стратегического и учета обстановки военной, нужно учесть и сторону политическую.
Гражданская война это — не племенная борьба, это борьба — за формы правления. И поэтому воссоздать Россию мы можем лишь такой политикой, такими лозунгами, которые близки и понятны народу.
Мы приветствуем заявление главнокомандующего о том, что земля должна принадлежать трудовому народу и казачеству, но мы думаем, что этот лозунг должен быть написан на нашем знамени еще в самом начале борьбы.
Мы приветствуем лозунг, провозглашенный сегодня главнокомандующим, об Учредительном собрании, но мы думаем, что этот лозунг нужно было провозгласить еще в самом начале борьбы, при выходе из Екатеринодара.
Диктатурой России не победить.
Главнокомандующий подчеркнул здесь, что кубанские части слишком малочисленны сейчас на фронте, что кубанцы в этот исторический момент оказались позади.
Я должен сказать, что Кубань одна из первых создала ядро, с которым Добровольческая армия пошла на север. Мне тяжело об этом говорить, но я должен сказать: всего два месяца назад на Кубани произведена была тяжелая операция изъятия ее политических вождей. Кубань много принесла жертв и много еще их принесет, но Кубань не мыслит себе диктатуры, не мыслит такого положения, когда народ безмолвствует.
И с диктатурой, то есть с властью насилия, Кубань не помирится.
Весь мир объят сейчас движением народным, и наши русские события — лишь волна этой общей стихии. И расценивать нынешние народные движения по-старому как смуту, клеймить их предательством и изменой, как прежде — это крупная тяжелая ошибка. Мы пойдем сражаться, но не как рабы, а как свободные граждане, которые не подчиняются никакой диктатуре, как бы велик диктатор ни был.
Верховный Круг, объявив себя Верховной властью на Дону, Кубани и Тереке, не мыслит себя совершенно отдельным от России государством. Идея единой России Верховному Кругу близка, но борьбу за ее воссоздание Круг мыслит себе иначе. И если между Верховным Кругом и главным командованием возникли разногласия, они могут быть устранены. Это только разногласия относительно построения власти и организации аппарата управления.
Соглашение возможно и необходимо в общих интересах, а для этого нужно не подходить с заранее предрешенным определением друг к другу. Мы никогда не говорили, что во всех неудачах на фронте виноват главнокомандующий, но и не нужно говорить, что мы, здесь собравшиеся, смутьяны и изменники.
Это неверно.
Изболевшиеся душой, мучимые вопросом, как устроить нашу жизнь дальше, здесь собрались люди, которые корнями вросли в народную душу. Это уполномоченные представители Дона, Кубани и Терека, и кому, как не им, решать судьбу пославших их.
Верховный Круг понимает и знает, что уход главнокомандующего и добровольческих частей — это гибель для казачества, но вряд ли этот разрыв спасет и добровольцев. Нас смущает другое. Мы смущены тем, что наши разногласия погубят идею великой России и осуществятся мечты Троцкого о единой, великой и неделимой совдепии.
Вот та угроза, которая повисла в этот исторический час над нами. И во имя интересов единой свободной России договоримся, господа, о том, как, куда и какими путями мы дальше пойдем.
И Верховный Круг будет стремиться не рвать, а договориться с главным командованием».
Наша политика заслуживала во многом осуждения, но меньше всего прав на это имели единомышленники Тимошенко.
Начертанная им характеристика настроений и взглядов оппозиции, в особенности кубанской, была неискренней и совершенно не соответствовала действительности. Их цели, взгляды, приемы, тактика уходили далеко от побуждений народного блага, от признания национальной идеи и даже просто от желания договориться.
И все хорошие слова в устах Тимошенко звучали фальшиво, являясь только полемическим примером, рассчитанным на доверчивых слушателей и плохо разбиравшихся в наших делах иностранцев.
Его единомышленники не хотели сражаться ни в роли «рабов», ни в роли «свободных граждан».
Вершители дел на Круге — группа донских и кубанских самостийников — в роли идеологов Единой, Великой России… Творцы идеи «самостоятельной ветви славянского племени» и «борьбы за свою независимость» — в качестве сберегателей полномочных прав Всероссийского Учредительного собрания… Законодатели, обездолившие своих иногородних, — во образе печальников за русский трудовой народ… Самый пафос борьбы с большевиками вызывал тогда уже большие сомнения в его искренности. Впоследствии сомнения эти нашли подтверждение: те самые лица, которые вели Верховный Круг, — Тимошенко, Агеев, Гнилорыбов, сбросив личину, пошли к большевикам, к тем самым, которых они называли виновниками «бесчестья Родины»…
С 16 января между казачьим Верховным Кругом и главным командованием начались вновь переговоры о создании на Юге общей государственной власти.
Глава XIX. Миссия Мак-Киндера. Договор с Верховным Кругом. «Южно-русское правительство». Настроение тыла: Новороссийск (эвакуация) и Кубань
В своей речи на Верховном Круге я упомянул о данном союзникам разъяснении по вопросу об отношении Южной власти к окраинам. История этого эпизода такова. В конце декабря по поручению английского правительства прибыл на Юг после посещения Варшавы видный член парламента Мак-Киндер, имея поручение выяснить положение Юга и способы оказания ему политической и моральной помощи. 31 декабря я получил из Новороссийска телеграмму от председателя правительства генерала Лукомского:
«В заседании правительства 31 декабря под моим председательством при участии Астрова, Бернацкого, Билимовича, Герасимова, Кривошеина, Нератова, Носовича, Савича, Степанова, князя Трубецкого, Фенина, Челищева, Юрченко и Федорова был заслушан доклад Нератова о предложениях Мак-Киндера. Во внимание к военному положению, в связи с событиями в казачьих областях, создающими опасность потери оставшейся территории, единогласно признано принять полностью предложение Мак-Киндера, в том числе признание Вами и правительством самостоятельности существующих окраинных правительств и установление будущих отношений путем договора общерусского правительства с окраинными правительствами с допущением сотрудничества союзников. Гарантию в этом отношении со стороны союзников совещание нашло нежелательным, как чрезмерно закрепляющую их самостоятельное положение. Термин «автономия», как крайне неопределенный и могущий вызвать длительные переговоры о ее пределах, признано желательным избежать.
Относительно Польши и Румынии совещание полагало возможным согласиться полностью на предложение Мак-Киндера[210], при условии содействия со стороны Польши живой силой с немедленным частичным переходом в наступление для отвлечения большевистских сил и дальнейшим развитием операций в возможно кратчайший срок и в полном масштабе.
Вместе с тем совещание нашло необходимым потребовать от союзников:
1) решительной и незамедлительной охраны флотом Черноморской губернии, Крыма и Одессы;
2) содействия к помощи живой силой со стороны Болгарии и Сербии;
3) обеспечения тоннажа для перевозки указанных в пункте втором войск;
4) продолжения снабжения Вооруженных сил на Юге России.
Крайне желательно заинтересовать Англию в экономических предприятиях Черноморской губернии и Крыма путем предоставления концессий, что в значительной мере свяжет ее интересы с нашими и даст нам валюту. Завтра, 1-го, имеет быть у Мак-Киндера совещание по вопросам финансовым, торгово-промышленным и транспорта при моем участии».
Постановление это я утвердил, внеся следующие изменения: 1. В пункте о признании «самостоятельного существования фактических окраинных правительств» я добавил определение: «ведущих борьбу с большевиками». 2. В пункте об отношениях к Польше ограничился заявлением: «Вопрос восточной границы Польши будет решен договором общерусского и польского правительства на этнографических основах». Что касается вопроса об экономическом содействии, я дал особо указание правительству: «Невзирая на тяжелое положение, нельзя допускать ничего, имеющего характер мирной оккупации и исключительного управления нашей торговлей и транспортом. По вопросу о концессиях не согласен, так как заинтересованность варягов и без того велика»[211].
Мак-Киндер, удовлетворившись в общем моим ответом, остался неудовлетворенным постановкой польского вопроса. Он просил пересмотреть его ввиду «будущей политической комбинации». Уезжая на короткое время в Англию, он предполагал по возвращении устроить свидание мое с генералом Пилсудским. Просил также разработать к тому времени основы соглашения с Румынией, советуя нам согласиться на плебисцит в Бессарабии, который при существующих там настроениях массы был бы, по его мнению, безусловно, благоприятным для России… Мак-Киндер не вернулся на Юг.
События прошли мимо этого запоздалого, хотя и несомненно доброжелательного вмешательства английского правительства. Двухсторонний договор остался мертвой буквой и интересен лишь как показатель английской точки зрения, с одной стороны, и той эволюции, которая под влиянием событий произошла в политических взглядах государственных людей Юга. Бывший государствовед «Особого совещания» К. Н. Соколов, не принимавший уже участия в правительстве, укоризненно подчеркивает этот «уклон» его, полагая, что «принятие идеи соглашения между Россией и окраинными образованиями было в несомненном противоречии с незыблемым до тех пор у нас догматом целокупной русской государственности и противоречило принципу полновластия Всероссийского Учредительного собрания…».
Мне казалось, что «догмат» отнюдь не поколеблен. Не говоря уже о том, что юридический смысл признания «самостоятельного существования фактических правительств» вовсе не равносилен признанию de jure окраинных «государств» и что соглашение вовсе не устраняло окончательной санкции Всероссийского Учредительного собрания, мне лично представлялось, что сговор между метрополией и окраинами может идти только о пределах, хотя бы широчайших, прав их на те или другие области управления, но не на раздельное существование. Этот путь нисколько не стоял в противоречии с идеей целокупности государства, и им я шел по существу и в наказе генералу Баратову о закавказских новообразованиях, и в работах Южно-русской конференции с казаками. Я считал, что мы освобождаемся только от ненужного и вредного ригоризма. Ибо гипноз слов довлел часто над людьми и деяниями, форма мертвила дух, а жизнь… шла мимо.
Существенно выразился уклон моей политики в переговорах с Верховным Кругом, веденных 16-го мною лично с лидерами Круга и атаманами, а после этого — в совещании представителей главного командования[212] и Круга. Эти переговоры после многих споров завершились к концу января принятием обеими сторонами положения:
«1. Южно-русская власть устанавливается на основах соглашения между главным командованием Вооруженными силами на Юге России и Верховным Кругом Дона, Кубани и Терека, впредь до созыва Всероссийского Учредительного собрания.
2. Первым главой Южно-русской власти, по соглашению Верховного Круга Дона, Кубани и Терека, с одной стороны, и главного командования Вооруженными силами на Юге России, с другой стороны, признается генерал-лейтенант Деникин.
3. Закон о преемстве власти главы государства вырабатывается Законодательной палатой на общем основании.
4. Законодательная власть на Юге России осуществляется Законодательной палатой.
Примечание: Проведение выборного закона в спешном порядке, а равно текущее законодательство, возлагается на Законодательную комиссию, созываемую по соглашению с главным командованием из представителей казачьих войск и местностей, находящихся под управлением главнокомандующего.
5. Функции исполнительной власти, кроме возглавляющего Южно-русскую власть, отправляет Совет министров, ответственный перед Законодательной палатой, кроме министров военно-морского и путей сообщения.
Примечание: Военное снабжение сосредоточивается в Военном министерстве. Министр продовольствия исполняет требования военного ведомства по снабжению армии.
6. Председатель Совета министров назначается лицом, возглавляющим Южно-русскую власть, а члены Совета министров утверждаются им же по представлению председателя Совета министров.
7. Лицу, возглавляющему Южно-русскую власть, принадлежит право роспуска Законодательной палаты и право относительного «вето». Причем к вторичному рассмотрению отклоненного закона палата может приступить не ранее чем через четыре месяца после его отклонения, и закон восприемлет силу лишь по принятии его большинством двух третей состава палаты».
Совещание выработало еще положения о Законодательной комиссии и о разграничении общегосударственной и местной власти. Верховный Круг, не приступая к обсуждению проектов, передал их в комиссию, и света они не увидели.
Ответственное министерство, Законодательная палата и условное вето знаменовали переход от диктатуры к конституционным формам правления… Я не допустил ограничения полноты военной власти главнокомандующего и сохранил подчинение только ему важнейших органов ведения войны. Это было по времени самое главное. Кроме того, Круг принужден был отказаться от своего ультимативного требования о предоставлении ему законодательных функций до созыва палаты. Это было невозможно ввиду отсутствия государственного смысла в деяниях Круга и совершенно неприемлемо в глазах российских людей.
Обе стороны пришли к соглашению под давлением обстановки, без особой радости и без больших надежд…
Стремясь к осуществлению народного представительства, я считал теперь, как и ранее, что в дни борьбы и потрясений и при том поразительном расслоении, которое являл собою организм противобольшевистской России, только военная диктатура при некоторых благоприятных условиях могла с надеждой на успех бороться против диктатуры коммунистической партии. Что рассредоточение и ослабление Верховной власти внесет огромные трудности в дело борьбы и строительства в будущем. Но стоило ли страшиться этого будущего, когда гибло настоящее и нужно было пытаться спасти его?..
Спасти, хотя бы и дорогою ценой…
Донская и кубанская оппозиции Верховного Круга подходили к вопросу с другой стороны: «Мы вынуждены силою обстоятельств… отступить с болью в сердце и душе от чистоты демократических принципов… и принять положения, далекие даже от скромных наших пожеланий…»
Было условлено, что главнокомандующий и Круг особым согласованным актом объявят о состоявшемся соглашении. Проект воззвания Круга, составленный Агеевым, не был принят Кругом и тем не менее появился в печати под заголовком «Обращение Верховного Круга Дона, Кубани и Терека к населению». В этом «Обращении» Агеев и его единомышленники, превознося себя безмерно и обвиняя во всем случившемся «Особое совещание», возглашали: «…Теперь благодаря влиянию Верховного Круга устранены от власти безответственные чиновники-честолюбцы… Мы, народные избранники, (установили) власть, у которой будут стоять только истинные защитники народа… Отныне народные чаяния и надежды будут немедленно осуществляться во всей полноте…» Бывшие члены «Особого совещания» выступили с кратким заявлением относительно «документа… содержащего явную и намеренную ложь, заслуживающую презрения со стороны всех, кто в основу своей деятельности не полагает дешевой демагогии…».
Подобные приемы, усвоенные лидерами Круга, обещали мало хорошего…
В конце января я освободил от председательских обязанностей генерала Богаевского. После совещания с лидерами трех фракций Круга, предложившими на пост председателя Совета министров Н. М. Мельникова[213] (донцы и терцы) и Тимошенко (кубанцы), я предложил первому из них составить кабинет. Дело это встретило большие трудности как по наличию большого числа влиятельных членов Круга, стремившихся стать министрами, так в особенности ввиду непременного желания кубанской фракции получить пять портфелей и в том числе для Тимошенко — министра иностранных дел.
Не веря в прочность и длительность соглашения, я был озабочен, главным образом, тем, чтобы сохранить в руках людей лояльных и не опасных в смысле приятия большевизма главнейшие средства вооруженной борьбы — внешние сношения, Военно-морское управление, финансы и пути сообщения. Намеченный Мельниковым состав совета не встретил с моей стороны возражений, за исключением кандидатуры Агеева, присутствие которого в правительстве как лица, склонявшегося к большевизму, и беззастенчивого демагога, я считал опасным. Но Мельников уверил меня, что желание Агеева стать министром настолько велико, что, получив пост, он совершенно преобразится, а в то же время назначение это обезоружит донскую оппозицию. Что касается приглашения лидеров кубанской самостийной группы — этот вопрос был нами разрешен отрицательно. Это обстоятельство вызвало среди кубанских самостийников большое раздражение и сразу восстановило их против нового правительства.
В начале февраля главнейшие посты были замещены[214], и Совет министров представил мне в спешном порядке декларацию — воззвание «Ко всем гражданам». Я был немало удивлен вступлением в декларацию, в котором существо происшедшей перемены изложено было такими словами: «Во Имя спасения Родины и возрождения ее на основах народовластия, по соглашению главнокомандующего ВСЮР с демократическим представительством Дона, Кубани и Терека образована новая власть — «Южно-русское правительство» из следующих лиц…» Шел список министров…
Такое определение, совершенно расходясь с принятой нами «конституцией» и устанавливая нечто вроде директории в составе несменяемых членов ее, явилось, по-видимому, результатом отсутствия в составе правительства государствоведов. После исправления вступления декларация, повторявшая многие хорошие слова и благие намерения предыдущих правительств (в аграрном вопросе декларация обещала «всю землю, чья бы она ни была, превышающую определенную законную норму, какую распределить между нуждающимися в земле». В области внешних сношений особливая забота уделялась упрочнению дружественных отношений с Польшей, Азербайджаном, Грузией и Арменией), была оглашена Н. М. Мельниковым на Верховном Круге и опубликована в печати.
Появление нового правительства не внесло никакой перемены в течение событий.
Верховный Круг отнесся к нему с явным недоброжелательством и даже с некоторым высокомерием. Кубанское правительство Иваниса особым постановлением отказалось признавать его компетенцию на территории Кубани. «Признание или непризнание этого правительства Кубанью зависит от существующих законодательных учреждений (Законодательная Рада). К опубликованному списку министров кубанское правительство не может отнестись иначе как к «Особому совещанию»…».
Кубанская фракция добивалась вновь временного возложения на Круг законодательных функций с целью, нисколько не скрываемой — «свалить кабинет Мельникова». Российские круги, как либеральные, так и консервативные, отнеслись с подозрительной враждебностью к «Южно-русскому правительству» по мотивам: одни — «казачьего засилья», другие — «левизны», третьи — персонального его состава. Социал-революционеры при участии Тимошенко и Аргунова обсуждали возможность переворота, а социал-демократы вынесли резолюцию с принципиальным порицанием «Южно-русского правительства» и требовали соглашения с большевиками[215]. Только одна политическая партия в лице «группы центрального комитета кадетов» постановила «во имя сохранения единства» поддержать «Южно-русское правительство», которое «представляется в настоящий момент единственным центром национального объединения…».
Так было на верхах.
В народе и в армии появление нового правительства не было воспринято никак: немало рядовых обывателей только много времени спустя, в эмиграции, узнали об его существовании.
Северный Кавказ был вскоре отрезан, Кубань — главный театр войны — жила своей жизнью, своей властью или, вернее, безвластием, последние клочки Ставропольской, Черноморской губерний и Крым по инерции тяготели к Новороссийску, где сосредоточились органы старого государственного аппарата, более, чем к Екатеринодару, где пребывали новые главы ведомств.
При таких условиях говорить о деятельности министерства Мельникова затруднительно и судить ее было бы несправедливо. Положительной стороной этого правительства, состоявшего из лиц, в большинстве своем одушевленных самыми добрыми намерениями, было уже то, что оно не мешало вооруженной борьбе армий Юга.
В силу предоставленной мне еще 19 ноября 1919 года Верховным правителем полноты прав в области переговоров с Верховным Кругом и реорганизации власти я не был стеснен в своих решениях.
В то время, когда происходили эти события на Юге, в Иркутске свершался кровавый эпилог. Оставленный своими, преданный главнокомандующим союзными войсками в Сибири французским генералом Жаненом, плененный ненавидевшими его чехо-словаками, Верховный правитель был отвезен ими в Иркутск и отдан в руки эс-эровского «Политического центра».
Революционная демократия торжествовала. Объявив адмирала Колчака «врагом народа», его заключили в тюрьму и подвергли допросу по обвинению в «предательстве им Родины». Еще не закончилась судебная процедура, когда, ввиду угрозы подходившей к Иркутску армии генерала Войцеховского[216], по распоряжению «правительства» 25 января адмирал Колчак был расстрелян.
Революционная демократия, совершив это преступление — акт политической мести, передала власть большевикам, уйдя снова в подполье.
Глубокую скорбь вызвала во мне весть о гибели адмирала Колчака. История оценит подвиг большого патриота и несчастного правителя, подъявшего на свои плечи безмерно тяжелое бремя власти в годину тяжких испытаний. Она произнесет и свой приговор над теми людьми, что, не сделав ничего для спасения страны, мнили себя вправе быть его судьями и палачами.
Я узнал о смерти Верховного правителя еще в Тихорецкой. Событие это поставило передо мной весьма тяжелый вопрос о преемстве «всероссийской власти».
Акты Верховного правителя от 11 июня 1919 года предусматривали, что «в случае болезни или смерти Верховного главнокомандующего заместитель его (генерал Деникин) незамедлительно вступает в исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего». Актом от 2 декабря 1919 года предрешалась и «передача Верховной всероссийской власти генералу Деникину».
В глазах некоторых деятелей эти акты обязывали меня к принятию соответственного наименования и функций ради сохранения идеи национального единства. Я считал эту точку зрения совершенно неприемлемой: военно-политическое положение, в котором в январе-феврале находились правитель, власть, армия и территория Юга, требовало величайшей осторожности. Претензии на «всероссийский» масштаб являлись бы в то время совершенно неуместными, власть — фикцией, а связанность судеб Белого движения с Югом накануне катастрофы — политически весьма опасной. Во избежание кривотолков я оставлял вопрос открытым, ссылаясь на отсутствие официальных сведений о событиях на Востоке. Кривотолки появились, но в направлении, совершенно неожиданном: ввиду того, что не было назначено официальных панихид, пошли разговоры о моем «неуважении к памяти» погибшего Верховного правителя…
Этот эпизод имел неожиданное продолжение несколько месяцев спустя — летом 1920 года. Будучи уже в Англии, я получил письмо от А. И. Гучкова, в котором последний просил довершить патриотический подвиг и особенным торжественным актом облечь барона Врангеля, правившего тогда в Крыму, преемственной всероссийской властью. От такого акта, считая его юридически ничтожным и государственно вредным, я воздержался…
Телеграммой на мое имя от 18 января[217] генерал Семенов, облеченный адмиралом Колчаком полнотой власти в Сибири временно «впредь до получения (от меня) указаний», доносил, что он принял предоставленную ему власть и просил «авторитетного подтверждения ее» ввиду начавшегося на восточной окраине распада: генерал Хорват объявил себя суверенным в отношении русского населения на территории полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги; в Приморской области воцарилось земство; в Амурской — большевизм и так далее.
Белый Восток распался и агонизировал.
Если и раньше наш тыл представлял из себя в широком масштабе настоящий вертеп, то в начале 1920 года перед нависшей и ожидаемой катастрофой извращение всех сторон жизни, всех сторон общественной морали достигло размеров исключительных. И в такой же степени возросло и усугубилось бедственное положение жертв войны и смуты, беспомощных щепок срубленного дерева — семейств служилого люда, давно уже колесивших по родной земле в качестве беженцев. Теперь новым шквалом их загнало в негостеприимные, почти враждебные кубанские станицы, в забитые сверх всякой меры каменные ящики домов и подвалов холодного Новороссийска… Города, пронизываемого насквозь острым ледяным дыханием норд-оста и… смерти, косившей людей без счету, особенно от сыпного тифа…
Иллюзорный договор с Мак-Киндером имел, к счастью, некоторые положительные последствия: от имени английского правительства Мак-Киндер дал мне гарантию, что семьи служилого элемента будут эвакуированы за границу. Эта гарантия была выполнена честно англичанами при содействии других союзников. Своими средствами мы справиться не могли бы. И хотя с Принкипо, Салониками, Кипром и другими этапами российского беженства связано много тяжелых воспоминаний, но нельзя не признать, что эта помощь, хотя бы и недостаточная, спасла многие тысячи людей: одних — от жизни париев советского режима, других — от большевистской расправы. Эвакуация направлена была и в славянские балканские страны, главным образом в Сербию, заслуги которой в деле помощи русским беженцам особенно велики и незабываемы.
Страшная загруженность тыла и тревога бойцов за свои семьи требовали немедленной эвакуации, безотносительно к возможному исходу борьбы на фронтах. И в середине января она началась фактически, причем общая директива моя[218] определяла последовательность эвакуации по районам: 1) Одесса, 2) Севастополь, 3) Новороссийск. И последовательность подлежавших эвакуации элементов: 1) больные и раненые воины, 2) семьи военнослужащих[219], 3) семьи гражданских служащих, 4) прочие — если будет время и место[220], 5) начальники — последними.
Нет сомнения, что протекция и взяточничество вносили свои коррективы в установленную очередь эвакуации. Но и сами те, которым принадлежало преимущественное право на выезд — семьи служилых людей, — не раз осложняли вопрос до чрезвычайности: тысячи людей, связанных кровно с последним клочком родной земли и с остающимися мужьями, сыновьями, братьями, страшась неизвестного будущего на чужбине, колебались и отсрочивали свою очередь, жадно ловя малейшие проблески на нашем фронте. Пароходы вначале задерживались в порту или уходили без полного комплекта пассажиров. Англичане грозили прекращением эвакуации и на некоторое время в конце января приостановили ее действительно, впрочем, больше из-за страха перед занесенным беженцами сыпным тифом. Я торопил эвакуацию, угрожая в приказе колеблющимся прекращением дальнейших забот правительства об их участи.
Только перед концом к пристаням хлынули волны беженцев, нарушая весь план эвакуации и ослабив новороссийский порт тоннажем в самые критические дни.
Число эвакуированных с Юга России в чужие страны зарегистрированных беженцев определялось в 40 тысяч. Число прочих, имущих, не пользовавшихся пособием от правительства и союзников, превышало эту цифру.
Со второй половины февраля эвакуационное настроение охватило широко буржуазные круги. Одни уехали не в очередь, конечно, другие оставались еще для ликвидации дел и предприятий или в силу духовной прострации. Только немногие из общественных и политических деятелей самоотверженно подталкивали еще государственный корабль, загрязший в тине, вызывая скептические насмешки за свой оптимизм и свою неумелость со стороны тех, которые запаслись уже паспортом и билетом на пароход.
Беженская волна увлекла и офицерство, преимущественно тыловое — привилегированное, под предлогом «спасения семьи» или «разочарования в Белом движении…». Эпидемия «заболеваний», дававших право на выезд, поражала неожиданно целые учреждения, начиная с главы, как это случилось, например, с санитарным отделом. Это внесло хаос в дело медицинской и санитарной помощи, особенно важной и нужной в эти последние тяжкие недели… Черноморский военный губернатор генерал Макеев объявлял в газетах о розыске лица, занимавшего видный административный пост и скрывшегося, не сдав должности, ответственного дела и отчетности.
Начиналось самое худшее — паника, обнаружились страсти, назревали многочисленные человеческие драмы, сливавшиеся и терявшиеся в одной общей великой драме Белого Юга…
Народ стоял в стороне.
Наиболее активная часть его по мотивам, далеко не идеальным, увлечена была в движение черноморских «зеленых», ставропольских «камышан», в кубанское «организаторство» и в горские повстанческие отряды. Все эти движения, враждебные нам, подтачивали наши силы. Остальная масса, сбитая с толку привносимыми в ее жизнь враждебными одна другой идеологиями, переживала новое бедствие в замкнутой области своих элементарных нужд и интересов. С тревогой, но пассивно выжидала она событий, не интересуясь уже более ни политической распрей, ни формами государственного строя, ни откровениями правительств, Рад и Кругов…
Наиболее существенное значение для нас имело, конечно, настроение на Кубани. Выход правящих кругов ее на путь компромиссов был неискренен. И к тому же, хоть призрак раскрывающейся пропасти пугал воображение кубанской фронды, но разве можно было в короткий срок вырвать те плевелы, которые выросли в душах кубанского казачества? Выросли из семян недоверия, злобы и розни, сеявшихся день за днем в течение полутора лет…
Отряды кубанских «зеленых» то расходились, то вновь собирались, нападая на наш тыл, в особенности на сообщения с Новороссийском. Руководители их — Пилюк и Савицкий[221] — «имели соглашение с ответственными представителями советской власти о признании ею независимости (!) казачьих земель, как условия заключения мира»[222].
Слепые или бессовестные вожаки сбитых с толку казаков!
Кубанское правительство находилось в постоянном колебании, теряя влияние на ход событий и не будучи в состоянии руководить поднятым им движением.
В двух станицах у самого Екатеринодара (верстах в 15 от города) вспыхнуло восстание, поднятое Пилюком, и атаман Букретов с юнкерами подавил его суровыми мерами — поркой и виселицей. Это обстоятельство возбудило против Букретова кубанское правительство и самостийную группу; возник даже вопрос о смене атамана. Букретов в целях реабилитации стал подчеркивать решительнее свою оппозиционность к главному командованию, а под рукой передавал, что «перевешает при первой возможности всех фельдшеров», как стал он называть теперь своих министров. И, не пристав в конце концов ни к одной стороне, атаман, щедро расточая кубанскую казну, приступил к формированию офицерской организации и к подготовке легкого обоза на случай… ухода в горы.
Букретов — ставленник самостийников — вернулся из объезда станиц совершенно подавленный: вместо традиционных атаманских почестей он встретил там невнимание и грубость. Пьяный станичный атаман, треплющий презрительно по плечу войскового атамана, — такие картины напоминали канувший как будто в вечность 1917 год…
Командующий Кубанской армией генерал Шкуро, которого недавно в станицах носили на руках, пытался поднять настроение, и ему из рядов гудящего как улей станичного сбора бросили:
— Ладно, а помните Екатеринослав?..
Быть может, даже те, что в свое время попользовались там «добычей»…
Шкуро был вскоре сменен генералом Улагаем — доблестным воином, чуждым политики и безупречным человеком, но и его никто не слушал.
Среди донцов нарастало сильнейшее возбуждение против кубанцев, и на бурном заседании Верховного Круга 10 февраля донская фракция поставила кубанцам ультимативный вопрос: «Если кубанцы не намерены воевать с большевиками, то пусть они это прямо скажут донцам, которые в этом случае оставляют за собой свободу действий». Некоторые ораторы поясняли даже последнюю фразу, угрожая жестокой расправой кубанским станицам… После многочасового фракционного заседания кубанцы, указав на аналогию «нынешнего заболевания Кубани» с «прошлогодним непротивлением Дона», выразили согласие бороться «добросовестно» с кубанской болезнью и даже допустить посылку карательных отрядов для принуждения станичников к выходу на фронт[223].
Вслед за тем члены кубанской фракции Круга разъехались на отдельские рады для агитации…
Одни — подымать казачество в армию, другие — в повстанческие отряды. «Верховный Круг теперь утратил в наших глазах все свое значение, — говорил лидер «черноморцев» Белый. — Мы едем на места продолжать работу Крикуна, Пилюка и Рябоволов… Мы приложим все усилия, чтобы поднять массы и, твердо опираясь на силу, предъявить свои требования».
Но «массы» уже не слушали ни тех, ни других. Или, может быть, слушали и тех и других, бросая и Кубанскую армию, и повстанческие организации.
Невзирая на такое равнодушие казачества, кубанские политики проявляли исключительную деятельность, меньше всего направленную к добросовестному выполнению соглашения. В феврале — марте весь Екатеринодар был насыщен атмосферой заговоров — фантастических и даже наивных по замыслу. Так, Букретов в союзе с «черноморцами» обсуждал проект замены Южной власти директорией из трех атаманов… «Черноморцы», считая ненадежными всех кубанских генералов, пытались поставить во главе военного переворота генерала Сидорина или Кельчевского, возглавив одним из них казачьи армии… Наконец, разочаровавшись в донских генералах, в Букретове и в Верховном Круге, «черноморцы» задумали созвать Краевую Раду, удалить Букретова, избрать атаманом Быча, Иваниса или Макаренко, подавить, буде нужно, сопротивление «чужеземцев» (Добровольческая армия, донцы и терцы) и объявить на Кубани единственной Верховной властью власть кубанского атамана.
Воля «народа» во всех этих комбинациях не играла никакой роли.
Кубанское казачество в процессе длительной распри между своими верхами растеряло все идеологические обоснования борьбы; усталость, разочарование и возобладавшее чувство самосохранения вызвали духовную апатию; сытость и богатство устраняли и материальные импульсы для действия, подвига, самоотвержения. В большинстве своем они не шли ни за Россию, ни за Кубань, ни против большевиков, ни против нас. Наиболее охотно они внимали тем речам, которые, как прием наркотического средства, успокаивали и усыпляли тревожные думы: «Большевики теперь уже совсем не те, что были. Они оставят нам казачий уклад и не тронут нашего добра».
Итак, фронт был предоставлен самому себе. Между ним и тылом встала стена непонимания и отчуждения. Английские патроны и кубанский хлеб текли еще из материальных баз, но моральные базы были уже разрушены…
Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами
В таких внешних условиях протекали военные действия на доно-манычском фронте.
В начале января фронт главной группы Вооруженных сил Юга шел по Дону до станицы Верхне-Курмояровской и оттуда, пересекая железнодорожную линию Царицын — Тихорецкая, по Салу уходил в калмыцкие степи. На ростовском направлении стоял Добровольческий корпус генерала Кутепова, за Салом сосредоточивалась отступавшая Кавказская армия генерала Покровского, а в центре располагалась Донская армия генерала Сидорина.
Против нас по Дону, от устья до Донца, развернулась 8-я советская армия Ворошилова, далее на восток — 9-я Степина, а от Царицына вдоль железной дороги наступала 10-я армия Клюева, 1-я Конная армия Буденного располагалась в резерве между Ростовом и Новороссийском.
Численность войск была приблизительно одинакова у обоих противников, колеблясь между 40–50 тысячами у нас и 50–60 тысячами у большевиков.
Далее на восток, между трактом Царицын — Ставрополь и Каспийским морем, фронт имел прерывчатый характер. Кроме нескольких локальных очагов зеленоармейского восстания, в этом районе обозначилось наступление частей 11-й советской армии в трех направлениях — на Дивное, Святой Крест и Кизляр, сдерживаемое северокавказскими войсками генерала Эрдели.
После нескольких дней затишья советские войска ростовского фронта перешли в наступление, нанося главный удар со стороны Нахичевани в разрез между Донской армией и Добровольческим корпусом. Очевидно, по соображениям стратегическим и политическим преследовалась еще все та же идея «разъединения», которая положена была в основу всей зимней кампании большевиков.
5 января началось наступление 8-й и 1-й Конной советских армий, и в этот день большевики, овладев Ольгинской, атаковали Батайск. Но на другой день конница генерала Топоркова[224] нанесла сильное поражение дивизиям Буденного под Батайском, после чего совместным ударом с 3-м и 4-м Донскими корпусами неприятельские войска были отброшены за Дон, понеся большие потери. В то же время в низовьях Дона добровольцы[225], отбив все атаки большевиков, преследовали их к нахичеванской переправе и переходили за Дон — к станице Елизаветинской.
На правом крыле обстановка складывалась хуже. Под давлением 9-й и 10-й советских армий 1-й и 2-й Донские корпуса и Кавказская армия, оказывая слабое сопротивление, отходили к западу и к 13 января, перейдя Маныч, развернулись по левому берегу его.
К этому времени советское командование произвело перегруппировку, сосредоточив конную массу Буденного и Думенко, усиленных несколькими пехотными дивизиями, на нижнем Маныче, между станицами Богаевской и Платовской. С 14 января на всем Северном фронте возобновилось наступление большевиков, и в то же время конница их, перейдя через Маныч, отбросила донцов, захватала часть их пехоты и артиллерии и угрожала выходом в тыл нашей северной группе. Но сосредоточенные генералом Сидориным в северо-восточном направлении 6 конных дивизий в боях, происшедших 16–20 января на Маныче, разбили ударную группу большевиков, взяли много пленных и почти всю артиллерию 1-й советской Конной армии. 4-й Донской корпус генерала Павлова[226], сыгравший в этом славном деле главную роль, захватил 40 орудий… Противник в панике бежал за Дон и Маныч, и, если бы донская конница не приостановила преследования, мог бы произойти перелом во всей операции…
Так же неудачно окончилось для большевиков наступление на ростовском фронте, где части Добровольческого корпуса отразили вновь все атаки противника, нанеся ему немалый урон, атакуя и беря пленных и орудия. Держалась еще на среднем Маныче Кавказская армия — слабая числом и духом, и только правое крыло ее отходило довольно поспешно, подвергая опасности Ставрополь — тем большей, что часть Ставропольской губернии была охвачена уже восстанием.
Успехи на главном направлении окрылили наши войска надеждами. Казалось, далеко еще не все потеряно, когда «разбитая армия» в состоянии наносить такие удары лучшим войскам Кавказского большевистского фронта… 26 января я отдал директиву о переходе в общее наступление северной группы армий с нанесением главного удара в новочеркасском направлении и захватом с двух сторон Ростово-Новочеркасского плацдарма. Наступление должно было начаться в ближайшие дни, и к этому времени ожидался выход на усиление Кубанской армии (бывшей Кавказской) пополнений и новых дивизий[227]…
В эти предположения вторглись два обстоятельства…
Первое — 30 января получено было сведение, что 1-я Конная советская армия перебрасывается вверх по Манычу на тихорецкое направление; второе — неустойчивость Кубанской армии: центр ее был прорван, и неприятельская конница 10-й армии пошла вверх по реке Большому Егорлыку в тыл Торговой, угрожая сообщениям с Тихорецкой.
Советское командование, изверившись в возможность опрокинуть наш фронт с северо-востока, изменило план операции, перенеся главный удар по линии наименьшего сопротивления от Великокняжеской на Тихорецкую силами 10-й и 1-й Конной армий.
Приходилось разрубать узел, завязавшийся между Великокняжеской и Торговой, — разбить там главные силы противника. Генерал Сидорин выделил наиболее сильную и стойкую конную группу генерала Павлова (10–12 тысяч), которому была дана задача, следуя вверх по Манычу, совместно с 1-м корпусом ударить во фланг и тыл коннице Буденного. 3 февраля генерал Павлов, опрокинув на нижнем Маныче корпус Думенко и отбросив его за реку, двинулся дальше на Торговую, оставленную уже кубанцами.
Этот форсированный марш был одной из важнейших причин, погубивших конную группу. Стояли жестокие морозы и метели; донские степи по левому берегу Маныча, которым решил идти Павлов, были безлюдны; редкие хутора и зимовники не могли дать крова и обогреть такую массу людей. Страшно изнуренная, потерявшая без боя почти половину своего состава замерзшими, обмороженными, больными и отставшими, угнетенная морально, конница Павлова к 5 февраля подошла в район Торговой. Попытка захватить этот пункт не удалась, и генерал Павлов отвел свой отряд в район станицы Егорлыкской — села Лежанки.
6 февраля главные силы Буденного сосредоточились в селе Лопанке. Противники стояли друг против друга, разделенные расстоянием в 12 верст, — оба не доверяя своим силам, оба в колебании, опасаясь испытывать судьбу завязкой решительного боя…
Все эти дни по Дону и нижнему Манычу на всем фронте противник вел энергичное наступление, успешно отражаемое донцами и добровольцами.
Между тем для отвлечения сил и внимания противника началось наступление наших войск на Северном фронте.
7 февраля Добровольческий корпус, нанеся поражение 8-й советской армии, стремительной атакой овладел городами Ростовом и Нахичеванью. Успех, вызвавший большое впечатление и взрыв преувеличенных надежд в Екатеринодаре и Новороссийске[228]… Так же удачно было наступление 3-го Донского корпуса генерала Гусельщикова, который на путях к Новочеркасску захватил станицу Аксайскую, прервав железнодорожное сообщение между Ростовом и Новочеркасском и взяв также богатые трофеи[229]. Еще восточнее, в низовьях Маныча, дралась успешно против конницы Жлобы и Думенко конная группа генерала Старикова, доходившая до станицы Богаевской.
Это были последние светлые проблески на фоне батальной картины.
Движение на север не могло получить развития, потому что неприятель выходил уже в глубокий наш тыл — к Тихорецкой.
1-я советская Конная армия и части 10-й, выставив заслон против генерала Павлова, наступали безостановочно вдоль железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая. Кубанская армия распылялась, и подвиги отдельных лиц и частей ее тонули бесследно и безнадежно в общем потоке разлагающейся, расходящейся, иногда предающей массы. К 10 февраля разрозненные остатки Кубанской армии сосредоточились в трех группах: 1) в районе Тихорецкой — 600 бойцов, 2) в районе Кавказской — 700 и 3) небольшой отряд генерала Бабиева прикрывал еще подступы к Ставрополю.
Конная группа генерала Павлова, усиленная корпусом с севера, 12 февраля атаковала конницу Буденного у Горькой балки и после тяжелого боя, потеряв большую часть своей артиллерии, отошла на север.
К 16 февраля Добровольческий корпус, оставив по приказу Ростов и отойдя за Дон, отбивал еще веденные с необычайным упорством атаки 8-й советской армии. Но ослабленный соседний Донской корпус отходил уже к Кагальницкой; осадил поэтому и правый фланг добровольцев у Ольгинской, понеся тяжелые потери. В то же время наступавшие с северо-востока советские войска вели бой в полупереходе от Тихорецкой и на улицах Кавказской, а от Святого Креста подвигались уже к Владикавказской железной дороге, поддержанные восстаниями местных большевиков во всем минеральноводском районе.
17 февраля генерал Сидорин отвел войска Северного фронта за реку Кагальник, но части не остановились на этой линии и под давлением противника отошли дальше.
Дух был потерян вновь.
Наша конная масса, временами раза в два превосходящая противника (на главном тихорецком направлении), висела на фланге его и до некоторой степени стесняла его продвижение. Но пораженная тяжким душевным недугом, лишенная воли, дерзания, не верящая в свои силы, она избегала уже серьезного боя и слилась в конце концов с общей человеческой волной во образе вооруженных отрядов, безоружных толп и огромных таборов беженцев, стихийно стремившихся на запад.
Куда?
Стратегия давала ответ определенный: армии должны задерживаться на естественных водных рубежах — сначала Дона, потом Кубани. Если не подымется дух казачий и не удержатся армии, тогда дальнейший отход войск, не желающих драться, по мятущемуся Кубанскому краю, имея впереди Кавказский хребет и враждебное Закавказье, вел к гибели. Необходимо было оторваться от врага, поставить между ним и собою непреодолимую преграду и «отсидеться» в более или менее обеспеченном районе. Первое время, по крайней мере, пока не сойдут маразм и уныние с людей, потрясенных роковыми событиями.
Таким пристанищем был последний клочок русской земли, остающийся в наших руках, — Крым.
О таком предположении на случай неудачи знали добровольцы, и такая перспектива не только не пугала их, но, наоборот, казалась естественным и желательным выходом. Об этом знало и донское командование, но страшилось ставить определенно этот вопрос перед казачьей массой. Пойдут ли? И не вызовут ли отрыв от родной почвы и потеря надежды на скорое возвращение к своим пепелищам полного упадка настроения и немедленного катастрофического падения фронта?..
И десятки тысяч вооруженных людей шли вслепую, шли покорно, куда их вели, не отказывая в повиновении в обычном распорядке службы. Отказывались только идти в бой.
А вперемежку между войсками шел народ — бездомный, бесприютный, огромными толпами, пешком, верхом и на повозках, с детьми, худобой и спасенным скарбом. Шел неведомо куда и зачем, обреченный на разор и тяжкие скитания…
С середины февраля армии наши отступали в общих направлениях железнодорожных линий от Кущевки (Добровольческий корпус), Тихорецкой (Донская армия), Кавказской и Ставрополя (Кубанская армия) на Новороссийск, Екатеринодар, Туапсе. Непролазные от грязи кубанские дороги надежнее, чем оружие, сдерживали инерцию наступательного движения большевиков.
К 27 февраля Северный фронт отошел на линию реки Бейсуг; Тихорецкая и Кавказская были уже оставлены нами[230], и связь с Северным Кавказом утрачена. С целью выиграть время для организации переправ через Кубань и эвакуации правого берега в этот день я указывал еще раз войскам: удерживая линию Бейсуга и прикрывая екатеринодарское и туапсинское направления, перейти в наступление правым крылом Донской армии. Собранные в районе Кореновской и руководимые лично генералом Сидориным донские корпуса все же не пошли… И к 3 марта Добровольческий корпус, Донская армия и часть Кубанской сосредоточились на ближайших подступах к Екатеринодару, в двух переходах от города[231]. В этот день я телеграфировал командующим: «Политическая и стратегическая обстановка требуют выигрыша времени и отстаивания поэтому занимаемых рубежей. В случае вынужденного отхода за Кубань линия рек Кубань — Лаба, в крайности Белая, является последним оплотом, за которым легко, возможно и необходимо оказать упорнейшее сопротивление, могущее совершенно изменить в нашу пользу ход операции»[232].
Смута в умах донцов не ограничилась рядовым казачеством. Она охватила и офицерский состав — подавленный, недоверчиво и опасливо относившийся к массе и давно уже потерявший власть над нею. Судьба день за днем наносила тяжкие удары; причины обрушившихся бедствий, как это бывает всегда, искали не в общих явлениях, не в общих ошибках, а в людях. Донские командиры, собравши совет, низвергли командующего конной группой генерала Павлова — не казака и поставили на его место донца — генерала Секретева. От этого положение не улучшилось, но самый факт самоуправства являлся грозным симптомом развала на верхах военной иерархии… Генерал Сидорин вынужден был признать этот самоуправный акт, потому что и у него не было уже в то время ни сил, ни власти и он попал в полную зависимость от подчиненных ему генералов.
В Добровольческом корпусе положение было иное, хотя отдельные эпизоды неустойчивости, дезертирства мобилизованных и сдачи их большевикам имели место в рядах корпуса в последние недели, но основное ядро его являло большую сплоченность и силу. Части находились в руках своих командиров и дрались доблестно. Затерянные среди враждебной им стихии, добровольцы в поддержании дисциплины, быть может, более суровой, чем прежде, видели единственную возможность благополучного выхода из создавшегося положения.
В то же время, как отголосок екатеринодарского политиканства и развала казачьего фронта, нарастало стихийно чувство отчужденности и розни между добровольцами и казачеством. Бывая часто в эти дни в штабах генералов Сидорина и Кутепова, я чувствовал, как между ними с каждым днем вырастает все выше глухая стена недоверия и подозрительности.
Когда предположено было ввести добровольцев в резерв главнокомандующего, это обстоятельство вызвало величайшее волнение в донском штабе, считавшем, что Добровольческий корпус оставляет фронт и уходит на Новороссийск… Под влиянием донских начальников генерал Сидорин предложил план: бросить Кубань, тылы, сообщения и базу и двинуться на север. Это была бы чистейшая авантюра, превращение планомерной борьбы в партизанщину, обреченную на неминуемую и скорую гибель. План этот я категорически отклонил. Но переговоры между донскими начальниками и генералом Сидориным о самостоятельном движении на север, по-видимому, продолжались, так как в одну из затянувшихся поездок генерала Сидорина на фронт, когда порвалась связь с ним, начальник донского штаба генерал Кельчевский выражал свое опасение: «как бы генералы не увлекли командующего на север…»
Когда сведения о плане, предложенном донским командованием, дошли до добровольческого штаба, они вызвали там целую бурю: в намерении донцов идти на север добровольцы усматривали желание их пробиться на Дон и распылиться там, предоставив добровольцев их собственной участи, если… не что-либо худшее…
В ночь на 2 марта правый фланг Донской армии после неудачного боя под Кореновской откатился к Пластуновской (30 верст от Екатеринодара), эшелонируясь между ней и Екатеринодаром. Добровольческий корпус сдерживал противника в районе Тимашевской — в 90 верстах от переправы через Кубань (станица Троицкая), имея уже в своем тылу неприятельскую конницу. Это обстоятельство в связи с общей неустойчивостью фронта и полной неудачей на тихорецком направлении побудило генерала Кутепова отдать приказ об отводе корпуса на переход назад. Генерал Сидорин отменил это распоряжение, приказав Добровольческому корпусу 2 марта перейти в контратаку и восстановить свое положение у Тимашевской… В этом распоряжении добровольческий штаб увидел перспективу окружения и гибели[233]. Столкновение грозило принять крайне острые формы, и в целях умиротворения я счел необходимым изъять корпус генерала Кутепова из оперативного подчинения командующему Донской армией, подчинив его непосредственно мне.
Отступление продолжалось. Всякие расчеты, планы, комбинации разбивались о стихию. Стратегия давно уже перестала играть роль самодовлеющего двигателя операций. Психология массы довлела всецело над людьми и событиями.
4 марта я отдал директиву об отводе войск за Кубань и Лабу и об уничтожении всех переправ. Фактически переправа кубанских и донских частей началась еще 3-го и закончилась 4-го. 5-го перешел на левый берег Кубани и Добровольческий корпус после упорных боев с сильной советской конницей, пополненной восставшими кубанцами. Донесения отмечали доблесть славных добровольцев и рисовали такие эпические картины, что, казалось, оживало наше прошлое… Движение, например, в арьергарде полковника Туркула с Дроздовским полком сквозь конные массы противника, стремившегося окружить и раздавить его… При этом Туркул, «неоднократно сворачивая полк в каре, с музыкой переходя в контратаки, отбивал противника, нанося ему большие потери».
Представители союзных держав, обеспокоенные стратегическим положением Юга, просили меня высказаться откровенно относительно предстоящих перспектив. Мне нечего было скрывать:
— Оборонительный рубеж — река Кубань. Подымется казачество — наступление на север. Нет — эвакуация в Крым.
Вопрос об эвакуации за границу в случае преждевременного падения Крыма представлялся чрезвычайно деликатным: поставленный прямо союзникам, он мог бы повлиять на готовность их продолжать материальное снабжение армии; брошенный в массу — он мог бы подорвать импульс к продолжению борьбы. Но доверительные беседы с принимавшим горячее участие в судьбах Юга генералом Хольмэном и с другими представителями союзников приводили меня к убеждению, что и в этом, крайнем, случае мы не остались бы без помощи[234].
Глава XXI. Вражда между «Екатеринодаром» и «Новороссийском». Положение Новороссии. Эвакуация Одессы
Положение главнокомандующего в то время было необыкновенно трудным. Рушился фронт, разлагался тыл, нарастали симптомы надвигающейся катастрофы.
Глубокие трещины, легшие между главным командованием и казачьими верхами, не были засыпаны. Накануне оставления Екатеринодара Верховный Круг при незначительном числе членов терской фракции, разъехавшейся по домам, принял резолюцию:
«Верховный Круг Дона, Кубани и Терека, обсудив текущий политический момент в связи с событиями на фронте и принимая во внимание, что борьба с большевизмом велась силами в социально-политическом отношении слишком разнородными и объединение их носило вынужденный характер, что последняя попытка высшего представительного органа краев Дона, Кубани и Терека Верховного Круга сгладить обнаруженные дефекты объединения не дала желанных результатов, а также констатируя тяжелую военную обстановку, сложившуюся на фронте, постановил:
1. Считать соглашение с генералом Деникиным в деле организации Южно-русской власти не состоявшимся.
2. Освободить атаманов и правительства от всех обязательств, связанных с указанным соглашением.
3. Изъять немедленно войска Дона, Кубани и Терека из подчинения генералу Деникину в оперативном отношении.
4. Немедленно приступить совместно с атаманами и правительствами к организации обороны наших краев — Дона, Кубани и Терека и прилегающих к ним областей.
5. Немедленно приступить к организации союзной власти».
Постановлению предшествовало заявление председателя Круга Тимошенко, что «на состоявшемся совещании высших военных начальников в присутствии генералов Кельчевского, Болховитинова и других» признано было невозможным дальнейшее подчинение казачьих войск главнокомандующему, тем более, что Ставка исчезла и никакой связи с ней нет. Совещание, по словам Тимошенко, просило «во избежание нарушения дисциплины» о соответствующем постановлении Круга.
Этот бесполезный и бесцельный жест имел одно только положительное значение: он освобождал меня юридически от всех обязательств и последствий, вытекавших из недолгого и безрадостного соглашения.
В тот же день Круг рассыпался.
Расставание двух содружественных фракций не было очень теплым. На одном из последних заседаний произошел такой диалог.
Кубанец Горбушин: «Пришельцы с генералом Деникиным вынули и опустошили душу казака. Мы должны идти на фронт и зажечь огонь в его душе…»
Донец Янов: «У вас и не было души. Вы — лицемеры. Посмотрите на наших беженцев, помогли ли вы им? Здесь, на близкой им, казалось бы, Кубани, они вместо хлеба получили камень. В жестокие морозы они скитались по кубанским степям и не находили приюта и ночлега в кубанских станицах. Души кубанцам мы не вдохнем и не зажжем их, но погибнем сами… Уйдем за Кубань!..»
Кубанская фракция пошла в направлении на Сочи («зеленые») и Грузию — к своим всегдашним союзникам, которые жестоко обманут все их надежды… Донская фракция и часть терской, перейдя Кубань и убедившись в несочувствии донского командования принятому Кругом решению, а также в том, что никакого совещания старших начальников не было, что связь со Ставкой существует и порт Новороссийск все еще находится в руках Ставки, выразили раскаяние, аннулируя принятое постановление, и эвакуировались в Крым.
Ширилась трещина, образовавшаяся и с другой стороны…
Ход событий вызвал новую дифференциацию политических кругов и новое, отчетливое их расслоение.
Екатеринодар вобрал в себя весь цвет южно-казачьего областничества и часть российских социалистических групп. Это содружество было, впрочем, как всегда, неполным и не вполне искренним, и в умеренной организации — «Союз возрождения» — вызвало даже раскол: часть его — с Мякотиным — ополчилась против «казачьего лжедемократизма», другая — с Аргуновым и редакцией «Юга России» — поддерживала домогательства Верховного Круга, убеждая «демократию Дона, Кубани и Терека» («хотя еще далеко не совершенную», как поясняла газета) в споре своем с главным командованием не бояться разрыва с союзниками. Ибо «если за Ставкой стоит генерал Хольмэн, то за казачьей демократией — вся союзная демократия».
В Новороссийске сосредоточилась российская консервативная и либеральная общественность. Городу этому, представлявшему из себя разоренный, разворошенный муравейник, суждено было стать новым, четвертым по счету, этапом российского беженства. Туда стекались со всех сторон обломки правительственных учреждений, органов печати, политических партий и организаций. Прорицатели, обличители, претенденты… Стекались люди, оглушенные разразившимся несчастьем, уставшие морально и физически, растерявшие надежды, изверившиеся. Одни — ожесточенные и бессильно изливающие свою злобу и свой беспросветный пессимизм, другие — ищущие «виновников» повсюду, кроме своей совести и своего «прихода». Наконец, третьи — пытающиеся добросовестно разобраться в причинах катастрофы и ищущие новых путей для спасения дела.
Катастрофа не примирила и не стерла противоречий, разделявших южную общественность, нашедшую приют в Новороссийске. Но она объединила ее в двух направлениях: в горячем осуждении прошлого, хотя и по мотивам прямо противоположным, и во вражде к Екатеринодару. Новороссийск и Екатеринодар кипели страстями. Они не были просто антиподами, но двумя непримиримыми враждебными станами, готовыми, казалось, вот-вот пойти войною друг на друга.
Ставка стояла одиноко, на перепутье, среди враждующих между собою сил, напрягая большие усилия к поднятию фронта и только в крупной победе видя возможность благоприятного разрешения всех политических проблем.
Екатеринодар и Новороссийск самим ходом событий в обстановке многосторонней борьбы приобретали для главного командования совершенно различное значение. Нужно было поднять казачий фронт — и мне приходилось входить в соглашение с Екатеринодаром… Нужно было удержать Новороссийск и эвакуировать злополучное российское беженство, чуждое и ненавистное Екатеринодару, — и я вынужден был мириться с новороссийской оппозицией.
Еще в первой стадии сношений с Екатеринодаром назначенный мною главноначальствующим Черноморской губернией генерал Лукомский писал мне[235]: «…Настроение среди офицеров от младших до старших все более и более ухудшается. Нелепые слухи о полном соглашении с требованиями самостийных казачьих кругов возбуждают офицеров. Спрашивают, за что же они должны проливать кровь? Усиливается дезертирство, ибо в казачество не верят и считают, что соглашение приведет к гибели… При нынешней обстановке оставление на этом фронте добровольческих частей может привести к полному разложению…» Про себя лично генерал Лукомский говорил: «Хотя я и не верю в прочность соглашения и в твердость казачества, но этот путь неизбежен и необходим. Но здесь вопрос о пределах соглашения… Вы согласились на законодательный орган — я считаю, что это гибельно для дела…»
Другие бывшие мои сотрудники не были так ригористичны, но и их «оторванность и неведение поставили в положение недоумевающих».
«Я наблюдаю здесь, — писал Н. И. Астров генералу Романовскому, — две различных психологии — штатскую и военную. Последняя, насколько я понимаю ее, действительно проявляет черты оппозиции, а среди офицерства заметны враждебность и недоброжелательство. Что же касается психологии штатских, в том числе и лиц, входивших в состав бывшего «Особого совещания», то она проникнута горячим желанием поддержать главнокомандующего или, по крайней мере, не помешать ему… Мы знаем, что положение было в полной мере трагично и, чтобы удержать первенство русского государственного начала и защищать его силою оружия, пришлось пойти на громадные уступки… Но казачье засилье не может не смущать… Смущает и то, что с коренным изменением самой природы отношений конституционного правителя к управлению весь аппарат власти уходит в чужие и чуждые руки…»
Астров от лица либеральной группы свидетельствовал:
«Мы будем по-прежнему с главнокомандующим и по-прежнему будем служить тому же делу, только в несколько иных взаимных отношениях».
Я не сомневался в лояльности и сочувствии этих кругов, но тем не менее в этот наиболее тяжкий период государственной деятельности я чувствовал себя одиноким, как никогда. И в этой тяжкой работе и переживаниях только чуткое и самоотверженное участие моего друга — Ивана Павловича Романовского — сглаживало несколько остроту этого одиночества…
В Тихорецкой все было просто и тихо. Органов или представителей гражданского управления при Ставке не было. В часы, свободные от занятий и объездов, несколько лиц, чуждых совершенно политической борьбе, составляли обычное мое общество. Генерал Шапрон, бросивший госпиталь, не долечившись, и вернувшийся в Ставку[236]; полковник Колтышев — докладчик по оперативной части, всецело живший интересами фронта[237]; адъютант и дежурный конвойный офицер. Временами — беседы с генерал-квартирмейстером, вначале с экспансивным Плющевским-Плющиком[238], потом — со сменившим его уравновешенным и спокойным Махровым.
В их обществе я отдыхал от «политики», врывающейся извне бурно и сокрушительно в жизнь и работу Ставки.
В это же время правая оппозиция перешла к активным действиям для проведения к власти генерала барона Врангеля.
Ввиду невозможности стать во главе казачьей армии генерал Врангель уехал в Новороссийск, взяв на себя руководство укреплением новороссийского района. С того времени в органах печати, в беседах с общественными деятелями стали появляться жалобы Врангеля по поводу тягостного для него «вынужденного бездействия». «Барон говорил, — писал мне один из его собеседников, — что в положении классного пассажира сидит в вагоне, занимается не интересующей его эвакуацией[239], вместо того чтобы воевать. Он готов был бы даже стать командиром полка, если бы это не было опасной демагогией». Барон развивал в прессе и в беседах ту идею дальнейшей борьбы, которую излагал в приведенной выше записке от 25 декабря: «Я придаю чрезвычайное значение Новороссии. Там должен создаться объединенный славянский фронт, который вследствие нашего соглашения с братьями-славянами, в частности с поляками, будет настолько силен, что от его удара рухнет вся совдепская постройка». В связи с этим от генерала Лукомского получался целый ряд телеграмм — частью по его личной инициативе, частью по просьбе генерала Врангеля — о назначении последнего в Одессу на смену генерала Шиллинга или, по крайней мере, для формирования там конницы и подготовки операций в том районе[240].
Представления генерала Лукомского были не только настойчивы, но и обличали повышенную нервность. Так, в телеграмме от 10 января он между прочим сообщал:
«В последние дни в Новороссийске появились какие-то прохвосты, которые по кофейням и ресторанам распространяют слухи, что Врангель из-за личных к главному командованию отношений бросил армию в самый критический момент, и стараются возбудить публику против него. Эти господа ведут вредную и гибельную для дела игру, так как надо знать, что Врангель среди кадровых офицеров пользуется большой популярностью. Если кого-либо из таких господ поймают, немедленно расстреляю…»
Представлялось странным, что «нелепые слухи» по поводу главнокомандующего, приведенные тут же рядом, в той же телеграмме, и «возбуждавшие» против него «офицеров от младших до самых старших», оставались без осуждения. И мне пришлось указать главноначальствующему, что «бороться нужно со всеми этими явлениями, но законными мерами…».
Что касается влияния самого барона Врангеля на новороссийские настроения, то этот вопрос смогут лучше осветить лица, соприкасавшиеся с ним тогда непосредственно. Взгляд же его на тогдашнюю политику Ставки был вполне определенный: «Цепляясь за ускользавшую из рук Ваших власть, — писал он в своем известном письме ко мне, — Вы успели уже стать на пагубный путь компромиссов и, уступая самостийникам, решили непреклонно бороться с Вашими ближайшими помощниками, затеявшими, как Вам казалось, государственный переворот».
В связи с недоразумениями персональными между Ставкой и Новороссийском обнаружилось и серьезное расхождение в вопросах военного дела. Я требовал направления строевого офицерства, буквально наводнявшего Новороссийск, на фронт, на пополнение таявших частей Добровольческого корпуса, тогда как новороссийское начальство стремилось к удержанию их для формирования на месте офицерских отрядов. Добровольческий корпус жаловался на препятствия, чинимые даже отпускным и выздоровевшим добровольцам, желающим возвратиться в свои части… В результате масса офицерства, слабого духом, устремляла свои взоры на уходящие пароходы или создавала самочинные организации вроде «отряда крестоносцев», прикрывавшего религиозно-национальной идеей уклонение от фронта.
Непонятна для меня была позиция либеральной группы.
Бывшее «Особое совещание» после ряда частных собеседований командировало ко мне в Тихорецкую 9 января Н. И. Астрова, Н. В. Савича и В. Н. Челищева. Главные вопросы, которые интересовали совещание, заключались в следующем[241]: 1) необходимость образования собственного правительства, вне зависимости от казачества, перенесение центра действий на собственную территорию (Крым, Новороссия); 2) вопрос о независимых действиях в общерусском масштабе при участии сербов, болгар и Польши и 3) вопрос о судьбе Новороссийска, наводненного беженцами и «обращенного в ловушку»…
Второй вопрос, казалось, не должен был вызывать недоумения среди лиц, осведомленных в международных сношениях Юга: полуторагодовая практика их показала, что Сербия и Болгария желают помочь, но не могут, что Польша может помочь, но не желает. Что касается прочих двух вопросов — они находились в явном противоречии друг с другом: трудно было увести добровольцев, не вызвав тем немедленное падение фронта, и вместе с тем спасти из «ловушки» всероссийское беженство…
Н. И. Астров от имени бывших членов «Особого совещания» выдвинул при этом посещении вопрос о генерале Врангеле, его вынужденном бездействии и о назначении его в Новороссию. Степанов, уехавший в Одессу, убеждал генерала Шиллинга просить о назначении помощником себе барона Врангеля.
Я видел давно, что вопрос идет не о «привлечении к делу», а о смене.
Власть была для меня тяжелым крестом, и избавиться от нее было бы громадным облегчением. Но бросить в такую трудную минуту дело и добровольцев я не мог, тем более, что я не считал государственно полезным передачу власти в те руки, которые за ней протягивались.
Мне казалось, что сущность затеянной кампании понятна моим собеседникам так же, как и мне, и не желал разъяснять им этого вопроса. Происходило обоюдное недоразумение. Ибо через несколько дней, 28 января, Астров писал мне:
«Перемена вождя в такое время более чем когда-либо была бы преступлением, авантюрой, легкомыслием, безумием… И Вы еще ближе и дороже стали нам после ниспосланного на Россию, на Вас, на всех нас нового испытания…
Я уносил в себе (однако) неудовлетворительное чувство, которое мог бы выразить такими словами: когда так трагически тяжело Деникину, почему он не использует этого человека, давши ему определенную задачу, почему главнокомандующий дразнит своих недоброжелателей, которых так много, оставляя на виду у всех в бездействии человека, около которого сплелось так много слухов, интриг и ожиданий…»
Слухи об отношениях барона Врангеля к главнокомандующему получили, очевидно, широкое распространение, так как еще 31 декабря 1919 года барон доносил мне по поводу разговора своего с английским представителем:
«Мак-Киндер сообщил мне, что им получена депеша его правительства, требующая объяснений по поводу полученных в Варшаве сведений о якобы произведенном мною перевороте, причем будто бы я возглавил Вооруженные силы Юга России. Господин Мак-Киндер высказал предположение, что основанием для этого слуха могли послужить те будто бы неприязненные отношения, которые установились между Вашим превосходительством и мною, ставшие широким достоянием; он просил меня с полной откровенностью, буде признаю возможным, высказаться по этому вопросу.
Я ответил, что мне известно о распространении подобных слухов и в пределах Вооруженных сил Юга, что цель их, по-видимому, желание подорвать доверие к начальникам в армии и внести разложение в ее ряды и что поэтому в распространении их надо подозревать неприятельскую разведку. Вместе с тем я сказал, что, пойдя за Вами в начале борьбы за освобождение Родины, я, как честный человек и как солдат, не могу допустить мысли о каком бы то ни было выступлении против начальника, в подчинение которого я добровольно стал».
И привлечение барона Врангеля к новой деятельности, и оставление его не у дел одинаково вызывали крупные осложнения. Вместе с тем боевая деятельность Шиллинга, сумевшего с ничтожными силами дойти до Волочиска и Казатина, не давала поводов к его удалению. К тому же представлялось неясным, что делать генералу Врангелю, в глазах которого «Добровольческой армии, как боевой силы, не существовало», с войсками Новороссии, и в организационном и в боевом отношении более слабыми, чем части Добровольческой армии… Но ввиду возбужденного генералом Шиллингом ходатайства я назначил барона Врангеля помощником его по военной части.
Вскоре, однако, Одесса пала, Новороссия была очищена нами, и генерал Шиллинг со штабом и гражданским управлением переехал в Крым. Нагромождение на маленькой территории многочисленной власти являлось совершенно излишним, поэтому 28 января назначение Врангеля было отменено. Барон Врангель и его спутник генерал Шатилов подали рапорты об увольнении их в отставку «по болезни». Рапорты эти были мною обычным порядком переданы в штаб для исполнения. Оба генерала отбыли в Крым «на покой[242].
В середине декабря войска Новороссии, ослабленные выделением корпуса генерала Слащова для прикрытия Крыма, располагались по линии Бирзула — Долинская — Никополь. Огромные пространства правобережного Днепра и Новороссии были залиты повстанческим движением. От Умани до Екатеринослава и от Черкасс до Долинской ходили петлюровские и атаманские банды; железнодорожная линия Долинская — Кривой Рог — Александровск находилась в руках Махно; от Черкасс и Кременчуга наступали части 12-й и 13-й советских армий. Эти обстоятельства в связи с переходом корпуса Слащова на левый берег Днепра создавали угрозу полного разрыва между правобережной Украиной и Таврией.
Имея задачей прикрытие Новороссии и, главным образом, Крыма, генерал Шиллинг базировал свои правобережные войска в направлении на Таврию (переправы у Херсона и Каховки). Это решение, соответствовавшее стратегической обстановке, отводившее второстепенное значение удержанию Одессы и вызвавшее начало частичной эвакуации ее, весьма встревожило союзных представителей. Генералы Манжен и Хольмэн, не без влияния неответственных русских советников, настоятельно убеждали Ставку удерживать во что бы то ни стало одесский район, указывая, что потеря его создаст в Лондоне и Париже представление о конце борьбы и может вызвать прекращение снабжения армий Юга… Генерал Хольмэн обещал оказать Одессе всяческое материальное содействие. Заинтересованность англичан была настолько велика, что Мак-Киндер настойчиво советовал вести широкие формирования в Новороссии из немцев-колонистов — обстоятельство, к которому до тех пор англичане относились с большой нетерпимостью.
Под таким воздействием, хотя надежд на удержание Одессы было немного, 18 декабря генералу Шиллингу предписано было удерживать и Крым, и одесский район. Но при этом союзникам заявлено было, что «для обеспечения операции и морального спокойствия войск и, главное, на случай неудачи необходимо: 1) обеспечение эвакуации Одессы союзным флотом и союзным транспортом; 2) право вывоза семейств и лиц, оставление которых грозило им опасностью; 3) право прохода в Румынию войск, подвижных составов и технических средств»[243].
3 января 1920 года генерал Лукомский телеграфировал из Новороссийска: «По заявлению англичан, они обеспечат эвакуацию раненых и больных, а также семейств офицеров; что же касается гражданского населения, то таковое необходимо будет отправить сухим путем в Румынию…»[244]. Переговоры с Румынией — непосредственные и через союзное командование на Востоке — были длительны и менее благоприятны. Штаб французского главнокомандующего в Константинополе сообщил нашему представителю генералу Агапееву[245]: 1) относительно пропуска галицких войск румыны запросили польское правительство; 2) в случае перехода границы добровольческими частями румынами предположено разоруживать и интернировать их; 3) беженцев согласны пропустить при условии, что французы обеспечат им продовольствие, помещение и охрану; на первое и второе условие французское командование согласно.
Точно так же глава английской миссии в Одессе 18 января сообщил лично генералу Шиллингу, что он «с большой достоверностью может гарантировать проход наших войск в Бессарабию»[246].
Сношения по данному вопросу с союзниками и румынами продолжались весь январь.
Задача, данная генералу Шиллингу, оказалась непосильной для его войск[247] ни по их численности, ни, главным образом, по моральному состоянию их. Неудачи на главном — Кубанском — театре и неуверенность в возможности морской эвакуации вносили еще большее смущение в их ряды.
Усилия одесского штаба пополнить войска не увенчались успехом. Многочисленное одесское офицерство не спешило на фронт. Новая мобилизация не прошла: «по получении обмундирования и вооружения большая часть разбегалась, унося с собою все полученное»; почти поголовно дезертировали немцы-колонисты; угольный кризис затруднял до крайности войсковые перевозки.
При таких условиях тыла протекали операции.
В начале января генерал Шиллинг, оставив на жмеринском направлении небольшую часть галичан, стал стягивать группу генерала Бредова в район Ольвиополь — Вознесенск, чтобы отсюда нанести фланговый удар противнику, наступавшему правым берегом Днепра от Кривого Рога к Николаеву. Но наступлением с этой стороны советских войск ранее окончания нашего сосредоточения корпус генерала Промтова, действовавший в низовьях Днепра, был опрокинут и стал уходить поспешно к Бугу. 18 января корпус этот, почти не оказывая сопротивления, оставил Николаев и Херсон; дальнейшее наступление большевиков с этих направлений на запад выводило их в глубокий тыл наших войск, отрезая их от сообщений и базы.
С этого дня фронт неудержимо покатился к Одессе.
Между тем положение Одессы становилось катастрофическим. Все обращения Ставки и одесского штаба к союзникам о помощи транспортами не привели ни к чему: британский штаб в Константинополе на предупреждения генерала Шиллинга и одесской английской миссии телеграфировал: «Британские власти охотно помогут по мере своих сил, но сомневаются в возможности падения Одессы. Это совершенно невероятный случай…»[248]. Наше морское командование в Севастополе, которому приказано было послать все свободные суда в Одессу, как оказалось впоследствии, саботировало и одесскую и новороссийскую эвакуацию, под разными предлогами задерживая суда… на случай эвакуации Крыма. Угольный кризис не давал уверенности в возможности использования всех средств одесского порта. Небывалые морозы сковали льдом широкую полосу моря, еще более затрудняя эвакуацию.
А фронт все катился к морю…
23 января генерал Шиллинг отдал директиву, в силу которой войскам под общим начальством генерала Бредова надлежало, минуя Одессу, отходить на Бессарабию (переправы у Маяков и Тирасполя). Отряд генерала Стесселя в составе офицерских организаций и Государственной стражи должен был прикрывать непосредственно эвакуацию Одессы; английское морское командование дало гарантию, что части эти будут вывезены в последний момент на их военных судах под прикрытием судовой артиллерии.
Началась вновь тяжелая драма Одессы, в третий раз испытывавшей бедствие эвакуации.
25 января в город ворвались большевики, и отступавшие к карантинному молу отряды подверглись пулеметному огню. Английский флот был пассивен. Только часть людей, собравшихся на молу, попала на английские суда, другая, перейдя в наступление, прорвалась через город, направляясь к Днестру, третья погибла.
На пристанях происходили душу раздирающие сцены.
Вывезены были морем свыше 3 тысяч раненых и больных, технические части, немало семейств офицеров и гражданских служащих, штаб и управление области. Много еще людей, имевших моральное право на эвакуацию, не нашли места на судах. Разлучались семьи, гибло последнее добро их, и нарастало чувство жестокого, иногда слепого озлобления.
Только 25-го на выручку застрявших в Одессе судов прибыли из Севастополя вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» и миноносец «Жаркий».
Войска генерала Бредова, подойдя к Днестру, были встречены румынскими пулеметами. Такая же участь постигла беженцев-женщин и детей. Бредов свернул на север, вдоль Днестра и, отбивая удары большевиков, пробился на соединение с поляками.
В селе Солодковцах[249] между делегатами главного польского командования и генералом Бредовым заключен был договор, в силу которого войска его и находящиеся при них семейства принимались на территорию, занятую польскими войсками, до возвращения их «на территорию, занятую армией генерала Деникина». Оружие, военное имущество и обозы польское командование «принимало на сохранение», впредь до оставления частями генерала Бредова польских пределов.
Там их ждали разоружение, концентрационные лагери с колючей проволокой, скорбные дни и национальное унижение.
Глава XXII. События в Крыму. Орловщина. Флот. Претенденты на власть. Письмо барона Врангеля. Телеграмма генерала Кутепова
К концу декабря корпус генерала Слащова отошел за перешейки, где в течение ближайших месяцев с большим успехом отражал наступление большевиков, охраняя Крым — последнее убежище белых армий Юга.
Приняв участие в нашей борьбе еще со времен Второго Кубанского похода, генерал Слащов выдвинулся впервые в качестве начальника дивизии, пройдя с удачными боями от Ак-Манайской позиции (Крым) до нижнего Днепра и от Днепра до Вапнярки. Вероятно, по натуре своей он был лучше, чем его сделали безвременье, успех и грубая лесть крымских животолюбцев. Это был еще совсем молодой генерал, человек позы, неглубокий, с большим честолюбием и густым налетом авантюризма. Но за всем тем он обладал несомненными военными способностями, порывом, инициативой и решимостью. И корпус повиновался ему и дрался хорошо.
В крымских перешейках было очень мало жилья, мороз стоял жестокий (до 22 градусов), наши части, так же как и советские, были мало способны к позиционной войне. Поэтому Слащов отвел свой корпус за перешейки, занимая их только сторожевым охранением, и, сосредоточив крупные резервы, оборонял Крым, атакуя промерзшего, не имевшего возможности развернуть свои силы, дебуширующего из перешейков противника. В целом ряде боев[250], разбивая советские части и преследуя их, Слащов трижды захватывал Перекоп и Чонгар, неизменно возвращаясь в исходное положение. Начавшиеся в феврале между большевиками и махновцами, вклинившимися в 14-ю советскую армию, военные действия еще более укрепили положение крымского фронта.
В результате все усилия советских войск проникнуть в Крым успеха не имели.
Эта тактика, соответствовавшая духу и психологии армий гражданской войны, вызывала возмущение и большие опасения в правоверных военных и даже в политических кругах Крыма и Новороссийска. Чувства эти нашли отражение и в беседе со мной делегации бывшего «Особого совещания», о которой я говорил в прошлой главе. Вместе с тем генерал Лукомский, опасаясь за Перекоп, неоднократно телеграфировал мне о необходимости замены Слащова «лицом, которое могло бы пользоваться доверием как войск, так и населения».
Цену Слащову я знал. Но он твердо отстаивал перешейки, увольнение его могло вызвать осложнения в его корпусе и было слишком опасным. Такого же мнения придерживался, очевидно, и барон Врангель после вступления своего на пост главнокомандующего. По крайней мере, в первый же день он телеграфировал Слащову: «…Для выполнения возложенной на меня задачи мне необходимо, чтобы фронт был непоколебим. Он — в Ваших руках, и я спокоен».
31 января в Севастополь прибыл генерал Шиллинг, вокруг имени которого накопилось много злобы и клеветы. Общественное мнение до крайности преувеличивало его вольные и невольные ошибки, возлагая на его голову всю ответственность за злосчастную одесскую эвакуацию. Одни делали это по неведению, другие — как морское начальство Севастополя — сознательно, для самооправдания.
Через день после Шиллинга в Севастополь прибыл генерал Врангель.
Эти два эпизода взбаламутили окончательно жизнь Крыма, и без того насыщенную всеобщим недовольством, интригой и страхом.
Еще ранее в Симферополе произошло событие, свидетельствовавшее ярко о том развале, который охватил армейский тыл, флот, администрацию, одним словом, всю жизнь Крыма: выступление капитана Орлова.
В конце декабря по поручению Слащова в Симферополь прибыл его приближенный, герцог С. Лейхтенбергский для «заведования корпусным тылом и формированиями». Герцог вошел в сношения с капитаном Орловым и бывшим немецким лейтенантом Гомейером, которые и приступили к формированию добровольческих частей; первый — из элементов русских, второй — из немцев-колонистов и татар.
Слащов и штаб его весьма благоволили к отряду, формировавшемуся Орловым, и обильно снабжали его деньгами и снаряжением; через две, три недели отряд имел состав свыше 300 человек. Как оказалось впоследствии, в Симферополе совершенно открыто говорили о предстоящем захвате власти Орловым, настолько открыто, что подпольная большевистская организация («ревком») сочла возможным вступить с ним в связь и принять участие в деле[251].
Отряд Орлова не имел никакой политической физиономии и состоял в большей части из людей, поступивших в него случайно, или из легальных дезертиров, предпочитавших тыловые формирования боевому фронту. Окружали Орлова и руководили им лица темные и беспринципные, а сам Орлов — храбрый офицер, но страдавший неврастенией и болезненным самомнением, был, по-видимому, довольно элементарен. Так, свою политическую принадлежность в разговоре с представителями «ревкома» он определял: «правее левых эс-эров и немного левее правых эс-эров».
Все выступление от начала до конца имело характер неумной авантюры, только эта авантюра… разыгрывалась на вулкане.
20 января генерал Слащов потребовал выхода отряда Орлова на фронт. Орлов при поддержке герцога С. Лейхтенбергского уклонился от исполнения приказа под предлогом неготовности отряда. Требование было повторено в категорической форме, герцог уехал объясняться в штаб Слащова, а Орлов в ночь на 22 января произвел выступление, арестовав таврического губернатора Татищева, случайно находившихся в городе начальника штаба войск Новороссийской области генерала Чернавина, коменданта Севастопольской крепости Субботина и других лиц. В тот же день им отдан был приказ № 1 следующего содержания:
«Исполняя долг перед нашей измученной Родиной и приказы комкора генерала Слащова о восстановлении порядка в тылу, я признал необходимым произвести аресты лиц командного состава гарнизона города Симферополя, систематически разлагавших тыл. Создавая армию порядка, приглашаю всех к честной объединенной работе на общую пользу. Вступая в исполнение обязанностей начальника гарнизона гор. Симферополя, предупреждаю всех, что всякое насилие над личностью, имуществом граждан, продажа спиртных напитков и факты очевидной спекуляции будут караться мною по законам военного времени.
Начальник гарнизона г. Симферополя, командир 1-го полка добровольцев
капитан Орлов».
Приходившим к нему «делегациям» Орлов заявлял, что «молодое офицерство решило взять все в свои руки», но разъяснить это неопределенное сообщение не мог. Одновременно по городу были расклеены воззвания его к «товарищам рабочим» — одни большевистского содержания, другие «правее левого и левее правого — эс-эровского». Однако исполнить требование большевистского «ревкома» о выпуске «политических арестованных» Орлов отказался.
Находившиеся в Симферополе запасные части и отряд Гомейера объявили «нейтралитет»; городская дума вступила в переговоры с Орловым; Слащов выслал против него из Джанкоя и из Севастополя войсковые части. Не решаясь вступить с ними в бой, Орлов на третий день, выпустив арестованных им лиц, с частью своего распылившегося отряда (человек 80–90) ограбил губернское казначейство на 10 миллионов рублей и бежал в горы.
Выступление Орлова нашло отклик в Севастополе, где «назревал арест морскими офицерами Ненюкова и Бубнова, против которых (создалось) большое возбуждение на почве безвластия и отсутствия должного управления» (из донесения генерала Лукомского от 4 февраля 1920 г.).
В Черноморском флоте давно уже было неблагополучно. Нигде в армии не существовало такого разлада, нигде безвременье не оставило таких глубоких следов, как в морской среде. Оставляя в стороне причины этого явления и особенности мало знакомого мне быта, я коснусь только тех нестроений, которые имели место на верхах и непосредственно относились к компетенции главнокомандующего.
Я не знал никого из морских чинов, и поэтому каждое высшее назначение по морскому ведомству ставило меня в чрезвычайное затруднение. Аттестации были отрицательны, и выбора не было. Укажу на такой факт: начальник Морского управления адмирал Герасимов на один из видных морских постов представил мне трех кандидатов, аттестуя их следующим образом: первый — за время революции опустился, впал в прострацию; второй — демагог, ищет дешевой популярности среди молодежи; третий — с началом войны попросился на берег «по слабости сердца». Каждому новому назначению предшествовала и сопутствовала интрига, в которую вовлекалась офицерская среда.
Общее настроение передавалось и на периферию — в Каспийскую флотилию, где, хоть и в меньшем масштабе, происходили свои бури и волнения.
Флотские дела не кончались Морским управлением. Тайные осведомители вовлекали в них и Омск, вызвав однажды вмешательство самого Верховного правителя; от него получена была телеграмма о недопустимости пребывания на командной должности адмирала Саблина, который в то время состоял главным командиром портов Черного моря. Саблина, совершенно эмансипировавшегося к тому времени от центра и не выполнявшего приказаний Морского управления, адмирал Герасимов заменил Ненюковым, которого сам же впоследствии аттестует: «законопослушный, очень инертный и донельзя ленивый…».
Большое несходство во взглядах существовало между Морским управлением и севастопольским начальством. Первое ставило себе посильной задачей «всемерную помощь операциям и борьбе армий», второе раздвигало ее вне зависимости от реальных условий до «воссоздания российского флота». Причем воссоздание начиналось не с судов, а с огромнейших штабов и тыла. В одном только Севастопольском порту морской тыл отвлекал сотни офицерских чинов. Служба связи была прямо грандиозна по своему масштабу.
Расхождение существовало и в основных взглядах на идею служения нашему делу. Весьма характерная переписка имела место в самом начале воссоединения флота с армией Юга. Суд чести Новороссийского порта запрашивал суд чести Черноморского флота — не подлежат ли привлечению к ответственности офицеры из Севастополя, не поступающие на службу в Добровольческую армию… Председатель второго суда ответил, что офицеры могли бы принять участие, но поставил ряд условий экономического характера, в том числе определенные нормы содержания. На этой почве между двумя учреждениями возникло столкновение, дошедшее до меня и вызвавшее с моей стороны весьма резкую резолюцию. Адмирал Герасимов считает, что «это было одной из причин интриги против главнокомандующего после эвакуации Новороссийска».
Борьба со всеми этими явлениями встречала пассивное сопротивление и глухой ропот.
Осенью 1919 года заменившему Саблина адмиралу Ненюкову дано было звание командующего флотом; его начальником штаба стал адмирал Бубнов, подчинивший своему влиянию Ненюкова.
Последние события, преломляясь в нездоровой атмосфере флота, еще больше запутали его жизнь. Бубнов организовал в Севастополе морской кружок. «Сначала задачей его было поставлено разрешение тактических и организационных вопросов флота, но вскоре кружок перешел исключительно на политику и критику начальственных распоряжений». Этот кружок, действовавший с ведома Ненюкова, принял видное участие в последующих событиях.
Со времени падения Одессы и появления в Севастополе генерала Врангеля начинается борьба за возглавление им военной и гражданской власти в Крыму. В течение ближайшей недели между Севастополем — Джанкоем — Тихорецкой идет нервная переписка и переговоры, а в самом Крыму царит необычайное возбуждение. Я приведу хронологический перечень событий этого периода, основываясь исключительно на документах.
Тотчас по приезде в Севастополь генерал Шиллинг имел свидание с адмиралами Ненюковым и Бубновым, которые заявили ему, что он дискредитирован одесской эвакуацией, что в тылу развал и единственное спасение Крыма в немедленной передаче Шиллингом всей власти барону Врангелю, приезд которого ожидается в ближайшие дни. «Об этом не нужно испрашивать разрешения главнокомандующего, — говорили они, — так как барон Врангель будет самостоятельным в Крыму»[252].
1 февраля к генералу Шиллингу с тем же предложением явилось пять офицеров (преимущественно морских), назвавшихся делегацией от «группы офицеров»[253].
И тем и другим генерал Шиллинг, придавленный «всеми интригами и происками», ответил, что за власть не держится, охотно ее передает и предоставляет этот вопрос на усмотрение главнокомандующего, которому обо всем донес.
Между 1 и 5 февраля происходит новая беседа генерала Шиллинга с адмиралами, встреча с генералом Лукомским[254] и двукратное свидание с бароном Врангелем. По словам Шиллинга, в первый раз барон «соглашался принять командование, но не с разрешения главнокомандующего, дабы быть независимым». Во второй раз генерал Врангель «соглашался принять от (Шиллинга) должность по приказу главнокомандующего»[255].
Генерал Слащов, до которого доходили тревожные слухи, заявил Шиллингу, что будет выполнять приказания только главнокомандующего и Шиллинга. Об этом посланный Слащовым в Севастополь, для того чтобы «выяснить непосредственно у Врангеля, в чем дело», полковник Петровский доложил последнему и генералу Лукомскому.
На телеграмму Шиллинга о сделанном ему предложении я ответил категорическим отказом заменить Шиллинга Врангелем и подчинил флот в оперативном отношении Шиллингу.
5 февраля генерал Лукомский в беседе с Шиллингом настоятельно советует ему передать власть Врангелю, но непременно с согласия главнокомандующего (записка генерала Шиллинга и письмо Лукомского от 6 марта 1921 г.).
В тот же день — беседа генерала Лукомского с бароном Врангелем, который, по словам Лукомского, заявил, что «никогда не пойдет на такой шаг, как смещение Шиллинга» и «для спасения положения в Крыму готов принять должность главноначальствующего, если пожелает главнокомандующий[256]».
6 февраля генерал Шиллинг едет в Джанкой.
Капитан Орлов, спустившись с гор и пользуясь отсутствием в этом районе войск, последовательно занимает Алушту и Ялту. Оказавшийся в Ялте генерал Покровский, мобилизовав и вооружив жителей Ялты, пытался защищать город, но его импровизированный отряд, не оказав сопротивления, разбежался. Генералы Покровский и Боровский были арестованы Орловым, но затем при содействии англичан отпущены. В Алуште и Ялте Орлов ограбил казначейства.
Генерал Шиллинг посылает против него войсковые части и военное судно («Колхиду») с десантом.
Генерала Лукомского посещает генерал Шатилов и заявляет, что «вследствие ухудшающегося положения в Крыму барон Врангель согласен принять временное назначение для установления порядка на Крымском побережье при условии невмешательства Шиллинга… если генерал Лукомский именем главнокомандующего ему это прикажет»[257]. Генерал Лукомский от такой постановки вопроса отказывается, но посылает соответственную телеграмму Шиллингу.
7 февраля (11 часов). Шиллинг на основании телеграммы генерала Лукомского, подчинив Врангелю Севастопольскую крепость, флот и все тыловые отряды, возлагает на него «мерами, какие он признает целесообразными, успокоить офицерство, солдат и население и прекратить бунтарство капитана Орлова»[258].
В этот же день в Севастополе получено было по телеграфу сведение, не дошедшее до Шиллинга, о назначении мною командующим флотом вместо Ненюкова[259] бывшего начальника Морского управления адмирала Герасимова. Это обстоятельство имело последствием появление у генерала Лукомского «двух адмиралов» и председателя суда чести, заявивших ему, что «с именем Герасимова связывается хозяйственная разруха флота» и что назначение его «вызовет брожение, возможны печальные недоразумения». Лукомский настаивает на назначении Саблина[260].
Экипаж и десант «Колхиды» отказались действовать против Орлова и вернулись в Севастополь, привезя с собой его воззвания. Морское начальство не приняло никаких мер против мятежников и не сочло нужным уведомить об этом факте генерала Шиллинга.
В одном из своих воззваний капитан Орлов писал: «По дошедшим до нас сведениям, наш молодой вождь генерал Врангель прибыл в Крым. Это тот, с кем мы будем и должны говорить. Это тот, кому мы все верим…»
Лукомский в этот день в двух телеграммах на мое имя описывал тревожное положение Крыма: в связи с событиями в Ялте и полученными оттуда воззваниями — глухое брожение среди офицерства… Все, что будет формироваться в тылу и направляться против Орлова, будет переходить на его сторону… Если произойдет столкновение, то это поведет к развалу тыла и фронта… «Только немедленное назначение Врангеля вместо Шиллинга спасет положение… Завтра, быть может, будет поздно…»
«Государственные и общественные деятели», проживающие в плененной Ялте, отправили мне телеграмму в Тихорецкую о том, что «события неминуемо поведут к гибели дела обороны Крыма, если во главе власти в Крыму не будет безотлагательно поставлен барон Врангель»[261].
Между тем Врангель от «временного назначения», предложенного ему Шиллингом, отказался: «Всякое новое разделение власти в Крыму при существующем уже здесь многовластии, — телеграфировал он Шиллингу, — усложнит положение и увеличит развал тыла».
Вечером генерал Лукомский вновь убеждал Шиллинга по аппарату[262] безотлагательно просить главнокомандующего о замене его. Шиллинга, Врангелем или «в случае невозможности переговорить с главкомом… передать всю полноту власти (барону Врангелю) с донесением главкому».
В ночь на 8-е (23 часа 30 минут) Шиллинг, передавая мне сущность предложений генерала Лукомского, со своей стороны добавлял, что ввиду «разрухи тыла и разыгравшихся страстей среди офицерства до крупных чинов включительно» он также полагает, что передача им власти «будет более отвечать всей совокупности обстановки».
8 февраля (1 час 15 минут) я ответил: «Совершенно не допускаю участия генерала Врангеля. Уверен, что вы положите предел разрухе. № 630».
Ввиду такого результата переговоров генерал Шиллинг, в 3 часа 30 минут передавая текст своего доклада и моей резолюции генералу Лукомскому, сообщал, что считает поэтому необходимым: 1) принять решительные меры против Орлова, 2) отрешить тотчас же от должности Ненюкова и Бубнова и 3) просить генерала Лукомского предложить барону Врангелю покинуть немедленно пределы Крыма. От последнего поручения генерал Лукомский отказался, согласившись все же передать генералу Врангелю, что «дальнейшее пребывание его в Крыму Шиллинг находит нежелательным, ибо это может помешать ему».
В 7 часов того же дня генерал Врангель отправил в Ялту Орлову телеграмму, «горячо призывая (его) во имя блага Родины подчиниться требованиям начальников»[263].
В этот день вышли приказ, подписанный мною еще 6-го, об исключении со службы Ненюкова и Бубнова и приказы об увольнении в отставку генералов Лукомского, Врангеля и Шатилова на основании ходатайств, возбужденных ими 24 и 28 января.
8 февраля я отдал приказ о ликвидации крымской смуты:
«Приказываю:
1. Всем, принявшим участие в выступлении Орлова, освободить ими арестованных и немедленно явиться в штаб 3-го корпуса для направления на фронт, где они в бою с врагами докажут свое желание помочь армии и загладят свою вину.
2. Назначить сенаторскую ревизию для всестороннего исследования управления, командования, быта и причин, вызвавших в Крыму смуту, и для установления виновников ее.
3. Предать всех, вызвавших своими действиями смуту и руководивших ею, военно-окружному суду, невзирая на чин и положение»[264].
Между тем Орлов, запутавшийся окончательно, предпринимал уже в Ставке при посредничестве известного эс-эра Баткина некоторые шаги с целью подготовить себе путь отступления… 10 февраля он подчинился приказу и вышел с отрядом на фронт. Слащов, вопреки приказанию Шиллинга — расформировать отряд, распределив его по частям корпуса, — сохранил его в виде отдельной части, проявляя и к ней, и к Орлову исключительное внимание. Содружество их продолжалось недолго: 3 марта Орлов самовольно снял отряд с фронта и повел его в Симферополь. Посланные вслед Слащовым части огнем рассеяли отряд. Орлов с несколькими человеками бежал в горы — на этот раз окончательно.
Крымские события порождали множество самых нелепых слухов, волнуя общественность, и отражались неблагоприятно на фронте. Непонимание происходящего было настолько велико, что первое время орловское выступление было взято под покровительство кубанской самостийной печатью и «Утром Юга», которые видели в нем «движение чисто политическое — восстание революционного офицерства против правых генералов…». Потом они были весьма смущены.
Я не соглашался сменить Шиллинга[265] не только потому, чтобы не дать удовлетворения офицерской фронде, но и по другой причине: кавказский фронт катился к морю, назревала эвакуация. Управление и штаб генерала Шиллинга сами собой упразднялись с переездом в Крым главнокомандующего…
Во всяком случае, как показало ближайшее время, положение в Крыму не было так безнадежно, как оно представлялось участникам описанных выше событий. Крым был сохранен, хотя и не улеглось поднятое там волнение.
Брожение во флоте продолжалось.
Генерал Шиллинг, сместив Ненюкова, назначил временно командующим флотом прибывшего из Константинополя адмирала Саблина. Когда в Севастополь прибыл новый командующий адмирал Герасимов, Саблин отказался сдать ему должность. Прошло несколько дней, пока сношениями с Феодосией, где пребывал Шиллинг, и со Ставкой не ликвидировано было это новое выступление. Саблин перешел на пароход «Великий князь Александр Михайлович», где имел местопребывание и барон Врангель. Бубнов уехал в Константинополь, но его кружок продолжал работать, не стесняясь даже посвящать адмирала Герасимова в свои предположения о перевороте. Под влиянием этих обстоятельств Герасимов счел себя вынужденным посоветовать генералу Врангелю «на время уехать, так как около его имени творятся здесь в Севастополе легенды и идет пропаганда против главного командования». Барон ответил ему, что «подумает об его словах»[266].
В 20-х числах февраля генерал Хольмэн имел разговор со мною:
— Ваше превосходительство, вы предполагаете дать какое-нибудь назначение генералу Врангелю или нет?
— Нет.
— В таком случае, может быть, лучше будет посоветовать ему уехать?
— Да, это было бы лучше.
В результате этого разговора Хольмэн написал письмо барону Врангелю в тоне исключительно доброжелательном:
«…Я глубоко уверен, что Ваш разрыв с генералом Деникиным явился следствием того, что Вы, как это часто бывает с искренними патриотами во время смуты, недостаточно поняли друг друга.
При таких отношениях служить вместе бывает слишком тяжело.
Мне причинило глубокую боль просить Вас оставить Крым, так как, искренне веря в Ваши лучшие намерения и преданность Родине, я все же счел правильным и полезным для настоящего положения просить Вас сделать это».
Генерал Врангель излагает этот эпизод так: английский адмирал Сеймур, находившийся в Севастополе, от имени генерала Хольмэна передал ему мое «требование оставить пределы России».
Врангель выехал в Константинополь, предварительно отправив мне с нарочным обличительное письмо. Все существенное из него мною приведено было дословно в соответствующих главах. Остается дополнить лишь немногое:
Про меня генерал Врангель говорил:
«Вы видели, как таяло Ваше обаяние и власть выскальзывала из Ваших рук. Цепляясь за нее, в полнейшем ослеплении, Вы стали искать кругом крамолу и мятеж…
Отравленный ядом честолюбия, вкусивший власти, окруженный бесчестными льстецами, Вы уже думали не о спасении Отечества, а лишь о сохранении власти…»
Про себя барон говорил:
«Русское общество стало прозревать… Все громче и громче… назывались имена начальников, имя которых среди всеобщего падения нравов оставалось незапятнанным… Армия и общество… во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все…»
Наконец, про армию:
«Армия, воспитанная на произволе, грабежах и пьянстве, ведомая начальниками, примером своим развращающими войска, — такая армия не могла создать Россию…»
Вероятно, такое широкое обобщение впоследствии сочтено было не отвечающим политическому моменту. Ибо со вступлением генерала Врангеля на пост главнокомандующего все старшие начальники остались на своих местах[267], были награждены чинами, орденами и титулами. А через год в Константинополе в официальном опровержении приписанных ему корреспондентом «Последних новостей» слов барон заявил: «Я никогда не говорил и не мог говорить, что Белое движение требует каких-то оправданий, что «наследие Деникина — разрозненные банды». Я два года провел в армии генерала Деникина, сам к этим «бандам» принадлежал, во главе этих «банд» оставался в Крыму и им обязан всем, что нами сделано…»
Сначала с парохода «Великий князь Александр Михайлович» в Севастополе, потом из посольского дома в Константинополе, где остановился генерал Врангель, копии памфлета распространялись сотнями и тысячами экземпляров — по Крыму, в армии, за границей. Распространялись усердно и всякими способами.
В Константинополе, например, «генералы Врангель и Шатилов, — пишет одесский журналист С. Штерн, — зная, что я еду в Париж и связан с тамошними литературными и политическими кругами, детально изложили мне историю взаимоотношений Врангеля и Деникина. Запись беседы с генералом Шатиловым у меня сохранилась, но воспроизводить ее нет смысла, так как сообщенное генералом Шатиловым совпадает с сущностью опубликованного впоследствии письма Врангеля к Деникину»[268].
И после моего отъезда из России письмо это печаталось и рассылалось в войсковые части. В дело агитации вовлечена была и церковь. Один из наиболее активных деятелей предполагавшегося переворота, епископ Вениамин, ставший после моего ухода протопресвитером военного и морского духовенства, рассылал в полки проповедников, которые порочили имя ушедшего главнокомандующего.
Письмо это появлялось и в иностранной прессе.
Я ответил генералу Врангелю кратко[269]:
«Милостивый государь, Петр Николаевич!
Ваше письмо пришло как раз вовремя — в наиболее тяжкий момент, когда мне приходится напрягать все духовные силы, чтобы предотвратить падение фронта. Вы должны быть вполне удовлетворены…
Если у меня и было маленькое сомнение в Вашей роли в борьбе за власть, то письмо Ваше рассеяло его окончательно. В нем нет ни слова правды. Вы это знаете. В нем приведены чудовищные обвинения, в которые Вы сами не верите. Приведены, очевидно, для той же цели, для которой множились и распространялись предыдущие рапорты-памфлеты.
Для подрыва власти и развала Вы делаете все, что можете.
Когда-то, во время тяжкой болезни, постигшей Вас, Вы говорили Юзефовичу, что Бог карает Вас за непомерное честолюбие…
Пусть Он и теперь простит Вас за сделанное Вами русскому делу зло.
А. Деникин».
Были и другие претенденты на власть.
В начале марта генерал Слащов совместно с герцогом С. Лейхтенбергским и помощником Шиллинга Брянским замыслили устранить Шиллинга. Цель — вступление во власть в Крыму Слащова, поводы — обвинение, предъявленное Брянским, который «настаивал на том, чтобы произвести обыск (у генерала Шиллинга) и гарантировал обнаружение незаконных денег и вещей[270]. В последнюю минуту, однако, Брянский смутился и вышел из игры. В своем рапорте и письме на имя Шиллинга от 9 и 10 марта он объяснял свой поступок тем, что «любил (Шиллинга) как отца», но, будучи посвящен в намерения Слащова и герцога Лейхтенбергского убить Шиллинга в случае отказа его подать в отставку[271], он, Брянский, «борясь с этим планом, предлагал всякие средства, включая арест (Шиллинга) и обыск в (его) доме»[272].
Как предполагал использовать власть Слащов — неизвестно; сам же он пишет по этому поводу: «…Я первый ему (генералу Врангелю в Константинополь) через графа Гендрикова сообщаю: ехать дальше вам нельзя, возвращайтесь, но по политическим соображениям соедините наши имена, а Шатилову дайте название — ну хоть своего помощника…»
В начале марта бывшие тогда не у дел генералы Покровский и Боровский посетили генерала Кутепова и, «решившись посвятить его в свои предположения», осведомлялись, как отнесся бы Добровольческий корпус к перевороту в пользу генерала Покровского? Генерал Кутепов ответил, что ни он, ни корпус Покровскому не подчинятся.
В каких-то сложных политических комбинациях было замешано и английское дипломатическое представительство в лице генерала Киза… Мне известен его проект реорганизации власти Юга с предоставлением главнокомандующему только военного командования. Предложение это предполагалось им поставить в ультимативной форме. По-видимому, в известной степени с такими планами находились волновавшие Новороссийск слухи о предположенной англичанами оккупации. «Из английских кругов, — телеграфировал мне 10 января Лукомский, — зондировали почву у Шликевича, председателя Земского союза, не пойдет ли он в председатели «Русского совета» по управлению Черноморской губернией в случае назначения сюда генерал-губернатора англичанами».
Военное английское представительство отнеслось, однако, совершенно отрицательно к такого рода вмешательству в русские дела.
Позднее, когда назревала уже эвакуация Новороссийска, генерал Киз интересовался возможностью переворота и с этой целью осведомлялся у генерала Кутепова об отношении к этому вопросу Добровольческого корпуса.
Обстановка, в которой мне приходилось работать последние месяцы, была, таким образом, необычайно сложна и тягостна.
Главной своей опорой я считал добровольцев.
С ними я начал борьбу и шел вместе по бранному пути, деля невзгоды, печали и радости первых походов. С ними кровно и неразрывно связывал я судьбу всего движения и свое дальнейшее участие в нем. Я верил, что тяжкие испытания, ниспосланные нам судьбою, потрясут мысль и совесть людей, послужат к духовному обновлению армии, к очищению Белой идеи от насевшей на нее грязи.
Я верил в добровольцев и с ними мог идти дальше по тернистой дороге к цели заветной, далекой, но не безнадежной…
23 февраля я получил телеграмму от командира Добровольческого корпуса генерала Кутепова:
«События последних дней на фронте с достаточной ясностью указывают, что на длительность сопротивления казачьих частей рассчитывать нельзя. Но если в настоящее время борьбу временно придется прекратить, то необходимо сохранить кадры Добровольческого корпуса до того времени, когда Родине снова понадобятся надежные люди. Изложенная обстановка повелительно требует принятия немедленных и решительных мер для сохранения и спасения офицерских кадров Добровольческого корпуса и добровольцев. Для того чтобы в случае неудачи спасти корпус и всех бойцов за идею Добровольческой армии, пожелавших пойти с ним, от окончательного истребления и распыления, необходимо немедленное принятие следующих мер, с полной гарантией за то, что меры эти будут неуклонно проведены в жизнь в кратчайшее время. Меры эти следующие:
1. Немедленно приступить к самому интенсивному вывозу раненых и действительно больных офицеров и добровольцев за границу.
2. Немедленный вывоз желающих семейств офицеров и добровольцев, служивших в Добровольческой армии, в определенный срок за границу, с тем, чтобы с подходом Добровольческого корпуса к Новороссийску возможно полнее разгрузить его от беженцев.
3. Сейчас же и, во всяком случае, не позже того времени, когда Добровольческий корпус отойдет в район станции Крымской, подготовить три или четыре транспорта, сосредоточенных в Новороссийске, конвоируемых наличными четырьмя миноносцами и подводными лодками, которые должны прикрыть посадку всего Добровольческого корпуса и офицеров других армий, пожелавших присоединиться к нему. Вместимость транспортов не менее десяти тысяч человек с возможно большим запасом продовольствия и огнеприпасов.
4. Немедленная постановка в строй всех офицеров, хотя бы и категористов, которые должны быть влиты в полки Добровольческого корпуса и принять участие в обороне подступов к Новороссийску. Все офицеры, зачисленные в эти полки и не ставшие в строй, хотя бы и категористы, не подлежат эвакуации, за исключением совершенно больных и раненых, причем право на эвакуацию должно быть определено комиссией из представителей от частей Добровольческого корпуса.
5. Все учреждения Ставки и правительственные учреждения должны быть посажены на транспорты одновременно с последней грузящейся на транспорт частью Добровольческого корпуса и отнюдь не ранее.
6. Теперь же должна быть передана в исключительное ведение Добровольческого корпуса железная дорога Тимашевская — Новороссийск с узловой станцией Крымская включительно. Никто другой на этой линии распоряжаться не должен.
7. С подходом корпуса в район станции Крымская вся власть в тылу и на фронте, порядок посадки, все плавучие средства и весь флот должны быть объединены в руках командира корпуса, от которого исключительно должен зависеть порядок посадки на транспорты и которому должны быть предоставлены диктаторские полномочия в отношении всех лиц и всякого рода военного, казенного и частного имущества и всех средств, находящихся в районе Крымская — Новороссийск.
8. Дальнейшее направление посаженного на транспорты Добровольческого корпуса должно будет определиться политической обстановкой, создавшейся к тому времени, и в случае падения Крыма или отказа от борьбы на его территории Добровольческий корпус в том или ином виде высаживается в одном из портов или мест, предоставленных союзниками, о чем теперь же необходимо войти с ними в соглашение, выработав соответствующие и наивыгоднейшие условия интернирования или же поступления корпуса на службу целой частью.
9. Докладывая о вышеизложенном Вашему превосходительству, я в полном сознании своей ответственности за жизнь и судьбу чинов вверенного мне корпуса и в полном согласии со строевыми начальниками, опирающимися на голос всего офицерства, прошу срочного ответа для внесения в войска успокоения и для принятия тех мер, которые обеспечат сохранение от распада оставшихся борцов за Родину.
10. Все изложенное выше отнюдь не указывает на упадок духа в корпусе, и если удалось бы задержаться на одной из оборонительных линий, то определенность принятого Вами на случай неудачи решения внесет в войска необходимое успокоение и придаст им еще большую стойкость.
Кутепов».
Вот и конец.
Те настроения, которые сделали психологически возможным такое обращение добровольцев к своему главнокомандующему, предопределили ход событий: в этот день я решил бесповоротно оставить свой пост. Я не мог этого сделать тотчас же, чтобы не вызвать осложнений на фронте, и без того переживавшем критические дни. Предполагал уйти, испив до дна горькую чашу новороссийской эвакуации, устроив армию в Крыму и закрепив крымский фронт.
Командиру корпуса я ответил:
«Генералу Кутепову.
Вполне понимая Вашу тревогу и беспокойство за участь офицеров и добровольцев, прошу помнить, что мне судьба их не менее дорога, чем Вам, и что, охотно принимая советы своих соратников, я требую при этом соблюдения правильных взаимоотношений подчиненного к начальнику. В основание текущей операции я принимаю возможную активность правого крыла Донской армии. Если придется отойти за Кубань, то в случае сохранения боеспособности казачьими частями будем удерживать фронт по Кубани, что легко, возможно и весьма важно. Если же казачий фронт рассыплется, Добровольческий корпус пойдет на Новороссийск. Во всех случаях нужен выигрыш времени. Отвечаю по пунктам:
1. Вывоз раненых и больных идет в зависимости от средств наших и даваемых союзниками. Ускоряю, сколько возможно.
2. Семейства вывозятся, задержка только от их нежелания и колебаний.
3. Транспорты подготовляются.
4. Как Вам известно, таково назначение Марковской дивизии.
5. Правительственные учреждения и Ставка поедут тогда, когда я сочту это нужным. Ставку никто не имеет оснований упрекать в этом отношении. Добровольцы должны бы верить, что главнокомандующий уйдет последним, если не погибнет ранее.
6. Железная дорога Тимашевская — Новороссийск Вам передана быть не может, так как она обслуживает и Донскую армию. Это возможно лишь при тех исключительных условиях, о которых говорил во вступлении.
7. Вся власть принадлежит главнокомандующему, который даст такие права командиру Добровольческого корпуса, которые сочтет нужными».
День 28 февраля был одним из наиболее тяжких в моей жизни.
Генерал Кутепов, прибыв в один из ближайших дней в Ставку, выражал сожаление о своем шаге и объяснял его крайне нервной атмосферой, царившей в корпусе на почве недоверия к правительству и казачеству. «Только искреннее желание — помочь Вам расчистить тыл — руководило мною при посылке телеграммы», — говорил он.
Эта беседа уже не могла повлиять на мое решение.
Глава XXIII. Эвакуация Новороссийска
Ко времени отхода фронта за Кубань вопрос о дальнейших перспективах армии приобретал чрезвычайно серьезное значение. В соответствии с решением моим — в случае неудачи на линии реки Кубань отводить войска в Крым — принят был ряд мер: усиленно снабжалась новая главная база в Феодосии; с января было приступлено к организации продовольственных баз на Черноморском побережье, в том числе плавучих — для портов, к которым могли бы отходить войска; спешно заканчивалась разгрузка Новороссийска от беженского элемента, больных и раненых путем эвакуации их за границу.
По условиям тоннажа и морального состояния войск одновременная, планомерная эвакуация их при посредстве Новороссийского порта была немыслима: не было надежд на возможность погрузки всех людей, не говоря уже об артиллерии, обозе, лошадях и запасах, которые предстояло бросить. Поэтому для сохранения боеспособности войск, их организации и материальной части я наметил и другой путь — через Тамань.
Еще в директиве от 4 марта при отходе за реку Кубань на Добровольческий корпус возложено было, помимо обороны низовьев ее, прикрытие частью сил Таманского полуострова у Темрюка. Рекогносцировка пути между Анапой и станцией Таманской дала вполне благоприятные результаты; полуостров, замкнутый водными преградами, представлял большие удобства для обороны; весь путь туда находился под прикрытием судовой артиллерии, ширина Керченского пролива очень незначительна, а транспортная флотилия Керченского порта достаточно мощна и могла быть легко усилена. Я приказал стягивать спешно транспортные средства в Керчь. Вместе с тем велено было подготовить верховых лошадей для оперативной части Ставки, с которой я предполагал перейти в Анапу и следовать затем с войсками береговой дорогой на Тамань.
5 марта я посвятил в свои предположения прибывшего в Ставку генерала Сидорина, который отнесся к ним с сомнением. По его докладу донские части утратили боеспособность и послушание и вряд ли согласятся идти в Крым. Но в Георгие-Афипской, где расположился донской штаб, состоялся ряд совещаний, и донская фракция Верховного Круга, как я уже упоминал, признала недействительным постановление о разрыве с главнокомандующим, а совещание донских командиров в конце концов присоединилось к решению вести войска на Тамань.
Хотя переход на Тамань предполагался лишь в будущем, а директива Ставки требовала пока удержания линии реки Кубань, 4-й Донской корпус, стоявший за рекой выше Екатеринодара, тотчас же спешно снялся и стал уходить на запад.
7 марта я отдал последнюю свою директиву на Кавказском театре: Кубанской армии, бросившей уже рубеж реки Белой, удерживаться на реке Курге; Донской армии и Добровольческому корпусу оборонять линию реки Кубани от устья Курги до Ахтанизовского лимана; Добровольческому корпусу теперь же частью сил, обойдя кружным путем, занять Таманский полуостров и прикрыть от красных северную дорогу от Темрюка[273].
Ни одна из армий директивы не выполнила.
Кубанские войска, совершенно дезорганизованные, находились в полном отступлении, пробиваясь горными дорогами на Туапсе. С ними терялась связь не только оперативная, но и политическая: Кубанская Рада и атаман на основании последнего постановления Верховного Круга, помимо старших военных начальников, которые оставались лояльными в отношении главнокомандующего, побуждали войска к разрыву со Ставкой. Большевики ничтожными силами легко форсировали Кубань и, почти не встречая сопротивления, вышли на левый берег ее у Екатеринодара, разрезав фронт Донской армии. Оторвавшийся от нее к востоку корпус генерала Старикова пошел на соединение с кубанцами. Два других донских корпуса, почти не задерживаясь, нестройными толпами двинулись по направлению Новороссийска. Многие казаки бросали оружие или целыми полками переходили к «зеленым»; все перепуталось, смешалось, потеряна была всякая связь штабов с войсками, и поезд командующего Донской армией, бессильного уже управлять войсками, ежедневно подвергаясь опасности захвата в плен, медленно пробивался на запад через море людей, коней и повозок. То недоверие и то враждебное чувство, которое в силу предшествовавших событий легло между добровольцами и казаками, теперь вспыхнуло с особенной силой. Двигающаяся казачья лавина, грозящая затопить весь тыл Добровольческого корпуса и отрезать его от Новороссийска, вызывала в его рядах большое волнение. Иногда оно прорывалось в формах весьма резких. Помню, как начальник штаба Добровольческого корпуса, генерал Достовалов во время одного из совещаний в поезде Ставки заявил:
— Единственные войска, желающие и способные продолжать борьбу, — это Добровольческий корпус. Поэтому ему необходимо предоставить все потребные транспортные средства, не считаясь ни с чьими претензиями и не останавливаясь в случае надобности перед применением оружия.
Я резко остановил говорившего.
Движение на Тамань с перспективой новых боев на тесном пространстве полуострова совместно с колеблющейся казачьей массой смущало добровольцев. Новороссийский порт влек к себе неудержимо, и побороть это стремление оказалось невозможным. Корпус ослабил сильно свой левый фланг, обратив главное внимание на Крымскую — Тоннельную, в направлении железнодорожной линии на Новороссийск.
10 марта «зеленые» подняли восстание в Анапе и Гостогаевской станице и захватили эти пункты. Действия нашей конницы против «зеленых» были нерешительны и безрезультатны. В тот же день большевики, отбросив слабую часть, прикрывавшую Варениковскую переправу, перешли через Кубань. Днем конные части их появились у Гостогаевской, а с вечера от переправы в направлении на Анапу двигались уже колонны неприятельской пехоты. Повторенное 11 марта наступление конницы генералов Барбовича, Чеснокова и Дьякова на Гостогаевскую и Анапу было еще менее энергично и успеха не имело.
Пути на Тамань были отрезаны…
И 11 марта Добровольческий корпус, два донских и присоединившаяся к ним кубанская дивизия без директивы, под легким напором противника сосредоточились в районе станции Крымской, направляясь всей своей сплошной массой на Новороссийск.
Катастрофа становилась неизбежной и неотвратимой.
Новороссийск тех дней, в значительной мере уже разгруженный от беженского элемента, представлял из себя военный лагерь и тыловой вертеп. Улицы его буквально запружены были молодыми и здоровыми воинами-дезертирами. Они бесчинствовали, устраивали митинги, напоминавшие первые месяцы революции, с таким же элементарным пониманием событий, с такой же демагогией и истерией. Только состав митингующих был иной: вместо «товарищей солдат» были офицеры. Прикрываясь высокими побуждениями, они приступили к организации «военных обществ», скрытой целью которых был захват в случае надобности судов… И в то же время официальный «эвакуационный бюллетень» с удовлетворением констатировал: «Привлеченные к погрузке артиллерийских грузов офицеры с правом потом по погрузке самим ехать на пароходах проявляют полное напряжение и вместо установленной погрузочной нормы 100 пудов грузят в двойном и более размерах, сознавая важность своей работы…»
Первое время ввиду отсутствия в Новороссийске надежного гарнизона было трудно. Я вызвал в город добровольческие офицерские части и отдал приказ о закрытии всех, возникших на почве развала военных «обществ», об установлении полевых судов для руководителей их и дезертиров и о регистрации военнообязанных. «Те, кто избегнут учета, пусть помнят, что в случае эвакуации Новороссийска будут отброшены на произвол судьбы…» Эти меры в связи с ограниченным числом судов на новороссийском рейде разрядили несколько атмосферу.
А в городе царил тиф, косила смерть. 10-го я проводил в могилу начальника Марковской дивизии, храбрейшего офицера, полковника Блейша.
Второй «старый» марковец уходил за последние недели… Недавно в Батайске среди вереницы отступающих обозов я встретил затертую в их массе повозку, везущую гроб с телом умершего от сыпного тифа генерала Тимановского. Железный Степаныч, сподвижник и друг генерала Маркова, человек необыкновенного, холодного мужества, столько раз водивший полки к победе, презиравший смерть и сраженный ею так не вовремя…
Или вовремя?
Убогая повозка с дорогою кладью, покрытая рваным брезентом, — точно безмолвный и бесстрастный символ.
Оглушенная поражением и плохо разбиравшаяся в сложных причинах его офицерская среда волновалась и громко называла виновника. Он был уже назван давно — человек долга и безупречной моральной честности, на которого армейские и некоторые общественные круги — одни по неведению, другие по тактическим соображениям — свалили главную тяжесть общих прегрешений.
Начальник штаба главнокомандующего генерал И. П. Романовский.
В начале марта ко мне пришел протопресвитер отец Георгий Шавельский и убеждал меня освободить Ивана Павловича от должности, уверяя, что в силу создавшихся настроений в офицерстве возможно убийство его. Об этом эпизоде отец Георгий писал мне впоследствии:
«Чтобы Иван Павлович не заподозрил меня в какой-нибудь интриге против него, я, прежде чем беседовать с Вами, побывал у него и, скрепя сердце, нарисовал ему полную картину поднявшейся против него злобы.
Иван Павлович слушал спокойно, как будто бесстрастно, и только спросил меня: «Скажите, в чем меня обвиняют?»
«Для клеветы нет границ, — ответил я, — во всем. Говорят, например, что Вы на днях отправили за границу целый пароход табаку, и дальше в этом и другом роде».
Иван Павлович опустил голову на руки и замолк.
Действительно, чего только не валили на его бедную голову: его считали хищником, когда я знаю, что в Екатеринодаре и Таганроге для изыскания жизненных средств он должен был продавать свои старые, вывезенные из Петрограда вещи; его объявили «жидо-масоном», когда он всегда был вернейшим сыном православной церкви; его обвиняли в себялюбии и высокомерии, когда он ради пользы дела старался совсем затушевать свое я, и так далее.
Я умолял теперь Ивана Павловича уйти на время от дел, пока отрезвеют умы и смолкнет злоба.
Он ответил мне, что это его самое большое желание…
Вы знаете, как одиозно было тогда в армии имя Ивана Павловича; может быть, слышите, что память его не перестает поноситься и доселе. Необходимо рассеять гнусную клевету и соединенную с нею ненависть, преследовавшие этого чистого человека при его жизни, не оставившие его и после смерти. Я готов был бы как его духовник, которому он верил и которому он открывал свою душу, свидетельствовать перед миром, что душа эта была детски чиста, что он укреплялся в подвиге, который он нес, верою в Бога, что он самоотверженно любил Родину, служил ей только из горячей, беспредельной любви к ней, что, не ища своего, забывал о себе, что он живо чувствовал людское горе и страдание и всегда устремлялся навстречу ему».
Тяжко мне было говорить с Иваном Павловичем об этих вопросах. Решили с ним, что потерпеть уж осталось недолго: после переезда в Крым он оставит свой пост.
Несколько раз генерал Хольмэн обращался ко мне и к генерал-квартирмейстеру Махрову с убедительной просьбой переместить поезд или уговорить генерала Романовского перейти на английский корабль, так как «его решили убить добровольцы…». Это намерение, по-видимому, близко было к осуществлению: 12 марта явилось в мой поезд лицо, близкое к Корниловской дивизии, и заявило, что группа корниловцев собирается сегодня убить генерала Романовского; пришел и генерал Хольмэн. В присутствии Ивана Павловича он взволнованно просил меня вновь «приказать» начальнику штаба перейти на английский корабль.
— Этого я не сделаю, — сказал Иван Павлович. — Если же дело обстоит так, прошу ваше превосходительство освободить меня от должности. Я возьму ружье и пойду добровольцем в Корниловский полк; пускай делают со мной, что хотят.
Я просил его перейти хотя бы в мой вагон. Он отказался.
Слепые, жестокие люди, за что?
Отношения англичан по-прежнему были двойственны. В то время, как дипломатическая миссия генерала Киза изобретала новые формы управления для Юга, начальник военной миссии генерал Хольмэн вкладывал все свои силы и душу в дело помощи нам. Он лично принимал участие с английскими техническими частями в боях на донецком фронте; со всей энергией добивался усиления и упорядочения материальной помощи; содействовал организации феодосийской базы — непосредственно и влияя на французов. Генерал Хольмэн силой британского авторитета поддерживал Южную власть в распре ее с казачеством и делал попытки влиять на поднятие казачьего настроения. Он отождествлял наши интересы со своими, горячо принимал к сердцу наши беды и работал, не теряя надежд и энергии до последнего дня, представляя резкий контраст со многими русскими деятелями, потерявшими уже сердце.
Трогательное внимание проявлял он и в личных отношениях ко мне и начальнику штаба. Атмосфера «заговоров» и «покушений», охватившая в последние дни Новороссийск, не давала Хольмэну покоя. С нами говорить об этом было бесполезно, но не проходило дня, чтобы он не являлся к генерал-квартирмейстеру с упреками и советами по этому поводу. Совместно с ним он принял тайно некоторые меры предосторожности, а явно демонстрировал внимание к главнокомандующему, представив мне на смотр английский десант и судовые экипажи.
Впрочем, я и до сегодняшнего дня думаю, что в отношении меня лично все эти предосторожности были излишни.
Юг постигло великое бедствие. Положение казалось безнадежным, и конец близок. Сообразно с этим менялась и политика Лондона. Генерал Хольмэн оставался еще в должности, но неофициально называли уже имя его преемника — генерала Перси… Лондон решил ускорить «ликвидацию». Очевидно, такое поручение было морально неприемлемо для генерала Хольмэна, так как в один из ближайших перед эвакуацией дней ко мне явился не он, а генерал Бридж со следующим предложением английского правительства: так как, по мнению последнего, положение катастрофично и эвакуация в Крым неосуществима, то англичане предлагают мне свое посредничество для заключения перемирия с большевиками…
Я ответил: никогда.
Этот эпизод имел свое продолжение несколько месяцев спустя. В августе 1920 года в газете «Таймс» опубликована была нота лорда Керзона к Чичерину от 1 апреля. В ней после соображений о бесцельности дальнейшей борьбы, которая «является серьезной угрозой спокойствию и процветанию России», Керзон заявлял:
«Я употребил все свое влияние на генерала Деникина, чтобы уговорить его бросить борьбу, обещав ему, что, если он поступит так, я употреблю все усилия, чтобы заключить мир между его силами и вашими, обеспечив неприкосновенность всех его соратников, а также населения Крыма. Генерал Деникин в конце концов последовал этому совету и покинул Россию, передав командование генералу Врангелю».
Неизвестно, чему было больше удивляться: той лжи, которую допустил лорд Керзон, или той легкости, с которой министерство иностранных дел Англии перешло от реальной помощи белому Югу к моральной поддержке большевиков путем официального осуждения Белого движения.
В той же «Таймс» я напечатал тотчас опровержение:
«1. Никакого влияния лорд Керзон оказать на меня не мог, так как я с ним ни в каких отношениях не находился.
2. Предложение (британского военного представителя о перемирии) я категорически отвергнул и, хотя с потерей материальной части, перевел армию в Крым, где тотчас же приступил к продолжению борьбы.
3. Нота английского правительства о начатии мирных переговоров с большевиками была, как известно, вручена уже не мне, а моему преемнику по командованию Вооруженными силами Юга России генералу Врангелю. Отрицательный ответ которого был в свое время опубликован в печати.
4. Мой уход с поста главнокомандующего был вызван сложными причинами, но никакой связи с политикой лорда Керзона не имел.
Как раньше, так и теперь я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения. Иначе не только Россия, но и вся Европа обратится в развалины».
Для характеристики генерала Хольмэна могу добавить: он просил меня разъяснить дополнительно в «Таймс», что «британский военный представитель», предлагавший перемирие с большевиками, был не генерал Хольмэн.
Я охотно исполнил желание человека, который, «познав истинную природу большевизма», готов был, как доносил он Черчиллю, «скорее стать в ряды армий Юга рядовым добровольцем, чем вступить в сношения с большевиками…».
Армии катились от Кубани к Новороссийску слишком быстро, а на рейде стояло слишком мало судов…
Пароходы, занятые эвакуацией беженцев и раненых, подолгу простаивали в иностранных портах по карантинным правилам и сильно запаздывали. Ставка и комиссия генерала Вязьмитинова, непосредственно ведавшая эвакуацией, напрягали все усилия к сбору судов, встречая в этом большие препятствия. И Константинополь, и Севастополь проявляли необычайную медлительность под предлогом недостатка угля, неисправности механизмов и других непреодолимых обстоятельств.
Узнав о прибытии главнокомандующего на Востоке генерала Мильна и английской эскадры адмирала Сеймура в Новороссийск, я 11 марта заехал в поезд генерала Хольмэна, где встретил и обоих английских начальников. Очертив им общую обстановку и указав возможность катастрофического падения обороны Новороссийска, я просил о содействии эвакуации английским флотом. Встретил сочувствие и готовность. Адмирал Сеймур заявил, что по техническим условиям он может принять на борты своих кораблей не более 5–6 тысяч человек. Тогда генерал Хольмэн сказал по-русски и перевел свою фразу по-английски:
— Будьте спокойны. Адмирал добрый и великодушный человек. Он сумеет справиться с техническими трудностями и возьмет много больше.
— Сделаю все, что возможно, — ответил Сеймур.
Адмирал своим сердечным отношением к участи белого воинства оправдывал вполне данную ему Хольмэном характеристику. Его обещанию можно было верить, и эта помощь значительно облегчала наше тяжелое положение.
Суда между тем прибывали. Появилась надежда, что в ближайшие 4–8 дней нам удастся поднять все войска, желающие продолжать борьбу на территории Крыма. Комиссия Вязьмитинова назначила первые четыре транспорта частям Добровольческого корпуса, один пароход для кубанцев, остальные предназначались для Донской армии.
12 марта утром ко мне прибыл генерал Сидорин. Он был подавлен и смотрел на положение своей армии совершенно безнадежно. Все развалилось, все текло, куда глаза глядят, никто бороться больше не хотел, в Крым, очевидно, не пойдут. Донской командующий был озабочен главным образом участью донских офицеров, затерявшихся в волнующейся казачьей массе. Им грозила смертельная опасность в случае сдачи большевикам. Число их Сидорин определял в 5 тысяч. Я уверил его, что все офицеры, которые смогут добраться до Новороссийска, будут посажены на суда.
Но по мере того, как подкатывала к Новороссийску волна донцов, положение выяснялось все более и притом в неожиданном для Сидорина смысле: колебания понемногу рассеялись, и все донское воинство бросилось к судам. Для чего — вряд ли они тогда отдавали себе ясный отчет. Под напором обращенных к нему со всех сторон требований генерал Сидорин изменил своей тактике и в свою очередь обратился к Ставке с требованием судов для всех частей в размерах, явно невыполнимых, как невыполнима вообще планомерная эвакуация войск, не желающих драться, ведомых начальниками, переставшими повиноваться.
Между тем Новороссийск, переполненный свыше всякой меры, ставший буквально непроезжим, залитый человеческими волнами, гудел, как разоренный улей. Шла борьба за «место на пароходе» — борьба за спасение… Много человеческих драм разыгралось на стогнах города в эти страшные дни. Много звериного чувства вылилось наружу перед лицом нависшей опасности, когда обнаженные страсти заглушали совесть и человек человеку становился лютым ворогом.
13 марта явился ко мне генерал Кутепов, назначенный начальником обороны Новороссийска, и доложил, что моральное состояние войск, их крайне нервное настроение не дают возможности оставаться долее в городе, что ночью необходимо его оставить…
Суда продолжали прибывать, но их все еще было недостаточно, чтобы поднять всех.
Генерал Сидорин вновь обратился с резким требованием транспортов. Я предложил ему три решения:
1. Занять сохранившимися донскими войсками ближайшие подступы к Новороссийску, чтобы выиграть дня два, в которые, несомненно, прибудут недостающие транспорты.
Сидорин не хотел или не мог этого сделать. Точно так же он отказался выставить на позиции хотя бы сохранившую боеспособность учебную бригаду.
2. Повести лично свои части береговой дорогой на Геленджик — Туапсе[274], куда могли быть свернуты подходившие пароходы и направлены новые после разгрузки их в крымских портах.
Сидорин не пожелал этого сделать.
3. Наконец, можно было отдаться на волю судьбы в расчете на те транспорты, которые прибудут в этот день и в ночь на 14-е, а также на обещанную адмиралом Сеймуром помощь английских судов.
Генерал Сидорин остановился на этом решении, а подчиненным ему начальникам, потом прессе поведал об учиненном главным командованием «предательстве Донского войска».
Эта версия, сопровождаемая вымышленными подробностями, была очень удобна, перекладывая весь одиум, все личные грехи и последствия развала казачьей армии на чужую голову.
Вечером 13-го штаб главнокомандующего, штабы Донской армии и донского атамана посажены были на пароход «Цесаревич Георгий». После этого я с генералом Романовским и несколькими чинами штаба перешли на русский миноносец «Капитан Сакен».
Посадка войск продолжалась всю ночь. Часть добровольцев и несколько полков донцов, не попавших на суда, пошли береговой дорогой на Геленджик.
Прошла бессонная ночь. Начало светать. Жуткая картина. Я взошел на мостик миноносца, стоявшего у пристани. Бухта опустела. На внешнем рейде стояло несколько английских судов, еще дальше виднелись неясные уже силуэты транспортов, уносящих русское воинство к последнему клочку родной земли, в неизвестное будущее…
В бухте мирно стояли два французских миноносца, по-видимому, не знавшие обстановки. Мы подошли к ним. В рупор была передана моя просьба:
— Новороссийск эвакуирован. Главнокомандующий просит вас взять на борт сколько возможно из числа остающихся на берегу людей.
Миноносцы быстро снялись и ушли на внешний рейд…[275]
В бухте — один только «Капитан Сакен».
На берегу у пристаней толпился народ. Люди сидели на своих пожитках, разбивали банки с консервами, разогревали их, грелись сами у разведенных тут же костров. Это бросившие оружие — те, которые не искали уже выхода. У большинства спокойное, тупое равнодушие — от всего пережитого, от утомления, от духовной прострации. Временами слышались из толпы крики отдельных людей, просивших взять их на борт. Кто они, как их выручить из сжимающей их толпы?.. Какой-то офицер с северного мола громко звал на помощь, потом бросился в воду и поплыл к миноносцу. Спустили шлюпку и благополучно подняли его. Вдруг замечаем — на пристани выстроилась подчеркнуто стройно какая-то воинская часть. Глаза людей с надеждой и мольбой устремлены на наш миноносец. Приказываю подойти к берегу. Хлынула толпа…
— Миноносец берет только вооруженные команды…
Погрузили сколько возможно было людей и вышли из бухты. По дороге, недалеко от берега, в открытом море покачивалась на свежей волне огромная баржа, выведенная и оставленная там каким-то пароходом. Сплошь, до давки, до умопомрачения забитая людьми. Взяли ее на буксир и подвели к английскому броненосцу.
Адмирал Сеймур выполнил свое обещание: английские суда взяли значительно больше, чем было обещано.
Очертания Новороссийска выделялись еще резко и отчетливо. Что творилось там?.. Какой-то миноносец повернул вдруг обратно и полным ходом полетел к пристаням. Бухнули орудия, затрещали пулеметы: миноносец вступил в бой с передовыми частями большевиков, занявшими уже город. Это был «Пылкий», на котором генерал Кутепов, получив сведение, что не погружен еще 3-й Дроздовский полк, прикрывавший посадку, пошел на выручку.
Потом все стихло. Контуры города, берега и гор обволакивались туманом, уходя в даль… в прошлое.
Такое тяжелое, такое мучительное.
Глава XXIV. Судьба войск, оставшихся на Северном Кавказе, и Каспийской флотилии. Упразднение «Южно-русского правительства». Последние дни в Крыму. Оставление мною поста главнокомандующего ВСЮР
Грозные недавно Вооруженные силы Юга распались. Части, двинувшиеся берегом моря на Геленджик, при первом же столкновении с отрядом дезертиров, занимавших Кабардинскую, не выдержали, замитинговали и рассеялись. Небольшая часть их была подобрана судами, остальные ушли в горы или передались большевикам.
Части Кубанской армии и 4-го Донского корпуса, вышедшие горами к берегу Черного моря, расположились между Туапсе и Сочи, лишенном продовольствия и фуража, в обстановке чрезвычайно тяжелой. Надежды кубанцев на «зеленых» и на помощь грузин не оправдались. Кубанская Рада, правительство и атаман Букретов, добивавшийся командования войсками[276], требовали полного разрыва с «Крымом» и склонялись к заключению мира с большевиками; военные начальники категорически противились этому. Эта распря и полная дезорганизация верхов вносили еще большую смуту в казачью массу, окончательно запутавшуюся в поисках выхода и путей к спасению.
Сведения о разложении, колебаниях и столкновениях в частях, собравшихся на Черноморском побережье, приходили в Феодосию и вызывали мучительные сомнения: как быть с ними дальше? Эти сомнения волновали Ставку и разделялись казачьими кругами. Ставка указывала перевозить только вооруженных и желающих драться. Донские правители смотрели более пессимистично: на бурном заседании их в Феодосии решено было воздержаться пока вовсе от перевозки донцов в Крым. Мотивами этого решения были: с одной стороны, развал частей, с другой — опасение за прочность Крыма («ловушка»). Такое неопределенное положение доно-кубанских корпусов на побережье длилось после моего ухода еще около месяца, завершившись трагически: кубанский атаман Букретов через генерала Морозова заключил договор с советским командованием о сдаче армии большевикам и сам скрылся в Грузию. Большая часть войск сдалась действительно, меньшая успела переправиться в Крым[277].
В начале марта начался исход с Северного Кавказа. Войска и беженцы потянулись на Владикавказ, откуда в 10-х числах марта по Военно-Грузинской дороге перешли в Грузию. Обезоруженные грузинами войска и беженцы[278] были интернированы потом в Потийском лагере.
Еще восточнее берегом Каспийского моря отходил на Петровск астраханский отряд генерала Драценко. Отряд этот сел 16 марта в Петровске на суда и совместно с Каспийской флотилией пошел в Баку. Генерал Драценко и командующий флотилией адмирал Сергеев заключили условие с азербайджанским правительством, в силу которого ценою передачи Азербайджану оружия и материальной части войскам разрешен был проход в Поти. Военная флотилия, не поднимая азербайджанского флага и сохраняя свое внутреннее управление, принимала на себя береговую оборону. Но когда суда начали входить в гавань, обнаружился обман: азербайджанское правительство заявило, что лицо, подписавшее договор, не имело на то полномочий, и потребовало безусловной сдачи. На этой почве во флоте началось волнение; адмирал Сергеев, отправившийся в Батум, чтобы оттуда войти в связь со Ставкой, был объявлен офицерами низложенным, и суда под командой капитана 2-го ранга Бушена ушли в Энзели с целью отдаться там под покровительство англичан. Английское командование, не желая столкновения с большевиками, предложило командам судов считаться интернированными и распорядилось снять части орудий и машин. И когда большевики вслед за тем сделали внезапную высадку, сильный английский отряд, занимавший Энзели, обратился в поспешное отступление; к англичанам вынуждены были присоединиться и наши флотские команды. Один из участников этого отступления русский офицер писал впоследствии о чувстве некоторого морального удовлетворения, которое испытывали «мы — жалкие и беспомощные среди англичан» при виде того, как «перед кучкой большевиков, высадившихся и перерезавших дорогу в Решт, войска сильной, могущественной британской армии драпали вместе с нами…».
Рухнуло государственное образование Юга, и осколки его, разбросанные далеко, катились от Каспия до Черного моря, увлекая людские волны. Рухнул оплот, прикрывавший с севера эфемерные «государства», неустанно подтачивавшие силы Юга, и разительно ясно обнаружилась вся немощность и нежизнеспособность их… В несколько дней пала «Черноморская республика» «зеленых», не более недели просуществовал «Союз горских народов», вскоре сметен был и Азербайджан. Наступал черед Грузинской республики, бытие которой, по соображениям общей политики, допускалось советской властью еще некоторое время.
На маленьком Крымском полуострове сосредоточилось все, что осталось от Вооруженных сил Юга.
Армия, ставшая под непосредственное мое командование, сведена была в три корпуса (Крымский, Добровольческий, Донской), Сводную кавалерийскую дивизию и Сводную кубанскую бригаду. Все остальные части, команды, штабы и учреждения, собравшиеся в Крым со всей бывшей территории Юга, подлежали расформированию, причем весь боеспособный личный состав их пошел на укомплектование действующих войск. Крымский корпус силою около 5 тысяч по-прежнему прикрывал перешейки. Керченский район обеспечивался от высадки со стороны Тамани сводным отрядом в 1.5 тысячи[279]. Все прочие части расположены были в резерве, на отдыхе: Добровольческий корпус в районе Севастополя — Симферополя, донцы — в окрестностях Евпатории.
Ставку я расположил временно в тихой Феодосии, вдали от кипящего страстями Севастополя.
Ближайшая задача, возложенная на армию, заключалась в обороне Крыма.
Армия насчитывала в своих рядах 35–40 тысяч бойцов, имела на вооружении 100 орудий и до 500 пулеметов. Но была потрясена морально, и войска, прибывшие из Новороссийска, лишены были материальной части, лошадей, обозов и артиллерии. Добровольцы пришли поголовно вооруженными, привезли с собой все пулеметы и даже несколько орудий; донцы прибыли безоружными.
С первого же дня началась спешная работа по реорганизации, укомплектованию и снабжению частей. Некоторый отдых успокаивал возбужденные до крайности нервы.
До тех пор в течение полутора лет части были разбросаны по фронту на огромные расстояния, почти не выходя из боя. Теперь сосредоточенное расположение крупных войсковых соединений открывало возможность непосредственного и близкого воздействия старших начальников на войска.
Противник занимал северные выходы из крымских перешейков по линии Геническ — Чонгарский мост — Сиваш-Перекоп. Силы его были невелики (5–6 тысяч), а присутствие в тылу отрядов Махно и других повстанческих банд сдерживало его наступательный порыв. Со стороны Таманского полуострова большевики никакой активности не проявляли.
Движение главных сил Юга к берегам Черного моря советским командованием расценивалось как последний акт борьбы. Сведения о состоянии наших войск, о мятежах, подымаемых войсками и начальниками, весьма преувеличенные, укрепляли большевиков в убеждении, что белую армию, припертую к морю, ждет неминуемая и конечная гибель. Поэтому операция переброски значительных сил в Крым, готовность и возможность продолжать там борьбу явились для советского командования полнейшей неожиданностью.
На Крым не было обращено достаточно внимания, и за эту оплошность советская власть поплатилась впоследствии дорогой ценой.
Необходимо было упорядочить и реорганизовать гражданское управление, слишком громоздкое для Крыма.
«Южно-русское правительство» Мельникова, прибыв в Севастополь, попало сразу в атмосферу глубокой и органической враждебности, парализовавшей всякую его деятельность. Правительство — по своему генезису, как созданное в результате соглашения с Верховным Кругом — уже по этой причине было одиозно и вызывало большое раздражение, готовое вылиться в дикие формы.
Поэтому с целью предотвращения нежелательных эксцессов я решил упразднить правительство еще до своего ухода. 16 марта я отдал приказ об упразднении Совета министров. Взамен его поручалось М. В. Бернацкому организовать «сокращенное численно, деловое учреждение, ведающее делами общегосударственными и руководством местных органов». Приказ подтверждал, что «общее направление внешней и внутренней политики останется незыблемым на началах, провозглашенных мной 16 января в г. Екатеринодаре».
На членов правительства этот неожиданный для них приказ произвел весьма тягостное впечатление… Форму не оправдываю, но сущность реорганизации диктовалась явной необходимостью и личной безопасностью министров.
В тот же день, 16-го, члены правительства на предоставленном им пароходе выехали из Севастополя и перед отъездом в Константинополь заехали в Феодосию проститься со мной. После краткого слова Н. М. Мельникова ко мне обратился Н. В. Чайковский:
— Позвольте вас, генерал, спросить: что вас побудило совершить государственный переворот?
Меня удивила такая постановка вопроса — после разрыва с Верховным Кругом и, главное, после того катастрофического «переворота», который разразился над всем белым Югом…
— Какой там переворот! Я вас назначил и я вас освободил от обязанностей — вот и все.
После этого Ф. С. Сушков указал на «ошибочность моего шага»: за несколько дней своего пребывания в Крыму правительство, по его словам, заслужило признание не только общественных кругов, но и военной среды. Так что все предвещало возможность плодотворной работы его…
— К сожалению, у меня совершенно противоположные сведения. Вы, по-видимому, не знаете, что творится кругом. Во всяком случае, через несколько дней все случившееся станет вам ясным…
Покидал свой пост генерал Хольмэн — неизменный доброжелатель армии. В своем прощальном слове он говорил: «…С глубочайшим сожалением я уезжаю из России. Я надеялся оставаться с вами до конца борьбы, но получил приказание ехать в Лондон для доклада своему правительству о положении… Не думайте, что я покидаю друга в беде. Я надеюсь, что смогу принести вам большую пользу в Англии… Я уезжаю с чувством глубочайшего уважения и сердечной дружбы к вашему главнокомандующему и с усилившимся решением остаться верным той кучке храбрых и честных людей, которые вели тяжелую борьбу за свою Родину в продолжение двух лет…»
При новой политике Лондона генерал Хольмэн был бы действительно не на месте.
Расставался я и со своим верным другом И. П. Романовским. Освобождая его от должности начальника штаба, я писал в приказе:
«Беспристрастная история оценит беззаветный труд этого храбрейшего воина, рыцаря долга и чести и беспредельно любящего Родину солдата и гражданина.
История заклеймит презрением тех, кто по своекорыстным побуждениям ткал паутину гнусной клеветы вокруг честного и чистого имени его.
Дай Бог Вам сил, дорогой Иван Павлович, чтобы при более здоровой обстановке продолжать тяжкий труд государственного строительства».
На место генерала Романовского начальником штаба я назначил состоявшего в должности генерал-квартирмейстера генерала Махрова.
Хольмэн, предполагавший выехать в ближайший день в Константинополь, предложил Ивану Павловичу ехать с ним вместе.
Рвались нити, связывавшие с прошлым, становилось пусто вокруг…
Поздно вечером 19-го в Феодосию приехал генерал Кутепов по важному делу. Он доложил:
«Когда я прибыл в Севастополь, то на пристани офицер, присланный от генерала Слащова, доложил мне, что за мной прислан вагон с паровозом и что генерал Слащов просит меня прибыть к нему немедленно. В этом вагоне около 8 часов вечера я прибыл в Джанкой, где на платформе меня встретил генерал Слащов и просил пройти к нему в вагон. После легкого ужина по просьбе Слащова я прошел к нему в купе, и там он мне очень длинно стал рассказывать о том недовольстве в войсках его корпуса главнокомандующим и о том, что такое настроение царит среди всего населения, в частности среди заявивших ему об этом армян и татар, в духовенстве, а также во флоте и якобы среди чинов моего корпуса, и что 23 марта предположено собрать совещание из представителей духовенства, армии, флота и населения для обсуждения создавшегося положения и что, вероятно, это совещание решит обратиться к генералу Деникину с просьбой о сдаче им командования. Затем он прибавил, что ввиду моего прибытия теперь на территорию Крыма он полагает необходимым и мое участие в этом совещании.
На это я ему ответил, что относительно настроения моего корпуса он ошибается. Участвовать в каком-либо совещании без разрешения главнокомандующего я не буду и, придавая огромное значение всему тому, что он мне сказал, считаю необходимым обо всем этом немедленно доложить генералу Деникину. После этих моих слов я встал и ушел.
Выйдя на платформу, я сел в поезд и приказал везти себя в Феодосию».
То, что я услышал, меня не удивило.
Генерал Слащов вел эту работу не первый день и не в одном направлении, а сразу в четырех. Он посылал гонцов к барону Врангелю, убеждая его «соединить наши имена» (то есть Врангеля и Слащова), и при посредстве герцога С. Лейхтенбергского входил в связь по этому вопросу с офицерскими флотскими кругами. В сношениях своих с правой, главным образом, общественностью он старался направить ее выбор в свою личную пользу. Вместе с тем через генерала Боровского он входил в связь с генералами Сидориным, Покровским, Юзефовичем и условливался с ними о дне и месте совещания для устранения главнокомандующего. В чью пользу — умалчивалось, так как первые двое были антагонистами Врангеля и не имели также желания возглавить себя Слащовым. Наконец, одновременно чуть ли не ежедневно Слащов телеграфировал в Ставку с просьбой разрешить ему прибыть ко мне для доклада и высказывал «глубокое огорчение», что его не пускают к «своему главнокомандующему…».
Генерал Сидорин усиленно проводил взгляд о «предательстве Дона» и телеграфировал донскому атаману, что этот взгляд разделяют «все старшие начальники и все казаки». Он решил «вывести Донскую армию из пределов Крыма и того подчинения, в котором она сейчас находится», и требовал немедленного прибытия атамана и правительства в Евпаторию «для принятия окончательного решения…»[280].
Я знал уже и о той роли, которую играл в поднявшейся смуте епископ Вениамин, возглавивший оппозицию крайних правых, но до каких пределов доходило его рвение, мне стало известным только несколько лет спустя… На другой день после прибытия «Южно-русского правительства» в Севастополь преосвященный явился к председателю его. Об этом посещении Н. М. Мельников рассказывает:
«Епископ Вениамин сразу начал говорить о том, что «во имя спасения России» надо заставить генерала Деникина сложить власть и передать ее генералу Врангелю, ибо только он, по мнению епископа и его друзей, может спасти в данных условиях Родину. Епископ добавил, что у них, в сущности, все уже готово к тому, чтобы осуществить намеченную перемену, и что он считает своим долгом обратиться по этому делу ко мне лишь для того, чтобы по возможности не вносить лишнего соблазна в массу и подвести легальные подпорки под «их» предприятие, ибо, если «Южно-русское правительство» санкционирует задуманную перемену, все пройдет гладко, «законно»…
Епископ Вениамин добавил, что, согласится «Южно-русское правительство» или не согласится, — дело все равно сделано будет…
Это приглашение принять участие в перевороте, сделанное притом епископом, было так неожиданно для меня, тогда еще впервые видевшего заговорщика в рясе, и так меня возмутило, что я, поднявшись, прекратил дальнейшие излияния епископа».
Епископ Вениамин посетил затем министра внутренних дел В. Ф. Зеелера, которому также в течение полутора часов внушал мысль о необходимости переворота.
«Все равно с властью Деникина покончено, его сгубил тот курс политики, который отвратен русскому народу. Последний давно уже жаждет «хозяина земли русской», и мешать этому теперь уже вполне созревшему порыву не следует. Нужно всячески этому содействовать — это будет и Богу угодное дело. Все готово: готовы к этому и генерал Врангель и вся та партия патриотически настроенных действительных сынов своей Родины, которая находится в связи с генералом Врангелем. Причем генерал Врангель — тот Божией милостию диктатор, из рук которого и получит власть и царство помазанник…
Епископ был так увлечен поддержкой разговора, что перестал сохранять сдержанность и простую осторожность и дошел до того, что готов был тут же ждать от правительства решений немедленных»[281].
Сидорин, Слащов, Вениамин… Все это, в сущности, меня уже мало интересовало.
Я спросил генерала Кутепова о настроении добровольческих частей.
Он ответил, что одна дивизия вполне прочная, в другой настроение удовлетворительное, в двух — неблагополучно. Критикуя наши неудачи, войска, главным образом, обвиняют в них генерала Романовского. Кутепов высказал свое мнение, что необходимо принять спешные меры против собирающегося совещания и лучше всего вызвать ко мне старших начальников с тем, чтобы они сами доложили мне о настроении войск.
Я взглянул на дело иначе: настало время выполнить мое решение. Довольно.
В ту же ночь совместно с начальником штаба генералом Махровым я составил секретную телеграмму — приказание о сборе начальников на 21 марта в Севастополь на Военный совет под председательством генерала Драгомирова «для избрания преемника главнокомандующему Вооруженными силами Юга России». В число участников я включил и находившихся не у дел, известных мне претендентов на власть и наиболее активных представителей оппозиции. В состав совета должны были войти: командиры Добровольческого (Кутепов) и Крымского (Слащов) корпусов и их начальники дивизий. Из числа командиров бригад и полков — половина (от Крымского корпуса в силу боевой обстановки норма может быть меньше). Должны прибыть также: коменданты крепостей, командующий флотом, его начальник штаба, начальники морских управлений, четыре старших строевых начальника флота. От Донского корпуса — генералы Сидорин, Кельчевский и шесть лиц в составе генералов и командиров полков. От штаба главнокомандующего — начальник штаба, дежурный генерал, начальник Военного управления и персонально генералы: Врангель, Богаевский, Улагай, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков.
К председателю Военного совета я обратился с письмом[282]:
«Многоуважаемый Абрам Михайлович!
Три года российской смуты я вел борьбу, отдавая ей все свои силы и неся власть, как тяжкий крест, ниспосланный судьбою.
Бог не благословил успехом войск, мною предводимых. И хотя вера в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание мною не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана. И я не в силах более вести ее.
Предлагаю Военному совету избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование.
Уважающий Вас А. Деникин».
Следующие два, три дня прошли в беседах с преданными мне людьми, приходившими с целью предотвратить мой уход. Они терзали мне душу, но изменить, моего решения не могли.
Военный совет собрался, и утром 22-го я получил телеграмму генерала Драгомирова:
«Военный совет признал невозможным решать вопрос о преемнике главкома, считая это прецедентом выборного начальства, и постановил просить Вас единолично указать такового. При обсуждении Добровольческий корпус и кубанцы заявили, что только Вас желают иметь своим начальником и от указания преемника отказываются. Донцы отказались давать какие-либо указания о преемнике, считая свое представительство слишком малочисленным, не соответствующим боевому составу, который они определяют в 4 дивизии. Генерал Слащов отказался давать мнение за весь свой корпус, от которого могли прибыть только три представителя, и вечером просил разрешения отбыть на позиции, что ему и было разрешено. Только представители флота указали преемником генерала Врангеля. Несмотря на мои совершенно категорические заявления, что Ваш уход решен бесповоротно, вся сухопутная армия ходатайствует о сохранении Вами главного командования, ибо только на Вас полагаются и без Вас опасаются за распад армии; все желали бы Вашего немедленного прибытия сюда для личного председательствования в совете, но меньшего состава. В воскресенье в полдень назначил продолжение заседания, к каковому прошу Вашего ответа для доклада Военсовету.
Драгомиров».
Я считал невозможным изменить свое решение и ставить судьбы Юга в зависимость от временных, меняющихся, как мне казалось, настроений. Генералу Драгомирову я ответил:
«Разбитый нравственно, я ни одного дня не могу оставаться у власти. Считаю уклонение от подачи мне совета генералами Сидориным и Слащовым недопустимым. Число собравшихся безразлично. Требую от Военного совета исполнения своего долга. Иначе Крым и армия будут ввергнуты в анархию.
Повторяю, что число представителей совершенно безразлично. Но, если донцы считают нужным, допустите число членов сообразно их организации».
В тот же день получена мною в ответ телеграмма генерала Драгомирова:
«Высшие начальники до командиров корпусов включительно единогласно остановились на кандидатуре генерала Врангеля. Во избежание трений в общем собрании означенные начальники просят Вас прислать ко времени открытия общего собрания, к 18 часам, Ваш приказ о назначении без ссылки на избрание Военным советом».
Я приказал справиться, был ли генерал Врангель на этом заседании и известно ли ему об этом постановлении, и, получив утвердительный ответ, отдал свой последний приказ Вооруженным силам Юга:
«1. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим Вооруженными силами Юга России.
2. Всем, шедшим честно со мною в тяжкой борьбе, — низкий поклон.
Господи, дай победу армии и спаси Россию.
Генерал Деникин».
Глава XXV. Военный совет. Мой отъезд. Константинопольская драма
О том, что происходило на Военном совете, я узнал лишь много времени спустя. Я думаю, что тогда и генерал Кутепов, и я не вполне верно оценивали добровольческие настроения.
Приведу описание этих событий, составленное одним из участников и нашедшее подтверждение со стороны других членов совета[283]:
«В день совета было назначено в 2 часа дня собрание старших начальников дивизии на квартире у генерала Витковского, на которое должен был приехать в 3 часа генерал Кутепов. На совещании у генерала Витковского было единогласно решено просить генерала Деникина остаться у власти, так как все мы не могли мыслить об ином главнокомандующем. Заявление генерала Кутепова о том, что генерал Деникин твердо решил оставить свой пост, не изменило общего единодушного решения. У всех нас было впечатление, что генерал Деникин пришел к своему решению вследствие какого-то разногласия, интриг и выраженного ему недоверия. Всем нам непонятно было, почему генерал Кутепов не поддерживал нас в нашем решении, но, наоборот, настаивал на том, что наше решение ничего не изменит, так как он знает о твердом решении генерала Деникина. Нам было совершенно непонятно поведение генерала Кутепова, а потому большинство ушло с заседания неприязненно настроенными против него[284].
Генерал Кутепов, уезжая с заседания у генерала Витковского, приказал собраться во дворце на назначенный вечером того дня Военный совет на 1.5 часа раньше, с тем, чтобы устроить перед началом Военного совета предварительное совещание старших начальников Добровольческого корпуса.
Кстати скажу, что так как в воздухе было тревожно, то решено было принять некоторые меры, которые выразились в следующем: от наших полков и артиллерийской бригады были назначены усиленные патрули, в особенности на улицах, примыкающих ко дворцу. На местах квартирования были назначены дежурные части, которые должны были бодрствовать в полной готовности и имели связных-быстроходов во дворце. У главного входа дворца стояли команды пулеметчиков. Такие же команды были скрытно размещены внутри соседних дворов. Во дворе дворца скрытно размещалась офицерская рота.
На предварительном совещании под председательством генерала Кутепова все начальники единодушно высказали мысль о недопустимости оставления генералом Деникиным своего поста, настаивали на выражении ему полного доверия и о принятии всех мер, чтобы упросить его не оставлять своего поста. Решено было оказать соответствующее влияние на остальных участников Военного совета, с тем чтобы Военный совет просил бы и даже умолял генерала Деникина не покидать свой пост.
Генерал Кутепов сидел грустный, как бы подавленный, и неоднократно заявлял о твердом решении генерала Деникина. Привыкнув видеть в генерале Кутепове начальника энергичного, настойчивого и решительного, мы недоумевали его пассивности. Невольно вспомнились слухи о его неладах с генералом Деникиным и о «подкапывании». Это было совершенно неправдоподобно, но тем не менее не было объяснений молчаливому, пассивному, а потому непонятному поведению генерала Кутепова. Никто из нас не понял тогда, как ему было тяжело. Мы не могли понять, что ему действительно было известно твердое и непреклонное решение генерала Деникина, мы не понимали, что генерал Кутепов, всегда честный и прямой, знал, что не может дать нам надежду, и, переживая гораздо острее и глубже все то, что мы переживали, не мог сказать нам ничего иного, как о твердом решении генерала Деникина оставить свой пост[285].
Было решено на случай непреклонности генерала Деникина выразить ему полное доверие и просить его самого назначить себе заместителя, признание которого, естественно, будет для всех обязательным.
Открывая заседание, генерал Драгомиров прочитал приказ главнокомандующего о назначении Военного совета. Затем была произведена поверка присутствующих на заседании и установление их права на участие в нем.
Сейчас же по окончании поверки генерал Слащов заявил о том, что его корпус находится на фронте, а потому он не мог командировать на заседание всех старших начальников, имеющих право принять участие в нем. Генерал Драгомиров объявил, что это предусмотрено и оговорено в приказе главнокомандующего. Генерал Слащов продолжал настаивать на том, что его корпус не имеет на заседании достаточного числа представителей для выявления желаний и решения корпуса, что это является несправедливостью по отношению к доблестному корпусу, дольше всех отстаивающему последний клок белой русской земли, и прочее. Генерал Драгомиров снова заявил, что он не имеет права изменить приказ главнокомандующего, что для всех частей было назначено справедливое представительство, что число присутствующих от определенного воинского соединения не имеет существенного значения, раз представительство от него все-таки есть, а в частности, касаясь 2-го корпуса, ясно, что его голос в достаточной мере будет сильным в лице командира корпуса и присутствующих от корпуса представителей. Генерал Слащов снова с большим волнением старался доказать невыгодное и обойденное положение его корпуса в то время, как 1-й корпус имеет на заседании обильное наличие своих представителей. Генерал Кутепов заявил, что он согласен сократить число представителей от своего корпуса, если наличие их вызывает такой протест о нарушении справедливости. Генерал Драгомиров снова заявил, что он не видит нарушения справедливости по отношению к какому-нибудь из воинских соединений, изменить приказ главнокомандующего он не смеет и дальнейшее обсуждение вопроса о представительстве на заседании Военного совета он прекращает.
Вслед за тем генерал Драгомиров объявил, что во исполнение приказа главнокомандующего необходимо избрать ему заместителя. Генерал Слащов первым просил слова и весьма пространно говорил о необходимости установить порядок. Кроме генерала Слащова, говорили, как мне помнится, генерал Махров и Вязьмитинов, заявляя о том, что им хорошо известно о непреклонном решении генерала Деникина уйти от власти. Генерал Слащов говорил несколько раз. Он говорил о недопустимости выборов «нового главнокомандующего», ссылаясь на уподобление Красной армии, после того, как старшие покажут пример «избрания». Горячо, прямолинейно, искренно, честно и хорошо говорил генерал Топорков. Со стороны Добровольческого корпуса до сих пор никто не говорил.
Генерал Драгомиров приказал раздать бумагу и карандаши для закрытого намечения заместителя главнокомандующему. Тогда капитан 1-го ранга[286] просил слова, начав словами: «Пути Господни неисповедимы», произнес патетическую речь о необходимости исполнить приказ главнокомандующего и назвать имя его заместителя, каковым является, по убеждению чинов Черноморского флота, генерал Врангель. Имя генерала Врангеля было названо официально на заседании совета, но в частных беседах оно уже называлось.
В это время шло частное обсуждение около генерала Витковского, который после распоряжения генерала Драгомирова раздать бумагу просил через генерала Кутепова слова[287] и энергично и настойчиво заявил о том, что он и чины Дроздовской дивизии находят невозможным для себя принять участие в выборах и категорически от этого отказываются. После слов генерала Витковского сейчас же присоединились к его заявлению начальники Корниловской, Марковской и Алексеевской дивизий и других частей Добровольческого корпуса. Представители от дивизий поддерживали своих начальников тем, что при их заявлении все вставали. Генерал Драгомиров в строгой форме обратил внимание на недопустимость такого заявления, так как оно составляет неисполнение приказа главнокомандующего. Тогда генерал Витковский возразил, что приказы главнокомандующего мы всегда исполняли и исполним и теперь, что мы ему вполне доверяем, и если главнокомандующий решил сложить с себя власть, то мы подчиняемся его решению и его назначению себе заместителя. Но предварительно необходимо выразить главнокомандующему доверие и просить его остаться у власти и немедленно довести до его сведения о таковом постановлении Военного совета. После этих слов кто-то из чинов Добровольческого корпуса крикнул: «В честь его высокопревосходительства главнокомандующего генерала Деникина — ура». Дружное и громкое «ура» долго оглашало здание дворца. После того как оно кончилось и все сели на свои места, генерал Драгомиров снова пытался доказать необходимость выполнить приказ главнокомандующего, который Военным советом не может быть изменен. Тогда генерал Витковский и другие чины Добровольческого корпуса доказывали о необходимости доложить по прямому проводу генералу Деникину о настроении Военного совета, о выражении ему доверия и просьбы остаться у власти. Генерал Драгомиров на все эти доводы возражал и не соглашался с ними.
Все были изрядно уставши, а потому к нашей просьбе — сделать небольшой перерыв — охотно присоединились многие другие, и, к нашему удовольствию, генерал Драгомиров на это согласился, объявив перерыв. Сейчас же мы (Добровольческий корпус) заняли одну из уединенных и находящихся внизу комнат и решили послать от себя срочную телеграмму генералу Деникину, в которой выразить ему полное доверие и признательность и просить остаться у власти. В занятую нами комнату пришли некоторые начальники, не принадлежавшие к Добровольческому корпусу, но вполне разделявшие наши взгляды. Не помню, кто составлял телеграмму, в общем она была составлена коллективно[288].
Телеграмма сейчас же была отправлена на городской телеграф с одним из наших связных с приказанием добиться немедленной ее отправки генералу Деникину. Телеграмма была принята, но своевременно отправлена не была, ибо, как выяснилось позже, провод со Ставкой был занят и было распоряжение генерала Драгомирова никаких телеграмм без его разрешения не передавать.
По возобновлении заседания Военного совета генерал Драгомиров изъявил согласие послать телеграмму генералу Деникину и просил составить текст ее. На просьбу, обращенную к генералу Драгомирову, переговорить с генералом Деникиным немедленно по прямому проводу с тем, чтобы после этого закончить заседание Военного совета, генерал Драгомиров категорически отказался.
На другой день заседание долго не начиналось, и мы в недоумении и с разными предположениями ходили по коридорам, заходили и в большой зал заседаний, но постоянно видели двери в комнату старших начальников плотно закрытыми; вход в эту комнату без разрешения генерала Драгомирова не допускался. Неоднократно пытались узнать, когда начнется заседание совета и вообще состоится ли оно. Ответы получались самые расплывчатые и неуверенные. Вызвать генерала Кутепова из комнаты старших начальников не удавалось. Генерала Витковского в эту комнату не пропускали. Сведений об ответе генерала Деникина на посланную ему накануне телеграмму никаких не было. Слагалось впечатление, что Военный совет состоялся из высших начальников, а остальных игнорировали. Полная неизвестность и неопределенность создавшегося положения и отсутствие хотя каких-либо объяснений сильно нервировали и вызывали недовольство генералом Драгомировым, упорство которого на предыдущем заседании породило против него много врагов. Поэтому через некоторое время настроение из нервного превратилось определенно во враждебное против комнаты старших начальников. Но скоро оно было рассеяно неожиданным приходом группы новых офицеров, сопровождавших нескольких английских офицеров. Дневное заседание не было открыто, и ответ генерала Деникина не был объявлен нам. Нам объявили, что прибыла делегация от англичан, что сделанные ими предложения настолько необычайны и важны, что совершенно затемняют остроту переживаемых событий, а потому высшие начальники займутся обсуждением английских предложений, а заседание совета назначено на 8 часов вечера этого же дня.
Также прошел слух, что приехал в Севастополь генерал Врангель, который будет присутствовать на вечернем заседании Военного совета.
Когда мы прибыли на это заседание и в ожидании его открытия блуждали по коридорам и комнатам дворца, то через некоторое время заметили присутствие генерала Врангеля, который нервно ходил по коридору около большого зала. Двери в комнату старших начальников по-прежнему были закрыты, и в ней шло заседание. Несколько раз туда приглашали генерала Врангеля, и через короткое время он выходил оттуда еще более взволнованный».
Как оказалось, генерал Врангель привез с собою в Севастополь английский ультиматум, адресованный мне, но врученный ему 20 марта в Константинополе; в своей ноте великобританское правительство предлагало «оставить неравную борьбу» и при его посредстве вступить в переговоры с советским правительством. В случае отклонения этого предложения Англия «снимала с себя ответственность» и угрожала прекратить какую бы то ни было дальнейшую помощь. По непонятным причинам об этом ультиматуме не было сообщено мне в Феодосию, и я узнал о нем только за границей.
О происходившем в заседании «малого совета» — старших начальников, до корпусных командиров включительно, генерал Богаевский пишет:
«У всех было подавленное настроение духа. Почти никто не знал — ни точной обстановки, ни истинных причин ухода генерала Деникина. Неестественной казалась и сама причина нашего сбора, невозможная до сих пор в регулярной армии.
Кроме того, не было никого, кто мог бы в то время стать преемником генерала Деникина без возражений с чьей бы то ни было стороны. Никаких имен не называли.
На другой день генерал Драгомиров собрал снова совещание и прочитал ответную телеграмму генерала Деникина, приказывавшего все-таки выборы произвести.
Несмотря на это, многие протестовали против этого, и нужна была вся твердость и настойчивость генерала Драгомирова, чтобы совещание не приняло форму митинга и прошло спокойно[289]…
После долгих споров решено было составить два совещания: одно — из старших начальников и другое — из всех остальных. Первое должно было наметить преемника, второе поддержать или отвергнуть выборное лицо.
Я был в числе старших начальников. Мы заседали в большом угловом кабинете, остальные — в зале.
Наше совещание затянулось. Все еще спорили и не могли остановиться на чьем-либо имени.
Из зала, где томились уже несколько часов уставшие и голодные начальники войсковых частей, являлись не раз посланные с запросом, что мы решили?
Нужно было как-нибудь кончать, откладывать на другой день было уже невозможно: этим неминуемо сразу подрывался бы авторитет будущего главнокомандующего.
Тогда я выступил с речью, в которой, очертив создавшуюся обстановку и необходимость во что бы то ни стало скорее кончить вопрос, назвал генерала Врангеля как нового главнокомандующего.
Возражений не последовало, и, как мне показалось тогда, не из симпатий к нему, а просто потому, что нужно же избрать кого-нибудь и кончить тяжкий вопрос. В то время едва ли кто думал о продолжении борьбы с красными вне Крыма: нужно было отсидеться, привести себя в порядок и уходить за границу, если не удастся удержать Крым. Считали, что Врангель с этим справится.
Пригласили его в наш кабинет (он только что приехал из Константинополя), и здесь председатель сделал ему нечто вроде экзамена: «Како веруеши?» Его ответы в резком, решительном тоне, сводившиеся в общем к тому, что он не мыслит о продолжении серьезной борьбы и будет считать своим долгом, если станет во главе армии, «с честью вывести ее из тяжелого положения», удовлетворили не всех в совещании.
Генерала Врангеля попросили временно удалиться, чем он, видимо, остался очень недоволен, и снова начали обсуждать его кандидатуру.
Наконец, решено было остановиться на нем.
Снова вызвали его, и генерал Драгомиров объявил ему о нашем решении.
Генерал Врангель принял это внешне спокойно, однако у многих из нас — да, вероятно, и у него — все же были сомнения, утвердит ли генерал Деникин наш выбор. Мы не знали подробностей, но всем было известно, что между ними были дурные отношения и вина в них падала не на генерала Деникина…
Согласившись на наш выбор, генерал Врангель удивил всех нас своим решительным требованием — дать ему подписку в том, что условием принятия им поста главнокомандующего не будет переход в наступление против большевиков, а только вывод армии с честью из создавшегося тяжелого положения.
На вопрос наш, зачем эта подписка, генерал Врангель ответил, что он хочет, чтобы все — и прежде всего его родной сын — не упрекнули его в будущем в том, что он не исполнил своего долга.
Все это было не совсем для нас понятно — такая предусмотрительность, но ввиду настойчивого требования генерала Врангеля — чуть ли не под угрозой отказа от выбора — подписка была дана[290].
После этого была послана телеграмма генералу Деникину».
Заседание «малого совета» закончилось.
«Наконец, было объявлено нам приглашение занять свои места в зале заседания. Когда все были на своих местах, двери комнаты старших начальников отворились, и из нее вышли генерал Драгомиров, генерал Врангель и другие.
Генерал Драгомиров прочел текст телеграммы, посланной им накануне генералу Деникину. Многие из нас обратили внимание, что содержание телеграммы было не совсем такое, как читали нам накануне в окончательной форме. Затем генерал Драгомиров прочел ответный приказ на нее генерала Деникина с назначением своим заместителем генерала Врангеля. По прочтении этого приказа генерал Драгомиров провозгласил «ура» в честь главнокомандующего генерала Врангеля»[291].
Вечер 22 марта.
Тягостное прощание с ближайшими моими сотрудниками в Ставке и офицерами конвоя. Потом сошел вниз — в помещение охранной офицерской роты, состоявшей из старых добровольцев, в большинстве израненных в боях; со многими из них меня связывала память о страдных днях первых походов. Они взволнованы, слышатся глухие рыдания… Глубокое волнение охватило и меня; тяжелый ком, подступивший к горлу, мешал говорить. Спрашивают:
— Почему?
— Теперь трудно говорить об этом. Когда-нибудь узнаете и поймете…
Поехали с генералом Романовским в английскую миссию, откуда вместе с Хольмэном на пристань. Почетные караулы и представители иностранных миссий. Краткое прощание. Перешли на английский миноносец. Офицеры, сопровождавшие нас, в том числе бывшие адъютанты генерала Романовского, пошли на другом миноносце — французском, который пришел в Константинополь на 6 часов позже нас.
Роковая случайность…
Когда мы вышли в море, была уже ночь. Только яркие огни, усеявшие густо тьму, обозначали еще берег покидаемой русской земли. Тускнеют и гаснут.
Россия, Родина моя…
* * *
В Константинополе на пристани нас встретили военный агент наш генерал Агапеев и английский офицер. Англичанин что-то с тревожным видом докладывает Хольмэну. Последний говорит мне:
— Ваше превосходительство, пойдем прямо на английский корабль…
Англичане подозревали. Знали ли наши?
Я обратился к Агапееву:
— Вас не стеснит наше пребывание в посольстве… в отношении помещения?
— Нисколько.
— А в… политическом отношении?
— Нет, помилуйте…
Простились с Хольмэном и поехали в русский посольский дом, обращенный частично в беженское общежитие. Там моя семья.
Появился дипломатический представитель.
Выхожу к нему в коридор. Он извиняется, что по тесноте не может нам предоставить помещения. Я оборвал разговор: нам не нужно его гостеприимства…
Вернувшись в комнату, хотел переговорить с Иваном Павловичем о том, чтобы сейчас же оставить этот негостеприимный кров. Но генерала Романовского не было. Адъютанты не приехали еще, и он сам прошел через анфиладу посольских зал в вестибюль распорядиться относительно автомобиля.
Раскрылась дверь, и в ней появился бледный как смерть полковник Энгельгардт:
— Ваше превосходительство, генерал Романовский убит.
Этот удар доконал меня. Сознание помутнело, и силы оставили меня — первый раз в жизни.
* * *
Моральных убийц Романовского я знаю хорошо. Физический убийца, носивший форму русского офицера, скрылся. Не знаю, жив ли он, или правду говорит молва, будто для сокрытия следов преступления его утопили в Босфоре.
Генерал Хольмэн, потрясенный событием, не могший простить себе, что не оберег Романовского, не настояв на нашем переезде прямо на английский корабль, ввел в посольство английский отряд, чтобы охранить бывшего русского главнокомандующего…
Судьбе угодно было провести и через это испытание.
Тогда, впрочем, меня ничто уже не могло волновать. Душа омертвела.
* * *
Маленькая комната, почти каморка. В ней — гроб с дорогим прахом. Лицо скорбное и спокойное. «Вечная память!..»
* * *
В этот вечер я с семьей и детьми генерала Корнилова перешел на английское госпитальное судно, а на другой день на дредноуте «Мальборо» мы уходили от постылых берегов Босфора, унося в душе неизбывную скорбь.
Примечания
1
Вначале самостоятельный, потом входил в состав Крымско-Азовской армии, а с марта — Кавказской Добровольческой. (Здесь и далее примечания автора).
(обратно)2
Последовательно там собрались Корниловский, Марковский, Дроздовский, Самурский, 1-й и 2-й конные полки с их артиллерией, и к маю подошел Алексеевский (бывший Партизанский) полк и другие части.).
(обратно)3
Горская дивизия, кадры формировавшихся на Дону бывшей Астраханской армии, затем Саратовского корпуса, и так далее.
(обратно)4
За болезнью генерала Врангеля временно командовал генерал Юзефович.
(обратно)5
Считая и части, прикрывавшие тогда перешейки в Крыму. Остальные силы находились частью в пути, частью на Северном Кавказе и на побережье Черного моря.
(обратно)6
После перегруппировки.
(обратно)7
8-я армия направлена была правым берегом Донца.
(обратно)8
Примерно между Луганском и станцией Колпаково.
(обратно)9
На крайнем левом фланге его в районе Мариуполя был сводный отряд генерала Виноградова из Сводно-гвардейского полка и частей бывшей на Дону расформированной Южной армии.
(обратно)10
В этом и позднейших сражениях надлежит отметить боевое сотрудничество с генералом Шкуро и оперативное руководство корпусом его доблестного начальника штаба генерала Шифнер-Маркевича.
(обратно)11
На железнодорожном направлении Воронеж — Ростов и Лихая — Царицын.
(обратно)12
Был переброшен с царицынского направления.
(обратно)13
Один из советских полков (Сердобский) перешел на сторону восставших.
(обратно)14
При отступлении от северных своих границ к Донцу Донская армия с 45 тысяч сошла на 15 тысяч.
(обратно)15
1-я Кубанская, 2-я Терская дивизии, части Донской армии.
(обратно)16
Усиленный Кубанской дивизией генерала Шатилова и Кубанской бригадой генерала Говорущенко.
(обратно)17
2-й конный корпус.
(обратно)18
Временно, чтобы дать возможность новому корпусному командиру ознакомиться с особенностями тактики в каменноугольном районе, генерал Май-Маевский оставался при корпусе, а армией командовал генерал Юзефович.
(обратно)19
«Правление генерала Деникина».
(обратно)20
По-видимому, слово «штаб» надо понимать фигурально, ибо в настоящем штабе главнокомандующего ничего подобного не было.
(обратно)21
Политическая декларация правительства Юга.
(обратно)22
Прекрасный поступок (франц).
(обратно)23
Телеграмма Саблина от 3 октября 1919 г., № 706.
(обратно)24
Телеграмма Харламова Кубанской Раде с постановлением Донского Круга.
(обратно)25
От 19 ноября.
(обратно)26
Вновь сформированный отряд Беленковича и остатки 13-й армии.
(обратно)27
27 июня Махно оставил службу у советов и с небольшим отрядом ушел на Днепр к Александровску.
(обратно)28
От 6 (19) июня, № 113.
(обратно)29
Связь через Петровск с Гурьевом, Красноводском, Баку.
(обратно)30
Лента разговора 14 мая 1919 г.
(обратно)31
Лента разговора 14 мая 1919 г.
(обратно)32
После французской эвакуации Одессы.
(обратно)33
Тогда небоеспособную, по донесениям генерала Врангеля, сведенную в батальон — 200 штыков.
(обратно)34
60 шашек.
(обратно)35
Не был сформирован вовсе.
(обратно)36
В ближайшие дни Добровольческой армии был нанесен сильный удар группой Селивачева, проникшей глубоко к нам в тыл к Купянску.
(обратно)37
Ввиду угрозы с севера крупных сил большевиков.
(обратно)38
Телеграмма от 8 июля, № 01382.
(обратно)39
Телеграмма от 25 июня, № 01068.
(обратно)40
Телеграмма от 8 августа, № 5128/ОБ.
(обратно)41
Почти в одно время с написанием мне письма. Телеграмма без даты (ранее 5 августа), № 1447.
(обратно)42
Письмо ко мне от 30 марта, № 04471.
(обратно)43
Армии адмирала Колчака в начале января находились в тяжком положении; на юге потеряли Уральск и Оренбург; Западная армия удерживалась в Уральских проходах восточнее Уфы и была от Волги в 660 верстах; Сибирская — в 600 верстах. Наступление началось в конце февраля, и к Волге армии подходили к середине апреля.
(обратно)44
С Уральским войском штаб главнокомандующего находился в постоянных сношениях с начала 1919 г. Начиная со 2 февраля, сначала через Баку, потом через Петровск на Гурьев мы посылали Уральскому войску деньги, орудия, ружья, патроны, броневики, обмундирование, словом — все, что было возможно.
(обратно)45
Мелочь, но и здесь неправда: приказ о переброске Говорущенко отдан 15 июля, то есть за четыре дня до первой встречи наших разъездов с уральскими в районе озера Эльтон, которая произошла 19-го.
(обратно)46
Донесение генерала Врангеля, № 4057.
(обратно)47
Конная дивизия и пластунская бригада генерала Говорущенко силою в 3 тысячи. Отряд генерала Мамонтова для связи с уральцами был переброшен ранее по взятии нами Царицына, на основании моей директивы от 20 июня.
(обратно)48
Как увидим ниже, сюда советским командованием сосредоточивались тогда силы для главного удара.
(обратно)49
Директива моя от 20 июня за № 08878 гласила: «теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и для очищения нижнего плеса Волги».
(обратно)50
В связи с общим положением Восточного фронта Уральская армия имела задачу «взять г. Уральск, а затем действовать на Бузулук или Самару». Директива от 16 июня.
(обратно)51
Письмо-памфлет (февраль 1920 г.), широко распространявшееся на Юге России и за границей.
(обратно)52
Лицо, приобретшее печальную известность в корниловском выступлении.
(обратно)53
Бывшая Кавказская Добровольческая армия.
(обратно)54
Из этого состава около 20 тысяч оставались на Черноморском побережье (против Грузии) и в Терско-Дагестанской области (против горцев, Азербайджана и Астрахани).
(обратно)55
По советским данным, на линии Сосница — Киев — Одесса расположена была 12-я армия красных силою в 23 тысячи, входившая в состав Западного фронта).
(обратно)56
Полковник Егоров был назначен командующим 14-й армией.
(обратно)57
Апологеты генерала Мамонтова исчисляли обоз корпуса протяжением 60 верст.
(обратно)58
340 человек формировавшегося еще Сводно-драгунского полка.
(обратно)59
Интересно донесение «Азбуки» из советской Одессы: «22 июля в Одессе получены от советского агента, работающего в штабе генерала Деникина, сведения о том, что 11 июля в Новороссийске будет посажен десант из 30 транспортов. Десант сопровождают английский дредноут и несколько крейсеров и миноносцев…».
(обратно)60
Троцкий Л. «Как вооружалась революция».
(обратно)61
Напомним, что, когда принят был этот план, сибирские армии отошли уже за линию Уральского хребта.
(обратно)62
«Особая комиссия». Харьков. С. 15.
(обратно)63
«Советская комиссия высших учебных заведений» под председательством Майера.
(обратно)64
Из временного положения от 14 февраля 1919 г., изданного Совнаркомом Украины.
(обратно)65
«Отдел городского хозяйства при совете рабочих и солдатских депутатов». Состав его в Харькове: 1) трамвайный вагоновожатый, 2) московский рабочий, 3) харьковский рабочий и 4) бухгалтерский писарь.
(обратно)66
В больницах, например, наблюдалось нередко превышение числа служащих над числом больных.
(обратно)67
Лимаревский, Ново-Александровский, Стрелецкий и Беркульский.
(обратно)68
«Голос», статья Бару.
(обратно)69
Колебание цены полного пайка в Харькове: в декабре к приходу большевиков — 7 руб. 75 коп.; в июне — 109 руб. 25 коп.; после прихода добровольцев понижается и к августу составляет 33 руб. 50 коп.
(обратно)70
После занятия района добровольцами добыча к октябрю давала 42 миллиона.
(обратно)71
В 1905 г. в этом районе было серьезное восстание. Крестьянский вооруженный отряд во главе с Дейнегой вел даже бой с войсками.
(обратно)72
Аршинов П. История Махновского движения. Берлин, 1923.
(обратно)73
Между Екатеринославом — Елисаветградом — Александровском.
(обратно)74
Бывший офицер.
(обратно)75
Махно — крестьянин села Гуляй-Поле Александровского уезда Екатеринославской губернии. Последовательно — подпасок, батрак, рабочий-литейщик. В 1908 г., на 19-м году от роду, за убийство урядника приговорен был к повешению, замененному бессрочной каторгой. 9 лет провел в Бутырской каторжной тюрьме. В 1917 г. выпущен, как «политический», возвратился в свое село и начал формировать повстанческий отряд.
(обратно)76
О Зеленом имеются только сведения, что он окончил в Триполье двухклассное училище.
(обратно)77
За правильность правописания не ручаюсь.
(обратно)78
В Венгрии «нежелающих» поступить на военную службу среди лиц определенного возрастного ценза не может быть, так как с ними расправились бы жестоко.
(обратно)79
Аршинов П. История Махновского движения. Берлин, 1923.
(обратно)80
Между прочим, из-за матроса Железнякова, разогнавшего Учредительное собрание и впоследствии убитого в бою с добровольцами, идет большой спор между анархистами и коммунистами, оспаривающими друг у друга честь — числить его в своих рядах.
(обратно)81
Известный процесс Махно по обвинению в военном заговоре с большевиками против Польши.
(обратно)82
Главноначальствующий Киевской областью. Сентябрь 1919 г.
(обратно)83
Аршинов П. История Махновского движения. Берлин, 1923.
(обратно)84
Кучин-Оранский Г. Добровольческая зубатовщина. Киев, 1924.
(обратно)85
«Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков» исчисляла число жертв террора за 1918–1919 гг. в 1700 тысяч человек.
(обратно)86
Мельгунов С. П. Красный террор в России.
(обратно)87
Из речи на банкете 31 июля.
(обратно)88
Письмо от 17 сентября 1919 г.
(обратно)89
Июнь — июль 1919 г.
(обратно)90
От 15 сентября 1919 г.
(обратно)91
Из одной Одессы во время эвакуации ушли под французским флагом 22 парохода, которые потом с великим трудом и проволочкой из-за сопротивления французов и корыстолюбия некоторых судовладельцев были частично возвращены для обслуживания ВСЮР.
(обратно)92
Нота от 2 августа 1919 г.
(обратно)93
Французская миссия утверждала, что половина расходов по снабжению, доставляемому англичанами, ложится на Францию; английская — отрицала это обстоятельство.
(обратно)94
В ноябре прибыло еще четыре транспорта.
(обратно)95
Депеши от 21 и 22 сентября, № 2503 к 2504.
(обратно)96
Из отчетов о заседаниях английского парламента 8 и 17 ноября (нового стиля).
(обратно)97
На Кавказе — постоянные восстания горцев.
(обратно)98
Февраль — июнь.
(обратно)99
Тезисы его те же, что в декларации правительства Юга.
(обратно)100
Центром деятельности социал-демократов был Харьков, а социалистов-революционеров — Екатеринодар.
(обратно)101
Поселенцы, осевшие на Дону после освобождения крестьян (с 1861 г.).
(обратно)102
Доклад Кругу в заседании 25 октября 1919 г.
(обратно)103
Заседание 30 мая 1919 г. Агеев разъяснял, что при редактировании этой статьи под термином «граждане» комиссия разумела «тех тружеников (агрономов, учителей, врачей и прочих) — не казаков и не коренных крестьян, которые всю свою жизнь прослужили Дону и под старость хотели бы приобрести участок земли для ведения на нем хозяйства».
(обратно)104
Чрезвычайные обстоятельства (франц).
(обратно)105
Бывали и такие случаи: на запрос штаба главнокомандующего, какая дивизия поставлена, согласно приказу, в его резерв, генерал Сидорин ответил: «7-я бригада, временно находящаяся в бою…» (29 июня 1919 г.).
(обратно)106
Письмо от 2 октября 1919 г.
(обратно)107
Из программы правительства. Ноябрь 1919 г.
(обратно)108
Напоминаю, что в то время нередко даже в официальных документах термин «Добровольческая армия» включал понятия о вооруженной силе и об Южной власти.
(обратно)109
Приблизительный состав населения: 1 миллион русских, 35 тысяч астраханских казаков, 225 тысяч калмыков и 400 тысяч киргизов.
(обратно)110
Гражданское лицо, возведенное Тундутовым в ранг полковника.
(обратно)111
В том числе Астраханская конная дивизия, преимущественно из калмыков.
(обратно)112
Князь Тундутов и Довукин-Очиров.
(обратно)113
Баянов и Тюмень.
(обратно)114
После падения Юга Тундутов в качестве «светского и духовного главы калмыцкого народа» мистифицировал Константинополь и Будапешт, окончив свою карьеру переходом в советскую Россию.
(обратно)115
Заседания 14 и 19 июня.
(обратно)116
Насколько помню, были высланы только Лутковский (бывший редактор «Двуглавого орла») и Востоков (издатель листовок).
(обратно)117
Распоряжение правительства по этому поводу было отменено атаманом, причем вместо официальных репрессий начался неофициальный бойкот, по существу парализовавший деятельность учреждения.
(обратно)118
Добровольческие части по условиям дислокации, конечно, остались на Кубани: запасные, формирующие части, войсковые школы и так далее.
(обратно)119
«Программа и тактика кубанской объединенной группы федералистов-республиканцев».
(обратно)120
«Программа и тактика кубанской объединенной группы федералистов-республиканцев».
(обратно)121
Конференция в Праге.
(обратно)122
Закрытое заседание Круга 19 апреля 1919 г.
(обратно)123
Председатель кубанского правительства.
(обратно)124
Вопрос об иногородних.
(обратно)125
Делегат Терека, бывший профессор военной академии.
(обратно)126
Управляющий отделом внутренних дел на Дону.
(обратно)127
Черкесский народ всегда был лоялен; но малоинтеллигентные представители его голосовали покорно по указанию Шахим-Гирея и Гатагоу.
(обратно)128
Самовластие целого ряда крупных и мелких «атаманов».
(обратно)129
Брошюра «Казаки». Подзаголовок: «Издание отдела пропаганды Кубанского краевого правительства». Вызванное требованием командования распоряжение атамана об изъятии ее из обращения фактически выполнено не было.
(обратно)130
Письмо на имя генерала Покровского.
(обратно)131
Из письма генерала Филимонова ко мне от 2 декабря 1919 г.
(обратно)132
«Бессменным председателем» постановлено было считать покойного Рябовола.
(обратно)133
Совместившего незаконно должности председателя Рады и государственного контролера.
(обратно)134
Появился впервые в грузинской газете, что вызвало большое озлобление Законодательной Рады против грузинского правительства.
(обратно)135
Сам Калабухов разъяснял в печати, что этот договор заключен «по праву, данному делегации чрезвычайной Радой».
(обратно)136
Приказ-телеграмма № 016729.
(обратно)137
Все доклады по этому делу барон направлял на имя председателя «Особого совещания» генерала Лукомского.
(обратно)138
Кубанская бригада, военное училище и конвойные сотни. Дрейер, а за ним Скопцов говорят о «сформированном главным командованием офицерском отряде полковника Карташова». Это неверно. Дав определенную задачу, я не вмешивался в исполнение.
(обратно)139
Комиссия эта, подсчитав кубанские провенансы, нашла, что «открытие границ невыгодно даже с Доном», и в середине декабря постановила «признать невозможным безоговорочное установление свободной торговли… и необходимым сохранение вмешательства краевой власти в хозяйственно-экономические отношения населения».
(обратно)140
Генерал Филимонов.
(обратно)141
Численность Красной армии взята из советских источников.
(обратно)142
Часть фронта ее (около 5 тысяч) направлена была на запад, против поляков. Сосница — на железнодорожной линии Гомель — Бахмач.
(обратно)143
В брянском направлении.
(обратно)144
В расчет не входят войска Новороссии, боровшиеся против Петлюры.
(обратно)145
Троцкий Л. Как вооружалась революция.
(обратно)146
В дальнейшем Донская армия должна была развивать удар в сторону Балашова.
(обратно)147
4-й Донской корпус и 3-й конный корпус, ослабленный выделением Терской дивизии против Махно. Командующий 4-м Донским корпусом генерал Мамонтов был в отпуску, почему во главе группы стал генерал Шкуро.
(обратно)148
Кроме 13-й и 14-й армий, части 8-й армии и группа Буденного.
(обратно)149
Дроздовцы, самурцы и конница 5-го кавалерийского корпуса.
(обратно)150
Корниловцы.
(обратно)151
Марковцы.
(обратно)152
Главным образом 1-й (Добровольческий) корпус генерала Кутепова.
(обратно)153
На пути Гомель — Бахмач.
(обратно)154
Кроме указанных частей, входили 3 полка, 3 запасных батальона и другие мелкие части.
(обратно)155
Войска его после ликвидации Махно предназначались для усиления Добровольческой армии.
(обратно)156
19 августа, 17 сентября, 14 ноября, 29 ноября.
(обратно)157
2-й корпус, 17 тысяч, из них 9700 конницы.
(обратно)158
3-й корпус, 14 тысяч, из них 2200 конницы.
(обратно)159
Донскую пехоту начальник штаба армии генерал Кельчевский характеризовал так: «пешие части совершенно не приспособлены к пешему бою и так же легко сдают, как и красноармейская милиция». За немногими исключениями это определение было верно.
(обратно)160
Но и эти силы были ослаблены отвлечением части их на поддержку лискинской группы, так что в группе генерала Шкуро под Касторной оставалось одно время только 1800 сабель 4-го Донского корпуса.
(обратно)161
Одна бригада Кавказской армии находилась в то время в Екатеринодаре ввиду событий в Раде. Кубанские дивизии имели состав 500–800 сабель и только одна 3-я имела 1350 сабель. Она входила ранее в состав 2-го корпуса, но была заменена 4-й дивизией.
(обратно)162
Шкуро уехал в отпуск по болезни.
(обратно)163
Состав частей приведен по боевому расписанию от 5 ноября, так как последующие не сохранились. В состав конного отряда входили: 4-й Донской корпус, 3-й конный корпус (без одной бригады), 2-й Кубанский корпус, Сводная кавалерийская дивизия и 2-я пластунская бригада.
(обратно)164
К концу периода, усиленная конницей и пехотой, эта советская группа образовала 1-ю Конную армию Буденного.
(обратно)165
Директива от 29 ноября и 6 декабря.
(обратно)166
Почему — было неясно, так как с Крымом сообщались через Новороссийск.
(обратно)167
Советское командование было уверено, что, потерпев поражение, Добровольческая армия вынуждена будет отойти на запад. Исходя из этого, им дана была директива о преследовании в этом направлении. Только 20 декабря эта директива была изменена.
(обратно)168
К 1 декабря 1919 г. в военно-лечебных заведениях ВСЮР состояло 42733 больных и раненых.
(обратно)169
Потеряны были в боях.
(обратно)170
Начальник оперативного отделения штаба Донской армии.
(обратно)171
О миссии генерала Науменко генерал Врангель предупредил Ставку 13 декабря телеграммой № 010586.
(обратно)172
Сидорин выехал в Ясиноватую с моего разрешения по вопросу о направлении отхода Добровольческой армии.
(обратно)173
Ни один из этих вопросов не мог бы пройти без санкции Ставки.
(обратно)174
Директива от 5 декабря.
(обратно)175
Линия: Цимлянская — Усть-Белокалитвенная — Каменская — Ровеньки — Матвеев Курган — лиман Миусский.
(обратно)176
Генерал Врангель выехал спешно на Кубань.
(обратно)177
Журнал «Военная наука и революция», 1921, кн. 1.
(обратно)178
Приказ № 3 по 1-й Конной армии, подписанный Буденным и Ворошиловым.
(обратно)179
Из воззвания коммунистической ячейки 4-й кавалерийской дивизии армии Буденного.
(обратно)180
К этому времени враждующие стороны заключили снова мир для совместных действий против войск генерала Врангеля. Тотчас после падения Крыма большевики разгромили Махно.
(обратно)181
Боевой состав ВСЮР по данным на 5 января 1920 г.
(обратно)182
Особенно пострадали 2-я пехотная и Марковская дивизии; последняя в предыдущих боях потеряла артиллерию и обозы. В тылу имелось еще 10 тысяч пополнений.
(обратно)183
Добрынин В. Борьба с большевизмом на юге России. Прага, 1921. Часть Круга во главе с Агеевым еще в Новочеркасске вела тайные беседы о сдаче большевикам.
(обратно)184
На совещании в Тихорецкой.
(обратно)185
Подтянулись, потеряв родные станицы, отставшие; мобилизованные, часть дезертиров, наученные уже раз, в начале года, большевистским обещанием «мира».
(обратно)186
Не включая, с одной стороны, 11-й советской армии, которая из Астрахани вела наступление на Кизляр и Святой Крест, с другой — войск Северного Кавказа.
(обратно)187
Советский журнал «Военная наука и революция», 1921, № 1.
(обратно)188
Меры ограничения принимались лишь в отношении железнодорожных союзов, так как вся страна представляла театр войны, а пути сообщения — одно из важнейших средств ее.
(обратно)189
Случайная справка: Харьковский окружной суд за вторую половину октября зарегистрировал 32 новых кооперативных общества.
(обратно)190
Член ЦК Тимофеев, устыдившись, по-видимому, на суде такой терпимости, оспаривал это показание: была очередь, а не прямой отказ.
(обратно)191
Сборник «Пути революции».
(обратно)192
Присутствовали Астров, Савич, Соколов и генерал Романовский.
(обратно)193
В воспоминаниях К. Н. Соколова упоминается, что он вообще стремился к радикальному разрешению аграрного вопроса. В заседаниях «Особого совещания», по крайней мере в моем присутствии, этот взгляд не проявлялся им сколько-нибудь решительно.
(обратно)194
Нужно пояснить, что организация тыла в военном отношении лежала не только на Ставке, но и на Военном управлении (военном министерстве), во главе которого стоял автор этой записки. Точно так же деятельность Управления внутренних дел была связана неразрывно с деятельностью председателя «Особого совещания».
(обратно)195
Председатель мог быть и без портфеля.
(обратно)196
Первого на должность главного начальника снабжений и второго — начальником Управления сообщений.
(обратно)197
Военное управление в Ростове без ведома Ставки назначило в помощь ему офицера Генерального штаба.
(обратно)198
Северо-Западная армия в это время была разоружена и интернирована на эстонской территории.
(обратно)199
По 50 членов соответственных войсковых Кругов и Рады, под председательством председателя Кубанской Рады Тимошенко.
(обратно)200
Серьезно дебатировался вопрос о финансировании предложения некого князя Магалова, обещавшего выставить 20-тысячный корпус грузинских добровольцев (народная гвардия).
(обратно)201
29 января была переизбрана донская фракция Верховного Круга, причем новый состав имел большинство «харламовцев» и «парамоновцев».
(обратно)202
31 декабря, № 017582.
(обратно)203
10 января 1920 г., № 00248.
(обратно)204
Фактически до окончательного преобразования власти не вступал в исполнение обязанностей. Назначение встречено было в казачьих кругах неблагожелательно.
(обратно)205
Первый кандидат, генерал Улагай, был болен сыпным тифом. Ввиду лояльности генерала Шкуро к главному командованию он подвергся бойкоту кубанских политиков, теперь припомнивших ему те грехи, которые ранее не ставились ему в вину.
(обратно)206
Эта фраза была истолкована, как выпад против меня. Председатель донского правительства Мельников, резюмируя слышанное, говорил: «Сегодня большинство всех против одного ответило, что казачество за генералом Деникиным идет». Я остановил оратора, предложив не касаться личностей и не выходить из области идей.
(обратно)207
Эпизод при обсуждении текста присяги членами Верховного Круга.
(обратно)208
Этот ответ приведен в следующей главе.
(обратно)209
29 января представитель мой в Тифлисе заявил о признании главным командованием фактического существования правительств Грузии и Азербайджана.
(обратно)210
Оно заключалось в признании границы, установленной на Версальской конференции, к западу от которой территория должна принадлежать бесспорно Польше, а к востоку должна войти в то или иное государство на основании плебисцита.
(обратно)211
Телеграфные сношения 31 декабря и 3 января генерала Лукомского, №№ 0772, 15 и 70; мои — №№ 17592 и 021847.
(обратно)212
Челищев, Савич, при неофициальном участии профессора Новгородцева.
(обратно)213
Председатель донского правительства.
(обратно)214
Председатель Совета министров — Н. М. Мельников; министры: военно-морской — генерал-лейтенант А. К. Кельчевский, иностранных дел — генерал от кавалерии Н. Н. Баратов, внутренних дел — В. Ф. Зеелер, юстиции — В. М. Краснов, земледелия — П. М. Агеев, финансов — М. В. Бернацкий, путей сообщения — Л. В. Зверев, торговли и промышленности — Ф. С. Леонтович, народного просвещения — Ф. С. Сушков, здравоохранения — Н. С. Долгополов, пропаганды — Н. В. Чайковский.
(обратно)215
По моему требованию кубанский атаман закрыл официоз «Кубанская воля», в которой помещены были эти резолюции, причем кубанский министр внутренних дел Белашев лично зашел в редакцию и занес распоряжение о закрытии «Кубанской воли» и одновременно разрешение на открытие газеты «Воля».
(обратно)216
Сменил доблестного генерала Каппеля, умершего от обморожения.
(обратно)217
Телеграмму эту (№ 13), посланную через министра иностранных дел Сазонова, я получил в декабре 1920 г. в Брюсселе.
(обратно)218
Телеграмма генералу Лукомскому от 22 января, № 00604.
(обратно)219
По распоряжению генерала Романовского семьи офицеров штаба подлежали эвакуации в последнюю очередь — после семей фронтовиков. Телеграмма его Лукомскому от 2 января, № 017646.
(обратно)220
Был разрешен свободный выезд за границу на собственный счет всем женщинам и детям, а также мужчинам непризывного возраста.
(обратно)221
Товарищ председателя Кубанской Рады.
(обратно)222
Из записок донского полковника Добрынина.
(обратно)223
Донская гвардейская дивизия навела порядок в нескольких станицах, но это делу не помогло.
(обратно)224
Кубанская и Терская дивизии и Добровольческая бригада генерала Барбовича, сведенная из 5-го кавалерийского корпуса.
(обратно)225
Корниловцы, дроздовцы, юнкера.
(обратно)226
Сменил генерала Мамонтова, который заболел сыпным тифом и вскоре умер в Екатеринодаре.
(обратно)227
К 26 января подошел к армии 2-й Кубанский корпус.
(обратно)228
Добровольцы в этих боях захватили 22 орудия, 163 пулемета, 6 бронепоездов, 4 тысячи пленных и прочее.
(обратно)229
В руки корпуса попали: 15 орудий, 20 пулеметов, 2 тысячи пленных, два начальника дивизий, штаб 13-й дивизии, полевой штаб 8-й армии и прочее.
(обратно)230
10 февраля Ставка из Тихорецкой переведена в Екатеринодар.
(обратно)231
Штаб Донской армии перешел в Екатеринодар, Ставка — в Новороссийск.
(обратно)232
Телеграмма № 001588.
(обратно)233
В этот день правый фланг донцов в беспорядке отошел к станице Динской в переходе от Екатеринодара.
(обратно)234
Первый раз вопрос этот был поднят официально 29 февраля.
(обратно)235
Письмо от 22 января.
(обратно)236
Генерал для поручений. Раньше был адъютантом генерала Алексеева, потом моим. Летом 1919 г. принял Дроздовский конный полк, во главе которого храбро и удачливо дрался в черниговском направлении, где и был тяжело ранен. Разделил со мной изгнание.
(обратно)237
Штаб-офицер для поручений. После моего ухода вернулся в Дроздовскую дивизию на должность рядового; потом доблестно водил в бой полковые команды и дважды был тяжело ранен.
(обратно)238
В 1926 г. служил простым рабочим на заводе в Париже, где и умер от разрыва сердца.
(обратно)239
Эвакуация Новороссийска возложена была на барона Врангеля по его же просьбе генералом Лукомским.
(обратно)240
До падения Одессы генерал Лукомский считал наилучшим решением вопроса, «ввиду несоответствия Слащова», перемещение генерала Шиллинга в Крым и назначение в Одессу генерала Врангеля.
(обратно)241
По записке Н. И. Астрова.
(обратно)242
4 февраля генерал Лукомский доносил, что разрешил генералу Врангелю проехать в Крым «впредь до (моего) разрешения по его рапорту».
(обратно)243
Телеграмма моя начальникам английской и французской миссий от 22 декабря, № 017344.
(обратно)244
Телеграмма № 84/109.
(обратно)245
Телеграмма его от 22 января, № 139.
(обратно)246
Доклад генерала Шиллинга от 11 февраля 1920 г., № 0231593.
(обратно)247
Большая часть войск Новороссии перешла в Крым. В непосредственном распоряжении Шиллинга были войска Киевской области и небольшая часть боеспособных галичан.
(обратно)248
Письмо начальника одесской английской миссии генералу Шиллингу от 8 января, № 41.
(обратно)249
Между Каменец-Подольском и Проскуровом.
(обратно)250
Особенно 12, 17, 23 января и 11, 26, 29 февраля.
(обратно)251
Шафир Я. Орловщина. Советское издание.
(обратно)252
Из записки генерала Шиллинга.
(обратно)253
По инициативе кружка Бубнова.
(обратно)254
Генерал Лукомский приехал в Севастополь по случаю смерти своей матери.
(обратно)255
Из записки генерала Шиллинга.
(обратно)256
То же письмо Лукомского.
(обратно)257
Из письма генерала Лукомского.
(обратно)258
Телеграмма № 0231483.
(обратно)259
О полной непригодности Ненюкова свидетельствовал и генерал Лукомский.
(обратно)260
Телеграмма, входящий № 194.
(обратно)261
Телеграмма получена была мною через день или два. Подписали ее: Ненарокомов, Решетовский, Неверов, Глинка, Иванов, Н. Савич, граф Апраксин, князь Гагарин, В. Келлер, Тесленко, Дерюжинский и другие. Эти лица, входившие в «Совещание общественных деятелей Ялты», еще дважды потом обращались — ко мне и Шиллингу — с тем же ходатайством.
(обратно)262
Генерал Шиллинг находился в Джанкое.
(обратно)263
Копия этой телеграммы была послана мне генералом Лукомским 10 февраля.
(обратно)264
Барон Врангель отнес к себе пункт 3-й приказа.
(обратно)265
Сенаторская ревизия генерала Макаренко закончила свои действия в управление генерала Врангеля. Результаты ее не были опубликованы и мне неизвестны. В день прибытия моего в Феодосию генерал Макаренко сделал мне краткий личный доклад о первой части своей работы — одесской эвакуации. По его словам, ничего предосудительного в действиях генерала Шиллинга обнаружено не было.
(обратно)266
Из записки адмирала Герасимова.
(обратно)267
Впоследствии были осуждены и уволены генералы Сидорин и Кельчевский по политическому делу.
(обратно)268
Штерн С. В огне гражданской войны. Париж, 1922.
(обратно)269
Предаю впервые гласности.
(обратно)270
Телеграмма Слащова от 8 марта, № 10023.
(обратно)271
Разговор, происходивший якобы 6 марта в Джанкое между Слащовым, Лейхтенбергским и Брянским.
(обратно)272
Над Брянским назначено было следствие, законченное при генерале Врангеле. Результаты его не были опубликованы.
(обратно)273
При отступлении за Кубань корпус не прикрыл ее.
(обратно)274
Путь преграждало около 4 тысяч дезертиров.
(обратно)275
Позднее они приняли участие в спасении людей, шедших береговой дорогой южнее Новороссийска…
(обратно)276
Командование было объединено в руках командира Кубанского корпуса генерала Писарева, которому подчинялся и 4-й Донской корпус.
(обратно)277
По данным Ставки генерала Врангеля, из 27 тысяч перевезено было около 12 тысяч.
(обратно)278
Войск около 7 тысяч, беженцев 3–5 тысяч.
(обратно)279
Сводная Кубанская бригада, Сводная Алексеевская бригада, Корниловская юнкерская школа.
(обратно)280
Телеграмма Сидорина генералу Богаевскому от 18 марта.
(обратно)281
Из записки В. Ф. Зеелера.
(обратно)282
20 марта, № 145/м.
(обратно)283
Из записки генерала Ползикова.
(обратно)284
Примечание генерала Кутепова: «Полагал необходимым подготовить к решению этого тяжелого вопроса, поэтому считал нужным предупредить старших начальников. Слухи и сплетни, к сожалению, и тогда создавали настроение начальников».
(обратно)285
Примечание генерала Кутепова: «Я отлично сознавал, что генерала Деникина заменить никто не может, поэтому считал, что дело наше проиграно. Все это болезненно переносил; упрекал себя за посылку генералу Деникину телеграммы в Новороссийск, так как полагал, что она, может быть, имела значение при решении генерала Деникина».
(обратно)286
Начальник штаба Черноморского флота Рябинин, впоследствии перешедший к большевикам.
(обратно)287
Примечание генерала Кутепова: «Первым выступил я, а после генерал Витковский».
(обратно)288
Текст телеграммы: «Собравшись для участия на Военном совете, дивизии Добровольческого корпуса единодушно решили просить Ваше превосходительство остаться во главе армии, причем дивизии верили и всегда будут Вам верить и не мыслят другого главнокомандующего, кроме Вас. Оставление Вами своих верных войск грозит несомненной гибелью нашего общего дела и поведет к полному распаду армии».
(обратно)289
Примечание генерала Богаевского: «Генерал Слащов решительно заявил, что он против всяких выборов и сейчас же уезжает на фронт, где он нужен: здесь же ему делать нечего».
(обратно)290
Текст этого акта: «На заседании старших начальников, выбранных из состава Военного совета, собранного по приказанию главнокомандующего в Севастополе 22 марта 1920 г. для избрания заместителя генералу Деникину, председателем Совета генералом от кавалерии Драгомировым было оглашено ультимативное сообщение британского правительства генералу Деникину с указанием на необходимость прекращения неравной безнадежной борьбы с тем, чтобы правительство Великобритании обратилось бы к советскому правительству об амнистии населению Крыма, в частности войскам Юга России, причем в случае отклонения генералом Деникиным этого предложения британское правительство категорически отказывается впредь от всякой поддержки и какой бы то ни было помощи. При этих условиях совещание выразило желание просить главнокомандующего о назначении его заместителем генерала Врангеля, с тем, чтобы он, приняв на себя главное командование, добился бы неприкосновенности всем лицам, боровшимся против большевиков, и создал бы наиболее благоприятные условия для личного состава Вооруженных сил Юга России, именно для тех, кто не найдет для себя возможным принять обеспечение безопасности от советского правительства». С содержанием этого акта я ознакомился только за границей.
(обратно)291
Из записки генерала Ползикова.
(обратно)
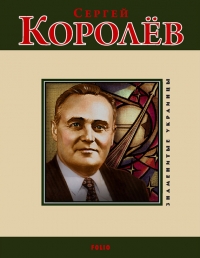

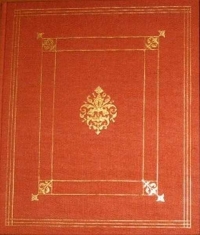



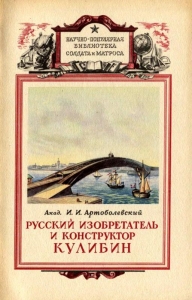
Комментарии к книге «Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г.», Антон Иванович Деникин
Всего 0 комментариев