Антон Иванович Деникин Очерки русской смуты Том IV. Вооруженные силы Юга России (фрагменты)
Глава VIII. Дон: события на Донском фронте в конце 1918-го и в начале 1919 года. Борьба за единство военного командования на Юге
Падение Германии поставило в весьма затруднительное положение Донское войско. Во второй половине ноября германские части очистили территорию области, открыв опаснейшее и кратчайшее к ее столице направление — воронежское. В то же время немцы, занимавшие Украину, объявили нейтралитет, и в «пограничных» районах Харьковской и Екатеринославской губерний появились петлюровские атаманы, ниспровергая власть гетмана, прервав снабжение Дона боевыми припасами с Украины и неизбежно подготовляя вторжение большевиков с не менее грозного направления — харьковского.
К началу ноября фронт Донской армии шел от Кантемировки на Таловую и далее, приблизительно по северной и восточной границе области, подходя к Камышину на 20–30 верст и к Царицыну 30–40 верст; на юго-востоке фронт шел через станцию Житово по большому Царицынскому шляху до Маныча, где он входил в соприкосновение с левым флангом армии Добровольческой. На этом фронте Дон располагал 52 тысячами против 100 с лишним тысяч войск советского Южного фронта.
Задача, данная армии донским командованием, заключалась в обороне на юго-востоке и овладении важнейшими железнодорожными магистралями путем занятия станций Лиски — Поворино — Елань — Камышин — Царицын.
Затихшие было в октябре военные действия на воронежском направлении в начале ноября возобновились с новой силой, начавшись блестящим делом генерала Гусельщикова в районе Таловой и развившись затем в большую операцию, завершившуюся поражением 8-й советской армии и занятием донцами линии Лиски — Таловая — Новохоперск. В районе Луганска небольшой отряд Молодой Донской армии стоял прочно и отбивал все атаки противника.
В середине ноября усилившиеся советские армии вновь перешли в наступление, нанося концентрический удар на воронежском направлении и с северо-востока на фронт Урюпинская — Усть-Медведицкая. 9-я советская армия имела вначале успех, проникнув глубоко в Хоперский округ, но благодаря подошедшему к донцам с Царицынского и Воронежского фронтов подкреплению была опрокинута, и донские полки, преследуя ее, доходили до Елани и Камышина. Это наступление, прервав железнодорожную связь между Повориным и Царицыным, поставило в критическое положение советскую 10-ю армию, вследствие прекращения навигации по Волге оставшуюся без подвоза. Точно так же успешно отражались все настойчивые атаки красных на царицынском направлении, и войска генерала Мамонтова, с конца ноября сами перейдя в наступление, к 5 января подошли вплотную к городу Царицыну на линию Сарепта — Воропоново — Гумрак.
Весь ноябрь и декабрь на огромном фронте от Луганска до Царицына, от Царицына до Маныча в мороз и стужу, поставив в строй поголовно всех казаков, способных носить оружие, изнемогая от потерь и лишений, Дон доблестно отстаивал свое существование против вдвое сильнейшего врага. Донская армия неизменно одерживала верх, брала тысячи пленных и богатую военную добычу. По существу стратегически победа была уже на стороне донцов: зимняя операция красных расстроилась, потеряла свой планомерный характер и продолжалась лишь по инерции, без внутренней идейной связи.
Но в Гражданской войне моральный элемент более, чем где бы то ни было, властвует над всеми прочими слагаемыми успеха. То, что было выиграно в течение многих месяцев моральным подъемом и оружием, в один миг было потеряно упадком духа. В казачьем настроении опять наступил перелом, который умело использовала советская пропаганда. Наиболее чувствительным ее аргументом были обещания Советской власти сохранить казачий уклад и уверения в тщетности надежд на иностранную помощь, о которой так часто и неосторожно говорил атаман колеблющемуся фронту.
Уже в ноябре, невзирая на успехи, в армии чувствовалась некоторая моральная неустойчивость. В конце декабря сначала один донской полк предался на сторону красных, потом несколько станиц, и войска Верхне-Донского округа заключили мир с большевиками и начали расходиться по домам. Пораженческое настроение ширилось по фронту, и одновременно ширились прорывы, в которые беспрепятственно вливались волны красных, выходя в тыл и угрожая окружением еще боровшимся войскам Хоперского округа.
В то же время большевики напрягали большие усилия, посылая для вразумления войск 8-й и 9-й армий карательные отряды, усилив Южный фронт четырьмя новыми дивизиями и направив из Харькова на линию Бахмут — Луганск армейскую группу Кожевникова.
И к концу января Донская армия на Северном и Северо-Восточном фронте отхлынула за Дон. «Прекрасно вооруженные, снабженные пулеметами и пушками отряды наши, — говорил атаман Краснов на Круге[1], — уходят без боя в глубь страны, оставляя хутора и станицы на поругание врагу. Теперь сдаются на милость красной сволочи целыми сотнями и с нею вместе идут избивать своих отцов и братьев. Теперь арестовывают офицеров и старших начальников, выдают их на расстрел красным и тем подрывают в них веру в казаков и лишают их необходимого мужества…»
Чем же объяснялся такой резкий перелом в настроении казачества и такой глубокий, ничем не оправдываемый развал армии?
Общество, армия, Круг искали прежде всего «виновных». Их назвал Круг, собравшийся в феврале, осудил и удалил. Виновными сочтены были — командующий Донской армией и начальник штаба ее, генералы Денисов и Поляков. Круг поставил им в вину, косвенно и атаману, «недостаточную осведомленность о фронте… легковесную самоуверенность… трения с Добровольческой армией… убеждение в период успехов, что справятся собственными силами, и делить победу с кем бы то ни было не хотелось… оповещение фронта о скором прибытии (неприбывшей) союзной помощи…» Наконец, непосещение фронта командующим, «невнимание к нуждам фронта, злоупотребление реквизициями, особенно в Южной армии» и т. д. и т. д.[2]. Генерал Денисов указывал причины иные: 1) утомление казачества, 2) гибель веры в союзников, 3) возрастание сил противника, 4) лютая зима при недостатке одежды и теплых вещей, 5) агитация большевиков, б) агитация «общественных деятелей» против атамана и против командующего, 7) развал тыла[3]. В сущности обе стороны в своих обвинениях исследовали только нездоровую почву, на которой могло произрасти то явление чисто психологического характера, которое Краснов и Денисов определяли согласно «заболеванием фронта большевизмом». Определение, верное только в отношении симптомов той болезни, которая поражала временами не одно донское, но и другие казачества, русскую интеллигенцию и русский народ. Болезни воли и духа. Ибо донское казачество, органически чуждое коммунистическому укладу, приняв внешние формы и даже практику большевизма, как личину, как средство кого-то провести и от кого-то спастись, на другой же день вступало с ним в глухую борьбу всем своим нутром, всем бытовым укладом, в свою очередь встречая со стороны Советской власти полное недоверие и прямое посягательство на жизнь казачью, быт и достояние.
Эта двойственность казачьих настроений чрезвычайно ярко проявилась в красочной истории донского казака, войскового старшины Миронова. Демагог и честолюбец, мечтавший об атаманском перначе, он с самого начала Гражданской войны поступил на службу к большевикам и, командуя бригадой, потом дивизией, дрался весьма усердно на их Донском фронте. Но после большевистского вторжения на Дон в начале 1919 года зверства большевиков пробудили совесть в нем и в его казаках. Миронов стал на защиту разоряемых станиц, был обвинен в демагогии и отправлен на Западный фронт. Летом, однако, ввиду тяжелого положения на юге его переводят обратно на Донской фронт и ставят во главе вновь сформированного Донского корпуса, ядром которого служили казаки северных округов. В августе Миронов поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков. В приказе-воззвании от 9 августа он говорил казакам:
«…Что остается делать казаку, объявленному вне закона и подлежащему беспощадному истреблению? Только умирать с ожесточением.
Что остается делать казаку, когда он знает, что его хата передана другому, его хозяйство захватывается чужими людьми, а скотина выгнана в степь в загон? Только сжигать свои станицы и хутора. Таким образом, в лице всего казачества мы видим жестоких мстителей коммунистам за поруганную справедливость, что в связи с общим недовольством трудящегося крестьянства России, вызванным коммунистами, грозит окончательной гибелью революционным завоеваниям и новым тяжким рабством народу. Чтобы спасти революционные завоевания, остается единственный путь — свалить партию коммунистов».
Восстание было подавлено в несколько дней полуказачьими войсками Буденного. Миронов и его соучастники были преданы суду и приговорены к смертной казни. Но все они «выразили чистосердечное раскаяние» и просили взять их опять на службу в Красную армию… Миронова большевики помиловали, и в 20-м году мы видим его вновь командующим 2-й конной армией, сражавшейся против крымских войск генерала Врангеля. Зимою 1921 года он снова принимает участие в организации восстания в Донской области и, не будучи более нужен большевикам, использовавшим его популярность до конца, предается снова суду и кончает свою жизнь под расстрелом.
Взаимоотношения наши с донской властью с мая и до конца 1918 года определялись непримиримой позицией генерала Краснова в вопросе об едином командовании.
Если огромный вред, приносимый отсутствием общего плана и разрозненностью действий белых армий во всероссийском масштабе (Север, Восток, Юг и Запад), не всеми сознавался достаточно отчетливо, то на общем по существу доно-кавказском театре эти тягчайшие нарушения основ военного искусства сказывались ясно и разительно на каждом шагу. Вопрос этот раздирал Юг, отражаясь крайне неблагоприятно на ведении военных операций, вовлекая в борьбу вокруг него общественность, печать, офицерство, политические организации, даже правительство Согласия. Генерал Краснов суживает теперь весь этот вопрос больного прошлого до размеров «екатеринодарской интриги» и «борьбы Краснова с Деникиным», которого он «не хотел признать», отрицательно относясь к его личным качествам, как государственного деятеля и стратега… Наши взаимные характеристики могут быть несколько пристрастными. Но ясно одно: личная незаинтересованность и государственные побуждения донского атамана в этом вопросе теряют значительно свою цену, если принять во внимание, что одним из «наиболее желательных вождей для объединенного командования» он называл… генерала Н. И. Иванова[4], на котором — по его же, Краснова, словам — отозвались «пережитые потрясения и немолодые уже годы и несколько расстроили его умственные способности…»
Отбросим личности. За ними стояло явление несравненно более крупного масштаба: вопрос шел о признании военного центра в борьбе Юга: «Дон» или «Добровольческая армия»? В глазах огромного большинства русской общественности первый представлялся началом областным, вторая — общегосударственным; в глазах правительств и командования держав Согласия Дон был недавним союзником — пусть даже невольным — немцев, а Добровольческая армия «сохранила верность Согласию до конца». Эти две предпосылки имели решающее значение в спорном вопросе.
Были, очевидно, объективные причины — не только «интриги Екатеринодара», которые задолго до образования мощной организации — Вооруженных Сил Юга — привлекали в орбиту Добровольческой армии спутников из самых отдаленных краев разваленной России. Мы видели стремление к объединению с нами Волжской армии Чечека и даже армии Учредительного собрания… К нам тянулись Псковская армия, балтийские отряды и Терек. Крым просил о присылке добровольческих войск… Подложный приказ от имени главнокомандующего Добровольческой армии о подчинении ему украинских войск достаточно выяснил отношение к нам русской общественности и офицерства Украины… Уральское войско сообщало, что «ожидает с большим нетерпением» подхода к Волге Добровольческой армии, «имея желание в общих интересах объединиться с нами»[5]. Оренбургский атаман Дутов писал мне[6]: «…Наше войско сепаратических стремлений не имеет и борется за всю Россию. На вашу армию мы возлагаем большие надежды и полагаем, что только вы и решите окончательно судьбу России. Ваша армия находится на юге и имеет все под рукой. В ваших руках уголь, железо, нефть, лучшие пути сообщения, сравнительно короткое расстояние до Москвы. Кроме того, вы имеете возможность, владея Черным морем, получить всевозможные пополнения и припасы…»
Расходясь, подчас серьезно, в вопросах государственного устройства, с большим единодушием относилась к военному верховенству Добровольческой армии и организованная русская общественность (кроме крайней правой) до «Союза возрождения» включительно. Даже весьма демократический «Съезд земских и городских самоуправлений Юга»[7], представленный такими столпами революционной демократии, как Руднев, Гоц, Вишняк, Гвоздев и другие, возлагал на Добровольческую армию «ответственную роль служить на Юге России ядром для воссоздания российской народной армии…»
Только самостийные круги смотрели иначе… «Меморандум четырех государственных образований»[8], представленный французскому командованию, отрицал самую идею необходимости единства армии, допуская лишь создание «общего генерального штаба для руководства всеми операциями на основе соглашения государственных новообразований… Защита своего дома, своего очага, своей семьи, своего народа — таковы должны быть лозунги, к которым следует апеллировать для искоренения большевизма…» Составитель «меморандума» Марголин рассказывает, что «настроение у всех (собравшихся для обсуждения этого «акта») было торжественное»; и единственный военный представитель совещания, внесший сей новый вклад в военную науку, донской генерал Черячукин «осенил себя даже крестным знамением перед подписанием…»[9]
Молил, должно быть, у Господа прощения…
В этом отношении соединенное заседание Донской законодательной комиссии и кубанских делегатов выказало большую широту взглядов. Требуя автономности Донской и Кубанской армий, оно считало, однако, необходимым «скорейшее подчинение Донской, Кубанской, Добровольческой и других армий… в пределах России единому командованию» и допускало возможность борьбы с большевизмом, «выходящей за пределы охраны Донской и Кубанской области».
Интересно, что такая же борьба за единство командования, вызванная мотивами другого рода — боязнь бонапартизма, велась и в Советской России между Бронштейном, проникшимся идеями «военспецов», с одной стороны, и большинством Коммунистической партии — с другой. Только после поражений, понесенных большевиками на Востоке и Юге летом 1918 года, Советская власть создала Революционный военный совет республики[10] с единым главнокомандующим (Вацетис, потом Каменев) на всех фронтах. Это единство командования, по словам Бронштейна[11], спасло Красную армию, дав, наконец, возможность переброски, сосредоточения и вообще использования центрального положения армии для действия по внутренним операционным линиям. «Только после установления общего оперативного руководства и строгого исполнения боевых приказов, идущего сверху вниз, все почувствовали на деле… огромное преимущество централизованной армии над партизанством и кустарничеством».
В вопросе единого командования, и притом возглавляемого главнокомандующим Добровольческой армией, сошлись и союзные представители.
В начале ноября вернулся из Румынии командированный туда донским атаманом за снабжением генерал барон Майдель и представил доклад[12]:
«…с 2 по 12 ноября (нового стиля) я находился в полном контакте с представителями Согласия… Меня уполномочили уведомить: а) что Согласие верит лояльности Дона, но требует полного объединения командования всей русской армии в лице генерала Деникина; б) генерал Краснов скомпрометирован все-таки своей деятельностью, письмом Вильгельму и речами на Круге… Поэтому, если общественное мнение, генерал Деникин и Вы[13] укажете, что Краснов, согласившись на полное подчинение главнокомандующему генералу Деникину, может остаться, то пусть остается; а если нет, желательно, чтобы он добровольно ушел; в) если объединение произойдет, и Дон войдет в русскую армию, то союзники обеспечивают помощь войсками, деньгами, всем. Мои требовательные ведомости (на снабжение) вручены румынам при вербальной ноте послов Согласия…»
6 ноября донской атаман, очевидно, встревоженный этими сведениями, послал в Яссы и Бухарест посольство в составе генералов Сазонова и Янова и дипломатического чиновника Карасева. Посольству вменено было в обязанность, кроме проверки доклада Майделя, ознакомить союзников с положением Дона, убедить их в неприемлемости подчинения мне Донской армии, указать наиболее желательных вождей для объединенного командования на Юге (генералы Н. И. Иванов и Щербачев) и просить непосредственной помощи — боевым снабжением, деньгами и войсками.
Донское посольство, посетив генерала Бертело, русского посланника Поклевского-Козелл и генерала Щербачева, выяснило, что вопрос об едином командовании решен окончательно в пользу главнокомандующего Добровольческой армией. Генерал Янов — человек крайне невоздержанный, по природе демагог, ненавистник Добровольческой армии — не жалел красок, чтобы очернить армию и ее командование в глазах союзников, доказывал невозможность подчинения генерала Краснова мне и счел даже уместным «запугивать их (союзников) возможностью соглашения казаков с большевиками, если будут настаивать на подчинении Краснова…»[14]
Русская распря произвела тяжелое впечатление и в русских, и в союзных кругах и вызвала отповедь генерала Бертело Янову:
«Нехорошо бросать упрек в сторону родственной нам армии. Вы на первых же порах затрудняете работу союзников своими раздорами… Донская армия многочисленнее Добровольческой? Но если бы у генерала Деникина был даже один солдат, то и тогда симпатии наши будут все-таки на его стороне: он был одним из немногих генералов, который при невероятно трудных условиях остался верным идее союза…»
В результате Бертело остался при первоначальном решении, сообщив его письмом атаману Краснову, а генерал Щербачев категорически отказался участвовать в этой сомнительной игре.
Представители Согласия, прибывшие в Екатеринодар, — Пуль, Эрлих, Фуке — также единодушно поддерживали идею объединения русских армий в лице добровольческого командования. В виде протеста против политики Краснова они ответили отказом на его приглашение посетить Новочеркасск… Пышными речами и приказами население и фронт были уже оповещены широко о союзниках, спешивших на помощь Дону, и отсутствие представителей их наносило большой урон атаманскому престижу. С большим трудом генералу Краснову удалось устроить непосредственным обращением к командовавшему союзными морскими силами в Севастополе адмиралу прибытие двух миноносцев — английского и французского, шедших в Мариуполь за углем, в Таганрог и визит затем их экипажей в Новочеркасск. С большой торжественностью были встречены в Новочеркасске иностранные гости, рекою лилось вино и вдохновенные патриотические речи; но среди них диссонансом для недоброжелателей Добровольческой армии прозвучало ответное слово французского гостя[15]:
«…Пусть будет дозволено солдату Франции сказать вам: все достоинства и доблесть не привели бы к положительным результатам, если бы не существовало самого тесного единения между всеми союзными армиями в лице славного маршала Фоша и такого же единого командования на море под славным английским флагом… Благородная и великолепная армия казаков и неустрашимая, героическая Добровольческая армия станут (так же) непобедимыми, тесно соединившись и образовав из себя гранитную скалу, страшную для врагов…»
Ни в вопросах политики, ни в вопросах войны мы не могли понять, какие, собственно, конкретные цели преследует атаман Краснов. Его перо, его слово были полны такими внутренними противоречиями, в них так художественно переплеталась правда с вымыслом, что мы становились в полнейшее недоумение.
8 сентября 1918 года он писал генералу Алексееву:
«Я не думаю о будущем России — это не мое дело — это решит Учредительное собрание, «Земский собор», вернее — Господь Бог, но я мечтаю об одном — освободить Россию от большевиков…»
А в октябре (без даты, № 02) он писал генералу Драгомирову:
«Приближается время мирной конференции народов… И думается мне, что время Добровольческой армии, Дону, Украине, Кубани, Грузии и другим свободным от большевистского террора частям России собраться и сговориться… по следующим вопросам:
1. Что будет представлять из себя бывшая Российская империя в политическом отношении (монархию, республику, федерацию, и если федерацию, то какого типа?).
2. Какие части бывшей Российской империи войдут в это новое государственное образование и какие станут вне его (Финляндия, Прибалтийский край, Белоруссия, Польша, Украина, Крым, Закавказье)?
3. Кто поможет объединиться тем частям России, которые не заражены самостийностью?.. Помогут в этом отношении союзники, которые кругом должны нам за 1914, 1915 и 1916 годы, или центральные державы, как соседи?»
Решение в то время вопроса о будущем государственном устройстве России добровольческим командованием, Скоропадским, Красновым, Бычом и Жордания представлялось мне несвоевременным и недостаточно компетентным[16].
«Выдвигать (этот вопрос) на первый план теперь же, — отвечал генерал Драгомиров[17], — это значило бы вносить раздор чрезвычайно острого характера в ту минуту, когда для спасения Родины нужно прежде всего единение всех сил… Что же касается «выбора ориентации», то «является совершенно невозможным, чтобы в ту минуту, когда союзники наши со дня на день могут прибыть в Новороссийск и пожелают опереться на Добровольческую армию, последняя стала бы на путь колебания — на кого опираться».
А еще через 2–3 дня глава донского правительства по поручению атамана обратился ко мне с предложением[18] созвать совещание в Екатеринодаре по вопросу об едином представительстве на мирной конференции, на которой, «конечно, должны быть представители настоящей России, желающие ее восстановления в прежних пределах и мощи…»
Я ответил полным согласием, прибавив, что общность наших задач властно требует объединения всего дела внешних сношений и полного взаимодействия всех вооруженных сил путем объединения командования. «Если… исходя из самого искреннего желания найти пути к полному единству, нам удастся сговориться по (этим) кардинальным вопросам, — писал я[19], — то в недалеком будущем можно было бы выдвинуть на очередь объединение и в тех отраслях государственного устройства, которые донской атаман перечислил в своем письме от 3 сентября. № 679»[20]: финансовых, юстиции, продовольственного дела и торгово-промышленной политики, путей сообщения и телеграфа…
8 ноября[21] генерал Драгомиров вызвал в Екатеринодар представителей Дона на совещание по следующим вопросам:
«Первое — единое представительство на предстоящем мирном конгрессе, второе — объединение командования всеми Вооруженными Силами Юго-Восточной России в оперативном отношении и вместе с этим объединение всего дела военного снабжения всех фронтов этого района в руках главного начальника снабжения Добровольческой армии, в распоряжение которого от союзников в ближайшее время поступят громадные запасы».
Совещание под председательством генерала Драгомирова состоялось 13 ноября[22]. Вопрос о представительстве на мирном конгрессе был разрешен легко возложением миссии персонально на бывшего министра иностранных дел Сазонова «с тем, чтобы в состав технических советников делегации вошел бы представитель от Дона». Прочие вопросы были донцами сорваны. Генерал Поляков от имени донского атамана заявил, что «для осуществления единого фронта и единого командования Дон может дать гвардейскую стрелковую бригаду (не казачью), конную казачью дивизию, 4–6 броневых поездов, 4 броневые машины и… Южную армию»[23]. И то только при условии движения Добровольческой армии на север. Донская же армия оставалась вне подчинения. Такую постановку вопроса генерал Лукомский назвал «с военной точки зрения, безграмотной», а генерал Драгомиров — «насмешкой над идеей единого командования»[24]. Она находилась, однако, в полном соответствии с теми взглядами, которые атаман внушал Войску относительно будущего характера борьбы: казаки скоро отдохнут от трудов бранных, а их сменят на севере Народная и Добровольческая армии… Внушение — психологически опасное для стойкости Донского фронта и производившее тягостное впечатление на добровольчество, разрушая идею общей борьбы за Россию.
Замечательно, что по возвращении в Новочеркасск генерал Поляков по поручению атамана, чтобы сгладить впечатление от совещания, тотчас же вызвал к аппарату донского посла в Екатеринодаре генерала Смагина и приказал ему передать союзным представителям, что атаман не отказывается от единого командования, но ставит, между прочим, «непременным условием, чтобы армия имела определенную борьбу против большевиков (?) и чтобы Войско Донское сохранило свою самостоятельность до образования единой России»[25]. Первое глубоко оскорбило нас и вызвало горячий письменный протест генерала Драгомирова, второе письмо удивляло, так как вопрос шел только об армии, а о Войске (области) ни на совещании, ни в разговорах с союзниками не поднимался вовсе.
Из Новочеркасска обильно текли письма, речи, заявления, в которых крупица правды была переплетена с вымыслом.
Донской фронт начинал морально колебаться и ввиду закрытия границ с Украиной терпел крайнюю нужду в снабжении…[26]
Генерал Краснов писал горячие послания союзным представителям, прося о помощи, без которой считал невозможным дальнейшее сопротивление Дона, и в то же время заявлял горделиво полковнику Кизу: «Передайте генералу Пулю, что я являюсь выборным главою свободного пятимиллионного народа, который для себя ни в чем не нуждается. Ему не нужны ни ваши пушки, ни ружья, ни амуниция — он имеет все свое и он убрал от себя большевиков. Завтра он заключит мир с большевиками и будет жить отлично (!). Но нам нужно спасти Россию, и вот для этого-то нам нужна помощь союзников…»[27]
Я требовал нормального подчинения армий, чтобы иметь возможность дивизии и корпуса Донской, как и Добровольческой, армии перебрасывать на тот фронт, где это вызывается стратегической обстановкой… В художественном переложении атамана это требование преподносится казачеству в таком виде: «…полное подчинение вооруженных сил Дона с получением конницы казачьей с фронта и перемешиванием казачьих частей с частями добровольческими, иными словами: нарушение образа служения войска, толикою славою покрытого».
Замечательно, что в то же время генерал Краснов, не боясь перемешивания, настойчиво просил о переброске добровольческих частей на Донской фронт, справедливо видя в этом единственное спасение Дона.
«Общерусские» войска были желательным гостем в противоположность «общерусским учреждениям»… 9 января 1919 года (№ 092) по поводу размещения в Ростове отдела пропаганды атаман Краснов писал генералу Драгомирову: «На земле Войска Донского не может и не должно помещаться ни одно из учреждений общерусских. Это требование автономии Войска…»
«…Старшие начальники и офицеры, — говорил он генералу Щербачеву и внушал, без сомнения, эту мысль армии, — будут бояться, что от них отнимут все высшие командные должности и заменят их лицами, угодными Деникину, и не казаками, и это может вызвать упадок их энергии в решительные минуты борьбы…»[28]
Я добивался сосредоточения всего военного снабжения в одних руках для правильного распределения снабжения, доставляемого союзниками, для учета и регулирования потребности фронтов в хлебе и стратегических железнодорожных линий — в нефти и угле. Это мое требование, проявившееся реально в снабжении Дона английскими запасами и в довольствии края и армии кубанским и ставропольским хлебом, в стилизованном изложении атамана формулируется словами: «Снабжение, находящиеся в распоряжении Войска Донского хлеб и уголь передаются в распоряжение Добровольческой армии (?), выгоды и угодия (Войска), утвержденные грамотами императрицы Екатерины Великой, от него отходят».
Я писал Богаевскому о желательности объединения некоторых отраслей государственного управления, предложенного некогда самим генералом Красновым, это предложение превращалось в «полное подчинение всего Войска Донского с его населением и армией генералу Деникину…» Мои помощники, ведшие непосредственно переписку с атаманом, нервничали и положительно терялись от изумительных оборотов в посланиях атамана, извращавших самую элементарную сущность всяких вопросов.
Атмосфера между тем сгущалась все более и более. Ширился круг лиц, принимавших участие во взаимной распре военачальников, осложняя своим вмешательством и без того тяжелое положение. Печать принимала все более резкий, нервный тон. Атаманский официоз «Часовой» возбуждал казачество против Добровольческой армии… Кубанские самостийные органы, сохраняя в отношении генерала Краснова «вооруженный нейтралитет», травили меня и Добровольческую армию… Все екатеринодарские «российские» газеты, не исключая и социалистических, и кубанские — «линейные» — травили атамана Краснова… И атаман жаловался на них моему представителю в Новочеркасске, принимал у себя, на Дону, ряд драконовских цензурных мер в отношении екатеринодарской прессы и относил все это всецело к работе своих недругов — Харламова, Парамонова, Сидорина и других, «под крылом добровольческого командования ведущих кампанию против него…» Председатель «Особого совещания» генерал Драгомиров, поставленный в очень щекотливое положение в отношении поддерживавшей армию печати, писал редакциям письма, прося их воздержаться от выступлений против донского командования и «использовать (свое) влияние для упрочения хороших отношений с Доном, начало которых уже положено…»[29]
Содействие союзников принимало иногда недопустимые формы, ставя меня в чрезвычайно тягостное положение. Так, при посредстве телеграфного агентства 20 ноября в газетах появилось сообщение «из достоверных источников», что груз, привезенный первым транспортом и предназначенный совместно для Добровольческой и Донской армий, по распоряжению французского командования передан только генералу Деникину для Добровольческой армии… что «Донская армия ничего не получит из транспортов, которые находятся уже в пути или будут отправлены в будущем… до тех пор, пока Дон не признает генерала Деникина верховным главнокомандующим». Генерал Драгомиров сделал серьезное внушение газетам, поместившим это ложное известие, и произвел расследование, которое выяснило, что сведение было прислано агентству непосредственно из… французской военной миссии…
О ходе переговоров с генералом Красновым генерал Драгомиров осведомлял председателя Донского Круга Харламова и при его посредстве законодательную комиссию Круга и донскую общественность. Иногда союзников и прессу. Содержание этих переговоров было таково, что без всякого злого умысла давало агитационный материал против генерала Краснова донской и «российской» оппозиции. Харламов и комиссия в вопросе об едином командовании были на нашей стороне. Они ставили вопрос этот «вне связи с вопросом о помощи извне Донской армии, руководствуясь прежде всего стратегической целесообразностью»[30]. Это единомыслие, естественно, сближало нас с донской оппозицией, причем во взаимоотношения ее с атаманом и во внутренние дела мы, конечно, совершенно не вмешивались. Комиссия не раз пыталась устранить трения с Добровольческой армией, но совершенно безуспешно. Прибывшей к нему 12 ноября делегации комиссии генерал Краснов заявил категорически, что «признание генерала Деникина для него является неприемлемым и что Донская армия ни в чем, кроме разве танков, не нуждается».
Лично для меня эта борьба за приоритет Добровольческой армии, веденная вокруг моего имени, была до крайности тягостна. И в душе я готов был не раз помириться со всеми недостатками разъединенного фронта, лишь бы окончилось это прискорбное соревнование, возбуждавшее общественные страсти, отзывавшееся на фронте и ронявшее нас в глазах союзников. Положение мое было тем более трудным, что ни одна из известных мне русских общественных групп, ни одна область, ни одна армия, не исключая даже Донской, не выдвигали генерала Краснова на пост главнокомандующего соединенными силами Юга.
А других претендентов на главнокомандование в ту пору еще не было.
Глава IX. Дон: трагедия Донского фронта. Объединение вооруженных сил Юга России. Уход атамана Краснова
В начале декабря генерал Пуль обратился ко мне со словами:
— Считаете ли вы необходимым в интересах дела, чтобы мы свалили Краснова?
Я ответил:
— Нет. Я просил бы только повлиять на изменение отношений его к Добровольческой армии.
— Хорошо, тогда будем разговаривать.
Через день-другой Пуль прислал генералу Драгомирову копию своего ответа генералу Краснову[31] на письмо, полученное от него 7 декабря:
«Я должен благодарить Вас за помощь и откровенное выражение Вашей точки зрения, хотя, к сожалению, я нашел, что Ваше мнение несогласно с моим по вопросу о назначении генералиссимуса для командования всеми русскими армиями, действующими против большевиков.
Я также намерен ответить совершенно откровенно.
Я должен указать Вашему Превосходительству, что я полагаю по вопросу о назначении главнокомандующего необходимым предварительно ознакомиться с мнением союзников, ибо, как я понимаю из Вашего письма, только при условии содействия союзников и получения от них снабжения, Вы считаете, что будете в состоянии двигаться вперед или даже только обороняться.
В полученных мною инструкциях моего правительства мне указано было войти в сношение с генералом Деникиным, как с представителем, согласно английскому мнению, русских армий, действующих против большевиков. Я сожалею поэтому, что для меня является невозможным даже рассмотрение вопроса о признании какого-либо иного офицера в качестве такого представителя.
Я вполне сознаю ту великолепную работу, которую Ваше Превосходительство так искусно выполняли с донскими казаками, и я смею поздравить Ваше Превосходительство со славными походами.
Я бы желал надеяться, что Ваше Превосходительство проявите себя не только выдающимся воином, но и великим патриотом.
Если я принужден буду возвратиться и донести своему правительству, что между русскими генералами существует зависть и недоверие, это произведет очень тяжелое впечатление и, наверно, уменьшит вероятность оказания помощи союзниками. Я бы предпочел донести, что Ваше Превосходительство проявили себя столь великим патриотом, что готовы поступиться собственными желаниями для блага России и согласиться служить под начальством генерала Деникина.
Как я уже словесно изложил князю Тундутову, я был бы рад встретиться с Вашим Превосходительством неофициально и обсудить все это дело, если бы Вы этого пожелали; и я мало сомневаюсь в том, что мы могли бы прийти к удовлетворительному решению.
В случае этой встречи меня сопровождал бы генерал Драгомиров — помощник главнокомандующего Добровольческой армией».
Свидание состоялось 13 декабря на границе двух областей, в Кущевке. После встречи двух поездов и длительного, довольно оригинального вступления, когда между «суверенным главой пятимиллионного народа» и «представителем великобританского правительства» шел спор о первом визите, состоялся, наконец, обмен мнений и намечены были общие основания возможного соглашения:
«1. Не объявлять об этом подчинении в приказе до той поры, пока, по заявлению атамана, мысль о необходимости подчинения Донской армии генералу Деникину не войдет в сознание казаков.
2. Избегать на первых порах отдачи категорических приказов, касающихся донских казаков, а заменять их «указаниями» о желательном направлении операции, с предоставлением права донскому атаману представлять на нем свои соображения.
3. Невмешательство высшего командования Добровольческой армии во внутреннее управление Донской армии, т. е. в назначение командного состава, производства в чины, призыва казаков и т. п.».
Эти условия, в сущности, сводили на нет единство командования, но, во всяком случае, признавали идею его, сдвигали вопрос с мертвой точки и давали основания для дальнейших переговоров. Они состоялись на станции Торговой 26 декабря[32]. Их описал впоследствии генерал Краснов[33], переплетая правду с вымыслом и внеся в рассказ обычные особенности своего стиля: высокую самооценку свою личную и своих помощников, мудрых, красноречивых и государственно мыслящих — прямую противоположность противникам, которым приписываются наивные по форме и содержанию речи, циничные взгляды и побуждения…
Нет надобности повторять те положения и доводы, которые сводились, с одной стороны, к определению нормальных форм единого командования, с другой — к полному отрицанию их на том главнейшем основании, что казачество с недоверием относится к «солдатским» (не казачьим) генералам и офицерам и что «гласное признание подчинения разложит Дон…»
— Отчего же вы мне предлагали пост главнокомандующего? — задал недоуменный вопрос генерал Щербачев…
Собеседование открыло такую бездну накопившейся ненависти к нам со стороны донского командования, что дальнейшие прения казались бесполезными. Дважды я прекращал переговоры, и дважды атаман и генерал Щербачев просили меня продолжить их: положение Донского фронта становилось трагичным, донская оппозиция росла в числе и в силе, и весть о разрыве могла отразиться действительно печально на судьбе фронта и атамана. Меня также заботила немало участь Донского фронта и одолевало искреннее желание прекратить это постыдное единоборство какою угодно ценою.
В силу этих побуждений появились на свет два акта:
1. Мой приказ (26 декабря 1918 г. № 1):
«По соглашению с атаманами Всевеликого войска Донского и Кубанского, сего числа я вступил в командование всеми сухопутными и морскими силами, действующими на Юге России».
2. Приказ Донского атамана, отданный «во избежание кривотолков»:
«Объявляя этот приказ (мой, № 1) донским армиям, подтверждаю, что по соглашению моему с главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России, генерал-лейтенантом Деникиным, конституция Войска Донского, Большим войсковым Кругом 15 сентября с. г. утвержденная, нарушена не будет. Достояние донских казаков, их земли и недра земельные, условия быта и службы донских армий затронуты не будут. Единое командование есть своевременная и необходимая ныне мера для достижения полной и быстрой победы в борьбе с большевиками».
Эти акты не определяли совершенно правовых взаимоотношений между главным командованием и Донской армией.
Их должна была установить жизнь.
Пока происходили все эти события, Добровольческая армия кровавыми боями приступала к финальному акту освобождения Северного Кавказа и разгрома большевистских сил. Как только улучшилось положение под Ставрополем, я перебросил оттуда 6 декабря 3-ю дивизию генерала Май-Маевского с бронепоездами, броневиками и авиационными отрядами в район Юзовки для прикрытия Каменноугольного района и обеспечения левого фланга Донской армии[34]. Май-Маевский попал в чрезвычайно сложную военную и политическую обстановку в районе, где перемещались повстанческие отряды Махно, Зубкова, Иванько и другие, петлюровские атаманы, советские войска группы Кожевникова и, наконец, застрявшие немецкие эшелоны. Кубанские самостийники подымали сильную агитацию против «вторжения на территорию Украины»; донской атаман настойчиво добивался наступления отряда на Харьков, взятый большевиками 21 декабря, и «занятия северных границ Украины»; а Май-Маевский в течение двух месяцев со своими 2.5, потом 4.5 тысячами штыков, с огромным напряжением и упорством едва отбивался от Махно, петлюровцев и двух дивизий большевиков.
Вместе с тем с ноября месяца я непрестанно напоминал союзникам о необходимости скорейшего направления вооруженных сил прежде всего на Дон, где помощь эта имела бы колоссальное значение для морального подъема уставшего духом казачества. «Целым рядом телеграмм я просил оказать содействие союзными войсками на Донском фронте… Донские казаки в течение года героически сражались и сопротивлялись превосходным силам врага, но теперь, усталые, начинают терять веру в поддержку союзников… Если союзным командованием решено помочь нам в борьбе с большевиками, то эту помощь надо дать теперь же, чтобы поддержать дух казаков и сохранить Донскую область…»[35]
Был один момент (21 ноября), когда французская миссия сообщила нам о подходе двух дивизий к Новороссийску, и штаб мой отдавал уже спешно распоряжение о подготовке поездных составов для перевозки головной французской дивизии на Дон… Твердой уверенности, однако, в ее прибытии у меня не было. Поэтому об ожидаемом событии штаб никаких объявлений не делал, а переписка о перевозке велась в «весьма секретном» порядке. Действительно, десант в Новороссийске не появился, а взамен того вскоре начали высаживаться небольшие части союзников в Одессе, Севастополе и Батуме.
На мои телеграммы генералу Франше д'Эспере ответов не поступило.
Англичане были положительнее и откровеннее: на мою телеграфную просьбу в Батум генералу Уоккеру о необходимости оказать «немедленную моральную помощь Дону, которая могла бы выразиться в присылке на Донской фронт (хотя бы) двух-трех английских батальонов»[36], генерал Мильн выразил «крайнее сожаление, что указания, полученные (им) от великобританского правительства, не дают (ему) права выслать (мне) войска…»[37]
А советские прокламации, разбрасываемые во множестве по Донскому фронту, злорадно утверждали, что никакой союзной помощи и не будет…
Французская военная миссия между тем продолжала поддерживать иллюзии. К несчастью, во главе ее стоял некто капитан генерального штаба Фуке — человек, мало соответствовавший трудной роли представителя Франции. И начал-то он свою карьеру на Юге как-то странно — представлением мне на подпись дифирамба своим заслугам для ходатайства перед Франше д'Эспере о производстве его в следующий чин. Окончил же совсем печально.
30 января я получил письмо генерала Краснова[38], весьма меня поразившее. 27 числа к нему явился капитан Фуке, заявив, что он действует по поручению генерала Франше д'Эспере. Фуке сообщил, что немедленно же будет послана французская дивизия из Севастополя на помощь Дону в район Луганска, если атаман подпишет два «соглашения». Первое из них, заключавшееся от имени французского правительства, гласило:
«1. События, происшедшие в районе Донецкого бассейна, позволили советским войскам его занять и совершенно дезорганизовать и разрушить промышленную жизнь. Эти события были вызваны недостатком средств защиты и охраны, так как донские войска, которые были бы необходимы, охваченные большевистской пропагандой, изменили или не выполнили всего того, что при иных обстоятельствах они могли бы сделать.
2. Донское правительство, признавая, что, не будучи в состоянии обеспечить охрану и защиту заводов, рудников и других промышленных учреждений, считает обязательным справедливое удовлетворение как за погибшие человеческие жизни, так и — для полного возмещения причиненных убытков — восстановление, вознаграждение за бездействующие предприятия и т. д.
3. Атаман Краснов и донские власти, вышеперечисленные, настоящим принимают на себя, как выборные и признанные представители настоящего донского правительства, а также как представители одной из будущих частей Великой России, обязательство удовлетворить лиц и общества французских и союзных подданных Донецкого бассейна, как на территории в пределах Донского войска, так и соседних районов, куда могли распространиться волнения, вследствие материальных затруднений Дона. Право взыскания убытков с украинских и других властей предоставляется Войску Донскому.
…
4. Возмещение убытков так же, как и 5 процентов доходов (проторей) со дня прекращения работы вследствие событий, будут уплачены потерпевшим в 10 сроков, считая со дня решения комиссии. Способ и правила уплаты будут совершенно те же, как принятые для оплаты купонов русской 5-процентной ренты 1906 года».
Другое соглашение, заключаемое от имени французского главнокомандующего генерала Франше д'Эспере, состояло в следующем:
«1. Соглашение, подписанное 26 декабря между генералом Деникиным, главнокомандующим армиями Юга России, и генералом Красновым, донским атаманом и Всевеликой Донской армии, с сегодняшнего дня будет иметь полное применение.
2. Генерал Краснов, донской атаман, заявляет о признании полной власти генерала Деникина, а как высшего командования и власти по вопросам военным, политическим и общего порядка, обусловленным обстоятельствами, генерала Франше д'Эспере, командующего армиями союзников, все инструкции которого будут исполнены немедленно по передаче их французской миссией».
«Вы знаете, Ваше Превосходительство, — писал мне генерал Краснов, — в каком критическом, почти безвыходном положении находится Донское войско. Но при всем этом я не считаю возможным взять на себя подписать такие документы. Я прошу Ваших, как главнокомандующего, указаний. Можете Вы помочь Донскому войску — сейчас послать две или три дивизии в район Зверево, Морозовская, Царицын для выпрямления фронта?»
Я ответил в тот же день телеграммой[39]:
«Письмо Ваше 109 получил. Вполне разделяю Ваше негодование по поводу предложения капитана Фуке и одобряю Ваш отказ подписать соглашение. Со своей стороны заявляю следующее: 1) Какие бы ни бывали между нами несогласия и различие во взглядах, я никогда не позволял себе какого-либо действия, направленного во вред интересам донского казачества и которое могло бы затруднить героическую борьбу казаков против нашего общего врага. Еще до нашего соглашения об едином командовании я настойчиво требовал от союзников помощи живой силой и всегда совершенно определенно указывал, что таковая должна быть дана прежде всего Дону, выдерживающему главный напор большевиков. 2) Поэтому предложение капитана Фуке оказать Вам помощь только при условии подписания особого соглашения сделано не только без моего ведома, но я считаю верхом цинизма подобное ультимативное требование в ту тяжелую минуту, которую переживает доблестное донское казачество. Считаю также верхом бестактности предъявление капитаном Фуке подобного требования Вам без предварительного испрошения на то моего согласия. 3) При всех требованиях помощи союзными войсками я всегда совершенно определенно и настойчиво подчеркивал, что таковая ни под каким видом не должна носить характера оккупации, что никакое устранение или даже ограничение власти военной и гражданской не будет допущено. Между тем предложенное Вам соглашение предусматривает подчинение генералу Франше д'Эспере по вопросам военным, политическим и общего порядка. На подобное подчинение я сам никогда не пойду и не допущу, чтобы таковое было бы признано какою-либо из подчиненных общему командованию частей. 4) Равным образом никогда не допущу никакого вмешательства в наши внутренние дела и считаю, что вопросы общего порядка, равно как и политического, должны решаться только нами, русскими, по нашему усмотрению, как мы их понимаем, и никакие чужеземные власти не смеют даже претендовать на какое-либо руководство в этом направлении. 5) На Ваш вопрос отвечаю: донской атаман не может подписывать подобных соглашений, и Добровольческая армия всецело станет на защиту достоинства и чести донских казаков, если бы то потребовалось, как последствие отказа дать подпись под такими позорными для русского имени документами. 6) Мною принимаются все меры переброски частей Кавказской Добровольческой армии на помощь донским армиям, и последним в скором времени будет оказана всяческая поддержка, которая, не сомневаюсь, скоро поможет остановить продвижение красных и с Божьей помощью и верой в наше правое дело позволит обратить временный успех противника в полное его поражение».
Вместе с тем я сообщил генералу Франше д'Эспере (телеграмма 3 февраля. № 188) о действиях капитана Фуке, выразил свою уверенность, что «эти не соответствующие достоинству русского имени документы… не были присланы французским командованием, а явились результатом неправильного понимания капитаном Фуке всей ответственности сделанного им по личной инициативе выступления…»
Фуке был отозван, но на вопрос мой ответа не последовало.
Донская армия откатывалась, и депутаты северных округов, собиравшиеся на Круг, который должен был открыться 1 февраля, приносили тяжелые вести о том полном развале, который охватил Северный фронт. Росли растерянность, уныние и вместе с тем недовольство властью и особенно командованием.
Генерал Краснов в ряде писем сообщал об отчаянном положении Дона и просил помощи.
Еще до открытия Круга по постановлению частного заседания его прибыла ко мне в Екатеринодар депутация членов Круга во главе с генералом Поповым узнать, правда ли, что благодаря нежеланию донского атамана подчиниться фактически единому командованию Дону не будет оказана помощь. Я ответил:
— Это вздор. Наши личные отношения ни в малейшей степени не могут повлиять на отношение к Дону. Снабжение, которое мне дадут союзники, будет посылаться и Дону; все иноземные силы, которые пришлют мне, будут отправлены исключительно на Дон. Все, что можно будет извлечь с кавказского театра, я перебрасываю на помощь Дону…
Не закончить операции на Северном Кавказе — значило бы свести на нет все огромные наши усилия, допустить вновь залить многострадальную Кубань красной гвардией, лишить себя и Дон открытого во внешний мир окна (Черное море, Новороссийск) и поставить самую Донскую область под угрозу окружения.
Только к январю 1919 года обозначился решительный перелом операции в нашу пользу. И в январе была переброшена на усиление Май-Маевского еще одна добровольческая дивизия (1-я), жестоко пострадавшая в боях под Ставрополем и не имевшая отдыха. 23 января мы взяли Грозный, 29-го — Владикавказ, а уже 2 февраля генерал Попов телеграфировал Кругу, что кубанские дивизии для переброски на Дон готовы, но мало подвижного состава, застрявшего после перевозки добровольцев на Дон, и необходимо… избрать членов Круга для сопровождения поездов…
Ибо тот прием, который практиковался донским атаманом для «успокоения умов казаков» — объявление в приказах и речах о необходимости «заняться строительством своей разоренной родины» и о невыводе их поэтому за пределы Дона, вызвал подражание на Кубани: кубанцы так же не хотели удаляться «от родных хат» и не понимали, почему донцы могут не оставлять свои пределы, а они должны «бросать Кубань».
Поэтому, кроме непосредственного воздействия на кубанцев, мне пришлось просить Донской Круг выслать на Кавказ своих делегатов — уговаривать кубанских казаков, во что бы то ни стало желавших побывать в своих станицах, ехать на помощь старшему брату.
В связи с предстоящим открытием Донского Круга часть екатеринодарской прессы вновь ополчилась в чрезвычайно резком тоне против генерала Краснова. Я приказал закрыть газету «Истина», и в официальном сообщении штаба[40] это распоряжение мотивировано было недопустимостью «подрывать доверие к атаману, под руководством которого доблестная Донская армия прилагает величайшие усилия к спасению своей области». Надо было окончательно рассеять недоразумения, поддержать донцов морально и заверить их в помощи. И я решил поехать на Круг, о чем уведомил атамана.
Атаман, чувствуя неблагоприятное для себя настроение съезжавшихся членов Круга, 20 января запрашивал меня, не считаю ли я «своевременным, чтобы в февральскую сессию он просил Круг освободить его от должности атамана». Я ответил, что вмешиваться в его отношения с Кругом не буду.
Генерал Краснов считал, что я в союзе с генералом Богаевским и Харламовым готовлю его свержение, и не верил в искренность моего «невмешательства»[41]. Письма этих лиц ко мне, относящиеся к концу января, должны значительно ослабить возводимое обвинение… «Страшная усталость, — писал мне Богаевский[42], — падение духа, измена — все соединилось против нас… Надежды на союзников нет… Верьте тому, что пишет Вам атаман. Я не завидую его положению: он готов пасть духом под ударами судьбы… Блестящие успехи Добровольческой армии дают всем надежду на быструю помощь. Ваш приезд всех радует…» То же писал и Харламов[43]: «С чувством большой радости я услыхал о Вашем желании посетить Дон и быть на Войсковом Круге… Узнал об этом от атамана Краснова… Проникавшие на фронт сведения о трениях по вопросу об едином командовании вселили в казаков тревогу, что Вы из-за этих трений не даете помощи и что наше командование не сделало всего, чтобы устранить эти трения… Сейчас Ваш приезд психологически необходим».
К февралю месяцу на севере Донской фронт представлял из себя неопределенную прерывчатую линию, шедшую от Луганска через Миллерово в общем направлении на Царицын. Еще в середине января насчитывавшая до 40 тысяч Донская армия таяла с каждым днем. У Луганска отбивал успешно наступление противника генерал Коновалов с 1.5 дивизии Молодой Донской армии… У Миллерово медленно отходил вдоль железной дороги на юг 8-10-тысячный отряд генерала Фицхелаурова… Далее на расстоянии 100–150 верст фронта не было, и только где-то у поселка Петровского храбрый генерал Гусельщиков, затерянный с тысячным отрядом среди мятущихся или переходивших на сторону врага станиц, атаковал еще и бил большевиков, брал пленных и оружие… За Чиром поспешно отходили на юго-запад растаявшие отряды Саватеева, Сутулова, Старикова и к февралю приблизились на полперехода к железнодорожной линии Лихая — Царицын, поставив тем под угрозу коммуникационную линию генерала Мамонтова, который все еще дрался под самым Царицыным.
В такое тревожное время собрался 1 февраля Войсковой Круг.
Донской атаман в длинной волнующей речи нарисовал историю 10-месячной борьбы Дона, его героических подвигов и падения. Очертил без утайки тяжелое, но не безвыходное положение фронта, и призывал донцов бросить колебания и робость и воспрянуть духом. Помощь близка. «Мы живем в сказке великой… Царевна с нами, господа. Русская красавица. Это Добровольческая армия. Покончив покорение Кавказа, освободивши Терское войско, помогши кубанцам, она пришла к павшему духом донскому богатырю и вспрыснула его живой водой… А левее, уступом медленно и грозно поднимается французская армия генерала Бертело. Она заняла Раздельную и идет дальше на север от Одессы… Великая борьба за Россию вступила в новый и последний период. Единое командование осуществлено. И вашими болями, вашими неудачами болеет вся Россия и спешит вам на помощь…»
Круг отнесся отзывчиво к речи атамана, но в тот же день в вечернем заседании встретил враждебно доклад командующего армией генерала Денисова. В заседании 2 февраля все округа выразили единодушно недоверие ему и начальнику штаба армии генералу Полякову. Три округа[44] предоставили решение вопроса об их замене главнокомандующему Вооруженных Сил Юга России. Атаман Краснов заявил[45]: «Недоверие, выраженное генералам Денисову и Полякову, принимаю на себя, как верховный вождь Донской армии. Да, я знаю — горе побежденным! Мы побеждены болезнью, которая разъела нашу армию… Вы теперь отрубаете у меня сразу и правую, и левую руку… Я прошу… выбрать мне заместителя». После баллотировки отставка атамана была принята, и по донской конституции временная власть перешла к председателю правительства генералу Богаевскому.
Если в вотуме Круга в отношении генерала Краснова можно было видеть прежде всего осуждение его общей политики, то враждебность, проявленная всем Кругом чрезвычайно остро и ярко к Денисову, была основана в значительной мере на личных его качествах: этот человек обладал исключительной злобностью и самомнением, вооружавшими против него людей. Даже несколько лет спустя, после жестоких уроков, заставляющих, казалось бы, осторожнее относиться к прошлому, он остался неизменным и в таких словах свидетельствует перед лицом истории о самом себе в третьем лице: «Под его командованием Донская армия не видала поражений, а военное управление не ведало разрухи…» И противополагает «правление донской власти, воцарившейся со 2 февраля 1919 года… выдающийся по мудрости, красоте и деятельности период их предшественников…»[46]
Рано утром 3 февраля мой поезд подходил к Кущевке. Здесь на границе Донской области встретил меня бывший атаман, генерал Краснов, предупредивший лидеров донской оппозиции, также желавших побеседовать со мной до выступления моего на Круге… В третий раз за время борьбы на Юге я встречался с человеком, с которым судьба так резко столкнула меня на широкой, казалось, русской дороге. Передо мной был уже не гордый своими и донского казачества заслугами атаман, а человек, жестоко придавленный судьбой за свои и чужие вины. Человек, несомненно, одаренный, но не владевший своим словом и чувствами, создавший себе повсюду противников и врагов и нерасчетливо расточавший свои силы на борьбу с ними. И никакой горечи против него в душе моей тогда не было. Я выразил Краснову сожаление об его уходе. Он ответил: «Круг подчинится всякому вашему слову…»
После приветствий по моему адресу Круга я сказал:
«Господа члены Войскового Круга, я так взволнован вашим приемом, так овеян вашей лаской, что вряд ли сумею сказать все, что хотел сказать, и так сказать, как хотел…
С чувством душевного волнения, после года отсутствия, я вновь приехал в Новочеркасск. В тот город, где с огромным трудом, окруженные слепою стеной злобы, предательства и непонимания, три великих русских патриота — Каледин, Корнилов и Алексеев — начали строить заново русскую государственность.
Я приехал исполнить свой долг: поклониться праху мертвых и приветствовать живых, чьими трудами и подвигами держится Донская земля. Я приехал приветствовать Войсковой Круг, олицетворяющий разум, совесть и волю Всевеликого войска Донского.
Перенеся вместе с Добровольческой армией через ее крестный путь неугасшую и непоколебленную веру в великое будущее Единой и Неделимой России, я не отделяю от блага и пользы России интересов Дона. Я знаю, что силы, благоденствие и процветание Донского войска служат залогом спасения России.
Вот почему год тому назад, защищая подступы к Таганрогу и Ростову, я болел душой, видя полное наше одиночество. В феврале я с тяжелым чувством покидал донскую землю; в апреле я с великой радостью узнал, что Дон очнулся от наваждения и встал на защиту поруганной свободы своей. Летом соединенными силами добровольцев, кубанцев и донцов боролся в Задонье. И в героической борьбе Дона, вместе с Добровольческой и Кубанской армиями, радовался вашим успехам и скорбел при ваших неудачах.
То, что сделано Доном в беспримерной борьбе его с разрушителями Родины, никогда ею не будет забыто.
Теперь опять стряслась беда над Доном. Неужели же вся огромная созидательная работа целого года должна пропасть даром? Нет. Донское свободолюбивое войско не может пойти в кабалу к грязному, безумному, проклятому большевизму. А те, кто предал Дон, забыв честь и совесть, пусть знают, что «отдыхать» им не придется. Если «новоявленные друзья»-красноармейцы не пошлют их на восток проливать братскую кровь сибирских, оренбургских и уральских казаков, то здесь они встретятся в смертном беспощадном бою с нами.
В помощь Дону я развернул уже самый крепкий корпус добровольцев и посылаю все, что можно оттянуть с Кавказского фронта и что могут перевезти расстроенные несколько железные дороги.
Доблестные кубанские казаки, которым посчастливилось освободить уже всю землю и которые, самоотверженно сражаясь в Терско-Дагестанском крае, докончили его освобождение, поспешат на помощь Дону — я в этом глубоко уверен. Идут и терцы. Союзники пока не пришли к нам. Трудно сказать, какие технические и политические условия тормозят прибытие союзных войск, но, очевидно, имеются на это свои причины. Во всяком случае, живая сила, которую пошлют они мне в помощь, будет направлена на Донской фронт.
В конечной победе не сомневаюсь, ибо дело наше правое.
Я знаю, что Дон может колебаться, что от перенесенных лишений, невзгод, тяжких потерь у малодушных упало сердце. Положение грозное — нет сомнения. И не потому, что враг силен, а от усталости, уныния и, может быть, предательства некоторых станиц и донских частей. Но ведь было еще хуже. Ведь год тому назад весь Дон заполнен был большевиками, которые нагло издевались над всем укладом казачьей жизни, над вашими вольностями, которые завладели казачьим добром, убивали лучших людей ваших.
Однако Дон встал. Встал во весь рост. Так же будет и теперь.
Не могут же донцы допустить, чтобы наглые пришельцы — красноармейцы сели на их землю, лишили их свободы, обобрали их до нитки и посылали в братоубийственный бой против своих же казаков, как это делают уже в северных округах.
Я верю в здоровый разум, русское сердце и любовь к Родине донского казака.
Верю, что ваша внутренняя распря, в которой я не могу и не хочу быть судьей, не отразится в борьбе с врагами Дона и России, на общей дружной работе.
И Дон будет спасен.
Но на этом путь наш не кончится. Путь тяжкий, но славный. Настанет день, когда, устроив родной край, обеспечив его в полной мере вооруженной силой и всем необходимым, казаки и горцы вместе с добровольцами пойдут на север — спасать Россию от распада и гибели. Ибо не может быть ни счастья, ни мира, ни сколько-нибудь сносного человеческого существования на Дону и на Кавказе, если рядом с ними будут гибнуть прочие русские земли. Пойдем мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему…
Много терний на этом пути. Но при добром желании, при общем и искреннем стремлении всех новых образований к государственному объединению он приведет нас к желанной цели — к счастью Родины.
И я от души желаю сил, мужества и удачи Кругу, атаману и правительству в их непомерно тяжкой, но благодарной работе. В тесном единении с Добровольческой армией, с кубанцами, терцами и горцами Северного Кавказа, опираясь на все государственно мыслящие круги, донская власть примирит интересы разнородного населения, внесет начала справедливости и внутреннего мира, даст победу над врагом и счастье родной области. В этом — залог нашего общего благополучия, в этом — важный этап в строительстве Великодержавной России, которой мы без сомнений, без колебаний отдадим все свои желания, все помыслы и даже жизнь»…
Речь отвечала тому, чего хотел Круг, и, по свидетельству официального отчета[47], «влила бодрость в удрученные сомнениями души членов Круга, дала им уверенность, что Дон не будет одинок в борьбе…»
Но того слова, которого хотел услышать генерал Краснов, я по совести сказать не мог.
«В вашей внутренней распре я не могу и не хочу быть судьей…»
Вот все, что я считал себя вправе сказать атаману и Кругу накануне атаманских выборов, решивших судьбу генерала Краснова… «Невмешательство» мое пошло несколько далее: я не считал возможным в эти тяжелые для Дона дни предъявлять Кругу требования, которые обеспечивали бы реальное содержание «договору» в Торговой и реальную власть главнокомандующему — требования, которые были бы выполнены несомненно.
Кавказская Добровольческая армия, овеянная столькими победами, была уже свободна, и эшелон за эшелоном текли на север без всяких кондиций, просто — для спасения Дона и общерусского противобольшевистского фронта.
Ввиду ухода Денисова и Полякова донское правительство в выборе командующего остановилось на генерале Абрамове и в качестве начальника штаба армии — на генерале Райском. Я согласился на эти назначения, уехал на фронт, а через три дня телеграф принес известие об избрании атаманом генерала А. П. Богаевского и одновременно ходатайство нового атамана о назначении командующим армией генерала Сидорина и начальником штаба — генерала Кельчевского. Первого, очевидно, по соображениям политическим[48], второго — по военным. Так как военные познания и опыт Кельчевского компенсировали отсутствие командного стажа у Сидорина, я согласился и на эти назначения.
Обращение ко мне по этому вопросу нового атамана было большим шагом вперед, ибо «договор» в Торговой не предусматривал даже такого «вмешательства» моего в управление автономной Донской армией.
Новая донская власть вступала в исполнение своих обязанностей в момент исключительно тяжелый. Кроме восстановления разложившегося фронта, ей предстояла задача умиротворения сильно замутившейся внутренней жизни Дона.
Глава X. Добровольческая армия и флот. Силы, организация и снабжение
Добровольческая армия к началу 1919 года имела в своем составе: 5 дивизий пехоты[49], 4 пластунских бригады, 6 конных дивизий, 2 отдельных конных бригады, армейскую группу артиллерии, запасные, технические части и гарнизоны городов. Численность армии простиралась до 40 тысяч штыков и сабель, при 193 орудиях, 621 пулемете, 8 броневых автомобилях, 7 бронепоездах и 29 самолетах.
Главная масса войск сведена была в пять корпусов: 1-й, 2-й и 3-й армейские, Крымско-Азовский и 1-й конный[50] (генералы Казанович, Май-Маевский, Ляхов, Боровский и барон Врангель), позднее, в феврале, был сформирован и 2-й Кубанский корпус генерала Улагая. В состав 1-го и 2-го корпусов в феврале вошли переданные донским атаманом части бывших Астраханской и Южной армий, на которые возлагалось столько надежд немцефильскими кругами и которые были тогда уже, к сожалению, в стадии полного развала.
В начале декабря 1918 года Добровольческая действующая армия располагалась в четырех главных группах[51]:
1. Кавказская группа (1-й, 3-й, 1-й конный; позднее 2-й конный корпуса с приданными частями), силами в 25 тысяч и 75 орудий, располагалась между Манычем и Кавказскими предгорьями у Минеральных Вод. Она имела общей задачей — окончательное освобождение Северного Кавказа до Кавказского хребта, овладение западным берегом Каспийского моря и низовьев Волги, что давало возможность войти в связь с англичанами у Энзели и с уральцами у Гурьева и отрезать Советскую Россию от бакинской и грозненской нефти.
2. Донецкий отряд (генерала Май-Маевского), силою в 2.5–3.5 тысячи и 13 орудий, в районе Юзовки прикрывал Донецкий каменноугольный район и ростовское направление.
3. Крымский отряд генерала барона Боде (потом Боровского), первоначально только 1.5–2 тысячи и 3-10 орудий, прикрывал Перекоп и Крым, базы и стоянки Черноморского флота; он должен был служить кадром для формирования на месте Крымского корпуса.
4. Туапсинский отряд генерала Черепова (2-я дивизия с приданными частями), силою в 3 тысячи и 4 орудия, имел задачей прикрывать нашу главную базу — Новороссийск со стороны Грузии.
Таким образом, всех действующих сил мы имели 32–34 тысячи и около 100 орудий, из которых на главном театре сосредоточено было 76 процентов.
Против нас противник располагал следующими силами:
1. На Северо-Кавказском театре — 11-я и 12-я (формирующаяся) советские армии, насчитывающие до 72 тысяч и около 100 орудий.
2. На ростовском и крымском направлениях в течение декабря действовали объединенные шайки «батьки» Махно силою в 5–6 тысяч и в низовьях Днепра 2–3 тысячи «передавшегося на сторону советов петлюровского атамана Григорьева». Кроме того, вся Северная Таврия была наводнена неорганизованными, «аполитичными» шайками, занимавшимися грабежом и разбоями. Только с конца декабря после овладения Харьковом большевики направили через Лозовую, на юго-восток, против Май-Маевского, и на юг, в направлении Александровска, первые регулярные дивизии из Группы Кожевникова.
3. На сочинском направлении стояло, эшелонируясь от Лазаревки до Сухума, 3–4 тысячи грузинских войск под начальством генерала Кониева.
Всего, следовательно, на фронтах Добровольческой армии в соприкосновении с нами советских войск было около 80 тысяч и грузин — 3–4 тысячи.
Когда 26 декабря 1918 года состоялось объединение Добровольческой и Донской армий и театр войны расширился новыми обширными территориями, явилась необходимость выделения Добровольческой армии и создания при мне объединяющего штабного органа. Я принял звание «главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России», прежний армейский штаб стал штабом главнокомандующего, а для Добровольческой армии приступлено было к формированию нового штаба.
Предстоял весьма важный вопрос о назначении командующего Добровольческой армии.
Я считал наиболее достойным кандидатом на этот пост — по широте военного кругозора и по личной доблести — участника добровольческого движения с первых же шагов его, генерала Романовского. Однажды после очередного доклада я предложил ему на выбор — армию или штаб главнокомандующего. Не скрыл, что его уход будет тяжел для меня: нет подходящего заместителя, придется назначить случайного человека, и я останусь в своей большой работе и в своих переживаниях одиноким. С другой стороны (перед глазами у нас был пример незабвенного Маркова), я не сомневался, что и Романовский, став в строй выйдет из удушливой атмосферы политики, быстро приобретет признание войск, развернет свои боевые способности и покроет славой себя и армию.
Иван Павлович думал день и на другое утро сказал, что останется со мной… Принес в жертву нашей дружбе свое будущее.
Непроницаемым покровом завешаны от глаз наших пути Господни. Кто знает, как сложилась бы тогда судьба армии и Романовского… Вынесла ли бы его на гребень волны или похоронила в пучине… Мы знаем только одно: это решение стоило ему впоследствии жизни.
Обсудив вместе с начальником штаба вопрос о командующем, остановились на генерале бароне Врангеле. Он был моложе других корпусных командиров и только недавно вступил в ряды Добровольческой армии — это должно было вызвать обиды. Но в последних славных боях на Урупе, Кубани, под Ставрополем он проявил большую энергию, порыв и искусство маневра. Назначение барона Врангеля состоялось[52]. Один из достойных корпусных командиров, первопоходник, генерал Казанович благодаря этому ушел в отставку[53], другие поворчали, но подчинились. Начальником штаба армии стал генерал Юзефович.
Ввиду последующего развертывания Крымско-Азовского корпуса в армию войска, подчиненные генералу Врангелю, получили наименование Кавказской Добровольческой армии. С 27 декабря по 10 января, чтобы дать закончить генералу Врангелю операцию 1-го конного корпуса на путях от Петровского до линии Святой Крест — Минеральные Воды, армией временно командовал генерал Романовский.
1 января 1919 года я отдал приказ[54]:
«Четырнадцать месяцев тяжкой борьбы. Четырнадцать месяцев высокого подвига Добровольческой армии. Начав борьбу одиноко — тогда, когда рушилась государственность и все кругом бессильное, безвольное спряталось и опустило руки, горсть смелых людей бросила вызов разрушителям родной земли.
С тех пор льется кровь, гибнут вожди и рядовые добровольцы, усеяв своими могилами поля Ставрополья, Дона и Кубани.
Но сквозь ужасы войны, сквозь злобу и недоверие ничему не научившихся тайных врагов своих армия пронесла чистой и незапятнанной идею Единой Великодержавной России.
Подвиги армии безмерны.
И я, деливший с нею долгие, тяжкие дни и горе, и радость, горжусь тем, что стоял во главе ее.
Я не имею возможности теперь непосредственно руководить Добровольческой армией, но до конца дней моих она останется родной и близкой моему сердцу.
Сердечно благодарю всех моих дорогих соратников, чьими беспримерными подвигами живет и крепнет надежда на спасение России».
Название «добровольческих» армии сохраняли уже только по традиции. Ибо к правильной мобилизации было приступлено в кубанских казачьих частях с весны, а в регулярных — со 2 августа 1918 года. Три последовательных мобилизации этого года подняли на Северном Кавказе десять возрастных классов (призывной возраст 1910–1920 годов), в Приазовском крае — пока два (1917, 1918 и частью 1915, 1916 годов), в Крыму один (1918). Ввиду того, что революция повсеместно разгромила органы учета, установить точно процент уклонившихся штаб мой не мог. По приблизительным его подсчетам, цифра эта для Северного Кавказа определялась в 20–30 процентов. Мобилизованные поступали в запасные части, где подвергались краткому обучению, или — в силу самоуправства войсковых частей — в большом числе непосредственно в их ряды. Число прошедших через армейский приемник в 1918 году определялось в 33 тысячи человек. К концу 1918 года был использован широко другой источник пополнения — пленные красноармейцы, уже многими тысячами начавшие поступать в армию обоими этими путями.
Весь этот новый элемент, вливавшийся в добровольческие кадры, давал им и силу, и слабость. Увеличивались ряды, но тускнел облик и расслаивались монолитные ряды старого добровольчества. Лихорадочно быстрый темп событий среди непрекращавшегося пожара общей Гражданской войны, если и допускал поверхностное обучение, то исключал возможность воспитания. Масса мобилизованных во время пребывания в тылу, в мирной обстановке запасных батальонов была совершенно пассивной и послушной. За вторую половину 1918 года из запасных батальонов дезертировало только 5 процентов. Но, выйдя на фронт, они попадали в крайне сложную психологическую обстановку: сражаясь в рядах добровольцев, они имели против себя своих односельчан, отцов и братьев, взятых так же по мобилизации Красной армией; боевое счастье менялось, их села переходили из рук в руки, меняя вместе с властью свое настроение. И дезертирство на фронте значительно увеличивалось. Тем не менее, основные добровольческие части умели переплавить весь разнородный элемент в горниле своих боевых традиций, и, по общему отзыву начальников, мобилизованные солдаты вне своих губерний в большинстве дрались доблестно.
Что касается кубанского казачества, оно несло тяготы значительно больше: выставляло десять возрастных классов в состав действующей армии и во время борьбы на территории Кубани почти поголовно становилось в ряды в качестве гарнизонов станиц и отдельных, партизанского типа, отрядов. Природные конники — кубанцы неохотно шли в пластунские батальоны; пехота их была поэтому слаба и малочисленна, но конные дивизии по-прежнему составляли всю массу добровольческой конницы, оказывая неоценимые услуги армии.
В отношении старых добровольцев мы были связаны еще формально четырехмесячным «контрактом». Первый период для главной массы кончился в мае, второй — в сентябре, третий кончался в декабре. Еще в августе я хотел покончить с этим пережитком первых дней добровольчества, но начальники дали заключение, что психологически это преждевременно …Мне кажется, что и тогда уже они ошибались. 25 октября я отдал приказ[55] о призыве в ряды всех офицеров до 40 лет, предоставив тем из них, кто освобождался из армии, или покинуть территорию ее в семидневный срок, или подвергнуться вновь обязательному уже призыву… А через полтора месяца состоялся приказ[56] об отмене четырехмесячных сроков службы, которая стала окончательно общеобязательной. К чести нашего добровольческого офицерства надо сказать, что приказы эти не только не встретили какого-либо протеста, но даже не привлекли к себе в армии внимания — так твердо сложилось убеждение в необходимости и обязательности службы.
Итак, с конца 1918 года институт добровольчества окончательно уходил в область истории, и добровольческие армии Юга становились народными, поскольку интеллектуальное преобладание казачьего и служилого офицерского элемента не наложило на них внешне классового отпечатка.
С января 1919 года в штабе учрежден был отдел, ведавший формированиями. Войска специальных родов оружия организовывались обыкновенно в тылу и уже готовыми поступали на фронт; так же было и с кубанскими полками, которые комплектовались территориально в своих округах. С формированием пехоты дело обстояло иначе: необыкновенно трудно было поставить материальную часть полков средствами нашего немощного армейского интендантства, и штаб мирился с формированием на фронте, где заинтересованные непосредственно в своем усилении начальники находили возможности с грехом пополам обуть, одеть, вооружить и снарядить новые части. Но бои кипели непрерывно, фронт ввиду большого неравенства сил всегда нуждался в подкреплениях, резервов в тылу не было, и новые части бросались в бой задолго до своей готовности. Противник не давал нам времени на организацию. У нас не было такой предохранительной завесы, которую для Украины представлял немецкий кордон, для Сибири — фронт Народной армии, для Грузии — Добровольческая армия. Добровольческие части формировались, вооружались, учились, воспитывались, таяли и вновь пополнялись под огнем, в непрестанных боях. Тем не менее войсковые части, рожденные и воспитанные на фронте при такой обстановке, иногда за счет ослабления кадровых полков, являлись более боеспособными, чем тыловые формирования.
Другим крупным злом в организации армии было стихийное стремление к формированиям под лозунгом «возрождения исторических частей российской армии». «Ячейки» старых полков, в особенности в кавалерии, возникали, обособлялись, стремились к отделению, обращая боевую единицу — полк — в мозаичный коллектив десятков старых полков, ослабляя ряды, единство и силу его. Такие формирования возникали и в тылу, существовали негласно по целым месяцам, добывая частные средства или пользуясь попустительством властей разных рангов, ослабляя фронт и превращая иной раз идейный лозунг «под родные штандарты» в прикрытие шкурничества.
Так же велико было стремление начальников к формированию частей «особого назначения». Таков, например, «Летучий отряд особого назначения Кавказской Добровольческой армии» (у генерала Врангеля) во главе с ротмистром Барановым, имевший довольно темное назначение — борьбы с крамолой… «Волчьи» сотни генерала Шкуро — его личная гвардия, постепенно терявшая боевое значение, обремененная добычей… «Карательные отряды», формировавшиеся ставропольским военным губернатором генералом Глазенапом, превратившиеся в лейб-охрану богатых местных овцеводов, и т. д.
Со всеми этими бытовыми явлениями мы боролись, но, очевидно, недостаточно сурово, так как, меняя внешние формы, они продолжали существовать.
На Севастопольском рейде ко времени прихода союзников находились остатки нашего Черноморского флота, уцелевшие после новороссийской катастрофы[57]. Среди них линейный корабль (дредноут) «Воля»[58], крейсер «Кагул», более десятка миноносцев, несколько подводных лодок, старые линейные корабли и много мелких судов вспомогательного назначения. Большинство боевых судов требовало капитального ремонта.
Как я уже говорил, с приходом в Севастополь союзники подняли на наших судах свои флаги и заняли их своими командами. Только на «Кагуле», трех находившихся в ремонте миноносцах и на старых линейных кораблях оставались еще русские флаги.
Необходимо было кому-нибудь взять на себя охрану андреевского флага и беспризорного русского достояния. Центрами притяжения были только Украинская держава и Добровольческая армия. Первая обосновывала свое право на русское наследство «историческими границами Великой Украины», включающими весь северный черноморский берег, и обещанием германцев передать Украине к ноябрю весь Черноморский флот. Вторая выступала как общерусский военный центр Юга. Основания Украины к тому времени были настолько одиозны в глазах русской общественности и морского офицерства, что вопрос о подчинении флота был предрешен и не потребовал ни малейшей борьбы.
Вся трудность заключалась в выборе лица, которое могло бы возглавить флот и успешно повести дело его возрождения. Я совершенно не имел никаких знакомств в морских кругах и вынужден был руководствоваться мнением моряков, находившихся в сношениях со ставкой. Получалась картина полного безлюдия. Мне называли только два имени: один — контр-адмирал князь Черкасский, который оставался где-то в Советской России и которого нам так и не удалось разыскать; другой — вице-адмирал Саблин; деятельность последнего в качестве командующего советским флотом перед новороссийской катастрофой требовала еще выяснения, и сам он жил тогда за границей. Пришлось остановиться на адмирале Канине, который пользовался известной популярностью в морской среде и авторитетом в морских вопросах, но не отличался качествами боевого вождя…
13 ноября я отдал приказ о назначении адмирала Канина и. д. командующего Черноморским флотом. Канин под влиянием «украинских» адмиралов Покровского, Клочковского и других некоторое время колебался, потом вступил в должность, и присоединение Черноморского флота к Добровольческой армии совершилось автоматически и безболезненно. Присоединение номинальное, так как был командный состав, но не было в его распоряжении боевых судов. Началась длительная, нелепая и глубоко обидная борьба с союзным морским командованием за право существования русского флота.
Только в начале января старший в то время французский адмирал Амет предложил Канину укомплектовать два находившихся еще в ремонте миноносца; в то же время союзным командованием дано было разрешение подготовить крейсер «Кагул» для отправки в Новороссийск с целью… поднятия затопленного парохода «Эльборуса».
А между тем вскоре по побережью Черного и Азовского морей начались бои, и помощь флота стала необходимой. Снова, как в первые дни добровольчества, в дни деревянных бронепоездов и краденых пушек, офицерская молодежь снаряжала старые пароходы и баржи с тихим ходом и неправильным механизмом, вооружала их орудиями и ходила вдоль берегов, вступая в бой с большевиками, рискуя ежечасно стать жертвой стихии или попасть в руки врага.
А боевые суда наши в это время томились в плену у союзников…
Между тем штаты морских учреждений росли непомерно, собравшееся в большом числе в Севастополе морское офицерство томилось бездельем, а боевая готовность даже ничтожного числа судов, которое было предоставлено нам, подвигалось плохо. В марте приехал Саблин и сменил Канина. Саблину пришлось уже попасть в волну первой эвакуации Крыма и быть свидетелем тяжелой картины, как союзники, при общем паническом настроении, топили лучшие наши подводные лодки, взрывали цилиндры машин на оставляемых в Севастополе судах, топили и увозили запасы. Было невыразимо больно видеть, как рос синодик остатков русского флота, избегнувших гибели от рук немцев, большевиков и матросской опричнины… «Кагул»[59], подводную лодку «Тюлень» и еще 5 миноносцев и 2 подводные лодки на буксирах удалось с огромным трудом вывезти в Новороссийск, где приступлено было к ремонту, вооружению и укомплектованию их. Наши решительные протесты, возмущение, с которым русская общественность отнеслась к факту бездеятельности войск и флота союзников в трагических одесских и крымских событиях, а может быть, и возросшее доверие к силам Юга заставили союзников прекратить противодействие: летом 1919 года во время операции по вторичному овладению Крымом и Новороссией в составе флота числился уже 1 крейсер, 5 миноносцев, 4 подводных лодки и десятка два вооруженных пароходов, лодок и барж.
К осени союзники возвратили нам все остальные захваченные суда, в том числе дредноут «Воля», получивший наименование «Генерал Алексеев».
Снабжение армий находилось в руках главного начальника снабжений[60], непосредственно подчиненного начальнику Военного управления[61].
Главным источником снабжения до февраля 1919 года были захватываемые нами большевистские запасы. При этом войска, не доверяя реквизиционным комиссиям, старались использовать захваченное для своих нужд без плана и системы. Часть запасов получалась с бывшего Румынского фронта. Все это было случайно и крайне недостаточно. В ноябре, к приходу союзников, официальный отчет штаба рисовал такую картину нашего снабжения.
Недостаток ружейных патронов принимал не раз катастрофические размеры. «Бывали периоды, когда на всю армию оставалось несколько десятков тысяч патронов, и если пулемет в начале боя имел 2–3 ленты, то это считалось очень и очень благополучным…» Такое же положение было с артиллерийскими патронами: «К 1 ноября весь запас армейского склада состоял из 7200 легких, 1520 горных, 2770 гаубичных и 220 тяжелых снарядов. Обмундирование — одни обноски…» Санитарное снабжение… «можно считать несуществующим. Нет медикаментов, нет перевязочных средств, нет белья. Имеются только врачи, которые бессильны бороться с болезнями. Индивидуальных пакетов не имеется вовсе. Часто бывают случаи, когда полное отсутствие перевязочных материалов заставляет применять грязное белье самих же раненых…» Грозность нашего положения была тем больше, что к весне благодаря непрерывным кровопролитным боям и эпидемиям число раненых и больных в лечебных заведениях армий доходило до 25 тысяч.
С начала 1919 года, после ухода немцев из Закавказья, нам удалось получить несколько транспортов артиллерийских и инженерных грузов из складов Батума, Карса, Трапезунда. А с февраля начался подвоз английского снабжения. Недостаток в боевом снабжении с тех пор мы испытывали редко[62]. Санитарная часть улучшилась. Обмундирование же и снаряжение, хотя и поступало в размерах больших, но далеко не удовлетворявших потребности фронтов[63]. Оно, кроме того, понемногу расхищалось на базе, невзирая на установление смертной казни «за кражу предметов казенного вооружения и обмундирования». Таяло в пути и, поступив, наконец, на фронт, пропадало во множестве, уносимое больными, ранеными, пленными, дезертирами… Замечательно, что всякого рода хищения военного имущества и распродажа его на сторону встречали в обществе безразличное, часто покровительственное отношение. Рынок имеет свои законы: предельное сжатие его вызывает противодействие, чуждое моральных побуждений. Обмундирование, поступавшее на Дон, после раздачи казакам отправлялось обыкновенно в станицы и пряталось на дно все еще не опустошенных казачьих скрынь.
Собственным попечением наши органы снабжения заготовляли совершенно ничтожную часть потребности. Причин много. Были и общие, вытекавшие из финансовых затруднений армии, недостаточного развития в промышленном отношении Северного Кавказа, общего развала торговли и промышленности; были и частные — шаблоны нормальной войны и нормального полевого положения, отсутствие у нас системы и творчества, властно требуемых обстановкой, совершенно новой и исключительной; наконец — всеобщая деморализация нравов.
Один из видных армейских интендантов по поводу гонения, воздвигаемого обществом и печатью на интендантство, писал в то время:
«Промышленность разрушена; сырья в армии нет, технических и транспортных средств почти нет, опытных специалистов мало, конъюнктура рынка, не регулируемая никакими финансово-промышленными органами, своевольно стремится в беспредельную высь. Тыл, органы снабжения должны напрячь все свои творческие, административные и изобретательные способности, чтобы при таких условиях дать армии хотя бы малое, необходимое. Условия работы неизмеримо труднее, чем во время австро-германской войны, и требуют исключительных специальных знаний, опыта и энергии.
Между тем вместо компетентных работников, специалистов, школой и большим опытом подготовленных к работе снабжения армии, хорошо знакомых с организацией снабжения, промышленным миром и рынком, дело снабжения находится в руках исключительно офицеров генерального штаба, не знакомых ни с рынком, ни с торгово-промышленным миром, ни с политической экономией, ни с квалификацией товаров и продуктов.
Законы и нормы отстали от жизни, а новых еще не создано. Каждый активный исполнитель — заготовитель вынужден на свой риск и страх во много раз превышать те права, которые даны ему законом. События совершаются с невероятной быстротой, и жизнь не терпит промедления. Чтобы не отставать от жизни, приходится отбрасывать в сторону всякие бумажные нормы и преступать всякие законы, для чего нужны компетентные, честные исполнители, свобода действий и полное доверие».
«Честные исполнители, полное доверие» — конечно, это первооснова успеха работы. Но где их взять! Когда на Дону, на Кубани, не переставая, одна за другой выплывали на свет «панамы»… Когда несколько месяцев главное интендантство вооруженных сил находилось под воздействием назначенной мною сенаторской ревизии Таганцева… Ревизия добросовестно искала «виновных», привлекала к ответственности крупных и мелких нарушителей закона, но не умела найти грехи системы, не умела и не могла изменить общих условий, питавших преступность.
От общественности, так дружно отозвавшейся на нужды армии в 1916 году, мы в этом отношении помощи видели мало: Военно-промышленный комитет, Земгор, Красный Крест были разрушены и только начинали проявлять свою деятельность. От «демократии»? Один из органов Шрейдера «Родная земля», описывая вопиющие нужды армии, говорил: «Нуждалась ли бы армия в чем-нибудь, если бы была окружена горячей и любовной заботливостью русской демократии? Конечно, нет: русский народ умеет самоотверженно отдавать последнюю свою рубаху, последний свой кусок хлеба тому, кому он верит, в ком он видит борца за святое и правое народное дело. Очевидно, есть что-то в атмосфере, окружающей Добровольческую армию, что расхолаживает нашу демократию…»[64] Русский народ и демократия господина Шрейдера — это далеко не одно и то же. Народ отверг эту «демократию» на Волге, на Востоке, на Юге, по всей России. Но он не усыновил также в родительской любви своей ни красной, ни белой армии: не нес им в жертву добровольно ни достатка своего, ни жизни.
Пресловутый частный торговый аппарат претерпел, очевидно, с революцией серьезное перерождение: я не помню крупных сделок наших органов снабжения с солидными торговыми фирмами, но зато в памяти моей запечатлелись ярко типы спекулянтов-хищников, развращавших администрацию, обиравших население и казну и наживавших миллионы: М. — на Кубани, Ч. — на Дону и в Крыму, Т. Ш. — в Черноморье и прочие и прочие.
Но все это были партизаны, рожденные безвременьем и чуждые традиций промышленного класса.
Крупная торгово-промышленная знать появилась на территории армии главным образом после падения Одессы и Харькова в начале 1919 года. Многие лица из ее рядов успели вынести с пожарища русской храмины часть своих достатков, сохранили еще кредит, а главное — организационный опыт в широком государственном масштабе. Мы ожидали от них помощи и прежде всего в отношении армий. Эта помощь была предложена действительно, но в такой своеобразной форме, что на ней стоит остановиться…
14 сентября 1919 года между донским правительством в лице начальника отдела торговли и промышленности Бондырева и «Товариществом Мопит»[65] был заключен договор на поставку Донской армии и населению заграничной мануфактуры. «Мопит» являлся комиссионером казны, взяв на себя «при всемерном содействии Войска Донского»[66] на территории Дона и без ведома командования на территории Добровольческой армии скупку сырья, отправление и продажу его за границей, покупку там и доставку на Дон мануфактуры. Основной капитал для оборота, в общем до миллиарда рублей, должен был выдаваться донской казной по частям авансом; все решительно расходы; как-то: провоз, хранение, пошлины и т. п., ложились на казну. «Мопит» за услугу Донской армии брал себе в качестве «организационных расходов» и предпринимательской прибыли за покупку сырья 19 процентов и за операцию с мануфактурой 18 процентов. Весь договор был полон неясностей и недомолвок, позволявших при желании значительно расширять размеры прибыли. Но самое странное было то, что статьи договора ставили выполнение его в зависимость от доброй воли «Мопита», предоставляя ему возможность воспользоваться самому всеми выгодами реализации драгоценного и купленного сравнительно за бесценок донского сырья. Статья 9-я гласила:
«Если полученные товариществом авансы не будут по вывозе сырья за границу и его реализации покрыты поставками товаров или вырученной от продажи сырья валютой в обусловленный срок, то товарищество обязуется возвратить Войску полученные авансы, с начислением процентов со дня просрочки в размере взимаемых Государственным банком по учету векселей…»
И только.
С договором этим я ознакомился из газет. Я не имел права вмешиваться во внутренние дела суверенного Дона, но так как весь экспорт регулировался «Особым совещанием» и выполнение поставок на Донскую армию договором обеспечено не было, я приказал выдачу «Товариществу» разрешения на вывоз сырья и хлеба за границу прекратить. Особая комиссия рассмотрела затем договор, и после разъяснений его статей учредителями и видоизменения «Особое совещание» сочло возможным допустить деятельность «Мопита».
А. В. Кривошеин, объясняя свое участие в «Мопите», жаловался мне[67] на «газетные инсинуации» и утверждал, что учредители его преследовали цели исключительно государственные, а лично он «с содержанием злополучного договора познакомился впервые, когда начался уже газетный поход». «Учредители «Мопита», — писал он, — обширная группа издавна пользующихся уважением и всероссийской известностью москвичей, обратилась ко мне с предложением избрать меня председателем совета, придавая этому политическое значение, как лишней возможности объединить их на общей платформе сейчас и особенно в виду предстоящего прихода в Москву. Мысль — основать здесь крупное московское дело и таким образом теснее сплотить черноземный юг с промышленной Москвой — казалась правильной и своевременной…»
Но общество, взволнованное этим делом, видело в нем только коммерцию, а не политику. Часть прессы чрезвычайно резко ополчилась против «мопитян», которых вины наиболее умеренный в своих заключениях «Приазовский край»[68] определял такими словами: «…В договоре нет элементов заведомого обмана или заведомого введения в невыгодную сделку… Тяжелая сторона ее заключается в том, что и именитые москвичи также являются одними из многих, наживающихся на армии, на гражданской войне…» Как бы то ни было, и печать, и общество, и армия постепенно пришли к одинаковому заключению.
Нет больше Мининых! И армия дралась в условиях тяжелых и роптала только тогда, когда враг одолевал и приходилось отступать.
Казна наша пустовала по-прежнему, и содержание добровольцев поэтому было положительно нищенским. Установленное еще в феврале 1918 года, оно составляло в месяц для солдат (мобилизованных) 30 рублей, для офицеров от прапорщика до главнокомандующего в пределах от 270 до 1000 рублей[69]. Для того, чтобы представить себе реальную ценность этих цифр, нужно принять во внимание, что прожиточный минимум для рабочего в ноябре 1918 года был определен советом екатеринодарских профессиональных союзов в 660–780 рублей; Дважды потом, в конце 1918-го и в конце 1919 года, путем крайнего напряжения шкала основного офицерского содержания подымалась, соответственно на 450-3000 рублей и 700-5000 рублей, никогда не достигая соответствия с быстро растущей дороговизной жизни. Каждый раз, когда отдавался приказ об увеличении содержания[70], на другой же день рынок отвечал таким повышением цен, которое поглощало все прибавки. Одинокий офицер и солдат на фронте ели из общего котла и, хоть плохо, но были одеты. Все же офицерские семьи и большая нефронтовая часть офицерства штабов и учреждений бедствовали. Рядом приказов устраивались прибавки на семью и дороговизну, но все это были лишь паллиативы. Единственным радикальным средством помочь семьям и тем поднять моральное состояние их глав на фронте был бы переход на натуральное довольствие. Но то, что могла сделать Советская власть большевистскими приемами социализации, продразверстки и повальных реквизиций, было для нас невозможно, тем более, в областях автономных.
Только в мае 1919 года удалось провести пенсионное обеспечение чинов военного ведомства и семейств умерших и убитых офицеров и солдат. До этого выдавалось лишь ничтожное единовременное пособие в 1.5 тысячи рублей…
От союзников, вопреки установившемуся мнению, мы не получили ни копейки.
Богатая Кубань и владевший печатным станком Дон были в несколько лучших условиях.
«По политическим соображениям», без сношения с главным командованием они устанавливали содержание своих военнослужащих всегда по нормам выше наших, вызывая тем неудовольствие в добровольцах[71]. Тем более, что донцы и кубанцы были у себя дома, связанные с ним тысячью нитей — кровно, морально, материально, хозяйственно. Российские же добровольцы, покидая пределы советской досягаемости, в большинстве становились бездомными и нищими.
Глава XI. Моральный облик армии. «Черные страницы»
Ряды старых добровольцев редели от постоянных боев, от сыпного тифа, косившего нещадно. Каждый день росли новые могилы у безвестных станций и поселков Кавказа; каждый день под звуки похоронного марша на екатеринодарском кладбище опускали в могилу по нескольку гробов с телами павших воинов… Пал в бою командир 1-го артиллерийского дивизиона полковник Миончинский, известный всей армии своим искусством и доблестью… Умер от тифа начальник 1-й дивизии генерал Станкевич, выдержавший во главе сборного отряда всю тяжесть борьбы на степном Манычском фронте, и много, много других.
В начале января мы похоронили умершего от заражения крови вследствие раны, полученной под Ставрополем, генерала Дроздовского. Одного из основоположников армии, человека высокого патриотизма и твердого духом. Два месяца длилась борьба между жизнью и смертью. Навещая Дроздовского в лазарете, я видел, как томился он своим вынужденным покоем, как весь он уходил в интересы армии и своей дивизии и рвался к ней.
Судьба не сулила ему повести опять в бой свои полки.
Для увековечения памяти почившего его именем назван был созданный им 2-й Офицерский полк, впоследствии дивизия, развернутая из этого полка. Приказ, сообщавший армии о смерти генерала Дроздовского, заканчивался словами:
«…Высокое бескорыстие, преданность идее, полное презрение к опасности по отношению к себе соединились в нем с сердечной заботой о подчиненных, жизнь которых всегда он ставил выше своей.
Мир праху твоему, рыцарь без страха и упрека».
Состав добровольческих армий становился все более пестрым. Ряд эвакуаций, вызванных петлюровскими и советскими успехами (Украина), и занятие нами новых территорий (Крым, Одесса, Терек) дали приток офицерских пополнений. Многие шли по убеждению, но еще больше — по принуждению. Они вливались в коренные добровольческие части или шли на формирование новых дивизий. Коренные части[72] ревниво относились к своему первородству и несколько пренебрежительно к последующим формированиям. Это было нескромно, но имело основания: редко какие новые части могли соперничать в доблести с ними. Это обстоятельство побудило меня развернуть впоследствии, к лету 1919 года, четыре именных полка[73] в трехполковые дивизии.
Вливание в части младшего офицерства других армий и нового призыва и их ассимиляция происходили быстро и безболезненно. Но со старшими чинами было гораздо труднее. Предубеждение против Украинской, Южной армий, озлобление против начальников, в первый период революции проявивших чрезмерный оппортунизм и искательство или только обвиненных в этих грехах по недоразумению — все это заставляло меня осторожно относиться к назначениям, чтобы не вызвать крупных нарушений дисциплины. Трудно было винить офицерство, что оно не желало подчиниться храбрейшему генералу, который, командуя армией в 1917 году, бросил морально офицерство в тяжелые дни, ушел к буйной солдатчине и искал популярности демагогией… Или генералу, который некогда, не веря в белое движение, отдал приказ о роспуске добровольческого отряда, а впоследствии получил по недоразумению в командование тот же, выросший в крупную добровольческую часть, отряд. Или генералу, безобиднейшему человеку, который имел слабость и несчастье на украинской службе подписать приказ, задевавший достоинство русского офицера. И т. д., и т. д.
Для приема старших чинов на службу была учреждена особая комиссия под председательством генерала Дорошевского, позднее Болотова. Эта комиссия, прозванная в обществе «генеральской чрезвычайкой», выясняла curriculum vitae[74] пореволюционного периода старших чинов и определяла возможность или невозможность приема на службу данного лица или необходимость следствия над ним. Процедура эта была обидной для генералитета, бюрократическая волокита озлобляла его, создавая легкую фронду. Но я не мог поступить иначе: ввиду тогдашнего настроения фронтового офицерства эта очистительная жертва предохраняла от многих нравственных испытаний, некоторых — от более серьезных последствий… Вообще же, «старые» части весьма неохотно мирились с назначениями начальников со стороны, выдвигая своих молодых, всегда высокодоблестных командиров, но часто малоопытных в руководстве боем, и в хозяйстве, и плохих воспитателей части. Тем не менее жизнь понемногу стирала острые грани, и на всех ступенях служебной иерархии появились лица самого разнообразного служебного прошлого…
Труднее обстоял вопрос с военными, состоявшими ранее на советской службе.
К осени 1918 года жестокий период Гражданской войны «на истребление» был уже изжит. Самочинные расстрелы пленных красноармейцев были исключением и преследовались начальниками. Пленные многими тысячами поступали в ряды Добровольческой армии. Борьбу, и притом не всегда успешную, приходилось вести против варварского приема раздевания пленных. Наша пехота вскоре перестала грешить в этом отношении, заинтересованная постановкой пленных в строй. Казаки же долго не могли отрешиться от этого жестокого приема, отталкивавшего от нас многих, желавших перейти на нашу сторону. Помню, какое тяжелое впечатление произвело на меня поле под Армавиром в холодный октябрьский день после урупских боев, все усеянное белыми фигурами (раздели до белья) пленных, взятых 1-й конной и 1-й Кубанской дивизиями…
В ноябре я отдал приказ, обращенный к офицерству, оставшемуся на службе у большевиков, осуждая их непротивление и заканчивая угрозой: «…Всех, кто не оставит безотлагательно ряды Красной армии, ждет проклятие народное и полевой суд Русской армии — суровый и беспощадный». Приказ был широко распространен по Советской России нами, и еще шире — Советской властью, послужив темой для агитации против Добровольческой армии. Он произвел гнетущее впечатление на тех, кто, служа в рядах красных, был душою с нами. Отражая настроение добровольчества, приказ не считался с тем, что самопожертвование, героизм есть удел лишь отдельных личностей, а не массы. Что мы идем не мстителями, а освободителями… Приказ был только угрозой для понуждения офицеров оставить ряды Красной армии и не соответствовал фактическому положению вещей: той же болотовской комиссии было указано мною не вменять в вину службу в войсках Советской России, «если данное лицо не имело возможности вступить в противобольшевистские армии или если направляло свою деятельность во вред Советской власти»[75]. Такой же осторожности в обвинении, такой же гуманности и забвения требовали все приказы добровольческим войскам, распоряжения, беседы с ними.
В отношении генералов, дела которых доходили до главнокомандующего, цифровые данные дают следующую картину: за период с сентября 1918 года по март 20-го суду было предано около 25 лиц. Суд присудил одного к смертной казни, четырех к аресту на гауптвахте и 10 оправдал. О трех-четырех справки не имею. По моей конфирмации смертной казни, каторжным работам и арестантским отделениям не был подвергнут никто из них. Наказание заменялось арестом на гауптвахте и в важных случаях разжалованием в рядовые, причем к декабрю 1919 года все разжалованные были восстановлены в чинах.
Судьба младшего офицерства разрешалась в инстанциях низших; я приведу здесь результат маленькой анкеты, рисующей и психологию, и практику разрешения этого вопроса самими войсками.
«Не будучи долго поддержаны другими, первые добровольцы вместе с тяжкими испытаниями, выпавшими на их долю, впитывали в себя презрение и ненависть ко всем тем, кто не шел рука об руку с ними.
В Кубанских походах поэтому, как явление постоянное, имели место расстрелы офицеров, служивших ранее в Красной армии…
С развитием наступления к центру России изменились условия борьбы: обширность театра, рост наших сил, ослабление сопротивления противника, ослабление его жестокости в отношении добровольцев, необходимость пополнять редеющие офицерские ряды изменили и отношение — расстрелы становятся редкими и распространяются лишь на офицеров-коммунистов.
Поступление в полки офицеров, ранее служивших в Красной армии, никакими особенными формальностями не сопровождалось. Офицеры, переходившие фронт, большею частью отправлялись в высшие штабы для дачи показаний. Таких офицеров было не так много. Главное пополнение шло в больших городах. Часть офицеров являлась добровольно и сразу, а часть после объявленного призыва офицеров. Большинство и тех и других имели документы о том, что они в Красной армии не служили. Все они зачислялись в строй, преимущественно в офицерские роты, без всяких разбирательств, кроме тех редких случаев, когда о тех или иных поступали определенные сведения. Часть «запаздывающих» офицеров, главным образом высших чинов, проходили через особо учрежденные следственные комиссии (судные).
Отношение к офицерам, назначенным в офицерские роты, было довольно ровное. Многие из этих офицеров быстро выделялись из массы и назначались даже на командные должности, что в частях Дроздовской дивизии было явлением довольно частым. В Корниловской дивизии пленные направлялись в запасные батальоны, где офицеры отделялись от солдат. Пробыв там несколько месяцев, эти офицеры назначались в строй также в офицерские роты. Иногда ввиду больших потерь процент пленных в строю доходил до 60. Большая часть из них (до 70 процентов) сражались хорошо, 10 процентов пользовались первыми же боями, чтобы перейти к большевикам, и 20 процентов составляли элемент, под разными предлогами уклоняющийся от боев. При формировании 2-го и 3-го Корниловских полков состав их состоял, главным образом, из пленных. Во 2-м полку был офицерский батальон в 700 штыков, который по своей доблести выделялся в боях и всегда составлял последний резерв командира полка.
В частях Дроздовской дивизии пленные офицеры большею частью также миловались, частично подвергаясь худшей участи — расстрелу. Бывали случаи, что пленные офицеры перебегали обратно на сторону красных.
Что касается отношения к красному молодому офицерству, то есть к командирам из красных курсантов, то они знали, что ожидает их, и боялись попасться в плен, предпочитая ожесточенную борьбу до последнего патрона или самоубийство. Взятых в плен, нередко по просьбе самих же красноармейцев, расстреливали».
Этот больной вопрос возник и в Красной армии и был разрешен как раз в обратном направлении.
Для агитации среди белых Бронштейн составил лично и выпустил воззвание:
«…Милосердие по отношению к врагу, который повержен и просит пощады. Именем высшей военной власти в Советской республике заявляю: каждый офицер, который в одиночку или во главе своей части добровольно придет к нам, будет освобожден от наказания. Если он делом докажет, что готов честно служить народу на гражданском или военном поприще, он найдет место в наших рядах…»
Для Красной армии приказ Бронштейна звучал уже иначе:
«…Под страхом строжайшего наказания запрещаю расстрелы пленных рядовых казаков и неприятельских солдат. Близок час, когда трудовое казачество, расправившись со своими контрреволюционными офицерами, объединится под знаменем Советской власти…»[76]
Мы грозили, но были гуманнее. Они звали, но были жестоки.
Советская пропаганда имела успех не одинаковый: во время наших боевых удач — никакого; во время перелома боевого счастья ей поддавались казаки и добровольческие солдаты, но офицерская среда почти вся оставалась совершенно недоступной советскому влиянию.
Армии преодолевали невероятные препятствия, геройски сражались, безропотно несли тягчайшие потери и освобождали шаг за шагом от власти советов огромные территории. Это была лицевая сторона борьбы, ее героический эпос.
Армии понемногу погрязали в больших и малых грехах, набросивших густую тень на светлый лик освободительного движения. Это была оборотная сторона борьбы, ее трагедия. Некоторые явления разъедали душу армии и подтачивали ее мощь. На них я должен остановиться.
Войска были плохо обеспечены снабжением и деньгами. Отсюда — стихийное стремление к самоснабжению, к использованию военной добычи. Неприятельские склады, магазины, обозы, имущество красноармейцев разбирались беспорядочно, без системы. Армии скрывали запасы от центрального органа снабжений, корпуса — от армий, дивизии — от корпусов, полки — от дивизий… Тыл не мог подвезти фронту необходимого довольствия, и фронт должен был применять широко реквизиции в прифронтовой полосе — способ естественный и практикуемый всеми армиями всех времен, но требующий строжайшей регламентации и дисциплины.
Пределы удовлетворения жизненных потребностей армий, юридические нормы, определяющие понятие «военная добыча», законные приемы реквизиций — все это раздвигалось, получало скользкие очертания, преломлялось в сознании военной массы, тронутой общенародными недугами. Все это извращалось в горниле Гражданской войны, превосходящей во вражде и жестокости всякую войну международную.
Военная добыча стала для некоторых снизу одним из двигателей, для других сверху — одним из демагогических способов привести в движение иногда инертную, колеблющуюся массу.
О войсках, сформированных из горцев Кавказа, не хочется и говорить. Десятки лет культурной работы нужны еще для того, чтобы изменить их бытовые навыки… Если для регулярных частей погоня за добычей была явлением благоприобретенным, то для казачьих войск — исторической традицией, восходящей ко временам Дикого поля и Запорожья, прошедшей красной нитью через последующую историю войн и модернизованную временем в формах, но не в духе. Знаменательно, что в самом начале противобольшевистской борьбы представители «Юго-Восточного союза» казачьих войск в числе условий помощи, предложенной Временному правительству, включили и оставление за казаками всей «военной добычи» (!), которая будет взята в предстоящей междоусобной войне[77]…
Соблазну сыграть на этой струнке поддавались и люди, лично бескорыстные. Так, атаман Краснов в одном из своих воззваний-приказов, учитывая психологию войск, атаковавших Царицын, недвусмысленно говорил о богатой добыче, которая их ждет там… Его прием повторил впоследствии, в июне 1919 года, генерал Врангель.
При нашей встрече после взятия Царицына он предупредил мой вопрос по этому поводу:
— Надо было подбодрить кубанцев. Но я в последний момент принял надлежащие меры…
Победитель большевиков под Харьковом генерал Май-Маевский широким жестом «дарил» добровольческому полку, ворвавшемуся в город, поезд с каменным углем и оправдывался потом:
— Виноват! Но такое радостное настроение охватило тогда…
Можно было сказать a priori, что этот печальный ингредиент «обычного права» — военная добыча — неминуемо перейдет от коллективного начала к индивидуальному и не ограничится пределами жизненно необходимого.
После славных побед под Харьковом и Курском 1-го Добровольческого корпуса тылы его были забиты составами поездов, которые полки нагрузили всяким скарбом до предметов городского комфорта включительно…
Когда в феврале 1919 года кубанские эшелоны текли на помощь Дону, то задержка их обусловливалась не только расстройством транспорта и желанием ограничить борьбу в пределах «защиты родных хат…». На попутных станциях останавливались перегруженные эшелоны и занимались отправкой в свои станицы «заводных лошадок и всякого барахла…»
Я помню рассказ председателя Терского Круга Губарева, который в перерыве сессии ушел в полк рядовым казаком, чтобы ознакомиться с подлинной боевой жизнью Терской дивизии.
— Конечно, посылать обмундирование не стоит. Они десять раз уже переоделись. Возвращается казак с похода нагруженный так, что ни его, ни лошади не видать. А на другой день идет в поход опять в одной рваной черкеске…
И совсем уже похоронным звоном прозвучала вызвавшая на Дону ликование телеграмма генерала Мамонтова, возвратившегося из тамбовского рейда:
«Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки, донской казне 60 миллионов рублей, на украшение церквей — дорогие иконы и церковную утварь…»
За гранью, где кончается «военная добыча» и «реквизиция», открывается мрачная бездна морального падения: насилия и грабежа.
Они пронеслись по Северному Кавказу, по всему югу, по всему российскому театру Гражданской войны, творимые красными, белыми, зелеными, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий народа, путая в его сознании все «цвета» военно-политического спектра и не раз стирая черты, отделяющие образ спасителя от врага.
Много написано, еще больше напишут об этой язве, разъедавшей армии Гражданской войны всех противников на всех фронтах. Правды и лжи.
И жалки оправдания, что там, у красных, было несравненно хуже. Но ведь мы, белые, вступали на борьбу именно против насилия и насильников!.. Что многие тяжелые эксцессы являлись неизбежной реакцией на поругание страны и семьи, на растление души народа, на разорение имуществ, на кровь родных и близких — это неудивительно. Да, месть — чувство страшное, аморальное, но понятное, по крайней мере. Но была и корысть. Корысть же — только гнусность. Пусть правда вскрывает наши зловонные раны, не давая заснуть совести, и тем побудит нас к раскаянию, более глубокому, и к внутреннему перерождению, более полному и искреннему.
Боролись ли с недугом?
Мы писали суровые законы, в которых смертная казнь была обычным наказанием. Мы посылали вслед за армиями генералов, облеченных чрезвычайными полномочиями, с комиссиями для разбора на месте совершаемых войсками преступлений.
Мы — и я, и военачальники — отдавали приказы о борьбе с насилиями, грабежами, обиранием пленных и т. д. Но эти законы и приказы встречали иной раз упорное сопротивление среды, не воспринявшей их духа, их вопиющей необходимости. Надо было рубить с голов, а мы били по хвостам. А Рада, Круги, казначейство, общество, печать в то же время поднимали не раз на головокружительную высоту начальников храбрых и удачливых, но далеких от моральной чистоты риз, создавая им ореол и иммунитет народных героев.
За войсками следом шла контрразведка. Никогда еще этот институт не получал такого широкого применения, как в минувший период Гражданской войны. Его создавали у себя не только высшие штабы, военные губернаторы, почти каждая воинская часть, политические организации, донское, кубанское и терское правительства, наконец, даже… отдел пропаганды… Это было какое-то поветрие, болезненная мания, созданная разлитым по стране взаимным недоверием и подозрительностью.
Я не хотел бы обидеть многих праведников, изнывавших морально в тяжелой атмосфере контрразведывательных учреждений, но должен сказать, что эти органы, покрыв густою сетью территорию Юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. Особенно прославились в этом отношении контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ростова (донская). Борьба с ними шла одновременно по двум направлениям — против самозванных учреждений и против отдельных лиц. Последняя была малорезультатна, тем более, что они умели скрывать свои преступления и зачастую пользовались защитой своих, доверявших им начальников. Надо было или упразднить весь институт, оставив власть слепой и беззащитной в атмосфере, насыщенной шпионством, брожением, изменой, большевистской агитацией и организованной работой разложения, или же совершенно изменить бытовой материал, комплектовавший контрразведку. Генерал-квартирмейстер штаба, ведавший в порядке надзора контрразведывательными органами армий, настоятельно советовал привлечь на эту службу бывший жандармский корпус. Я на это не пошел и решил оздоровить больной институт, влив в него новую струю в лице чинов судебного ведомства. К сожалению, практически это можно было осуществить только тогда, когда отступление армий подняло волны бешенства и вызвало наплыв «безработных» юристов. Тогда, когда было уже поздно…
Наконец, огромные расстояния, на которых были разбросаны армии — от Орла до Владикавказа, от Царицына до Киева — и разобщенность театра войны в значительной мере ослабляли влияние центра на быт и всю службу войск.
Я прочел эти черные страницы летописи и чувствую, что общая картина не закончена, что она нуждается в некоторых существенных деталях. В разные периоды борьбы Вооруженных Сил Юга моральное состояние войск было различным. Различна была также степень греховности отдельных войсковых частей. Десятки тысяч офицеров и солдат — павших и уцелевших — сохраняли незапятнанную совесть. Многие тысячи даже и грешников, не будучи в состоянии устоять против искушения и соблазнов развратного времени, умели все же жертвовать другим — они отдавали свою жизнь. Боролись и умирали. Быть может, за это суд Божий и приговор истории будет менее суров:
— Виноваты, но заслуживают снисхождения!
Черные страницы Армии, как и светлые, принадлежат уже истории. История подведет итоги нашим деяниям. В своем обвинительном акте она исследует причины стихийные, вытекавшие из разорения, обнищания страны и общего упадка нравов, и укажет вины: правительства, не сумевшего обеспечить Армию; командования, не справившегося с иными начальниками; начальников, не смогших (одни) или не хотевших (другие) обуздать войска; войск, не устоявших против соблазна; общества, не хотевшего жертвовать своим трудом и достоянием; ханжей и лицемеров, цинично смаковавших остроумие армейской фразы «от благодарного населения» и потом забросавших Армию каменьями…
Поистине нужен был гром небесный, чтобы заставить всех оглянуться на себя и свои пути.
Примечания
1
Стенограмма заседания Круга 1 февраля 1919 года
(обратно)2
Краткое сообщение о заседании 1–8 февраля 19 года
(обратно)3
Отчет о вечернем закрытом заседании Круга 1 февраля
(обратно)4
Письмо к генералу Франше д'Эспере 6 ноября 1918 г.
(обратно)5
16 октября 18 г. № 200 и письмо от января 19 г.
(обратно)6
11 января 19 г. № 1328
(обратно)7
Симферополь, 30 ноября — 8 декабря 18 г. Резолюция
(обратно)8
«Меморандум» Дона, Кубани, Украины и Белоруссии, подписанный Черячукиным, Бычом, Марголиным, Галипом, Бохановичем 5 февраля 19 г. в Одессе
(обратно)9
Украина и политика Антанты.
(обратно)10
Учрежден 2 сентября 18 г. Объединение органов снабжения произошло значительно позже — декретом 9 июля 19 г.
(обратно)11
Из доклада 24 февраля 19 г.
(обратно)12
Выдержки из доклада генералу Богаевскому от 4 ноября 19 г.
(обратно)13
То есть генерал Богаевский
(обратно)14
Доклад К. Карасева от 16 августа 19 г.
(обратно)15
Из речи капитана Кошена 25 ноября
(обратно)16
Любопытно, что 18 декабря генерал Краснов по аналогичному поводу писал кубанскому депутату Макаренко: «Будущая Россия — федеративное или унитарное государство — праздный вопрос… Гадание о будущем явится лишь пустыми разговорами, для чего у меня нет ни свободных людей, ни времени»
(обратно)17
13 октября. № 149
(обратно)18
Письмо 12 октября 18 г. № 1145
(обратно)19
Письмо генералу Богаевскому 25 октября 18 г. № 318
(обратно)20
Письмо генералу Алексееву
(обратно)21
Телеграмма № 517
(обратно)22
Участники со стороны Добровольческой армии: генералы Драгомиров, Лукомский, Санников, Романовский, Тихменев, Сазонов и Нератов. Со стороны Дона: генералы Поляков, Греков и Свечин
(обратно)23
Разлагающаяся организация
(обратно)24
Из протокола заседания
(обратно)25
Копия ленты разговора Смагина и Полякова
(обратно)26
21 октября атаман Краснов писал генералу Лукомскому: «У меня (в армии) две трети не имеют сносных сапог, одна треть совсем не имеет сапог, обута в лапти, даже офицеры. Не только полушубков, не только телогреек, но даже шинелей далеко не хватает. Патронов осталось только 13 миллионов. А война идет страшно жестокая».
(обратно)27
Со слов генерала Краснова. — Всевеликое войско Донское // Архив русской революции. Т. 5
(обратно)28
Я должен заметить, что эти мысли не прививались донскому офицерству, и отношение его к Добровольческой армии и ко мне оставалось доброжелательным.
(обратно)29
Циркуляр 14 декабря 18 г. № 1161
(обратно)30
Из стенограммы заседания Круга 4 февраля
(обратно)31
Оставляю без изменения русский перевод письма, полученный из английской миссии
(обратно)32
Участники: 1) со стороны Добровольческой армии — я, генералы Драгомиров, Щербачев (приехал из Румынии), Романовский и другие; 2) со стороны Дона — атаман Краснов, генералы Денисов, Поляков и другие
(обратно)33
Всевеликое войско Донское // Архив русской революции. Т. 5
(обратно)34
Стратегическая задача — «обеспечение линии Юзовка — Мариуполь, а затем… распространение на Бердянск — Синельниково — Нырков с прочным закреплением занятого района»
(обратно)35
Из телеграммы моей генералу Франше д'Эспере.
(обратно)36
Телеграмма 13 января 19 г. № 0735
(обратно)37
Телеграмма от 24 января 19 г
(обратно)38
От 29 января. № 0109
(обратно)39
30 января. № 157 телеграмма 3 февраля. № 188
(обратно)40
28 января
(обратно)41
Всевеликое войско Донское // Архив русской революции. Т. 5
(обратно)42
От 26 января 1919 г.
(обратно)43
От 26 января 1919 г.
(обратно)44
Черкасский, Таганрогский и Ростовский
(обратно)45
Из отчета о заседании
(обратно)46
Генерал Денисов. Записки.
(обратно)47
Краткое сообщение о заседаниях 1–8 февраля 1919 г.
(обратно)48
Видный член оппозиции
(обратно)49
Из них две в период формирования
(обратно)50
В феврале переименован в 1-й Кубанский
(обратно)51
Кроме гарнизонов городов, запасных, учебных и формирующихся частей, составлявших в общем еще 13–14 тысяч
(обратно)52
На его место командиром 1-го конного корпуса был назначен генерал Покровский
(обратно)53
Заменен черноморским военным губернатором генералом Кутеповым
(обратно)54
№ 7
(обратно)55
№ 64
(обратно)56
7 декабря. № 246е
(обратно)57
Потопление половины флота весною 1918 г.
(обратно)58
Бывший «Император Александр III»
(обратно)59
Переименован в «Генерал Корнилов»
(обратно)60
Генерал Санников; с января 1919 г. генерал Картаци
(обратно)61
Генерал Лукомский
(обратно)62
С марта по сентябрь 1919 г. мы получили от англичан 558 орудий, 12 танков, 1685522 снаряда и 160 миллионов ружейных патронов
(обратно)63
В тот же период мы получили 250 тысяч комплектов
(обратно)64
Октябрь 1918 г.
(обратно)65
«Товарищество московской объединенной промышленности и торговли». Во главе стояли братья Рябушинские. Председатель совета — А. В. Кривошеин
(обратно)66
В том числе причисление предприятия к работающим на оборону (#10)
(обратно)67
Письмо от 4 декабря 1919 г.
(обратно)68
от 24 ноября 1919 г.
(обратно)69
Кроме пайка, общего для всех рангов
(обратно)70
Шкала основного содержания была одинакова в военном ведомстве и во всех правительственных учреждениях
(обратно)71
К декабрю 1918 г. высшие чины получали содержание в месяц: главнокомандующий — 1000 рублей, кубанский атаман — 4000, члены «Особого совещания» — 800 рублей, члены кубанского правительства — 2000. Донцы получали больше кубанцев
(обратно)72
«Цветные войска», как их называли острословы по пестроте красок форменных отличий
(обратно)73
Корниловский, Марковский, Дроздовский, Алексеевский с соответствующими артиллерийскими дивизионами
(обратно)74
Жизненный путь (лат.)
(обратно)75
Приказ 16 апреля 1919 г. № 693
(обратно)76
24 ноября 1918 г. № 64
(обратно)77
Осенью 1917 года миссия Молдавского и подполковника Грузинова
(обратно)

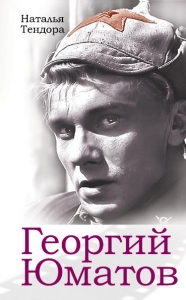

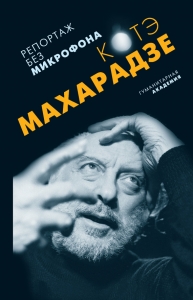
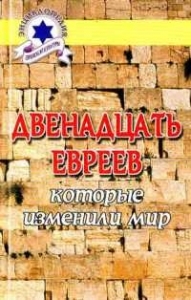


Комментарии к книге «Вооруженные силы Юга России. Октябрь 1918 г. – Январь 1919 г.», Антон Иванович Деникин
Всего 0 комментариев