Профессор А. С. Трачевский Наполеон I Его жизнь и государственная деятельность Биографический очерк С портретом Наполеона, гравированным в Лейпциге Геданом
Литература по эпохе Наполеона I поистине необозрима. Представляет колоссальное предприятие уже один ее критический указатель, предпринятый с 1894 года итальянцем Lumbroso: Saggio di una bibliografia raggionata dell'epoca Napoleonica. И эта литература растет с каждым днем, особенно в последнее время. Тут рвение поддерживается борьбой еще не утихших партий и противоположных взглядов. Отсюда масса мемуаров, какою не щеголяла ни одна эпоха в истории до такой степени: среди них видим такие крупные произведения, как записки Меттерниха (1880 – 1884), Талейрана (1890 – 1892), Марбо (1891), г-жи Ремюза. Не говорим уже о целой библиотеке военных мемуаров с заметками самого Наполеона во главе (Memoires pour servir a l'histoire de France sous Napoleon, ecrits a S-te Helene par les generaux qui ont partage sa captivite 1823 – 1825. 8 т.), поясняемыми биографией знаменитого военного теоретика Jomini (Vie politique et militaire de N. 1827. 4 т.) и исследованиями немецкого военного писателя Bleibtreu: Die napoleonischen Kriege. – Der Imperator и др. (1870 – 1893).
По изобилию, а особенно по значению, с мемуарами поспорят документы или подлинные акты как военного, так и гражданского свойства. Их особенно много появилось в последнее время благодаря открытию государственных архивов для ученых. Нам лично посчастливилось исследовать архивы министерств иностранных дел в Петербурге и Париже. Найденные нами бумаги напечатаны в четырех томах в “Сборнике Императорского русского исторического общества” за 1890 – 1893 годы. Они охватывают период 1800 – 1808 годов; остальное сдано в упомянутое общество семь лет тому назад для дальнейшего издания. Важное значение имеет и 32-томная переписка самого Наполеона I (Correspondance de N. I. 1858 – 1870), хотя по ней прошлась рука издателя-племянника не к выгоде истины.
Нечего и говорить о множестве монографий на всех языках, посвященных различным вопросам или эпохам, годам в жизни Наполеона. Укажем только на более любопытные и новейшие из них. Для характеристики личности Наполеона важны труды Masson'a: N. et les femmes, 1893; N. chez lui, 1894; N. inconnu, 1895; Les cavaliers de N., 1897. Для анализа дипломатии – Houssaye: 1814 (1889); 1815 (1894). Vandal: N. et Alexandre I, 1891 – 1896, 3 т. Tatistcheff: Alexandre I et N., 1891. Для оценки внутренней деятельности Наполеона – Blanc: N. I, ses institutions civiles et administratives, 1880. Welschinger: La censure sous le premier empire, 1882. Для характеристики его преемников – Kleinschmidt: Die Eltern und Geschwister Napoleons l, 1878.
Но было немало и попыток дать даже биографию Наполеона, впрочем, по большей части неполных и вообще односторонних. По изобилию фактических данных до сих пор не утратили своих достоинств старейшие сочинения дипломата времен императора Bignon'a (Histoire de France sous Napoleon. 1838 – 1850. 14 т.) и Thiers'a (Histoire du Consulat et de l'Empire. 1845 – 1862. 20 т.). Это – главные из почитателей Наполеона. Выступившие против них “хулители” (Prince Napoleon: N. et ses detracteurs. 1887) отнюдь не исчерпали темы: таковы Lanfrey (Histoire de Napoleon. 1867 – 1875. 5 т.) и Taine (Le regime moderne. 1891 – 1894. 2 т.). Любопытно, что встречается мало общедоступных жизнеописаний Наполеона, вероятно, вследствие большой трудности предмета. Притом они относятся уже к нашему времени, если не считать таких слабых попыток, как биографии Вальтера Скотта (1827. 9 т.) и Шлоссера (1832 – 1835. 3 т.). Среди последних можно отметить работы австрийца Fournier (N. I. 1886 – 1889. 3 т., с обширной библиографией), англичан Seely (A short history of N. 1886) и Wolseley (Decline and fall of N. 1894. 3 т.), наконец, американца Слоона (Новое жизнеописание Н. 1896).
Неисчислима и иконография Наполеона I. Есть множество его портретов. Наш – один из лучших: он принадлежит кисти Поля Делароша. Запас рисунков, характеризующих Наполеона и его время, можно видеть у Laurent (1826), Norvins (1827. 4 т.), Реуrе (1888), Dayot (N. peint par l'image. 1893) и Crand-Carteret (N. en image; estampes anglaises. 1895).
Глава I. Треволнения юности. 1769 – 1796
Наполеон Бонапарт родился на острове Корсика, в городке Аяччио, 15 августа 1769 года. В то время там славился на весь мир молодой диктатор Паоли – благородный патриот, философ, законодатель, мечтавший сделать из Корсики образец прогресса и демократии согласно с идеями нового Просвещения. Для этого он освободил свою родину от господства генуэзцев. Но “старый порядок” отомстил смелому преобразователю в лице Людовика XV: именно в 1769 году французы захватили остров. Паоли бежал в Англию.
Лет двадцать спустя великий старец Корсики был утешен на чужбине звуками родной вендетты (мщения). Один юный земляк писал ему: “Я родился, когда 30 тысяч французов, изрыгнутых морем на берега моей родины, запятнали престол свободы потоками крови. Вот гнусное зрелище, представшее моим первым взорам! Крики умирающих, стоны и жалобы обиженных, слезы отчаяния окружали мою колыбель... Я родился, когда умерло мое отечество”.
Этот неукротимый корсиканец, который лет пятнадцать спустя захватил престол поработителей своего отечества, был наш герой.
Бонапарты были тосканские патриции, издавна переселившиеся на Корсику. Отец Наполеона, Карло, мелкий юрист в Аяччио, служил сначала у Паоли, потом перешел к французам. Самодур и кутила, он рано умер, не оставив своему второму сыну ничего, кроме долгов, рака желудка и каменной болезни. Жена Карло, строгая красавица Летиция, была “мужская голова на женском туловище”, как говорил Наполеон. Крепкая телом и душой крестьянка, она передала ему черты своего лица, свою выносливость, точный ум и неразборчивость в средствах. Эта величавая Сударыня-Мать (Madame-Mere) империи навсегда сохранила мужицкую скаредность и корсиканскую грубость.
Из множества детей Летиции выжили, кроме нашего героя, семеро: Жозеф, Люсьен, Люи и Жером, Элиза, Полина и Каролина; кроме последней, все они пережили Наполеона. Ее любимчик, второй сын, был забияка. Наполеон сам говорил про себя: “Я не отступал ни перед чем, ничего не боялся, наводил страх на всех моих сверстников”. Он дрался, царапался, кусался, а виноваты всегда оказывались другие. Обучение его было “самое жалкое”. Одиннадцатилетний “дядюшка” (по матери) Феш выучил его грамоте, а один церковник – катехизису.
В 1779 году Карло поместил мальчика в военное училище в Бриенн на казенный счет. Перед тем его подучили по-французски, но плохо: Наполеон на всех языках говорил грубовато и писал с ошибками. Воспитателями в Бриенне были невежи-монахи, а учениками – “кадеты-жантильомы”, французские дворянчики. Товарищи насмехались над неуклюжим, нервным “гладковолосым корсиканцем”, который дичился их как бедняк и уединялся со своим Цезарем или Плутархом в садик. Под конец корсиканец предавался порывам ярости. “Наделаю французам столько зла, сколько могу!” – шипел он и мечтал “сравняться с Паоли”. И кадет-демократ торжествовал, выдумав игру в крепости из снега: при атаке на них жантильомы избирали его своим командиром. “Я уже чуял инстинктом, что моя воля должна подчинить себе чужую волю”, – говорил он впоследствии. В письмах домой, сухих, повелительных, отрок заботился о родных как отец. Наставники хвалили его успехи по истории и географии, а еще больше по математике, но прибавляли: “Нрав властолюбивый, требовательный, упрямый”.
За успехи Бонапарт был переведен в 1784 году в военную академию в Париж. Здесь он пробыл с год и слушал знаменитого математика Монжа. Он увлекался только фактами да прикладной стороной науки: немецкий учитель-философ назвал его “скотиной”. Бонапарта выпустили по ускоренному экзамену: кажется, от него хотели избавиться. Начальство признавало за ним способности и прилежание, но аттестовало его так: “Крайне самолюбив, безгранично честолюбив, резок, энергичен, капризен, готов на все: пойдет далеко, если обстоятельства поблагоприятствуют”. В академии волчонок стал спартанцем: умер отец, а помогавший ему друг дома прекратил пособие. И все-таки Наполеон считал обе школы своим “счастливым временем”.
Наш поручик артиллерии застрял на четыре года в провинциальных гарнизонах: в Валансе (Дофинэ), Дуэ (на границе Фландрии) и в Оксонне (на Луаре). Он испытывал и нищету, и муки честолюбия.
Тогда-то слагался этот гений переходной эпохи, и на его примере лучше всего видно, как “великие люди” совершенно естественно, буднично зреют плодами своего времени, его послушными орудиями.
Как раз в середине гарнизонного прозябания Бонапарта вспыхнула Великая французская революция. Сметливый поручик Бурбонской монархии, задававшей тон всему материку, видел, как разваливался сам собой пресловутый старый строй (ancien regime), основанный на подгнивших пережитках средневековья. Заскорузлый в предрассудках властолюбия абсолютизм, невежественное и нетерпимое духовенство, спесивое, праздное и бездарное дворянство, – словом, привилегированные части отмирающего феодализма, поглотив собственное будущее, тревожно доживали свои последние дни. У них уже не было ни крепкой власти, ни денег, ни нравственного обаяния; там и сям слышался подспудный ропот народа, вспыхивали бунты среди голодных, изверившихся масс и даже в рядах развращенных армий.
Пример казармы и лагеря, бывших рассадниками всяких пороков, был особенно понятен нашему поручику. Войско состояло тогда по преимуществу из добровольцев, то есть из подонков общества, которых так зазывали вербовщики: “У нас три раза в неделю танцы, два раза игры на вольном воздухе; остальное время солдаты играют в кегли, в чехарду, ходят в караул и на ученье. Почти все время посвящается удовольствиям, – и жалованье большое”. Офицерами были только “жантильомы” – испорченные до мозга костей дворянчики, кутилы и фанфароны. Да и те, если не было особой протекции, служили поручиками пятнадцать лет, чтобы еще через пятнадцать лет выйти в отставку с орденом, на скудную пенсию.
Если Франции, а с ней и всему цивилизованному человечеству, суждено было жить, старый строй должен был уступить место новому, основанному на противоположных началах. И уже давно, с гибельного конца короля-солнца, Людовика XIV, началась критика существующего порядка, которая с каждым днем становилась все более беспощадною и всестороннею. А рядом слагалось новое мировоззрение, которое было таким шагом вперед из прежнего мрака, что его назвали Просвещением. Во второй половине XVIII века, особенно при Людовике XVI, лучшие люди, светлейшие умы с Монтескье, Вольтером, Дидро и другими во главе составили неодолимую армию “философов”, или “энциклопедистов”. Их главный труд – знаменитая “Энциклопедия” (1751 – 1780) – представлял арсенал нового мировоззрения по всем вопросам жизни и теории. При всем разнообразии оттенков в мыслях эта армия шла под одним знаменем: ведь не могло быть спора о том, что именно следовало противопоставить слишком известным порокам старого строя. Бесконтрольный деспотизм монарха, разбойничий эгоизм “привилегированных” (privilegies), фанатизм клерикалов должно было заменить самодержавием народа, или демократизмом, всеобщим равноправием и человеколюбием. Отсюда священная формула – свобода, равенство и братство (liberte, egalite, fraternite), которую мы читаем на всех знаменах и гербовых бумагах времен революции.
Эта упрощенная формула всего человеческого бытия быстро проникала всюду: ее понимали сердцем в крестьянских хижинах, выносивших на себе главное бремя старого строя; она раздавалась в чертогах знати и у подножия престола благодаря талантливым, остроумным книжкам и сценическим представлениям. Но больше всего она проникала всюду через вещие слова нового пророка – “гениального чудака” Жан-Жака Руссо, который умер, когда Наполеону было девять лет. Руссо расширил содержание жизни, дополнив “разум” энциклопедистов чувством и фантазией, этими основами грядущего романтизма. Они привели его к “жизни за правду”, к “сладострастью грез” о лучшем будущем: оттого он так неотразимо действовал на молодежь. Этот деревенский “медведь” с адской ненавистью отнесся к лживому “свету”, к исковерканному обществу привилегированных: вместе с ним он проклял и всю цивилизацию за ее пороки; его догматами стали немая природа и созданный его устами идиллический “дикарь”. “Новый Диоген” воспитал в себе, в пустынности своего бытия, пламенную любовь ко всем обделенным и слабым и “неугасимую ненависть к притеснителям бедных людей”. Этих-то нищих духом он сделал венцом творения: “самодержавие народа”, дающего власть правителям по “договору”, полное равенство, терпимость к ближнему – вот что хотел поставить пророк на развалинах прогнившего старого строя. Сын нищего, мученик отчаяния, Руссо глубже всех понимал болезнь века, смелее всех выступал с коренным лечением и жег сердца пламенной речью трибуна, писал слезами и кровью. Оттого-то к его нередко фантастическому голосу прислушивались и львицы “света”, и труженицы изб. И в течение всей эпохи, да долгое время и после, мы встречаемся на каждом шагу с “руссоизмом”, притом не только в политике, но также в литературе, искусстве, в нравах всего мира.
Если энциклопедисты с их “вольтерьянством” надеялись подправить существующий строй с помощью свободы и положили начало революции лишь по необходимости, то дух Руссо отразился в ее разгаре, в полноте ее сил. Переворот был неизбежен: старый строй допускал “философию” лишь как обязательную и красивую моду, как литературное явление; он был не способен преобразиться, дать простор новорожденным силам истории. Это стало очевидным уже в 1781 году, когда либеральный министр финансов, Неккер, был вторично уволен за то, что этот “протестантишка” немного сократил расходы двора и советовал королю дать “народу маленькое участие в управлении”. Вскоре старый строй понял необходимость уступить противному ему “духу нововведений”; но он все опаздывал, надеясь обмануть проснувшийся народ обещаниями. И кончилось созывом “Генеральных штатов”, или государственных чинов – этого старого земского собора, который назвался небывалым именем конститюанта, или национальное собрание для начертания конституции, то есть нового государственного уложения. День открытия нового учреждения – 5 мая 1789 года – принято считать началом эры Великой французской революции.
В тот день Бонапарт, будучи поручиком захолустного гарнизона, томился в Оксонне, в самых тяжелых условиях. В Валансе было еще сносно. Там наш офицер сначала даже отдавал дань юности. Он посещал местную аристократию, взял несколько уроков танцев, наконец, влюбился было в одну дебелую девицу с задорным личиком. “Я тоже когда-то любил!” – говорил он потом с удивлением. Поручик почитывал романы и немного сентиментальничал: “Вертера” Гете он проглотил пять раз подряд. Но не прошло и полугода, как неугомонный юноша опять погрузился в работу и затосковал. Рукой покаянника написал он тогда: “Любовь – бред, болезнь: я даже считаю ее вредной для всего человечества вообще и для каждого человека в отдельности... Царю мира, мужчине, недостойно томиться в цепях существа слабейшего и разумом, и телом. Разве доверят защиту осажденного отечества или государственную тайну безвольному ребенку, который волнуется от одного движения другого лица?..”
Бонапарт работал усердно, но не в ожидаемом нами направлении. Военная служба вообще не нравилась ему за свою рутину и мелочность: раз он попал под арест за нерадение. Поручик старался запастись только практическими сведениями, особенно по артиллерии, как орудиями карьеры, ремесла. Его занимали больше история да география, а главное – литература. Он поглощал массу книг, черкал их на полях, делал выписки, вдумывался. Тут были древние и французские классики, в особенности же энциклопедисты, экономисты, итальянские филантропы. Но больше всего отдавалась дань тогдашнему властителю дум: дамы даже сравнивали задумчивый взгляд красивого поручика со взорами пророка просвещения. Загнанному бедняку нравилось и уничтожение “привилегированных”, и самодержавие народа с его свободным договором. Он начал было писать жестокое рассуждение против абсолютизма.
Но и чтение запоем не могло унять муки его честолюбия. Угрюмый поручик чуждался даже товарищей. В его дневнике прорывались такие фразы: “Вечно одинокий среди людей, возвращаюсь я домой мечтать с самим собой, отдаваться всей силе моей тоски... Жизнь в тягость мне; радости бегут от меня; все для меня – мучение. Люди, с которыми я живу, далеки от меня нравом, как блеск луны от света солнца. Если бы поперек моей дороги стояла одна только чья-либо жизнь, я не задумался бы вонзить клинок в грудь тирана и тем отомстить за мою отчизну и за попранные законы”.
И немудрено было тосковать. Наш поручик прибыл в Валанс наполовину пешком, вместе со своим любимцем, братом Люи; и оба должны были жить на три франка в день. В Дуэ он схватил болотную лихорадку, которая мучила его семь лет и раз чуть не уложила в могилу. В Оксонне он стал аскетом от безденежья, ел раз в день, спал по шесть часов. А тут худые вести с Корсики: мать чуть не голодала с кучей непристроенных детей.
Бонапарт метался, как лев в клетке. Не забудем, что он причислял себя к “философам”; а их аксиомой было всемогущество разума в смысле личности, которая будто бы может сразу переделывать учреждения и нравы. К тому же наш поручик раздражал себя чтением о великих полководцах и правителях, да о таинственном Востоке, который ждет нового Александра, а покуда обогащает ненавистную Англию. Бонапарт закидывал начальство назойливыми просьбами в пользу семьи, причем лукавил и привирал; но ему даже не отвечали. Бедняга хватался за литературные труды; но он не умел писать и не находил издателей. Впоследствии он тщательно истреблял это бумагомаранье, пропитанное пылким революционным духом. Наконец Бонапарт самолично являлся внезапно то в Париже, то на Корсике, пользуясь отпусками, непостижимыми даже при тогдашней анархии в войсках. Но всюду неудачи: и честолюбец готов был драться с турками на русской службе. Екатерина II не обратила внимания на его предложение. Однако Бонапарт не отчаивался. Когда Летиция плакалась на бедность, он утешал ее так: “Отправлюсь в Индию – и через несколько лет возвращусь набобом, привезу хорошее приданое всем трем сестрам”.
А волны революции уже подымались всюду. По провинциям вспыхивали бунты; брожение овладевало даже четвертым полком в Оксонне. Была уже в огне и Корсика. Наш поручик бросился туда.
Летиция не узнала своего любимца. Прежде она с трудом переносила его туманные фантазии и чванство новою философией; теперь же она увидела перед собой осторожного практика, который смело и ловко брался за жизненные опыты. То была прелюбопытная пора в жизни Бонапарта, но неясная: потом он сам всячески заметал ее следы. В эти-то шесть лет (1789 – 1795 годы) обнаружились в нем редкая самоуверенность и отвага, лукавство и честолюбие. Он говорил тогда в своей семье: “Кто не согласился бы с радостью умереть под ударами кинжалов, лишь бы сыграть роль Цезаря? Один луч славы, выпавший на долю великого человека, был бы достаточным вознаграждением за насильственную смерть”. А своим политическим товарищам он проповедовал: “Закон подобен статуям богов, которые иногда приходится окутывать завесой”. Наш поручик задумал овладеть Корсикой, но в то же время не разрывать с ее поработительницей. “Стану я, – думал честолюбец, – главарем якобинства, и революция наградит меня во Франции. Освободится Корсика – и я перейму роль Паоли”. Отсюда – замечательная двойная игра. Благодаря ловким прошениям Бонапарт большую часть времени провел в отлучках, и отчасти без разрешения начальства. А сам все воевал с Францией. Он превратил клуб “патриотов” в очаг якобинства и независимости острова. Но сначала дело дальше не пошло: ревизор Учредительного собрания назвал этих патриотов “самыми презренными людьми”. Бонапарт возвратился в Оксонн: и ему не только простили все, но и сделали штабс-капитаном, с 1300 франками жалованья.
Настала прежняя нищета, опять с Люи, да муки честолюбия и горевание о голодающей семье. Смутьян развлекался только посещением местных якобинцев да болтовней с крестьянами; в то же время он дружил с сельскими батюшками и ходил к ним на исповедь. Вскоре Бонапарт был переведен в знакомый Валанс, где стало еще хуже: даже жалованье стали платить неаккуратно. А долина Роны становилась очагом радикализма. “Южная кровь струится в моих жилах столь же быстро, как вода в Роне!” – воскликнул штабс-капитан. Он стал председателем местного якобинского клуба. Затем вдруг забрал жалованье вперед, выхлопотал отпуск и снова очутился в Аяччио. Здесь возобновились интриги и волнения пуще прежнего. После подкупов, обольстительных слов, даже драк (причем был побит его же друг, Поццо ди Борго) Бонапарт был выбран в начальники национальной гвардии. И от него житья не стало: он бил ультрамонтанов, захватил их монастырь, чуть не овладел цитаделью Аяччио. Наконец и корсиканцы, и парижские комиссары спровадили буяна с острова, снабдив его деньгами и отличными аттестациями.
В мае 1792 года явился в Париж французский штабс-капитан и корсиканский подполковник. Но тщетно просил он местечка: сам военный министр признал его поведение “крайне предосудительным”. Бонапарт закладывал свои пожитки, собирался снимать квартиры. Его спасла опять революция. Она объявила войну Австрии, а эмиграция так ополовинила офицерство, что пришлось все простить дезертиру. Бонапарт был произведен в капитаны четвертого полка. Но он не спешил к полку, который был уже в огне: он опять получил отпуск и в четвертый раз появился на Корсике. Тогда якобинцы уже овладели Францией под видом Конвента. Бонапарт стал вести себя на родине как их посланец – горделиво и повелительно. Но – еще неудача! Вся Корсика вознегодовала на изменника. Разъяренная чернь бросилась на имения Бонапартов.
В июне 1793 года семья Бонапартов бежала в Тулон. Здесь якобинцы пристроили Жозефа в армию, “Робеспьерика”-Люсьена и Феша – в комиссариат; Люи попал в военную школу. Сам Наполеон поспешил в Ниццу к Брюну, начальнику “итальянской” армии, выставленной против сардинцев: его назначили капитаном на береговую батарею. Положение французских войск было тяжелым ввиду борьбы Конвента со всею монархическою Европой. Их “четырнадцать армий” были плохо снаряжены. Не хватало даже вооружения: Брюн послал Бонапарта в Авиньон за пушками. А внутри страны подымались враги якобинства – роялисты на севере, умеренные республиканцы на юге. Против последних Конвент выслал новую армию с генералом Карто. Сюда-то прибыл Наполеон. У Карто было так мало офицеров, что он оставил его у себя, дав ему батарею. Двинувшись сам к Марселю, он оставил капитана в Авиньоне для устройства артиллерийского парка.
Среди бесшумной работы в средневековом городке Бонапарт вдумался в события. Корсика исчезала с его горизонта; в Европе кипела борьба, озарявшая славой какого-нибудь Пишегрю – презренного товарища по Бриенну. А он не мог даже прокормить свою семью: умеренные республиканцы успели овладеть Тулоном, и Летиция бежала в Марсель, питаясь чуть не подаянием. Корсиканец стал французским искателем приключений: он попросился в рейнскую армию. Но Конвент занят был тогда падением Тулона, который попал в руки англичан с помощью умеренных республиканцев. Карто двинулся на выручку города. К нему напросился наш капитан в ожидании перевода на Рейн. Он вселил необычайное рвение в дремавшую осадную артиллерию, и осаждавшие решились перейти в наступление. Накануне, на военном совете, завязались горячие споры. И юный капитан увидел “всю нашу глупость, все невежество, все страстишки и предрассудки штабных”, как доносил он Конвенту. Наконец был принят его план – и “Малый Гибралтар” был живо разнесен. Сам капитан выказал отчаянную храбрость: под ним пало три коня. “Меня считали неуязвимым; и я поддерживал это мнение, скрывая легкие раны”, – говорил он потом. Начальство восхваляло перед Конвентом “замечательные” достоинства “этого редкостного офицера”.
Бонапарт начал проявлять и другие качества. Господство якобинцев обернулось тогда террором, ужасом. Люди теряли голову, ударяясь в крайности. А юный капитан стал сдержан, осторожен. Он устранился от политики и зарылся в свое дело, изучая берега от Тулона до Ниццы. Он начал также очаровывать людей: в него уже верил не один Робеспьер-младший, но и Баррас, Мармон, Жюно. “Повысьте его, не то он сам возвысится”, – писал Баррас Конвенту. В начале 1794 года “гражданин” Бонапарт был произведен в бригадные генералы с назначением начальником артиллерии итальянской армии.
В этой армии (67 тысяч человек) дивизионным генералом был Массена, едва ли не лучший полководец эпохи. Он вытеснил австрийцев и сардинцев из приморских Альп и уже захватил перевал Тенду. Тут его остановил “представитель народа”, Робеспьер-младший. Его приятель Бонапарт начал распоряжаться армией. Он пустил Массена в огонь, а сам недурно проживал в Ницце со своей семьей. Наконец-то карьера обеспечивалась; но вдруг случился самый страшный удар: 9 термидора (июля) скатились головы обоих Робеспьеров; “термидорианцы” сразу покончили с террором. Бонапарт поспешил заявить, что если б он знал о замыслах Робеспьера, он “не задумался бы вонзить ему кинжал в сердце, хотя бы то был его родной отец”. Но его заточили в форт на юге. Он отправил оттуда трогательное послание в Конвент, где говорил, что только мысль об отечестве заставляет его выносить “столь тяжкое бремя”, как его жизнь. Между термидорианцами оказались такие его приятели, как Баррас. Через две недели генерал был выпущен из форта, но отправлен в Ниццу как опальный. Когда он опять завел там корсиканские интриги, его опозорили назначением в пехоту, да еще в Вандею, для бесславных схваток с мятежниками, шуанами, восставшими за короля.
Седьмой раз судьба наносила, по-видимому, смертельный удар. Но она не могла сломить человека, про которого приятели уже говорили, что он кончит или троном, или эшафотом. Он сам рисовал себя тогда так: “Я теперь словно накануне сражения. Твердая уверенность, что двум смертям не бывать, одной не миновать, убеждает в безрассудстве задумываться о будущем. Все складывается так, что я должен пренебрегать и своей судьбой, и смертью”. Бонапарт отказался от Вандеи и был уволен. 2 мая 1795 года наш юный генерал прибыл в Париж, опять со своим Люи, но кроме того, еще с преданными Жюно и Мармоном.
Бонапарт был поражен радостным настроением столицы, которая “помнила о терроре не больше, как о сновидении”. Все ликовало, веселилось, наслаждалось, как при беспечном старом порядке. Воскресли и салоны прелестниц. Один из них держала вдова гильотинированного Конвентом генерала Богарнэ, креолка Жозефина: он служил центром зарождавшейся военной знати с ее игрой в высшую политику. То пировала новая буржуазия, цвет которой назывался “золотой молодежью”. Она примыкала к термидорианцам и к эмигрантам, которые возвращались толпами и уже имели своего полководца в лице роялиста Пишегрю. Начиналась контрреволюция. Она отражалась уже и в военных делах. Перед тем революция совершила чудеса доблести и принудила Пруссию к Базельскому миру (апрель 1795 года), который доставил французам левый берег Рейна. Теперь же победители словно окаменели: Пишегрю с Журданом заключили с Австрией ненужное перемирие.
Роялистская реакция воскресала так быстро, что республиканцы уже боялись назначить президента, который как раз превратился бы в Монка: они устроили пятиглавую Директорию, душой которой стал Баррас. Роялисты не вытерпели: они дали республике первую битву, известную под именем восстания 13 вандемьера (5 октября 1795 года). У них был свой генерал – Пишегрю; директории судьба послала полководца в лице его школьного товарища.
Бонапарт уже около полугода слонялся в Париже без дела. Он опять бедствовал: жил в меблированной комнатке, ходил в поношенном мундире, занимал гроши у неимущего Жюно, пробовал торговать книгами и церковными имуществами на деньги Жозефа, женившегося на дочери трактирщика. За исключением Жозефа, бедствовала и вся семья: сестры голодали с Летицией в Марселе; Люсьен даже попал в тюрьму. Опальный генерал осаждал министерство прошениями с лживыми показаниями о своей службе и с гигантскими планами. Министерство называло эти затеи “химерами”, хотя в числе их был план итальянского похода. Бонапарт то мечтал о роскоши, то слушал курс астрономии, то сватался за богатую сестру жены Жозефа, которая, однако, предпочла Бернадота. Он даже просился на службу к султану и готов был продать себя английской Ост-Индской компании. Иногда он боялся еще худшего: видных якобинцев все арестовывали да казнили. И вот Бонапарт набрасывает консервативные статейки и требует “раскаяния” даже от своих друзей по якобинству. А в душе – мучительный знакомый голос: “воин должен или срывать лавры, или умирать на ложе славы”. Бонапарт чуждался общества. Он посещал только Барраса, который вдруг стал душой “золотой молодежи”” и другом элегантных красавиц, в особенности же Жозефины Богарнэ. “Мне надо было уцепиться за кого-нибудь и за что-нибудь”, – говорил потом Бонапарт.
Здесь зацепилось сердце страстного корсиканца. Все чуждались этого странного изможденного юноши, с волосами до плеч, с пронзительным взглядом, с искривленными губами, с казарменными манерами. “Он, кажется, желает властвовать надо всем; его взор смущает даже наших директоров, – писала Жозефина подруге. – Он полон самомнения до смешного; но оно до того опутывает меня, что я считаю возможным все, чего ни пожелает этот странный человек. Баррас уверяет, что добудет генералу начальство над итальянской армией, если он женится на мне. А Бонапарт сказал мне: “Так они думают, мне нужен покровитель! Погодите, они сами будут пресчастливы, если я захочу стать их покровителем. При мне сабля; а с нею я далеко пойду!” И опытная прелестница-аристократка уронила поощрительный взор, промолвила ласковое слово: солдат-пролетарий, желавший войти в “высшее общество”, потерял голову от жгучей, непривычной страсти. В мрачном честолюбце еще не совсем изгладились следы “чувствительности” и “идеологии”. В его походной сумке еще хранился экземпляр Руссо; на всей его фигуре еще лежал отпечаток идеализма революции, прикрывая его исполинское я.
Этого-то нищего чудака, без роду-племени, без отечества и связей, судьба вдруг назначила на роль спасителя правительства. 4 октября 1795 года, выходя из театра со своим Жюно, он наткнулся на баррикаду роялистов. “Ах, если бы парижане поставили меня во главе: ручаюсь, что через два часа они были бы в Тюильри! И я выгнал бы оттуда всех этих негодных членов Конвента”, – воскликнул он. В эту самую минуту Баррас уговорил Карно довериться “корсиканскому офицерику, который не поцеремонится”. На другой день Бонапарт спас членов Конвента, выступив с пятью тысячами солдат против двадцати тысяч забаррикадированных мятежников. Он искусно пустил в ход перекрестный огонь картечи, а сам являлся на коне всюду, где кипел бой. Часа в четыре все было кончено; парижан погибло не больше двух сотен.
Бонапарт стал главнокомандующим “внутренней” армии. Его имя загремело по Европе; он сделался “роковым человеком”. Его вера в свою “звезду” становилась дерзкой. Он начал подписываться Bonaparte: “Buonaparte” выдавало его итальянское происхождение. Его четкий почерк превращался в неразборчивые каракули. На семью полился золотой дождь. Люи стал поручиком; Жозефу обещано место консула; Жерома поместили в военное училище. Бонапарт раздавал места и деньги интересным людям всех партий. Он всем льстил, всех очаровывал, даже ухаживал за дамами, стал чуть не великосветским львом. Но к концу этого года превращений фаталист вдруг погрузился в прежнюю задумчивость, стал опять нелюдим, неуклюж, нервен и грозен. Директория смутилась. Ее вывел из оцепенения Баррас, узнавший от своей приятельницы, в чем дело.
Дочь богатого французского плантатора на острове Мартиника, Жозефина, питомица парижского монастыря, шестнадцати лет была выдана замуж за генерала Богарнэ. Вскоре она разошлась с мужем, оставив при себе своих детей, Евгения и Гортензию. Богарнэ был казнен как маркиз; его вдова попала в тюрьму. Ее освободила “золотая молодежь”, и она тотчас выдвинулась среди ее ветреных прелестниц. Жозефина уже отцветала: ей было теперь 32 года. Но опытная кокетка умела еще околдовывать даже таких пресыщенных сластолюбцев, как Баррас, который устроил ей роскошный отель. Здесь эта маленькая грациозная женщина увлекала львов нового “света” своим задорным личиком, а больше гибкостью креолки, искусными нарядами да версальской кухней. Но сумасбродные и чересчур дорогие капризы томной очаровательницы уже надоедали всемогущему директору: он обрадовался внезапной страсти своего страшного спасителя. Бонапарт получил должность главнокомандующего итальянскою армией. Он женился и на третий день после свадьбы, 11 марта 1796 года, поскакал за Альпы.
Глава II. Чудеса гения в Италии. 1796 – 1799
Казалось, Бонапарт летел на верную гибель. Нельзя было выдумать более неблагоприятных условий. Во Франции как бы не существовало правительства. В Директории господствовали раздоры. В казне – ни гроша. Бонапарт взял последнее; ассигнаты[1] ничего не стоили, и их подрывали еще английские фальшивые бумажки. Всюду свирепствовал голод. Не лучше было в войсках. Тяжко было даже рейнским армиям, на которых Карно сосредоточил все свое внимание, поручив их лучшим генералам – Гошу, Моро и Журдану, разгромившим первую коалицию. Их оттеснил к границам единственный свежий человек у австрийцев – брат Франца II, эрцгерцог Карл. Внезапно умер “французский Вашингтон”, благородный и гениальный генерал Гош, – говорят, от отравы, которую приписывали то Бонапарту, то Пишегрю. Французы ждали спасения лишь от заброшенной итальянской армии. А она была маленькая (38 тысяч человек и 30 пушек), голодная, полунагая. И против нее стояли в боевом порядке четыре австрийские армии, опиравшиеся на цепь неприступных крепостей. Их охранял с суши изворотливый “привратник Альп”, сардинский король, а с моря – английский флот талантливого, отважного Нельсона.
Бонапарту предстояла невозможная задача. Но ему, как всегда, помогли прежде всего враги. Австрия представляла собой средневековую развалину. Франц II, хотя и сверстник Наполеона, был олицетворением бездарной старины, игрушкой иезуитов и эмигрантов. Его армии в Италии были вооружены рухлядью. Ими командовали такие рутинеры, как семидесятидвухлетний Болье; да и те не смели сделать шагу без приказа тупиц придворного совета в Вене. Вдобавок австрийцы ревновали сардинцев. И они не принимали предосторожностей против “мальчишки” и его “стада баранов”.
В руках Бонапарта были и свои козыри. Он отлично знал театр войны с 1794 года и всю зиму составлял планы и особенно карты, о которых неприятель не имел и понятия. У него была и лучшая в свете армия, им же самим прекрасно обученная. То было невиданное “поголовное ополчение” Конвента, сам народ под ружьем. Эти молодые, сметливые, легкие “босоножки” распевали свою рыдающую “Марсельезу” и повторяли лозунг революции: “Война дворцам, мир избам!” Они пришли освобождать своего брата, итальянского “каналью”, от “тиранов”. И везде дети засыпали их цветами, а итальянки кидались в их объятия.
Такой армии соответствовали вожди. Тут был сам Массена, “любимое дитя победы”, бывший корсар и контрабандист, алчный плут, но первоклассный военный талант и отважный рубака; он, говорили, просветлялся при громе пушек. Подле – наперсник Бонапарта, Ожеро, хотя и плохой, мало способный рассуждать генерал, но отчаянный и жестокий храбрец, который улыбался ядрам и прошел огонь и воду, нигде не задумываясь ни на минуту. Этот сын каменщика, великан ростом, гимнаст, дуэлист, кутила, дезертир монархии, приказчик женевских купцов, побывавший и в тюрьмах португальских инквизиторов, и танцмейстером в Неаполе – тот самый “мужик в салоне” с лицом висельника, завистливый и ревнивый, который стал маршалом и герцогом Кастильонским при империи и пэром – при Реставрации, а тогда изображал ярого якобинца. Адъютантами Бонапарта были: скромный, мужиковатый, горячий и покучивавший Жюно, привязавшийся к нему, как собака, будучи еще сержантом в Тулоне; талантливый, но нередко вялый, небрежный Мармон, этот пророк еще непризнанного гения Наполеона; и Мюрат. Сын трактирщика, беззастенчивый Мюрат с самого начала службы проворовался и выдал своего начальника; при терроре он называл себя Маратом, a потом помогал термидорианцам и наконец стал адъютантом Бонапарта, и женился на его сестре Каролине – полной и пышной даме. С тех пор в нем разгорелось дьявольское честолюбие; его называли “гасконским лакеем и макаронным королем”. Но он всегда оставался искренним, добродушным, мягким с покоренными. Этот великан с черными как уголь глазами и волосами был идеал кавалериста, царь мод и наслаждений, тщеславный, но великолепный рубака, созданный равно и для щеголеватых парадов, и для кровавых битв.
Образцовым начальником штаба был блестящий, расточительный Бертье – бездарный полководец, но неустрашимый боец, а главное – незаменимый хозяин армии и покорный, как машина, рабски терпеливый, работящий, сведущий исполнитель. Из остальных генералов выделялся Ланн – блестящий мот, но храбрец, искавший опасностей, “пигмей, вдруг ставший гигантом”, и нежная душа. Ему не уступали симпатичный республиканец Жубер и тихий, застенчивый добряк, идол солдат Дезе, человек почти с женским сердцем, но всегда готовый с львиной отвагой на смертельные выходки в авангарде. Не портил дела и ловкий проныра Бернадот, хотя это был больше дипломат, чем воин: этот лживый, хвастливый гасконец, надменный честолюбец, который все обещал, ничего не исполняя, приписывал себе чужую славу и упорно шел к своей корыстной цели, вскоре стал злобно поглядывать на своего начальника, завидев в нем счастливого соперника-проходимца; но пока он верно и дельно служил ему. Все эти генералы, вчера еще ничтожества, дружили с офицерами; а офицеры ели из одного котла с солдатами, шли босиком рядом с ними, с сумками за плечами.
Наконец, против австрийцев и сардинцев стоял уже во весь рост сам Наполеон Бонапарт. Правда, никакой гений не творит из ничего. До него создались революционные идеи, а с ними – проповедь свободы и естественных границ: то была душевная потребность нации, вдруг поюневшей, сбросившей с себя вековые цепи. До него пришли французы в Италию, гонимые первою коалицией. Не его и самый перл военного искусства: роясь в архивах в злополучную зиму в Париже, он нашел план похода у маршала Мальбуа, который находился в Италии в 1745 году точно в таком же положении.
Не его знаменитая новая тактика, перевернувшая военное искусство. Она – дело нации и обстоятельств. В сущности, это – Эпаминоидова система клина, пробоины, неизбежная при борьбе с гораздо более многочисленным неприятелем. Новая тактика воплотилась тогда в незабвенном Карно. Этот-то гениальный труженик всегда сначала “подготовлял” битву, тщательно изучив местность и силы неприятеля и пробивая “брешь” в его рядах сосредоточенным огнем, артиллерии; а затем следовала стремительная атака в штыки, это дантоновское дерзновение. Он-то ввел натиск массами: “Искусство генерала, – говаривал он, – всегда встречать врага с превосходящими силами”. У него все четырнадцать армий действовали то врозь, то слитно, словно полки на поле битвы: без палаток и обозов, они, как вихрь, переносились с места на место, уже до боя нравственно поражая неповоротливых генералов монархии. Карно же создал лучшую в свете артиллерию, положил основы славной кавалерии, устроил образцовое интендантство, которое лучше содержало солдат, чем в 1870 году. Наконец, он дал Франции плеяду военных звезд. Отмена привилегии дворян на офицерские места произвела и здесь “патриотическое очищение”: старые родовитые бездарности были заменены молодыми талантами снизу, которые получали чины за заслуги из недели в неделю. Карно создал и уже упомянутых нами, и многих других сподвижников нашего героя, да и его самого.
Так Бонапарт был орудием истории, исполнителем задач, назревших до него. Но только он мог исполнить их так блистательно. Юный генерал провел дело с такой предусмотрительностью, рвением и тонкостью, что сам Массена не мог найти ни малейшей ошибки и стал благоговеть перед новым светилом войны. А “босоножки” уже уверовали в его звезду и готовы были идти за ним в самый ад. Сочувствовала ему и интеллигенция. Он еще мечтал о чистой славе Паоли как возродителя человечества. Он воззвал к итальянцам: “Французская армия пришла разорвать ваши цепи. Французский народ – друг всех народов: идите навстречу ему! Мы воюем только с тиранами”.
“Босоножки” тиграми бросились на разбросанные позиции неприятеля. Они катились с гор лавиной, нанося неожиданные удары направо и налево. Оторопелых австрийцев не столько били, сколько брали в плен, как стада баранов. В две апрельские недели 1796 года сардинцы примирились с поражением, отдав Франции Ниццу и Савойю. Милан встретил победителей как героев-спасителей. Ломбардия стала вассалом Франции; Тоскана приняла ее гарнизоны; Неаполь отказался от англо-австрийского союза. И Нельсон покинул Корсику, чтобы прикрыть Ирландию от высадки французов. Загремела по свету слава “рокового человека” как настоящего полководца; солдаты же окрестили его ласковым именем “капральчика”. А в его голове, по собственному признанию, зародилась дерзкая мысль: “Теперь никто не задается великими замыслами; надо будет подать пример”. Его скромные донесения директорам вдруг сменились напыщенными и дерзкими посланиями.
И все это была только присказка. Сказкой стала осада Мантуи – неприступной крепости на озере, среди болот, с гарнизоном, почти равным всей армии французов. Тут австрийцы проявили невиданную энергию: они высылали на выручку крепости все свежие и отличные войска. Но и Наполеон развернул всю силу своего гения. Он одерживал победы даже дерзкими хитростями. Веет эпосом от трехдневного боя из-за моста у Арколэ, где были ранены почти все генералы и чуть не погиб сам вождь, увязнув в болоте, когда он кинулся на узенький мост впереди всех, со знаменем в руках, под градом пуль и картечи. Всего через восемь месяцев в начале 1797 года Мантуя сдалась.
Победители не смогли отдохнуть: на них шла отборная армия с эрцгерцогом Карлом во главе. Они бросились в Тироль. Карл смутился и наделал ошибок. Бонапарт сметал врага по дороге, даже “над облаками”. Наконец он перевалил через Каринтийские Альпы и достиг Леобена, в 150 верстах от Вены. Здесь остановились победители, истомленные, забытые Францией, среди восстающего кругом населения. Бонапарт отправил Карлу “философское” послание: он предлагал мир, “гордясь гражданским венком больше, чем печальною военной славой”. Начались переговоры. Но австрийский дипломат Кобенцль все торговался. “Если Австрия желает войны, то в три месяца она станет грудой осколков!” – крикнул ему Наполеон и хлопнул оземь дорогую фарфоровую вазу, а сам выбежал, чтобы не расхохотаться. Тотчас были подписаны убийственные для Габсбурга условия.
Итальянский поход кончился. “Солдаты! Вы выиграли четырнадцать генеральных сражений и семьдесят битв, взяли более ста тысяч пленных и две с половиной тысячи орудий. Вы обогатили музеи Парижа 300-ми перлов искусства. Вы кормились и оплачивались контрибуциями с покоренных стран, да еще послали тридцать миллионов в казну”. Бонапарт был вправе говорить так горделиво, но, к прискорбию, с новой зловещей ноткой: итальянский поход имеет мировое значение.
Тогда все познали Наполеона как зеркало “начала века” с яркими чертами переходной эпохи. С одной стороны, то было еще “дитя революции”, которое озарялось догоравшими лучами юности и лучших заветов Просвещения. “Капральчик” был еще воплощением “третьего чина”. Он жил в неусыпных трудах, ходил чуть не в рваных мундирчиках, ел что попало; и его руки были чисты от награбленных сокровищ. Он еще перечитывал “Новую Элоизу” и “Вертера” и пылал юношеской страстью к своей “восхитительной” Жозефине. Он рисковал жизнью наравне с последним солдатиком, два раза чудом спасся от смерти, два – от плена. Он очаровывал сослуживцев товарищеской простотой, воодушевлял поэтическую кисть Гро, превращал банкиров в поэтов фантастических спекуляций. Он с наслаждением шельмовал “этих наглых монархов, презренных тиранов своих народов”. Победитель мечтал о разделе Турции, в союзе с Россией, с тем, чтобы была восстановлена Польша, а “из гробниц великих предков Греции вышел Гений Свободы”. И когда его мысль впервые касалась обновления Франции, ему грезилось, что отсюда выйдет “свобода для всей Европы”. Особенно задумывался он над “восстановлением итальянского отечества”: его глубоко радовало зарождение “национального духа” среди итальянцев, при котором “абсолютизм и олигархия станут уродством в глазах Европы”. И интеллигенция Европы прощала герою первые замашки цезаризма и макиавеллизма.
Эти замашки были, в свою очередь, знамением времени. Наставал новый период в истории, требовавший своих жертв. Идеализм Просвещения и революции должен был смениться прозой практицизма. Реакция должна была проявиться прежде всего в армии, которой приходилось бороться с самыми грубыми пережитками старого строя в Европе. Чтобы раздавить “змей” старины, как выражались якобинцы, приходилось прибегнуть к беспощадности, ожесточиться, что требовалось и тою быстротой, без которой армия Бонапарта не могла бы победоносно драться на всех фронтах с массами неприятеля. Да и великие предшественники нашего героя: Тюренн, Мальборо, Фридрих II – брали своею изумительной бесчувственностью, редким жестокосердием.
Важнее для будущности всего мира и страшнее всего была другая черта, в которой особенно ярко отражалось наступление новой эпохи. Она тем более поразительна, что обстоятельства вдруг раскрыли ее во всем ее безобразии. Они требовали, чтобы Бонапарт для спасения рейнских армий немедленно ударил во фланг австрийцам; да и его голодная армия не могла дольше дрожать в ледяных ущельях Альп. А у него не было никаких запасов, и всего 48 тысяч франков в штабной кассе. И вот магические словечки революции сменились суровым голосом кондотьеров XIV века. Когда “босоножки” взобрались на горный хребет, их вождь издал первую прокламацию в новом духе: “Солдаты! Вы наги, вас кормят впроголодь; правительство много задолжало вам и ничего не может дать... Я сведу вас в самые плодоносные долины в мире. Перед вами раскинутся роскошные области, большие города: вы найдете там почести, славу и богатство”.
И вскоре исчез симпатичный “босоножка”: к концу похода ласкавшие его сначала итальянцы стали возмущаться у него в тылу в отместку за его грабительства и жестокости. А его генералы начали возить с собой большие чемоданы с золотом и мечтать о роли царедворцев.
Совершалось превращение и в вожде, и опять по неумолимым требованиям обстоятельств. Отъезжая из Парижа и опустошив сундуки правительства, Бонапарт условился с Директорией, что его армия будет не только содержать сама себя, но и пополнит ее казну: он знал, что в Италии, несмотря на отвратительное правительство, хранится много сокровищ, веками скопленных обширною торговлей и возделыванием благодатной почвы. Но тут лежало зерно целого европейского переворота: генерал, содержащий свое правительство, – уже диктатор на деле. Он и подсмеивался над нелепыми планами операций, которые вздумала было посылать ему Директория; он даже начал без ее согласия вести дипломатические переговоры. Впрочем, покуда это был только Цезарь в Галлии, кумир армии, лагерь которой становился его передвижным государством. Говорят, что юный честолюбец, голова которого кружилась от изумительного поворота колеса фортуны, уже мечтал о престоле. Если это так, то его мысли влеклись к “красавице Италии”, сокровища которой не охранялись драконом: итальянцы были жалкая масса, несплоченная, невежественная, суеверная, забитая. Кстати, корсиканец рад был отомстить Генуе, а якобинец радовался случаю сбить спесь с римского первосвященника.
А тут сам собой образовался вокруг героя отборный отряд телохранителей – ячейка знаменитой императорской гвардии. Вождь отделился от своих товарищей. Летом 1797 года уже возникла “резиденция” нового повелителя. Пышный дворец Монтебелло под Миланом кишел не только льстецами и просителями, но и посланниками держав. Из Милана наезжали аристократки, чтобы подносить букеты дамам Бонапарта, который выписал семью на свою виллу. А когда в конце года Бонапарт отправился в Раштатт, чтобы лично открыть конгресс, решавший участь Германии, его поездка уподоблялась триумфу повелителя Европы. Таково же было путешествие по Швейцарии и Франции.
Это торжество уяснило самому Наполеону его туманные грезы: он осознал себя властителем мира. Как полководец он поднялся выше всех военных светил новой истории: специалисты признали его стратегию 1796 года “классическою”; она послужила генералу Жомини основой теории всего военного искусства. Тогда же Бонапарт проявил себя первоклассным дипломатом, разбивая формы пресловутой “традиции”, посрамляя седины рутинеров. Впрочем, по существу он руководился тут старомодным макиавеллизмом. Но и здесь он был лишь отражением тлетворной среды: приходилось быть или молотом, или наковальней. Зато юный ученик престарелых Макиавелли далеко превзошел своих наставников: его ряд дипломатических побед – своего рода итальянский поход. Конечно, и на этом поприще Бонапарт был лишь орудием истории: он развивал систему, которую Конвент ввел впервые в Бельгии и Голландии, но зато как развивал! Не говоря уже про “реквизиции” натурой, он собрал в Италии до 115 миллионов франков, а Венеция поплатилась еще своими лучшими кораблями. По его собственному признанию поставщики и офицеры превратили войну “в ярмарку, где все продажно до того, что стыдно было за человека”. Наполеон будто не видел ничего: раз только упрекнул он слишком загребистого Массена, но замолчал, когда тот в ответ проспрягал ему глагол “воровать”.
Верхом совершенства были интриги с Венецией и папой. Бонапарт восхитительно льстил олигархам приморских лагун в то самое время, когда подписывал “новый раздел Польши”, то есть отдавал часть их земель австрийцам. А политика с папой была так тонка, что тогда никто не понимал ее. Тучный восьмидесятилетний добряк, Пий VI открыто враждовал с Францией, а Бонапарт только взял у него Авиньон с легатствами (северная часть Церковной области) и начал выказывать св. отцу сыновнее почтение, называя себя “защитником религии”. Бонапарт говорил наперсникам, что нужно щадить “старую лису”: бывший якобинец оценил влияние религии на массы; он уже задумывался над своим великим будущим. Вообще же в Италии была введена система “республик-сестер”, начатая также Конвентом в Голландии. Ломбардия вместе с легатствами сделалась Цизальпинской республикой, а Генуя – Лигурийской республикой. Венеция сначала тоже была превращена в республику, а потом частью была присоединена к Цизальпине, а частью к Австрии; Ионические же острова отошли к Франции. Год спустя Директория довершила систему республик-сестер: Церковная область превратилась в Римскую республику, а Швейцария – в Гельветскую.
Подвиги нового дипломата увенчались миром в Кампоформио (октябрь 1797 года ), про который Бонапарт сказал: “Я объявил большой шлем, имея всего двенадцать взяток”. То было невиданное посрамление Габсбургов, гибель старой Германии и основа миродержавия[2] Наполеона. Франция приобретала Бельгию, рейнскую границу и Ионические острова, а Австрия теряла, кроме Бельгии, Ломбардию, получая взамен коварный дар – Венецию с Истрией и Далмацией. Германия лишалась левого берега Рейна, а владевшие им князья получали вознаграждение на правом берегу посредством “секуляризации”, то есть лишения владений тамошнего духовенства. Для разграничения новых владельцев имперские чины должны были собраться на конгресс в Раштатте.
Но любопытнее всего, как Бонапарт распутывал самый мудреный узел – свои отношения к Директории. Эти отношения были диковинны: Директория играла роль мольеровской начальницы-рабыни. Сначала она радовалась удалению своего опасного спасителя, потом пыталась подчинить его себе. Она даже послала в Италию своего комиссара шпионить, но тот показывал генералу свои донесения. Потом она хотела погубить его, задерживая подкрепления, но принуждена была сама благодарить своего генерала за наполнение ее казны. Они расходились и в дипломатии. Директория интересовалась только Бельгией и Рейном; она готова была возвратить Ломбардию Габсбургу, а папу совсем уничтожить. Бонапарт же устроил республики – эти зерна будущих войн, а папу пощадил. Сначала Директория получала от своего генерала уверения “в преданности”, потом пошли угрозы отставкой. А когда парижские палаты упрекнули Бонапарта за насилия в Италии, он написал директорам: “Именем восьмидесяти тысяч солдат предсказываю вам, что прошло время, когда адвокатишки и негодные пустомели гильотинировали воинов. Горе вам, если солдаты принуждены будут прийти к вам из Италии со своим генералом!”
Генерал имел право говорить так: он опять только что спас свое начальство от погибели. Жалкая Директория не знала, что делать среди борьбы трех партий – якобинцев, роялистов и “либералов”, как назвались тогда друзья конституционной монархии, во главе которых стояли г-жа Сталь и ее приятель, Бенжамен Констан. Особенно опасны становились роялисты, душой которых был Пишегрю. У Барраса оставалась одна надежда – счастливый победитель. Бонапарт сказал своим войскам: “Если понадобится, вы орлами перелетите через горы, чтобы поддержать правительство и республику”. Он послал в Париж Ожеро. 18 фрюктидора (4 сентября 1797 года) этот храбрец без выстрела занял Тюильри и город – и все успокоилось.
Возвратилось господство Конвента, только в менее кровавой форме: стала свирепствовать “сухая гильотина”, или ссылка. “Изменников республике” сослали в Гвиану: тут было до двухсот лиц, по преимуществу журналистов и членов обоих Советов, в том числе Пишегрю, Бартелеми и Карно, которым, однако, удалось бежать. Исчезла свобода печати, сходок и сообществ; была нарушена независимость судов; многие департаменты лишились выборных прав. “Цареубийцы” и республиканцы заняли правительственные места. Европейская война стала необходимостью, тем более, что армиям приходилось содержать самих себя и даже правительство тою системой грабежа, которая была применена покуда в Бельгии, Швейцарии и особенно в Италии.
Но то было мимолетное торжество. Директория достигла вершины своего могущества, с которой тотчас начала спускаться по наклонной плоскости в пропасть. С 18 фрюктидора она стала ненавистна всем, так как вступила на ложный путь насилия, которое должно было завершиться ее погибелью. “Всякому показалось бы естественным, – говорит и г-жа Сталь, – если бы военный вождь принял меры, которые до него позволяли себе гражданские власти”. А главное, призвав на помощь против парламента войско, Директория отдавала себя в его руки, то есть подписывала себе смертный приговор. И уже был готов диктатор. Среди армии, ослепившей мир чудесами из чудес, родился герой из героев, про которого комиссар Директории уже писал из Италии: “Я не вижу для него иного конца, кроме престола или эшафота”. Презренная Директория хваталась за своего завтрашнего губителя, чтобы не пасть сегодня жертвой роялистов.
В сущности, диктатор был готов.
В тот момент, в конце 1797 года, монтебелльский олимпиец уже старался показать Европе наглядно, с кем она имеет дело. В Раштатте он распоряжался конгрессом по своей воле. Он подшучивал над князьями и владыками и публично прогнал, как лакея, шведского уполномоченного, графа Ферзена, за то, что тот был другом Марии-Антуанетты. А затем 1798 год начался еще более знаменательной картиной в самой Франции. “Старый порядок” не встречал так своих любимых королей. Общество осыпало героя букетами, медалями, песнями, газетной лестью. Правительство подобострастно устроило ему прием, напоминавший театральный апофеоз. Все партии бросились к нему. Роялисты работали через Жозефину, либералы – через приятеля г-жи Сталь, Талейрана; республиканцы считали его сыном революции, восхищаясь 18-м фрюктидора.
Но победитель озадачил всех. Теперь это был болезненный, угрюмый капральчик. Европейские дипломаты доносили, что “все влечет его к миру и дружелюбию”. И сам Ожеро, хвастаясь 18-м фрюктидора, твердил, что его генерал слишком “благовоспитан” для таких расправ. Бонапарт носил мундир академика, беседовал с учеными, задумчиво гулял в садике своей скромной квартиры. Пуще всего боялся он, чтоб его не записали в вожаки какой-нибудь партии: ему нужно было кое-что побольше. Он думал тогда: “Груша еще не созрела: нужно, чтобы Директория испытала неудачи без меня. Париж беспамятен: в этом Вавилоне знаменитости быстро сменяются одна другой. Если мне надолго остаться здесь без дела, я погиб!” Вновь исчезнуть, да подальше, да для дивных чудес значило для Бонапарта также приучить армию видеть в нем и своего Бога, и свое отечество. За Париж он не опасался: в его руках был Баррас; и чуткий Талейран сам склонялся на его сторону.
В Европе также было все, что требовалось Бонапарту. Там, в свою очередь, царствовала тревога, угрожавшая гибелью Директории. Все ненавидели ее за наглые насилия. Как всегда, во главе движения стояла Англия. С самого начала революции она поставила себе целью погубить свою вечную соперницу: с 1792 года открылась двадцатитрехлетняя борьба двух великанов Запада, гордо стоявших по обоим берегам канала. Французы отвечали британцам такой же национальной ненавистью. Уже в 1796 году Директория задумывалась не только о высадке в Англию, но и об Индии, куда она посылала своих агентов так же, как в Тегеран и Константинополь. В 1798 году Гош едва не появился в Ирландии. Когда прибыл Бонапарт, парижане толпились в театрах, любуясь живыми картинами “с высадкой”. Директория назначила победителя командиром “английской армии”. Он и сам давно мечтал сразиться с ненавистной соперницей, но повел дело по-своему, а на деле всячески мешал ей. На его взгляд, гораздо вернее можно было нанести “тирану морей” удар сбоку.
Бонапарт с ранней юности мечтал о Востоке. “Европа – кучка крота; а там живут шестьсот миллионов, там – источник всякой великой славы”, – говорил корсиканец. Конечно, и тут Бонапарт был лишь орудием истории. Французы со времени крестовых походов считали своей “миссией” возрождение Востока и прежде всего Египта. Перед революцией французы задумывались над мыслью о Суэцком канале, и Талейран расписывал в академии необходимость и легкость покорения страны фараонов. Бонапарт только был ближе всех подведен к этой задаче обстоятельствами. Благодаря Венеции ему удалось образовать в Адриатике эскадру не хуже английской. Заняв Ионические острова, он писал Директории: “Они драгоценнее для нас всей Италии. Приближается время, когда поймут, что необходимо овладеть Египтом, чтобы действительно погубить Англию. Отчего бы нам не овладеть Мальтой? С нею да с Корфу в руках мы станем господами Средиземного моря: мы разрушим Англию – и Европа у наших ног”. Именно тогда и Англия зарилась на Мальту: она мечтала проникнуть оттуда в Индию через Египет. Бонапарт предложил египетский поход. Директория обрадовалась, что теперь, когда войны в Европе нет, ее владыка уходит в такую опасную даль.
Бонапарт сам написал себе приказ: разрушить в Египте влияние Англии, прорыть Суэцкий перешеек и “освободить” туземцев от “тирании” мамелюков. Мамелюки – род феодалов, которые составляли отважную, многочисленную и богатую конницу и угнетали феллахов-землепашцев и арабов-купцов. Они лишь по имени признавали власть Турции. Конвент давно старался подчинить султана своему влиянию, чтобы пользоваться турками, как против Англии, так и против России, которую он желал заставить отказаться от только что завершенного раздела Польши (1795 год). Султан уже поручил французским офицерам свою армию, но еще колебался заключить союз с Директорией. Бонапарт уверял его, что как “добрый друг турок” он намерен смирить мамелюков, поднять благосостояние его египетских подданных и возвысить значение ислама. Он отобрал лучших солдат и сподвижников. Во главе последних был величавый, благородный Клебер, усмиритель Вандеи и победитель немцев. Республиканец в каждой жилке, особенно ненавидевший лесть, этот богатырь и видом недолюбливал Бонапарта. Но после Абукира он бросился в его объятия со словами: “Вы велики, как мир!” Была набрана также сотня лучших ученых. Все приготовления были сделаны гениально и так таинственно, что сам военный министр видел в тулонской эскадре “правое крыло английской армии”. При всем том, для успеха безумного предприятия требовалось особое счастье: оно и служило роковому человеку как никогда. Нельсон, стоявший на пути с сокрушительным флотом, три раза проходил мимо врага, не заметив его за туманами и бурями.
В мае 1798 года из Тулона вышла небывалая у французов эскадра с сорока тысячами солдат. С помощью подкупа взяли без выстрела Мальту, затем так же легко высадились у устьев Нила и двинулись вверх по реке. Три дня спустя, у устьев же Нила, под Абукиром, в “невиданной водами битве” Нельсон истребил французскую эскадру. “Англичане заставят нас совершить более великие подвиги, чем мы предполагали!” – воскликнул Бонапарт, и французы двинулись к Каиру под палящим солнцем, увязая в жгучих песках. Лишь у пирамид встретила их блестящая конница мамелюков. “Солдаты! Сорок веков глядят на вас с высоты этих пирамид”, – сказал вождь, и впервые каре пехоты выступили против кавалерии неприятеля. Мамелюки были истреблены.
Бонапарт тотчас завел типографии и египетский институт. Все народности были допущены к местному самоуправлению. В особенности чтил Наполеон ислам: “Ведь и мы – мусульмане: не мы ли уничтожили папу, который проповедовал войну с исламом?” Он клялся Кораном, надел тюрбан и ходил в мечеть; он до того широко понял магометанство, убедившись тогда в неверности своей Жозефины, что становилось зазорно даже его наперсникам. Многие офицеры совсем омусульманились. Но народ бунтовал под влиянием своих муфтиев и дервишей. Поднялся и достойный враг – непреодолимая африканская природа. Впервые послышался ропот среди доблестных ветеранов. “Это – твоя работа!” – шептали герои, умиравшие на глазах своего кумира. “Войско приносится в жертву искателю приключений!” – громко говорил Клебер. У Бонапарта оставалось всего тринадцать тысяч солдат и пятьдесят пушек. Он поспешил увести их в Сирию, где, кстати, скапливались турки, объявившие войну Франции. Здесь, наконец, счастье отвернулось, несмотря на новые дивные подвиги. Осада без осадных орудий приморской крепости Сен-Жан д’Акр (Акка), защищаемой англичанами, а затем чума истощили героев. Чтоб облегчить себе отступление, Бонапарт избивал пленных тысячами и заморил бы опиумом своих чумных, если бы за них не вступился врач. Но он сам был на высоте положения: он прикасался к чумным, шел пешком по жгучим пескам, кормил хилых своими конями. Как тени, добрались французы до Абукира; а там ждала их вдвое более сильная армия отважных янычар. Турки были сброшены в море ловким обходом и почти все погибли.
Тут Бонапарт узнал из газет, доставленных ему англичанами, об успехах второй коалиции. Он сказал гневно: “Эта бездарная, безвольная Директория делает только глупости да берет взятки! Все пошло прахом с моим отъездом. Во Франции в одно время узнают и об истреблении турок под Абукиром, и о моем возвращении. В такую минуту меня не покинет верное мне счастье! Да кто не дерзает, тот и не выигрывает. Попытаемся прийти – и придем”. 22 августа 1799 года Бонапарт с лучшими из генералов пустился морем во Францию, оставив свою армию на Клебера. Последнему он назначил свидание, но бежал раньше, передав ему запечатанный пакет. Покинутый Клебер дрался как лев, один против десяти, и отлично устраивал “французскую колонию”. Но нашелся туземец-фанатик, который заколол благодетеля страны. “Ну что ж, одним соперником меньше!” – воскликнул Бонапарт. Остатки “египетской” армии сдались потом англичанам. А ее вождь-дезертир считал себя спасителем отечества от “непоправимой беды”.
Беда была большая. Директория озлобила всю Европу своими насилиями. Среди мира к Франции были присоединены тогда Пьемонт, Тоскана и Женева. Ее комиссары на Раштаттском конгрессе распоряжались Германией, как хотели. Превратился в Парфенопейскую республику Неаполь, откуда бежали в Палермо Фердинанд IV и его жена, Каролина, служившая душой “контрреволюции”. Это раздражило родственника Каролины, императора Франца II. Его поддержал император Павел I, выступивший орудием Промысла для искоренения “заразы своеволия” и для спасения брата гильотинированного французского короля, будущего Людовика XVIII, которого он содержал в Митаве. Россия наравне с Англией стала душою второй коалиции (1798 год). Эта коалиция была грознее первой. У нее было вдвое больше войск, чем у французов, и ими командовали свои герои: эрцгерцог Карл, Нельсон и сам Суворов, хотя ему было уже семьдесят. Русский старый чародей битв заставил мир забыть на минуту подвиги своего юного соперника. В Италии рухнули создания Бонапарта – республики-сестры, а англичане захватили Мальту. И все ждали нашествия “варваров” на Францию. А здесь настало банкротство Директории, которая прибегала к насилиям, напоминавшим террор и доводившим страну до голода. Поднималось всеобщее недовольство; вспыхивали мятежи то роялистов, то якобинцев. Нация искала “спасителя” от “нравственной гнили”, как все называли Директорию.
А “роковой человек” 48 дней носился по морю, плывя больше по ночам, чтобы ускользнуть от англичан. Уже в виду Франции наткнулись-таки на британскую эскадру; но та не сумела изловить счастливца. От Тулона до Парижа народ встречал спасителя с ликованием; в столице всеми овладел искренний восторг. Бонапарт мастерски поддерживал идеальное представление о себе. Он казался добродушным, искренним “гражданином” и жрецом муз, а сам опутывал все партии, говоря с каждой ее языком. Ему помогали Баррас, Талейран, новый министр Фуше да родные. Жозефина обхаживала влиятельных лиц, даже Моро; Люсьен орудовал в Совете пятисот (нижняя палата), где он был председателем. И через месяц по прибытии Бонапарта во Францию, 18 брюмера (9 ноября 1799 года), произошел великий государственный переворот, то есть уничтожение и Совета пятисот, и Совета старейшин (верхняя палата).
Заговорщики переживали тяжелые минуты: Совет пятисот был переполнен республиканцами, которым сочувствовала армия; Бернадот предлагал Директории арестовать египетского дезертира. Вдруг 17 брюмера заставы столицы оказались запертыми, а работа была почти приостановлена. На улицах появились воззвания Бонапарта: “Какою я оставил Францию и какою застал ее! Так не может продолжаться”. В Тюильри, у “старейшин”, большинство которых составляли бонапартисты, был прочитан доклад о каком-то заговоре, и Совет решил перевести завтра обе палаты в Сен-Клу и поручить их охрану Бонапарту, то есть вручить ему начальство над войсками столицы. Наполеон ждал того приговора у себя дома, окруженный блестящим штабом. Он сказал, что нужно освободить республику от “адвокатов”, – и все поскакали в Тюильри; а в Люксембургском дворце директора подали в отставку.
18 брюмера в Сен-Клу, в саду дворца, было поставлено восемь тысяч гренадеров. Но в залах кипела оппозиция, особенно в Совете пятисот, где все клялись до смерти защищать республику от “диктатора”. Наполеон бросился к “старейшинам” и пробормотал, задыхаясь: “Заговоры... Вулкан... Прямой солдат... Мои гренадеры... Вы сами нарушили конституцию”. Оттуда он в сопровождении гренадер прошел в Совет пятисот. Депутаты закричали: “Да здравствует республика! В опалу тирана!” Его хватали за мундир; ему давали пинки. Шатаясь, выскочил он на двор и упал в обморок. Тут прибежал Люсьен. Он умолял солдат спасти своего генерала от “кинжальщиков, подкупленных Англией”. Солдаты пошли за президентом в залу. Депутаты разбежались. Вечером оба совета постановили: Директория заменяется тремя консулами республики: Бонапартом, Сиейесом и Дюко. Новая власть тотчас издала странный манифест: “Революция остановилась на принципах, с которых началась: она окончена!”
Глава III. Первый консул. 1799 – 1804
Бонапарту только что исполнилось тридцать лет. Роковой недуг еще не омрачал расцвета его сил. Перед нами новый Протей, который никогда не поражал до такой степени мир как воин, дипломат и правитель великой нации. Недаром он говорил тогда: “Только короли-лентяи жиреют во дворцах... Мои соперники не потеряли бы даром времени, если бы пожаловали сюда поучиться”. Он развернул деятельность, за которую его назвали “необыкновенным” существом. К этому времени особенно идет его собственное выражение о себе: “Когда умру, вселенная сделает – уф!” И тогда еще ничто не мешало неутомимому гению. В нем еще сияли симпатичные черты молодости, лучи Просвещения. “Ни один монарх не встречал такой готовности к повиновению. Франция буквально выполнит невозможное, чтобы помочь ему”, – говорит очевидец. Все надеялись, что он откроет эру мира, явит свету образец внутреннего устройства великой нации, расшатанной революционною бурей.
Казалось, французы не ошиблись. Бонапарт сменил военный мундир на гражданский сюртук. Он послал Георгу III английскому горячий призыв к миру, а Павлу I предложил, ради дружбы, Мальту. Он даже заключил торговый договор с Соединенными Штатами, провидев в них могучего соперника британцам. И началась богатырская работа устроения разрушенной Франции. Консульство – эпоха Наполеона-правителя: тогда-то совершились те реформы, которые по блеску соответствовали его битвам, но превзошли их по прочности своих последствий.
Такова была уже конституция VIII года, служившая переходом от республики к империи. Здесь законодательный почин вручался Государственному совету, который был органом правительства. Рассмотрение предложений этого органа принадлежало Трибунату, а молчаливое принятие – Законодательному корпусу. Отмена законов, а равно и избрание на высшие должности, предоставлялись Сенату, членами которого были бессменно, пожизненно. Исполнительная власть отдавалась трем консулам, назначаемым на десять лет. В сущности, она сосредоточивалась в руках первого консула: он “по своей воле” ставил и увольнял всех чиновников и обнародовал законы. Конституция VIII года была отрицанием республики. Лишь приличия ради ее подвергли плебисциту, или всенародному голосованию, которое дало три млн. “да” и полторы тысячи “нет”. Но Бонапарту и этого было мало. В августе 1802 года он воспользовался новыми победами и вымышленным полицией заговором. По предложению сановников он стал пожизненным консуломс правом назначить себе преемника и с королевской привилегией помилования. “Вот я и на одной высоте с монархами!” – воскликнул Бонапарт.
Теперь-то, среди мира, Наполеон поразил всех своего рода итальянской кампанией на поле гражданственности. Тут самым важным делом оказался Кодекс Наполеона (март 1804 года): его одного достаточно для увековечения этого имени. Правда, это была компиляция из старых законов, но чрезвычайно простая, краткая и обнимавшая всю жизнь гражданина. А главное здесь, наряду с укреплением старых основ – собственности и семьи, были отчасти применены три начала революции: были введены развод и веротерпимость, свобода личности и равенство всех перед законом. Наполеон имел право сказать на острове св. Елены: “Моя истинная слава – не сорок выигранных битв: Ватерлоо изглаживает воспоминание о стольких победах. Но что никогда не изгладится из памяти, что будет вечно жить, – это мой гражданский кодекс”. Исполнительница Кодекса, новая юстиция также напоминала идеал революции, с его присяжными, адвокатами, мировыми судьями и с несменяемостью судей. Впрочем, в этой-то твердыне национальной совести и обнаружились ярче и прежде всего попытки цезаризма. Бонапарт вскоре стал сам нарушать идеал, особенно с помощью “специальных” судов.
То же случилось с законодательной властью. Она перешла к Частному и Государственному советам, где председательствовал сам первый консул. Частный совет обсуждал все вопросы высшей политики и заготовлял сенатус-консульты (приговоры сената). Государственному совету было дано страшное преимущество – “развивать смысл законов” по требованию консулов. Он рассылал по департаментам своих членов, напоминавших комиссаров Конвента: сам Бонапарт называл их “трибунами подле верховной власти”. Сенат, окруженный необычайным блеском, стал орудием Бонапарта, который назначал его членов и давал самым покорным из них сенатории – синекуры с доходными землями. Трибунат и Законодательный корпус подверглись “очищению”, что превратило их в собрание “евнухов законодательства”.
Администрация, конечно, еще более отличалась цезаризмом. Она целиком сосредоточивалась в руках первого консула. Все чиновники были его слепыми орудиями. Сам Бонапарт вечно работал в своем кабинете и даже в походной палатке, как неусыпное Провидение государства. Он делал назначения чуть не на все должности, читал почти все министерские бумаги, черкал их, переделывал заново, даже пробегал все иностранные депеши, усыпая их своими пометками; он набрасывал ответы, ноты и инструкции дипломатам и истомлял своих секретарей диктовками. Он беседовал еще особо с министрами иностранных дел и полиции; а их товарищи раз в неделю очищали свои портфели перед ним.
Эти семеро министров были приказчиками Бонапарта, который часто сменял их, при всей их угодливости. На первых порах то были ловкие дельцы. Во главе их стоял Талейран, который считался в Европе оракулом дипломатии: тогда не знали, что Наполеон делал ему головомойки и сам диктовал главные депеши. Это была правая рука консула как бога лжи: “Язык дан нам для сокрытия мыслей”, говаривал бывший епископ и “цареубийца”. Таков же был министр полиции Фуше, только погрязнее и жесточе: он был предателем всех правительств, которым служил для охраны. Наполеон отлично понимал обоих молодцов, но говорил: “Один охраняет меня справа, другой – слева”. Бертье как военный министр образцово подготовлял тот военный строй, без которого немыслимы были походы Наполеона.
Прямою связью между министрами и первым консулом служил государственный секретарь: “Он разносил мои решения, мою волю по всем направлениям”, объяснял Наполеон на острове св. Елены. Во все время эту должность занимал верный, скромный и искусный Марэ: он один умел поспевать за бешеной диктовкой своего господина и мгновенно воспроизводить его беглые мысли, набросанные по-военному, каракулями на клочках бумаги. Во главе провинциальной администрации были поставлены крепкие орудия первого консула – префекты и мэры, которые также возбуждали зависть Европы своей ловкой исполнительностью. “Это – маленькие первые консулы”, – говорил про них Наполеон. Провинциальные советы, эти своего рода земства, стали их игрушками. Так выработалась беспощадная централизация – новое слово для старого, но улучшенного общества.
Такой несравненный по могуществу и порядку цезаризм мыслим лишь при подобной же армии. Революционный идеал вооруженной нации был подорван уже конскрипцией (набором) Директории: Бонапарт окончательно превратил гражданина-добровольца в солдата посредством введения жребия и заместительства. Старые солдаты сами возвращались на вечную службу: так образовались дивные ветераны императорской гвардии, эта гордость военной истории. Офицерство было скоплением дарований и из народа, и из юных аристократов. Такова была “великая армия” – триста пятьдесят тысяч отборных и отлично снаряженных молодцов, посвящавших всю свою жизнь служению под римскими “орлами” гения битв. Она содержалась образцово: с этой целью было учреждено даже второе военное министерство – военная администрация.
Величавы, ослепительны были меры для поднятия экономического быта, который приходилось чуть ли не создавать заново. Тогда не знали бюджетов, тратили по мере надобности, переносили счета из года в год. Сверх того, Директория завещала банкротство: на 18 брюмера не оказалось никакого кредита, а в казне – сто пятьдесят тысяч франков. Да счет недоданного за полгода жалованья мелким чиновникам. Бонапарт прежде всего учредил подле министерства финансов министерство казны, или контроль. Но лучшим фискалом был он сам. С беспощадностью и энергией защищал он казенную копейку от “хищников”. Каждую неделю просматривал он лично расходы министров и оглашал их отчеты, стараясь уравновешивать баланс со строгостью военной дисциплины.
Затем приходилось создавать всю машину взимания доходов, и здесь-то обнаружилась вся изобретательность Наполеона. Возникла правильная система прямых податей на основании кадастра, или описи имуществ и с помощью сборщиков из богачей. Для косвенных налогов восстановили акциз, приноровленный к указу 1680 года. Вскоре заработала и система ограбления Европы. И финансы процветали, а вместе с ними явился кредит. Наполеон всегда держался правила не делать новых займов: он даже завел “кассу погашения” для старых. Много пользы принес и французский банк, существующий и теперь. Банк помог торговле. Наполеон же создал отличный торговый кодекс, восстановил торговые палаты, ввел действующую и теперь десятичную монетную систему, взяв за основание серебро. Он не жалел средств на пути сообщения – дороги, каналы, мосты. При этом благодаря жандармерии и префектуре полиции был положен конец разбою. Впрочем, торговле мешал протекционизм, особенно направленный против английских товаров.
Зато промышленность двинулась вперед изумительно. Особенно процветали прядильное и ткацкое производства и горное дело. Бонапарт усиленно поощрял ученых к новым изобретениям. Он всячески старался снискать расположение буржуазии, хотя не забывал и крестьянства: благодаря многим искусным мерам поднималось и сельское хозяйство. Наполеон создал и величавый колониальный план. Но тут-то цезаризм получил первое предостережение. Наполеон восстановил в Вест-Индии рабство – и негры взбунтовались на острове Сан-Доминго под начальством талантливого “Бонапарта черных”, Туссена-Лувертюра. С помощью англичан они истребили целую армию французов и основали республику Гаити. Бонапарт бросил свои американские планы, даже продал Луизиану Соединенным Штатам.
Могучая централизация как потребность расшатанной страны быстро поднимала материальную культуру. Не то видим в области идейной. Правда, и здесь возникли крупные, даже поучительные замыслы; но в этой утонченной сфере сразу и ярче всего обнаружились роковые последствия цезаризма и макиавеллизма Наполеона. Мудренее всего оказался религиозный вопрос. Церковь была разрушена. Неприсяжное духовенство, или “ослушники” революции, боролось с “конституционным” клиром; а оба они враждовали с феофилантропами, или деистами, которых поощряла Директория. Хаос возрастал от открытого исповедания своих вер протестантами, евреями и разными сектантами. Если под конец Директория перестала преследовать католицизм и массы снова склонялись к нему, то никто не сочувствовал папству, которое все время враждовало с Францией: все радовались, что развязались с Римом благодаря революции, которая порвала всякие предания и конкордаты.
Казалось, менее всего мог сокрушаться об этом Бонапарт, относивший зависимость от престола св. Петра наравне с феодализмом в разряд “предрассудков, которые должны быть подавлены французским народом”. Вдруг мир был поражен конкордатом (1801 год), который первый консул заключил с новым папой – добрым, миролюбивым старцем, Пием VII. В силу этого документа, католицизм восстанавливался во Франции, но лишь как вера “большинства народа”. Его культ “свободен”, но “соответственно полицейским правилам”. Епископы назначаются первым консулом: папа дает им лишь “каноническую инвеституру”, или церковное постановление. Они ставят несменяемых священников, но с “благословения” правительства. Все духовенство приносит присягу “в повиновении и верности правительству” и обязуется “доносить обо всем, что узнает зловредного для государства”. Папа признает церковные имущества, отобранные революцией, за их новыми владельцами. Первый консул пользуется у церкви всеми преимуществами прежних королей, а сам признает светскую власть папы. Мало того. Бонапарт уже сам, без папы, издал “Органические статьи католического культа”, заимствовав их отчасти из декларации 1682 года, этой хартии свобод галликанской церкви. Здесь правительству разрешалось даже вмешиваться в догму; и церковные дела вообще поступали в ведение “высшей полиции”, как заметили в Государственном совете.
Французы тогда же назвали это новое духовенство “священною полицией”. Сам Бонапарт приравнивал свою “поповщину” к жандармерии и так утешал друзей свободы: “Это – прививка религии, после которой она исчезнет во Франции через пятьдесят лет”. Захватив в свои руки церковь, Бонапарт стал холить ее как “твердую и прочную опору государства”. Он не жалел денег и почестей для клира и восстановил старый церковный церемониал. В то же время были отменены республиканские праздники, а у феофилантропов отняли церкви. Но тут цезарь сделал крупную ошибку. Конкордат вызвал бурю среди вольтерьянской нации, особенно со стороны интеллигенции, членов палат и даже товарищей консула по армии. А главное – жандармерия в рясах оказалась “преторианцами”. Ведь конкордат был восстановлением светской власти пап, а каноническая инвеститура – тем их оружием, которое привело Генриха IV в Каноссу.
Легче было справиться с просвещением народа. В 1802 году уже возникла целая воспитательная система по плану Конвента. В средних школах, или лицеях, было установлено реальное образование, с новыми языками; над лицеями возвышалось до десятка специальных заведений, по преимуществу для изучения точных и опытных наук. Но в систему Конвента вложили новую душу. Педагогика стала монополией правительства, которое определяло школьный быт до мелочей. Все было направлено к развитию узкой практики, ремесленничества: даже в академии было закрыто отделение политических и нравственных наук. Лицеи были закрытые заведения, переполненные офицерами и священниками: они походили не то на казармы, не то на иезуитские школы. Девочек не полагалось обучать вовсе. Для масс Бонапарт считал достаточным давать “религию да самое необходимое”: мысль революции о даровом обучении казалась ему “романом”. Печать периодическая была ограничена восемью газетами с восемнадцатью тысячами подписчиков; да и те получали выговоры, если не руководствовались казенным “Монитером”. Книги представлялись в полицию на просмотр до продажи. Из авторов Констан и Шенье были исключены из Трибуната и лишились права писать. Г-жа Сталь была изгнана из Франции за несколько слов в своей гостиной. Бонапарт требовал даже, чтоб англичане выдали ему чернивших его “памфлетистов”.
Сделать так много в четыре с половиной года, в таком духе и среди труднейших военных задач, можно было только при тогдашнем состоянии общества. Сначала и в массах были отчетливо видны следы Просвещения и революции, а среди интеллигенции встречались люди стойких убеждений и даже такие значительные женщины, как Сталь. Трибунат, где заседали Карно и Лафайет, называл себя “защитником свободы”. Его вождем был любимец г-жи Сталь, Бенжамен Констан, сказавший, что без независимости этого учреждения будет “молчание, которое услышит вся Европа”. Против конкордата восставали даже все высшие учреждения и личные друзья Бонапарта. Слышался ропот и среди военных, особенно в рейнской армии, у Моро, который презирал милости соперника, в то время как Карно даже удалился из отечества. Работали и политические партии. Конституционалисты собирались в салонах г-жи Сталь и красавицы Рекамье. Якобинцы внушали особенный страх Бонапарту, хотя самыми опасными были не они, а роялисты, которые были в сношениях с самою Жозефиной, уже боявшейся развода. Поддерживаемые иностранными штыками и английским золотом, друзья Бурбонов прославились в конце 1800 года “адскою машиной” – бочонком пороха, который чуть не взорвал первого консула при его проезде в Оперу. К ним примыкали военные с Пишегрю и Бернадотом во главе. Пишегрю прибыл тайком в Париж, чтобы поддержать подстроенный англичанами заговор главаря вандейцев, Кадудаля. Но Фуше сумел погубить их обоих.
Вскоре прекратились и заговоры, и оппозиция. Бонапарт сначала угождал республиканцам, потом начал ссылать их как “идеологов” и тихонько гильотинировать, причем был рассеян и кружок г-жи Сталь. Одновременно посыпались милости на роялистов как на людей, привыкших повиноваться. Эмигранты ехали назад массами: им возвращали имущество и давали должности. Большинство “да” на плебисците о пожизненном консульстве принадлежало роялистам: этот плебисцит должно считать разрывом Бонапарта с людьми 1789 года. Бонапарт приписал даже “адскую машину” якобинцам, чтобы расправиться с ними по-военному. Тогда же самая опасная, рейнская, армия была отправлена на Сан-Доминго, а ее начальник, Моро, был отдан под суд за мнимое участие в заговоре Кадудаля и должен был удалиться в Америку. Так были усмирены “идеологи”. Но нужно было дать острастку и роялистам, а главное – разбить их старый кумир: и явилась жестокая расправа с Бурбонами в лице герцога Энгиенского, последнего представителя той фамилии Конде, которая именно не одобряла заговора Кадудаля. Этот юный принц занимался только любовью и охотой в Бадене, у границ Франции. Французские драгуны схватили его и примчали в Венсен, где он был расстрелян (март 1804 года), хотя военный суд убедился в его непричастности к заговорам. Бонапарт был прав только в одном: герцог Энгиенский, оставаясь надеждой роялистов, всегда мог занять место братьев Людовика XVI. Талейран и Фуше советовали пресечь эту бесконечную цепь заговоров. Наполеон перед смертью оправдывал казнь принца.
Такая беззаветная сила сломила и без того подорванное общество. Герои оппозиции замолкли, как вожди без армии. Их окружали хотя и потомки Просвещения, но люди, утратившие волю от переутомления, вызванного бурями революции. Для такого поколения, мечтавшего только о личном покое, дельный, могучий абсолютизм был благодеянием. Трудовая масса рада была порядку, при котором могла сколотить домишко, тем более что она сбывала в войска лишние рты; а главное, она была уверена, что “капральчик” защитит ее от знатных хищников. Новая буржуазия чуяла наступление своего царства при хозяине, который так ценил богатство и тотчас отменил прогрессивный налог. Войны были золотым дном для новых подрядчиков и биржевиков, а роскошь Тюильри поддерживала богатых промышленников. Наконец поднимались и привилегированные, которые и послужили главной закваской сервилизма, или раболепия.
Не прошло и двух лет, как общество стало неузнаваемо. Поэт Шенье воскликнул тогда: “Наши армии десять лет сражались, чтобы мы стали гражданами, а мы вдруг превратились в подданных!” Когда явилось пожизненное консульство, законодательный корпус украсился бюстом повелителя. В “день Наполеона” (15 августа) Париж заблистал магическими N.B. (Napoleon Bonaparte). Всякая оппозиция прекратилась. Гробовое молчание сопровождало “очищение” Трибуната: и когда сюда был внесен вопрос об императорстве, один Карно излил свою республиканскую душу; остальные трибуны сравнивали Бонапарта с Карлом Великим и даже с Геркулесом.
На такой почве быстро возрождался “свет” старого порядка до мелочей – до одежды и “мусье”, вместо “гражданина”. Чопорная набожность овладевала всеми. В литературе образовался кружок моралистов, поощряемый Жозефиной: он начал нападать на “материалистов и вольнодумцев”. Отсюда вышел “Гений христианства” Шатобриана (1802 год) – это Евангелие реакции. Рядом процветало рифмоплетство в формах лжеклассицизма, который овладевал и искусством. Этот разрыв с демократией и республикой был запечатлен рядом таких мер правительства, как учреждение ордена Почетного Легиона. “Этими презренными погремушками можно управлять людьми!” – воскликнул Бонапарт и не ошибся. Возврат к старине выражался наглядно в быте Тюильри. Получая уже шесть млн, франков на свою особу, Бонапарт завел настоящий двор. Здесь воскресли парики, расшитые кафтаны, “камергеры” и эмигранты, аудиенции, чопорный этикет и блеск балов. А среди этого внешнего веселья и изящества небожителей кипели драмы корсиканского клана. Хитрая сестра Наполеона, Каролина, превосходившая волей своего мужа, Мюрата, была инициатором козней. С ней соперничал интриган Люсьен, которого наконец выгнали из Франции.
И вся эта многообразная жизнь текла среди почти постоянных войн. Они нужны были и для утверждения присвоенной власти, и как требование истории: они были прямым продолжением предшествовавших событий. Войну вызывали уже дерзкие ответы Англии и Австрии на мирные предложения Бонапарта. Эти державы надеялись на ослабление Франции после побед Суворова. У Бонапарта действительно было меньше сил, но его армия была отлично подготовлена. И он озадачил австрийцев внезапным переходом через Альпы, достойным Ганнибала и Суворова. В июне 1800 года Бонапарт натолкнулся у Маренго на все силы врага и был сломлен их численностью. Его спас бескорыстный Дезе, который сам пришел со своей дивизией на выручку товарищам, заслышав пальбу. Маренго осталось за Бонапартом, который приписал себе его славу. Но он гениально воспользовался победой, выказав себя великим стратегом. Маренго дало Наполеону неоспоримое владычество над Францией. В то же время благородный Моро столь же гениально расправился с австрийцами в Германии: его подвиг у Гогенлиндена – одна из самых блестящих побед начинавшегося века. Сам Бонапарт воскликнул, что соперник превзошел его. Моро принудил Франца II к Люневилъскому миру (февраль 1801 года): весь Рейн делался границей Франции; Тоскана стала королевством Этрурией, которое Бонапарт отдал, для потехи, одному полоумному испанскому Бурбону, получив за это Парму, Эльбу и Луизиану.
Никогда еще Франция не была так могущественна. Германия и Италия поступали под ее влияние: там шла секуляризация, здесь легатства и Модена присоединялись к Лигурийской республике. Если папа и Бурбоны уцелели в Риме и Неаполе, то св. отец стал орудием Бонапарта, а Фердинанд IV принял его корпус в Тарент и закрыл свои гавани для Англии. Затем Наполеон склонил Пруссию на свою сторону и поставил в Испании покорное ему министерство Годоя: Иберийский полуостров закрыл свои гавани британским кораблям. Наконец Бонапарт подбил Павла I потребовать себе Мальту у англичан: те, конечно, отказали, и царь воскресил против них вооруженный нейтралитет Екатерины II, в союзе со Скандинавией и Пруссией, которая даже захватила Ганновер.
Так подготовлялся смертельный удар заклятому заморскому врагу Франции. А Англия и без того уже чувствовала весь ужас такого бича, как борьба с великой республикой. Нелегко достигалась даже выгода на море, особенно в борьбе с голландцами: здесь встречались поражения – однажды герой Нельсон потерял руку. А на сухом пути все британские миллионы шли прахом, словно служили к прославлению соперницы. Надменному Джону Булю уже приходилось дрожать за собственный дом. Его упорному министру Питту тяжело было видеть, как война губила все здание благосостояния Англии, которое он возвел с таким трудом. Торговля пала; купцы банкротились; банки лопались; бумажные ценности понизились на пятьдесят процентов; государственные долги возросли до двенадцати миллиардов. Имея лишь ничтожное войско с негодными офицерами из аристократов-кутил, Англия выплачивала громадные субсидии жадным членам коалиции на материке. На это уходило золото – и Англия вдруг стала жалкою страной бумажек, объявив принудительный курс для билетов своего банка. Бумажки господствовали до конца войны, увлекая даже Питта в гибельную расточительность и развивая ажиотаж в обществе. Рядом следовали, друг за другом, сначала иностранные займы, потом тяжкие налоги. Под конец Питт взялся даже за походный и прогрессивный налог, столь ненавистный богачам, хотя он старался выгородить крупных землевладельцев.
Богачи и знать вообще сваливали бремя войны на пролетария, как и везде, причем обогащались поставщики и банкиры. Народ доходил до нищеты. Однажды толпа выбила стекла в карете Георга III, крича: “Долой Питта, войну и голод!” Вспыхивали бунты среди моряков, которых держали впроголодь, почти без жалованья, сажали в какие-то клетки на целые годы, драли “кошками с девятью хвостами”. Раз они появились в устьях Темзы на корабле с красным знаменем “плавучей республики”. Глухое недовольство овладевало массами, и в Ирландии все было готово к поголовному жестокому восстанию. А Питт с каждым годом вдавался в материковый деспотизм. Был отменен Habeas Corpus; были запрещены сообщества, сходки, читальни; преследовали писателей и издателей, типографии и журналы. Так, для британца новый век начинался полным арсеналом торийской реакции, финансовым крахом и голодовкой в Англии, зверствами в Ирландии, миллиардами фальшивых ассигнатов и массой шпионов-подстрекателей во Франции – словом, материальным, политическим и нравственным банкротством.
Мало того. Англия теряла свое обаяние в Европе: она становилась своего рода государством-пиратом. Британцы блокировали порты, наседали на прибрежных жителей, обогащались торговыми призами[3] даже за счет нейтральных. Они навсегда захватили Мальту и распоряжались Египтом. Овладев Средиземным морем, они бросились в северные воды и здесь прославились тем, что зверской битвой у Копенгагена принудили датчан отказаться от вооруженного нейтралитета. Это вызвало негодование всего материка и даже Соединенных Штатов Америки, примкнувших к вооруженному нейтралитету. И если Павел I внезапно умер, а его преемник, Александр I, замирился с Англией, то он же заключил дружественный договор с Францией.
Бонапарт чувствовал, что весь материк был в его руках для расчетов с Англией. Везде, от Германии до Португалии, стояли отряды его войск; все берега, от Балтики до Атлантики, повиновались ему. Отовсюду текли деньги в его военную кассу: в бюджете Франции возникла новая статья – “внешние доходы”, то есть сотни миллионов, которые взимались даже в мирное время не только с покоренных или враждебных, но и с союзных наций. Бонапарт уже собирался броситься на непокорный остров: стояла наготове масса перевозочных судов для “армии булонского лагеря”. Англия сдалась: последовал Амъенский мир (март 1802 года). Франция отступалась только от Ионических островов, впрочем, превратив их в республику Семи Островов; Англия же возвращала Египет султану, Мальту – иоаннитам, а французам – все свои завоевания на море.
Все ликовали. В глазах французов Бонапарт, объявивший о “закрытии храма Януса”, становился Генрихом IV. Но Наполеон видел дальше других. Он сказал: “Между старыми монархиями и новою республикой всегда будет господствовать воинственное настроение”. И враги вызвали его на ужасную борьбу. Англичане кричали, что Амьенский мир есть утверждение нестерпимого владычества Франции на материке, и не думали отдавать Мальту. Они держали у себя эмигрантов и снаряжали в Париж новых заговорщиков. Их печать изливала потоки грязи на “исчадие революции”. Наконец Георг III потребовал от Бонапарта оставить Мальту за Англией, очистить Голландию и Швейцарию и вознаградить сардинского короля. И англичане начали войну до ее объявления (май 1803 года), когда у Наполеона ничего не было готово. Но французы тотчас же вступили в Ганновер, и Бонапарт продал Луизиану Соединенным Штатам, что потом привело к войне между ними и Англией. Французы искренно поддерживали своего консула, пылая ненавистью к бесцеремонным британцам.
Но Англия поспешила опять превратить свою борьбу с соперницей в европейскую войну. Ей помог в этом сам Бонапарт. Он вообразил, что никто не посмеет перечить ему, и начал переделывать Европу, причем всюду искоренялись пережитки феодализма, вводился Кодекс Наполеона, водворялся порядок. В Батавской республике явился “регент” – наперсник Наполеона. Цизальпина превратилась в Итальянскую республику во главе с “президентом”, которым стал сам первый консул. Его наперсники сделались президентами республик Лигурийской и Луккской, а Пьемонт превратился в шесть департаментов Франции. Бонапарт стал “великим посредником Гельветской республики”, защищая там демократов против олигархов, а кантон Валлис, важный в стратегическом отношении, был объявлен республикой, опекаемой французами.
Наконец, была перестроена Германия. Габсбурга вытеснили из нее; были уничтожены и его опоры – духовные князья и имперские города, а усилились наперсники Бонапарта – южные князья да Пруссия. Из массы независимых владений в Немецкой империи уцелело лишь с полсотни более крупных государств да шесть вольных городов; число курфюрстов возросло до десяти. Такова была знаменитая “секуляризация”, которая служила завершением Реформации, бранденбургской политики и Вестфальского мира. Ее план был составлен еще Сиейесом в 1795 году. Теперь он вошел почти дословно в роспись Талейрана, которая была оформлена в виде “протокола имперского сейма” (февраль 1803 года). А пока составлялась роспись, имперские князья наполняли его передние, ухаживали за его лакеями, носили на руках его собачку, забывали на его столе драгоценные табакерки с червонцами.
Сам Наполеон обнародовал отчет своего агента на Востоке, где было сказано: “Теперь достаточно шести тысяч французов, чтобы вновь завоевать Египет”. Один его генерал уже возмущал туземцев в Индии. Вскоре убийство герцога Энгиенского показало, как длинны руки у Бонапарта. Он воскликнул тогда: “Пусть же знают враги моей политики, на что я способен, и оставят меня в покое!” И явилась новая государственная печать, в виде “парящего орла”.
Недоставало только короны. Если выскочка, казнивший Бурбона, не мог назваться “королем”, то был титул императора, принадлежавший легионам Цезаря. Об этом давно уже хлопотали сподручные первого консула, в особенности из полицейских. Во время процессов Пишегрю и Моро появились чиновничьи адреса Бонапарту. Затем Сенат, вдохновленный Фуше, просил “великого человека” сохранить “сынам содеянное им для отцов”. Первый консул обещал подумать: в челобитной сенаторов не было слова “империя”. Тем временем законодателям грозили “нетерпением армии совершить революцию, которая должна быть делом гражданских властей”. Наконец Трибунат высказался в пользу наследственной империи, хотя и прибавил, что ожидает “сохранения выгод революции и прав и свободы народа”. В мае 1804 года явился сенатус-консульт, составляющий “конституцию XII года” – шестую с начала революции: он “доверял республику императору” наследственно. Бонапарт тотчас же принял титул Наполеона I, “императора французов”, хотя имя “республики” красовалось еще года три. Плебисцит дал три с половиной миллиона “да” и две с половиной тысячи “нет”.
2 декабря совершилось коронование, напоминавшее дни короля-солнца. Наполеон не согласился только причаститься, опасаясь яда итальянских прелатов; зато он тогда же обвенчался, хотя и тайно, с Жозефиной. Обряд коронования совершал сам Пий VII, в ожидании Пипинова дара. Но он получил только восстановление григорианского календаря, и тогда же иезуиты были изгнаны из Франции. Полгода спустя Наполеон был коронован в Милане как итальянский король.
Глава IV. Император. Борьба за миродержавие. 1804 – 1807
Ставши императором, Наполеон еще больше спешил жить. Особенно поразительна его неусыпная деятельность в период расцвета сил – до 1808 года. Тогда-то, наряду с почти беспрерывными “кампаниями”, шла неустанная работа внутреннего устроения Франции. Но она могла совершаться только урывками, и в ней уже не было творчества: развивалась величавая машина консульства. Эта машина оказалась бы прямым возвратом к старому абсолютизму, если бы ее сила не лежала в могучей централизации, искоренявшей пережитки феодализма.
Старый дух в новой форме проявлялся наглядно в Тюильри. Сам император назывался “Божией милостью” и получал двадцать пять млн. франков в год. Воскресли “Madame”, “французские принцы”; к ним прибавились “великие сановники” и “великие служители империи”, в том числе шестнадцать “маршалов”. У супруги, матери и сестер императора завелись свои дворы с пышными штатами. Все это щеголяло титулами высочеств, сиятельств, превосходительств: сама Жозефина называла мужа не иначе, как ваше величество и государь, и братья не смели садиться в его присутствии. Тут главным культом был этикет, по строгим правилам времен Людовика XIV. Он соблюдался на всех балах, маскарадах, охотах, сценических представлениях, в особенности же на торжественных аудиенциях, где собиралось до двухсот высоких особ, при всем дипломатическом корпусе. Живописны и величавы были также церковные службы в такие праздники, установленные декретами (указами), как день неизвестного итальянского святого (Наполеона) и первое декабрьское воскресенье – в годовщину коронации и Аустерлица. Столь же пышно была представлена империя за границей: французский посланник в Петербурге получал до восьмисот тысяч франков в год.
Все принимало “августейший” вид: даже сестры-республики переименовались в королевства. И постепенно целая династия Наполеонидов заняла престолы Европы. Император женил брата Жерома и пасынка Евгения на принцессах Вюртемберга и Баварии. Сам он стал “братом” в семье монархов. Оставалось породниться с ними кровью, тем более что Жозефина была бесплодна. Лет десять боролся Наполеон против мысли о разводе, на котором настаивали родные, политиканы, наконец, почти вся нация. Но на вершине своего могущества он посватался за сестру императора Александра I, Екатерину Павловну. Получив отказ, Наполеон принудил Франца II выдать за него свою дочь, Марию-Луизу (1810 год), которой едва исполнилось двадцать лет. Жозефина уступила лишь после долгих мучений. Года через четыре она умерла в своем Мальмезоне. Год спустя после свадьбы Мария-Луиза подарила императору сына, которого он назвал римским королем.
Началось также “упрощение и улучшение учреждений”, особенно после Тильзита, когда победитель возвратился в полной славе. Законодательные органы превратились в закрытые комитеты, наполненные принцами да пожилыми сановниками. Их заседания стали почти пантомимой: в 1811 году протоколы одиннадцати заседаний заняли менее пятидесяти страниц, а в 1812 году вовсе не было заседаний. К этим законодателям перешли дела Трибуната, который был закрыт как “след мятежного, демократического духа”. Все законодательство стало осуществляться посредством декретов или сенатус-консультов, продиктованных императором. Это отразилось ярко на уголовном кодексе, построенном на жестоком указе 1670 года, хотя, по настоянию самого Наполеона, в нем были сохранены присяжные и защита. Суды стали “императорскими”; в них было нарушено начало несменяемости, чтобы очистить их от республиканцев. Мировая юстиция была стеснена полицейскими и “специальными” судами. Возникло еще “административное” правосудие, где чиновники судили сами себя. Администрация была усилена возвышением покорных министров (каждый получал не менее двухсот тысяч франков в год) да увеличением власти префектов и мэров. Полиция разрослась в особое министерство. Шпионство доходило до того, что особые сенаторы следили даже за чиновниками по провинциям. Явились и тюрьмы для государственных преступников.
Но император больше всего заботился о нервах войны – о финансах и армии. Империя началась чуть не банкротством, а в 1811 году выдерживала полтора миллиарда франков издержек. Развивая финансовые учреждения, Наполеон особенно улучшил контроль и акцизное ведомство, которое ввело даже соляной налог и табачную монополию. Под конец он даже брал подати за полгода вперед и сваливал часть издержек казны на общины. Но главным источником доходов стала война. Возникла “сокровищница армии” из контрибуций, реквизиций, конфискаций, секвестров. Здесь числилось в 1810 году на 755 млн. франков движимости и такая недвижимость, что годовой доход с нее достигал сорока млн. Эти деньги шли не только на военных, но и на преданнейших из гражданских чиновников, а также на старую аристократию. В 1810 году тратилось до 29 млн. франков на “даяния” (dotations), не считая случайных подарков, которых было не меньше; остальное расходовалось на покрытие дефицита, причиняемого войнами. Суммы самого императора составляли особый отдел финансов в виде даяний короны, частного домена, уделов принца и принцесс. Сюда входили земли и дворцы монархов, дары, наследства, покупки, – всего более чем на тридцать миллионов.
С такими средствами император стал энергично двигать вперед экономическое развитие страны. Возникло министерство торговли и промышленности (1811 год); явился практичный торговый устав (1808 год), опиравшийся на указы XVII века. Не жалели средств на улучшение сельского хозяйства: осушали болота, охранялись леса, разводились луга. Плодопеременная система вытесняла трехпольную, свекловичный сахар заменял тростниковый, растительные масла стали даже вывозить за границу так же, как вина и скот. Введение испанских мериносов утвердило шерстяное производство. И крестьянин уже чувствовал некоторый достаток. Но главные заботы были направлены на промышленность: здесь приходилось бороться с Англией. В одном 1811 году, когда подготовлялся русский поход, было издержано двадцать млн. франков “на поддержание коммерции”. Завелись постоянные выставки; фабрикантам делались всякие поощрения; иногда казна передавала им собственные образцовые заводы. Возник Общий мануфактурный совет (1810 год), и посыпались открытия и изобретения. Наконец, Наполеон расширял фабричное законодательство: и тут, при быстром развитии дела, сама собой падала регламентация или стеснительная формалистика. Впрочем, промышленною свободой пока пользовались одни фабриканты, хотя не забывали и кустарей. Что же касается рабочих, то новые указы были тяжелы для них, тем более что их споры с хозяевами разбирала полиция; особенно невыгодны были для них расчетные книжки и воспрещение стачек.
Последствия этой промышленной деятельности были поразительны: в десять лет почти беспрерывных войн возместилось с лихвой все, утраченное в революцию. Французские изделия стали первыми в Европе. Французы начали вывозить многие товары, в особенности несравненные шелковые и шерстяные ткани. Промышленность поддерживалась еще изумительными общественными работами, на которые было истрачено при империи полтора миллиарда франков: вырастали целые города, не говоря уже про порты, крепости, каналы, дороги. В то же время принимались меры оздоровления (оспопрививание), заводились богадельни и больницы, воздвигались статуи и так далее. А из Парижа Наполеон хотел сделать “что-то сказочное, колоссальное”: сооружения были в разгаре даже в 1813 году!
Все эти чудеса совершались среди войн, доводивших императора иногда и до колоссальных ошибок. Такою была континентальная система, этот “крестовый поход Европы против Англии”, гибельный для обоих великанов. Впрочем, и тут Наполеон лишь продолжал старинное дело: уже Директория мечтала о закрытии европейских гаваней для английских товаров, а таможенная политика консульства была лишь воспроизведением указов Людовика XIV против испанцев. Она состояла в закрытии французских гаваней для британских товаров. В ответ на это Англия объявила о блокаде французских портов. Тогда Наполеон издал декрет о “континентальной блокаде” (1806 год), причем всякая собственность англичан на материке становилась его добычей, а они сами – военнопленными. Масса английских товаров была сожжена: материк остался без сахара и кофе. В Англии пошатнулась вековая промышленность, а Франция превращалась в фабрику для всего материка. Но замерла торговля и развилась неслыханная контрабанда: вскоре сам Наполеон принужден был продавать своим купцам “дозволения” торговать с Великобританией. Между тем континентальная система возбудила всеобщую ненависть: она разоряла народы, ради нее Наполеон захватил Голландию, Ольденбург и ганзейские города. А это поссорило его с братом Люи и соратником Бернадотом и было первым поводом к разрыву с Россией.
Ненависть вызывалась еще больше мерами императора в области “идеологии”. Церковь начала упорную борьбу с цезаризмом. Пий VII открыто дружил с Англией и Австрией. За это последовал шенбруннский декрет о прекращении светской власти пап (1809 год), а Церковная область превращалась во французский департамент. Папа издал отлучительную буллу против “насильников”. Жандармы императора схватили его в полном облачении и привезли в Савону. Здесь больного старика подвергли одиночному заключению; у него отняли все – до письменного прибора и молитвенника. Наконец Наполеон собрал в Париже, под председательством дяди Фуше, “национальный собор” для утверждения новых епископов. Но владыки потребовали освобождения папы. Однако Фуше усмирил этих “церковных сторожей”, бросив некоторых из них в тюрьму. А измученный Пий VII был привезен в Фонтенбло, где его принудили подписать примирительный конкордат (1813 год). Но вслед за тем он вдруг опять воспрянул духом и издал отречение от этого конкордата. Тут к границам Франции подошли союзники, и Наполеон отпустил свою жертву в Рим.
Отношения императора к другим религиям оставались прежними. Но его терпимость нашла особенно яркое проявление в еврейском вопросе, который занимал его и с политической точки зрения. Получив права при революции, евреи устремились отовсюду в Эльзас; но они жили там особняком, увлекались ростовщичеством и уклонялись от воинской повинности. Император задумал “организовать из них нацию”. Так как у евреев не было главы, то он собрал “великий синедрион” (1806 год) из представителей всех синагог Европы. Наполеон предложил ему такую реформу, чтобы “у евреев осталось одно только еврейское – догма” и чтобы они вышли из того состояния, в котором “религия – единственный гражданский закон, как у мусульман и вообще в детстве народов!” Евреям предоставлялась религиозная свобода наравне с католиками, но с тем, чтобы они повиновались законам, в особенности же отбывали воинскую службу, ради чего вводились и фамилии. Так мозаизм стал одною из четырех “признанных” религий, наравне с греческой, англиканской и мусульманской. Все они сами содержали свое духовенство и подчинялись той статье уголовного кодекса, по которой требовалось разрешение для всякого сообщества свыше двадцати человек.
Нигде цезаризм империи не проявлялся так ярко, как в деле наиболее чуждом ему – в просвещении. Теперь-то идеал казенной учебы вполне осуществился под видом императорского университета (1808 год), который представлял собой совокупность власти в области педагогики, или министерство просвещения. То была, другими словами, “корпорация” педагогов с военной дисциплиной. Во главе университета стоял “великий учитель”, которым был назначен придворный поэт Фонтан, заклятый враг “идеологии” и “философской партии”. Ему подчинялся целый штат “общих и частных инспекторов”. Университет объединял в себе все школы, не исключая частных. Его дух определялся следующими словами указа: “Его величество желает иметь корпорацию, которая была бы недоступна лихорадочным припадкам моды, указывала бы добро и предостерегала от зла; он надеется найти в ней защиту от вредных теорий, служащих к потрясению общественного строя”. Для масс это пояснялось “императорским катехизисом”, где читаем: “Господь сделал нашего императора Своим подобием на земле, следовательно, почитать императора и служить ему – значит почитать самого Бога и служить Ему”.
Но Наполеон энергично распространял просвещение. Для высшего образования вводились “факультеты”, для подготовки учителей – “Нормальная школа”. Появилось много специальных школ: юридических, медицинских, ремесленных, технических. Особенно заботились о лицеях (род гимназий), которые поставляли чиновников и офицеров. Здесь, на основе равенства всех сословий, больше всего поощрялись таланты: было назначено много стипендий и даже бесплатных вакансий и вообще было удешевлено обучение. Только для девочек ничего не сделали, кроме института девиц военного звания и кавалеров Почетного Легиона: “Им не нужно общественного обучения, так как они не предназначены для общественной жизни”, сказал император.
Больше всего потерпела печать, в особенности периодическая. Восемь газет пробавлялись легкой словесностью да литературными сплетнями. Им запрещалось говорить о разных вопросах, особенно о религии; по политике же разрешались только “внушенные” статьи. И Наполеон все был недоволен газетами: он менял их названия, смещал и штрафовал редакторов да взимал процент с их доходов; иногда даже отдавал весь журнал в собственность близкому человеку. Наконец явился “указ о печати” (1810 год), формально восстанавливавший цензуру. “Печать – казенная служба!” – воскликнул император, и министру полиции было предоставлено право даже истреблять книги, пропущенные цензорами. Сверх того, учредили Общее управление по книжным делам, которое надзирало за издателями и книгопродавцами. Оно ввело массу формальностей и наказаний за их нарушения. Число типографий и книжных лавок было ограничено. В каждом департаменте могла издаваться только одна газета, и то под надзором префекта. Еще рассылались циркуляры – целая казенная литература на разные случаи. Наконец, “черный кабинет” вскрывал частные письма.
После журналистики, театр наиболее интересовал императора. Комедии совсем прекратились; из трагедий давались только риторические, с намеками на “спасителя нации”. Точно так же император преследовал самобытных художников и выдвигал льстивых лжеклассиков. Он делал угодливых писателей академиками, кавалерами Почетного Легиона и даже маршалами; он давал им награды из “контрибуций” с газет. А с непокорными поступали, как с госпожой Сталь. Она вернулась было в Париж для печатания своего романа, но Фуше велел ей убираться в двадцать четыре часа,и она уже не возвращалась в отечество до падения Наполеона.
В обществе развивался тип, зародившийся при консульстве. Император запечатлел его восстановлением знати (noblesse) с ее старыми титулами и правом первородства (1808 год). Он одарял эмигрантов имуществами, завел для их сынков корпуса и “почетную гвардию”. Впрочем, Наполеон велел их богатым невестам выходить замуж за своих генералов-выскочек; и вообще он давал титулы больше за заслуги, чем по рождению. Такими мерами он достиг окончательной прививки “сервилизма” французам. Новая знать, не понимавшая даже сословной чести, доходила до того, что называла императора “его преосвященнейшим величеством” и “избранником Божиим”. Когда победитель Европы возвратился из Тильзита, Сенат сказал ему: “Ваша слава слишком велика. Чтобы измерить эту бесконечную высоту, надо стать на расстояние потомства”. Судьи воскликнули: “Наполеон выше человеческой истории; он выше благоговения!” А сенский префект находил, что все это “выше нашего понимания; и нет другого средства выразить все это, кроме молчаливого изумления, налагаемого благоговением”.
И все это отражалось в литературе. То была слащавая и вылощенная, пустопорожняя и жеманная словесность “света”. Всюду слышались идиллические вздохи, виделись античные символы. Все “описывали” Меланхолию, Мореплавание, Смерть Авеля и тому подобное с прозрачными намеками на “него”. Так как приходилось избегать рассуждений, то писатели стали совершенствовать форму: империя содействовала развитию ясности, изящества, но также кокетливости и вычурности французской речи.
До сих пор мы не касались главного создания империи – “великой армии”. Описание ее послужит нам теперь переходом к чудесам военного поприща императора.
Тут Наполеон не щадил ничего. После Иены он начал брать рекрутов вперед; после Москвы явилась еще “национальная гвардия” – подростки, которых называли “Мариями-Луизами” за их детские личики; а после Лейпцига было объявлено поголовное ополчение. Так в пятнадцать лет завоеватель призвал под знамена более трех млн. французов да столько же иноземцев. Отсюда страшное дезертирство и ослушничество (уклонение от службы), а с 1808 года явное падение знаменитой дисциплины. Солдаты стали мародерствовать: они страдали воспалением кишок; их плохо кормили, ибо, по словам императора, “война должна питать войну”. И вооружение-то у них было плохое: старые кремневые ружья, пушки образца 1765 года, жалкие кони. Но это все-таки была “великая армия”. Она хранила дух военной чести, боготворила вождя и нередко рыцарски поступала с побежденными. Она отличалась самостоятельностью и подвижностью каждой своей части, пылом, сметливостью единиц, уменьем владеть оружием. Она знала один только крик – “вперед!”. Эти молодцы были достойны четырнадцати баснословных походов “гения битв”. Так как смерть, уносившая слабых, делала отличный отбор, то казалось, будто их не брали ни пули, ни болезни, хотя у многих от ран тело было, “как цедилка”.
Особенно блестяща была “синяя” императорская гвардия – сливки великой армии. После Эйлау она была доведена до ста тысяч. Затем лучшею пехотой были рослые гренадеры, которые оттенялись легкими, юркими вольтижерами. Еще живописнее и отважнее была кавалерия, которой почти не знали после Кромвеля и Фридриха II. В тяжелой кавалерии гордостью были “зеленые” конные егеря, в легкой – гусары в мундирах цвета райской птицы. Артиллерия мало изменилась по внешности, но Наполеон придал ей первоклассное значение. Он делал “пробоины” в рядах неприятеля, осыпая их с восьмидесяти шагов залпами из семидесяти – ста пятидесяти пушек.
Таковы были французы “великой армии”. Но она настолько же состояла еще из вспомогательных (вассалы) и иностранных (союзники) корпусов. Тут были лучшие военные силы всех народов, не исключая албанцев и татар. Эти полчища были достойны такой армии по своей отваге и усердию. Они отличались только от французов частью неповоротливостью, частью дикой стадностью. Их красой были полки поляков, бросившихся к Наполеону добровольцами в 1807 году: плохо обученные, не знавшие дисциплины, они блистали пылкой храбростью и изящною выправкой.
Наполеон не успел только устроить флот: он пользовался старьем да силами своих морских вассалов. Но он замышлял обогнать самих англичан: в один год была спущена на воду дюжина линейных кораблей и строилось еще с полсотни водяных великанов.
Солдатам великой армии соответствовали вожди. Правда, легенда придала им колоссальные размеры; исчезли чистые герои революции: Гош, Моро, Клебер, и Наполеону стали претить самостоятельные личности. Все они действовали изумительно под его личным руководством. Император умел и выбирать их, и ценить. Он рано отпускал их на покой и давал хорошие пенсии и места. Он не скупился для них на звание маршала, делал их даже “принцами”, графами и баронами, осыпал их сказочными даяниями (Бертье получал до полутора млн. франков в год). Паладины выходили по преимуществу снизу, из народа. Все они были воинами по призванию – выносливыми, исполнительными храбрецами. В этом смысле были хороши даже такие посредственности, как Бернадот, Ожеро, Жюно, Удино, Груши и др. А над ними возвышалась целая плеяда военных светил. Бертье был образцом начальника штаба; его помощник, Жомини – великим военным теоретиком. Из полководцев Сульт и Массена прославили бы эпоху, если бы подле них не было Наполеона. Немного ниже их стояли “Диоскуры великой армии” – Даву и Мармон. Затем следуют не особенно талантливые, но несравненные храбрецы – Ней, Ланн и Мюрат.
Но у этого блестящего сонма паладинов хромала нравственность – даже по сравнению с основной массой “великой армии”. Правда, и тут легенда преувеличила: нужно еще удивляться, сколько было отрадных исключений среди этих питомцев кровопролития и бурной эпохи. Нельзя не сочувствовать рыцарственности Мортье и Лористона, доброте Макдональда и Даву, честности республиканца Журдана, правдивости Бертрана, благородству Удино, великодушию к врагам Нея, бескорыстию Бессьера. И самым идеальным полководцем был талантливый пасынок императора, Евгений Богарнэ. Но вообще грехи паладинов равнялись их подвигам, и чем дальше, тем больше. Ими руководило алчное корыстолюбие: они даже хвастались своей ловкостью контрабандистов и беспощадностью разбойников. Бернадота и Ожеро даже солдаты называли “денежными телегами”, а Массена до того проворовался, что Наполеон отнял у него шесть млн. франков и уволил его в 1812 году. “Они не хотят больше драться! Я слишком обогатил их!” – восклицал император про своих маршалов. Наравне с алчностью этих выскочек обуревало поразительное честолюбие, доходившее до детского тщеславия, и хвастовство. В то же время эти поклонники успеха были холопами своего владыки. Оттого тут перед нами и ряд предателей и таких смешных завистников, как Бернадот, Ожеро, Мармон. Первыми изменили Наполеону его Вениамины: Бертье, Даву, Мюрат, Сульт, Удино, Ней, Мортье.
Богатырская работа Наполеона-правителя в конце концов подрывала его собственную будущность; но на первых порах она содействовала невиданной централизации сил, которая давала ему мимолетный перевес в мировой борьбе.
А борьба была неизбежна. Могучий император сказал тотчас после коронации: “Не будет покоя Европе до тех пор, пока она не подчинится единому начальнику”. И он назначил своего пасынка Евгения вице-королем Итальянского королевства, к которому добавил еще Лигурийскую республику; а Лукка была превращена в княжество для его шурина, Баччьоки, мужа Элизы Бонапарт. Впрочем, Наполеон не думал воевать, уверенный в послушании Европы. После страшного Маренго он охладел к брани, углубился в дела правления. Он снова умолял Георга III “подчиниться голосу разума и человеколюбия”. Но история требовала войны. Англия и не думала бросать тяжбу, завещанную консульством. Ее правителем снова стал неукротимый Питт, вышедший было в отставку ради Амьенского мира. Он опять подготовлял крестовый поход против “бандита” материка. Кстати, последний сам затронул интересы Австрии и России.
Запуганного Франца II ободряло поведение нового царя. Напрасно Наполеон внушал в Петербурге свою любимую мысль: “Обе державы, стоящие по краям Европы, не могут вредить друг другу, а, соединясь, могут иметь повсюду важное влияние”. Александр I, при всем своем либерализме того времени, сразу выказал консерватизм во внешней политике: сказались наветы англичан, ропот “патриотов”, или “староруссов”, да гатчинское воспитание. Последнее тотчас же привело к мемельскому свиданию (1802 год), где завязалась роковая дружба с Фридрихом Вильгельмом III, скрепленная “платоническим кокетством” двадцатичетырехлетнего царя-рыцаря с “волшебницей”: молодой, красивой, бойкой королевой Пруссии, Луизой. В то же время Россия поднимала “восточный проект” Екатерины II, предполагавший присоединение Молдо-Валахии, Каттаро, Корфу, а там – и Константинополя. И Александр вдруг восстановил требование своего отца в пользу королей Сардинии и Неаполя, которое, естественно, оскорбляло Наполеона как беспричинное вмешательство в его дела. Затем он объявил траур при дворе по “убиенному” герцогу Энгиенскому. Образовалась третья коалиция – Англия, Россия, Австрия, Неаполь и Швеция, – располагавшая полумиллионной армией. В сентябре 1805 года союзники открыли кампанию: австрийцы внезапно захватили Баварию.
Наполеон погибал: за него были только ничтожные потентаты Баварии, Вюртемберга и Бадена, одаренные им в Раштатте. Ему приходилось бороться чуть не со всею Европой и вести, вопреки его правилам, оборонительную войну. Зато его гений никогда еще не проявлялся в таком блеске. Император серьезно работал тогда над высадкой в Булони. Чтобы подготовить ее, он велел своему бездарному адмиралу напасть с помощью испанской эскадры на англичан, пользуясь превосходством сил. Но британским флотом командовал морской Наполеон, гениальный Нельсон. Он разгромил (21 октября) французов у мыса Трафальгар, близ Кадиса, хотя сам пал в битве, и началось бесспорное владычество Англии на водах. Между тем в конце августа, в разгар приготовлений к высадке, император вдруг продиктовал план кампании, который “предвидел события войны, их дни и последствия, словно набросок воспоминаний о былом”, как выразился Сегюр. И через месяц он стоял уже на Рейне с двумястами тысячами солдат.
Тут ему помогли сами враги. Александр I поторопил Франца II, уверив его в поддержке потсдамского друга, с которым они поклялись в “вечной дружбе” у гробницы Фридриха II. Но друг уже уперся тогда в свой “строжайший нейтралитет”: Наполеон пообещал ему Ганновер, а русская дипломатия, руководимая Чарторижским, мечтавшим о восстановлении Польши, угрожала ему лишением польских провинций. Сами русские спешили “на черепахах и раках”, как изображались они в карикатурах. Выскочившая вперед Австрия находилась, по признанию самого Габсбурга, “в изнеможении”. Ее баварскою армией командовал бездарный Мак – полководец старой школы, к которой принадлежали также его русские и прусские товарищи.
А у Наполеона начались незабвенные марши и хитрости, которые делают честь не одному вождю, забывшему о своем императорстве, но и его сподвижникам. Солдаты опять подшучивали: “Он побил врага не руками нашими, а ногами”. Благодаря почти одним безошибочным маневрам на пространстве более тысячи верст в три недели была уничтожена стотысячная армия; сам Мак сдался с целым корпусом в Ульме (20 октября). Вслед за тем Наполеон узнал о Трафальгаре. Он бросился в ярости вперед, – и через сорок дней Австрия лежала у его ног. А казалось, сам герой попал в западню. Перед ним стягивались к Вене две свежие армии австрийцев; Пруссия прислала к нему Гаугвица с ультиматумом; в Неаполе показался англо-русский отряд. Наконец выступил юный, славолюбивый царь с ветеранами Суворова, которыми командовал хитрый Кутузов. Этот сметливый “старорус” понял, что нужно убираться из Баварии, и отступал искусно. Французы гнались за ним по пятам и иногда брали в плен русских больше, чем было их самих. Они добежали до Моравии. Но тут подоспела свежая русская армия с самим царем во главе, а за нею и австрийцы; с тыла же надвигались пруссаки. Наполеон задержал Гаугвица в почетном плену и решился со своими истомленными восемьюдесятью тысячами дать битву ста тысячам свежих союзников.
Смельчаку помогли враги. Русские поражали своим плохим снаряжением, отсталыми порядками, невежеством и бахвальством офицеров; они держали себя “спасителями Европы”. Австрийцы гнушались этих “варваров”; а их нелепый штаб морил их голодом. Смятение у союзников возросло с приездом обоих императоров. Кутузов настаивал на отступлении, Александр рвался вперед. Наполеон только этого и ждал: он всячески завлекал врага, даже звал царя на свидание как бы из страха, намекая на свое положение. Посланный к нему царем адъютант донес: “Наш успех несомненен. Стоит нам двинуться – и неприятель подастся”. 2 декабря союзники оставили свои грозные позиции, чтобы “обойти” врага у Аустерлица. “Они идут в западню! Эта армия – наша!” – воскликнул Наполеон, потирая руки. Он пробил ослабленный обходом центр русских и разрезал их на две части, из которых одна погибла на льду пруда, взломанном бомбами. Бой трех императоров вышел “необыкновенною” битвой, как и желал победитель. Военные историки начинают с него новую эпоху генеральных сражений. Питт умер от его “призрака”. Аустерлиц разрушил коалицию, но заронил семя мести в души озлобленных монархов. Он – основа миродержавия “рокового человека” и исходная точка пяти великих кампаний (1805 – 1809 годы), сопровождавшихся развалинами старины. Сам Наполеон гордился больше всего “солнцем Аустерлица”.
Ближайшим следствием Аустерлица был переворот в Германии, названный Пресбургским миром, или, как говорили сами австрийцы, “капитуляцией” Габсбурга. Австрия теряла одну шестую своего населения: Венеция с Истрией и Далмацией отошли к Итальянскому королевству, Тироль – к Баварии, австрийская Швабия – к Вюртембергу и Бадену. Франц II стал “Францем I императором Австрийским”. Вслед за тем рухнула восьмисотлетняя Священная римско-немецкая империя (1806 год). Ее место занял Рейнский союз, с протектором Наполеоном во главе, которому он уступал свою стотысячную армию и почти всю Среднюю и Нижнюю Германию (15 млн. немцев). Имперские князья опять лакействовали в передней Талейрана. Многих из них Наполеон медиатизовал, или лишил власти, то есть уничтожил феодальное мелкодержавие Германии в пользу немногих, покорных и родственных ему, государей. Бавария и Вюртемберг превратились в королевства, Баден – в великое герцогство. Вопреки желанию невест и самих женихов, Наполеон женил Евгения и Жерома на принцессах новых королевств и отдал за баденского наследника племянницу Жозефины, ту Стефанию, про близость которой к императору сплетничали тогда.
И настала эпоха Наполеонидов. Сам творец их уже официально принял титул “Великого”: день его рождения стал национальным праздником империи, напоминавшим апофеоз цезарей. Столь же официально объявил он себя “защитником церкви” и стал вполне распоряжаться землями папы. Затем брат Люи был “назначен” королем Голландии. Особенно много вассалов было оставлено в Италии. Там с необычайным шумом рухнуло самое маститое государство – Неаполь. Королева Каролина открыла свои гавани англичанам и русским, и тотчас после Аустерлица явился приказ по войскам: “Неаполитанская династия перестала существовать; покажем миру, как мы караем клятвопреступления”. Жозеф Бонапарт стал “королем обеих Сицилии”. Затем по всей Италии было выкроено двадцать “титулярных” герцогств, владельцы которых не имели власти, пользуясь только титулами да “рентами”. Тут прежде всего были пристроены сестрицы Наполеона. Полина сделалась княгиней Гвастальской, Элиза – великой герцогиней Тосканской, а ее дочь – герцогиней Пармской. Мюрат оказался великим герцогом Бергским, Бертье, Талейран и Бернадот – князьями Невшателя, Беневента и Понте-Корво. Еще позже та же система была распространена на Германию и Польшу.
Возникло новое международное право. Подданные одного государства пользовались правами подданных других государств. С другой стороны, даже короли из Наполеонидов оставались подданными своего творца. Владыка обращался с ними, как с лакеями, и требовал, чтобы они угнетали свои страны ради него. Он даже тем более притеснял их, чем сильнее привязывались к ним подданные за их заступничество и за благотворные реформы. Его Вениамин, Люи, получал от него такие уроки: “Вы управляете слишком по-капуцински. Вы потеряли голову и забываете, чем обязаны мне. Или вам хочется получить всенародное доказательство моего неудовольствия? Вы делаете глупость за глупостью, в ответ на мои советы. У вас самый узкий умственный горизонт, только чувствованьица да скаредность лавочника. Вы неисправимы, фальшивы; вы – изменник!” Немудрено, что Элиза говорила непокорному Люсьену: “Нельзя обращаться с владыкой мира как с нашей ровней. Природа создала нас детьми одного отца, а чудо превратило нас в его подданных. Хотя мы и государи, мы всем обязаны ему”. И Наполеониды слушались своего владыки; а когда он пал, почти все они предлагали ему себя и свои сокровища.
На всем Западе уцелела одна Пруссия. Уже десять лет, с Базельского мира, она лицемерила с союзниками под видом “строжайшего нейтралитета” и без войн удвоила свои владения за счет Польши. Осторожный до трусливости, ненавидевший войну Фридрих Вильгельм III вручил внутренние дела “патриотам”, завзятым немцам Гарденбергу и Штейну, а иностранные – хитрому франкофилу Гаугвицу. Но душой правления оказалась тупоумная, развратная камарилья, опиравшаяся на спесивое и отсталое юнкерство. Наступила глухая реакция, а дипломатия стала таким образцом трусости и коварства, что сами немцы не доверяли Фридриху Вильгельму III. И недаром: юный король явно служил старой гогенцоллернской идее “прусского” объединения Германии. Когда, после Аустерлица, Наполеон предложил ему Ганновер, чтобы поссорить его с Англией, и такую “приманку”, как “северное императорство”, он, “опьяненный радостью”, объявил себя “личным другом мужа века”. Тогда владыка потребовал, чтобы новый друг выступил и против России. Король согласился и на это и поспешил занять Ганновер; но в то же самое время он заключил тайный союз с Россией против Франции! Наполеон еще не знал этого, но столь же тайно предложил Ганновер Англии, где франкофил Фокс сменил тогда Питта. В то же время он под рукой[4] ознакомил немецких князей с “северным императорством”.
Впрочем, Наполеон не думал о войне с Пруссией. Он дорожил ее союзом ввиду неизбежной новой войны с Австрией и Россией. Он даже побаивался Пруссии. Обаяние Фридриха III действовало и на него: он считал хорошею нетронутую двухсоттысячную армию своего берлинского друга, а ее кавалерию – первою в Европе. Наполеон начертал два плана отступления на случай поражения. При отъезде в поход, прощаясь с Жозефиной, он упал в обморок. Зато Фридрих Вильгельм III трусил еще больше; но его увлекло общее движение. Дело в том, что с самой коронации владыки готовилось ему историческое возмездие. Она была разрывом с революционною идеей, в которой заключался весь смысл “звезды” корсиканца. В народах шевелилась подозрительность, закипела ненависть к венчанному обманщику. Постепенно стал обнаруживаться национализм, или “патриотизм”, в смысле желания освободиться от нового тирана. Прежде всего он почувствовался в Пруссии, которая еще не была “проучена”. Во дворце возобладали “патриоты”, во главе которых стояли королева Луиза, брат короля, Лудвиг, и Блюхер. К ним примыкали такие вожди интеллигенции, как Штейн и Александр Гумбольдт. Национализм блеснул и в Германии, особенно среди интеллигенции, в университетах и литературе. Пальм издал горячее “Глубочайшее унижение Германии”. Наполеон расстрелял его, – дело, потрясшее всех не меньше, чем казнь герцога Энгиенского.
Фридрих Вильгельм III вдруг стал собирать войска. То же делал Александр I. Англия, где умер тогда Фокс, дала денег и подняла Швецию. Образовалась четвертая коалиция – такая же, как третья, только с заменой Австрии Пруссией. Пруссия и послала Наполеону дерзкий ультиматум – очистить Германию. Император внезапно явился в Майнц к армии, делая по двадцать пять верст в час. Лишь десять дней спустя тронулась тяжелая штаб-квартира пруссаков с королевской четой. Никто в “отечестве” не поднимался за Гогенцоллерна, а русские опять тащились “на черепахах”. Вождем пруссаков был бездарный старец, герцог Брауншвейгский, рутинер старой школы. Офицерами были кутилы-юнкера, которые морили солдат голодом и истязали, пуская “сквозь строй”. Генералы перекорялись между собой; король и принцы мешали им. Наполеон понял все – и кампания 1806 года вышла слепком с похода 1805 года. Он заманил пруссаков в ловушку и отрезал им отступление на Берлин. 14 октября 1806 года французы одержали разом две победы – под Иеной и Ауэрштедтом. Пруссаки страшно спутались, стреляли в своих. Ужасно было их ночное бегство. Принц Лудвиг и герцог Брауншвейгский были убиты; королевская чета едва спаслась от плена. Пруссия подверглась более жестокому разгрому, чем даже Австрия. Остатки ее армии бежали до самой Польши, причем попали в плен даже Блюхер и Шарнхорст. Крепости сдавались одна за другой. Королевская чета бежала к русским в Мемель.
“Наполеон дунул на Пруссию – и она перестала существовать”, – сказал Гейне. Пред миром совершалось разложение затхлого абсолютизма. Чиновники подползали к победителю с лестью. Интеллигенция снова задумывалась над идеалами революции. В закрепощенных массах не осталось и следа династического патриотизма. Наполеон наложил на Пруссию убийственную контрибуцию и начал взимать с жителей немилосердные налоги. До 1813 года Пруссия оставалась департаментом Франции: она содержала сто пятьдесят тысяч французов, а сама не смела иметь более сорока двух тысяч солдат. Рейнский союз был распространен на север Германии; друг Наполеона, курфюрст Саксонский, стал королем.
Победитель немедленно взялся за расправу с помощниками Пруссии. В Берлине он издал декрет о континентальной блокаде. Затем Наполеон возвестил, что “Франция никогда не признавала раздела Польши” – и поляки дали ему шестьдесят тысяч солдат, а графиня Валевская приласкала его самого. Наконец великий дипломат поднял Порту, которая начала семилетнюю войну с Россией.
Русские опять опоздали и были плохо снаряжены. Они отступали со своим престарелым, больным Каменским. Но их стойкость и выносливость озадачили завоевателя: “Мы деремся, кажется, с тенями”, говорили французы, когда русские падали, не издавая стона, и беззвучно наносили удары. У русских явились и свежие вожди – смелый ганноверец Беннигсен, осторожный остзеец Барклай-де-Толли, спокойный грузин Багратион. На помощь им пришла “неведомая” сила: “В Польше Бог сотворил пятую стихию – грязь!” – воскликнул Наполеон. И она мешала подвозу провианта, а главное, разведке, тогда как ловкие казаки даже перехватывали депеши императора. Оттого не удался ловкий план обойти врага: задать ему Ульм. Наполеон бросался вперед, не вполне узнав дело. А русские тихо, в порядке отступали, все истребляя на убогой равнине, покрытой болотами и прудами, окутанной туманами. Самому императору приходилось питаться добычей солдат и жить в сараях. Незнакомый голод и холод заглянули в глаза непобедимым – и отчаяние впервые закрадывалось в души измученных ветеранов, загнанных за тысячи верст от “милой Франции”: случались самоубийства; пронесся глухой ропот даже в рядах гвардии.
Наполеону пришлось употребить целых томительных полгода, прежде чем враг признал себя побежденным, да и то сохраняя сознание подвига и чувство мести. Четыре битвы в одном декабре 1806 года привели к цели; самая жестокая из них, под Пултуском, осталась даже нерешительной. “Великая армия” впервые стала на зимние квартиры, и Беннигсен сам напал на нее. Правда, ему пришлось отступить, и Наполеон настиг его у Эйлау (8февраля 1807 года); но сам воитель ужаснулся “этой резни” при равных силах и уже отдал приказ отступать. То была первая тяжелая рана “великой армии”. Честь Цезаря спасло “загадочное” отступление русских. Верно одно: гений битв не одержал обычной сокрушительной победы. И на парижской бирже пала рента. Александр I уже заключил договор с Фридрихом Вильгельмом III в Бартенштейне о том, чтобы не слагать оружия, пока Рейн не станет границей Франции.
Но русские пропали на четыре месяца, и Наполеон оправился. “Никогда не чувствовал я себя здоровее”, – говорил он, похлопывая рукавицами. И никогда он не поражал мир такою энергией. В Париж летел целый град распоряжений обо всем – до мелочей цензуры и оперы. А по Европе раскидывалась искусная сеть дипломатии. Наполеон добился мира с Швецией, поднимал Персию, Грузию и Абхазию. Он довел численность армии опять до ста семидесяти тысяч, тогда как у русских было всего сто тысяч. А Беннигсен стал наступать не вовремя, путался, делал промахи. Наполеон напомнил Иену блестящими маневрами – и под Фридландом (14 июня) русские были разбиты так, что Беннигсен умолял царя о перемирии. При первом намеке победителя Александр сам предложил ему свидание, “изменяя” своему потсдамскому другу. Оно произошло у Тильзита, на плоту, посреди Немана. Затем царь переселился к императору в Тильзит на две недели, а прусский король жил заброшенный в соседней деревушке. Корсиканец пустил в ход все свои средства “обольщения”: он даже откровенничал о своих планах. “Теперь мы друзья навеки: завеса разорвалась, пора заблуждений миновала”, – говорил потом царь французскому послу. Но еще в Тильзите он сказал королеве Луизе: “Потерпите: мы вернем свое. Он сломит себе шею. В душе я – ваш друг”.
Однако напрасно сама красавица Луиза являлась к победителю со слезливой просьбой. Только “ради царя” Наполеон оставил Гогенцоллерну центральные провинции – менее половины наследия Фридриха II. Из западных областей Пруссии было создано Вестфальское королевство для Жерома Бонапарта; прусская Польша превратилась в великое герцогство Варшавское, отданное саксонскому королю. Так возникли передовые посты Франции против Пруссии и России. Таким же форпостом, но против Австрии, была для Наполеона и Бавария. Итак, Тилъзитский мир (7июля 1807 года) произвел раздел Пруссии. Он подготовлял и раздел Турции: Наполеон допускал право России на Молдо-Валахию, если Порта не замирится. Император еще предлагал царю Финляндию. Россия же признавала все завоевания Франции, а также дальнейшие “перемены” на полуостровах Апеннинском и Пиренейском. Сверх того, Александр присоединялся к континентальной блокаде и обещал помочь Наполеону доконать Англию в Индии.
Глава V. Император в зените и “начало конца”. 1807 – 1812
Наполеон поднялся на беспримерную высоту. До тех пор еще не чувствовалась резкая разница между консульством и империей: иным казалось, что империя – та же революционная Франция, лишь изменившая свой внешний вид. Сам новый титул имел больше военный, чем политический смысл. Теперь же император явно уподоблялся восточному шахиншаху, то есть “царю царей”. Его свита из Наполеонидов и венценосцев уже обложила всю Европу. Вскоре братья Жером и Жозеф стали королями Вестфалии и Испании, сестра Каролина (Мюрат) – королевой Неаполя, тести – королями Баварии и Вюртемберга, а наперсник – королем Саксонии. Рейнский союз покорных имперских князей охватил уже всю Германию. Теперь только вполне расцвела новая знать с четырьмя князьями и тридцатью герцогами во главе. Многим казалось, что Тильзитский мир – “дуумвират”, за которым последует мировое единодержавие “рокового человека”. И владыке было всего тридцать восемь лет; никогда он не чувствовал себя таким здоровым и энергичным. Он мечтал, что с помощью России можно наконец взяться за мирное обновление вселенной. Он сказал тогда своему послу в Петербурге: “Пора дать миру покой. Я не хочу воевать ни с кем. Скрепляйте союз с Александром, которому я доверяю. Между обоими народами нет ничего, что могло бы помешать их полному сближению”.
Теперь-то миродержец окончательно устроил и свой двор, перенесши его в Фонтенбло, чтобы уединиться, как божество. “Пришло мгновенье счастья!” – возвестил он французам, и они начали развлекаться по игорным домам и укромным уголкам. Но сам император работал как никогда, расставаясь, как казалось, с войной. Тогда-то настал разгар его внутренней деятельности, которую мы очертили выше. И Франция процветала материально, как под жезлом чародея: ее государственная рента поднялась до 99! Тогда же Наполеон усиленно работал как дипломат. Он отделался от Талейрана, который позволял себе делать предостережения и уже поглядывал по сторонам: он заменил его простым, но преданным исполнителем Шампаньи. Повелитель материка стал подготовлять крестовый поход против Англии. Он занял Корфу и Каттаро, секвестровал Этрурию, Корсику и Эльбу, распоряжался испанским флотом, собирался захватить Португалию. Наконец, император потребовал, чтобы Дания соединила свой флот с французским. Но англичане как пираты бросились на эту нейтральную землицу, разрушили Копенгаген бомбардировкой и увели к себе лучший флот севера.
Наполеон поднялся во всем своем величии. Дания заключила с ним союз. Пруссия и Россия объявили англичанам войну, в которой потом приняли участие и Соединенные Штаты. Австрия примкнула к континентальной системе: Наполеон обещал ей Сербию и Боснию. Французы заняли Рим и заточили Пия VII в Савоне. Жюно занял Лиссабон – и “Браганский дом перестал существовать”. Другой маршал захватил Каталонию. Оставалось поделить мир с “тильзитским другом”. И франкофил Румянцев, ставший тогда министром, начал на карте разверстывать мир с французским послом Коленкуром. Не сошлись только насчет Константинополя. Да нужно было уяснить и самую дружбу. Тотчас после Тильзита Коленкур писал, что он словно опальный в Петербурге. Там за него были только сам царь, Румянцев да Сперанский. “Староруссы” негодовали на “исчадие революции”, которое даровало полякам не только свой кодекс, но еще конституцию и отмену крепостничества. Помещики злились на войну с англичанами, которая мешала им сбывать свой хлеб и лес за колониальные товары Великобритании. Массы негодовали на союз “с окаянным нехристем”.
Стал подозрительным и царь. Он не хотел очистить Молдо-Валахию: Наполеон отказался очистить Пруссию. Наполеон предложил Дунайские княжества, если прусская Силезия будет присоединена к герцогству Варшавскому: Александр не желал нанести такую новую рану королевской чете, которую содержал тогда в Мемеле полностью за свой счет. Его посол в Париже, “старорусс” Толстой, даже дерзко надоедал императору требованиями в пользу Фридриха Вильгельма. А Наполеон стал тайно покровительствовать султану и укреплять в герцогстве Варшавском ближайшие к России места. Самое это герцогство становилось, в глазах царя, клином, вбитым в бока России. Наполеон же указывал, что оно – создание самого Александра, мечтавшего о воскрешении Речи Посполитой: он действительно предлагал ему взять себе прусскую Польшу. При всем том, так как Наполеону грозила беда разом и из Австрии, и из Испании, он опять обещал царю помочь в Турции и даже очистить Пруссию. Оттого-то Александр тотчас согласился на предложенное ему свидание.
Свидание состоялось в Эрфурте в сентябре 1808 года. Оно было также демонстрацией миродержавия завоевателя. В театре он любовался “партером из королей”; мелкие потентаты буквально прислуживали ему за столом, а он выказывал почтение только светилам немецкой литературы во главе с Гете, который воспевал его. Сам венчанный друг подавал пример лести перед “лучшим из людей”. Он обменялся с ним шпагами и восемнадцать дней не мог расстаться с ним. Но так было с виду: в сущности же начали обнаруживаться роковые расхождения. Талейран имел тайные свидания с царем, которому внушал: “Дело русского монарха – быть союзником французского народа”. Он настраивал Меттерниха: “Державы должны соединиться, чтобы положить предел его честолюбию”. И Эрфурт не был завершением Тильзита. По тайной конвенции Россия признавала за Францией только Испанию и Неаполь, а против Австрии она выступала лишь в случае нападения Франца II на одного из союзников. И за это Наполеон тотчас уступал ей Молдо-Валахию и даже сокращал прусскую контрибуцию. Не исполнилось и желание императора закрепить дружбу браком с сестрой царя: дело ограничилось общими намеками.
Но Наполеон был рад и тому, чего добился. Ему обеспечивали тыл ввиду неожиданной грозы, принуждавшей его переменить фронт. Дело в том, что уже Тильзит означал поворотную точку в судьбе “рокового человека”. Начиналось действие железного закона исторического возмездия, или реакции. Сами французы уже тяготились владыкой, который брал их кровь и добро за два года вперед и объявил войну самым стихиям: континентальная система означала нищету всего материка и гибель прибрежных стран. Усталые народы искали покоя: они готовы были поддерживать “ленивых монархов” против тирании “исчадия революции”. Быстро возрастал национализм – эта великая, еще неведомая сила истории, вызванная самим завоевателем. Он уже замечался в Германии и России и наконец вспыхнул ярким пламенем за Пиренеями.
В Испании уже лет двадцать царствовала бурбонская реакция в лице тупого Карла IV, который подчинялся своей чувственной и коварной супруге, Марии-Луизе. Государством распоряжался фаворит королевы, невежественный, алчный и бездарный гвардеец Годой. Испанцы нищенствовали, а их Бурбоны вступили в борьбу с Конвентом из-за Людовика XVI. Испанию спас только Базельский договор, за который Годой же получил массу наград и титул “князя мира”. Когда Наполеон стал консулом, мадридский двор начал раболепствовать перед ним: он отдал ему даже свой флот, который погиб у Трафальгара. Негодующая нация чуть не убила Годоя и провозгласила королем вместо Карла IV Фердинанда VII, наследника престола, которого преследовали родители, хотя он и походил на них нравом и бездарностью. Но и этот любимец народа обратился за помощью к Наполеону: и испанцы, подобно итальянцам, ждали французов как “освободителей” от позорной домашней “тирании”. Еще более сочувствовали тогда “великой нации” португальцы: они вообще были демократами, даже масонами, а лиссабонский двор походил на мадридский с тою разницей, что он был рабом Англии, высасывавшей соки народа.
Наполеону предстояла благородная роль – поднять родственные романские нации и навеки привязать их к Франции. Но он не понял минуты, ослепленный страстью “творить” королей. Последовала “драма” в Байоне, которую даже Талейран назвал “шулерством”. Наполеон вызвал туда и испанскую чету, и наследника, чуть не подравшихся между собой на его глазах, а в Мадриде явилась армия Мюрата, который сам подстроил там новый бунт и жестоко усмирил его, чтобы взять Испанию в руки. Владыка объявил своим байонским пленникам, что “Бурбоны перестали существовать в Испании” точно так же, как в Португалии – Браганский дом, бежавший тогда в Бразилию. Королем Испании он “назначил” в июне 1808 года своего брата, Жозефа, приказав ему уступить Мюрату Неаполь, где так полюбили было этого доброго и совестливого короля-философа.
Но байонская драма оказалась “началом конца”, как предвидел Талейран. Сам Наполеон становился другим. Он полнел. Роковые недуги росли. Властелин раздражался от пустяков, задумывался и вел беспорядочную жизнь: днем засыпал, ночью мучил секретарей диктовкой, предавался сладострастию. Тогда-то он воскликнул: “Я – не то что другие; законы нравственности и приличия созданы не для меня!” И хотя “гений битв” еще восхищал мир своею гениальной стратегией, все же уже замечалась вялость, даже опасное пренебрежение мелочами дела, и излишняя осторожность. Развилась и роковая болезнь, которая иногда доводила его до внезапного онемения, до непостижимого столбняка или спячки. И проблески былого гения уже не вели ни к чему, часто были бесцельны, иногда даже вредны для него самого. А он, как ребенок, готов был начинать сызнова, виня все и всех, кроме себя. Умирающий лев всех задирал, раздражал, становился невыносимым. “Произошла полная перемена в его обращении: он считал себя на высоте, где всякая сдержанность – бесцельное стеснение”, – говорит Меттерних. Даже дипломатия стала грубой, казарменной. И наглое презрение к врагам, чуть не сгубившее Наполеона под Эйлау, разрушило теперь все его замыслы на другом конце материка. Историческая Немезида в виде национализма всюду нагромождала ему препятствия, и чем дальше, тем больше. Против миродержца, против одинокого палача Европы поднималась мировая коалиция. Ее застрельщиками оказались ничтожные испанцы.
Напрасно Наполеон даровал им конституцию, которая вводила его Кодекс, отменяла феодализм, крепостничество, пытки инквизиции, давала даже равноправие колониям. Напрасно Жозеф всячески старался облагодетельствовать своих новых подданных, защищая их, как отец, даже от своего могучего брата. Даже просвещенные прогрессисты среди испанцев гнушались добром, подносимым на острие иноземного штыка. А в массах, напоминавших Россию своей первобытностью, в этих рабах фанатичных монахов забушевали страсти, не сдерживаемые цивилизацией. Испанцам ничего не стоило разрушить свои убогие жилища и жалкие церковные школы. Они считали свой доморощенный быт образцовым, навеки богоданным: с высоты своего невежества они презрительно взирали на весь мир, ненавидели “безбожников” и “цареубийц”, которые как более умные соседи всегда заставляли их служить себе. Требования истории освящали восстание испанцев как мировой подвиг. Восстание послужило знаком к освобождению остальных народов от цезаризма, противного цивилизации, и открыло новую эпоху. Наполеон не постигал этой крепнущей силы – национализма; роковая ошибка самомнения сгубила его.
С июля 1808 года всюду стали появляться монашеские воззвания против “дракона, адской бестии, жида и Дон Кихота”. Весь народ, до женщин и детей, поднялся во всем своем диком величии. В каждой общине устраивались “хунты” (союзы); отовсюду стекались добровольцы и пожертвования. Как из земли вырастали шайки голодных оборванцев, не знавших ни пощады, ни голоса рассудка. Ими предводительствовали грязные, бешеные монахи, с крестом в шуйце, с мечом в деснице, с ножом при четках. И началась неумолимая “гверилья”, то есть “маленькая” партизанская война, которой помогала природа: эти скалистые горы да сорокаградусная жара. Образовалась и стопятидесятитысячная армия, которая заставила у Байлена целый французский корпус сложить оружие. А в Португалии народ призвал англичан, и лорд Веллингтон принудил Жюно к сдаче у Цинтры. Французы убрались за Эбро. Сам Жозеф бежал из Мадрида (31 июля 1808 года).
“Моими войсками командуют почтмейстеры!” – воскликнул император и, обеспечив себе тыл Эрфуртом, бросился в ноябре за Пиренеи со ста пятьюдесятью тысячами отборных ветеранов. Ему и здесь помог неприятель. Испанцами овладели “тщеславие и глупость”, как жаловались сами англичане; они ссорились между собой; их армия превращалась в скопище голодных. Наполеон старался превзойти себя не только в гениальности, но и в личном мужестве: он среди зимних буранов пешком взбирался на скалы и совершал знаменитые перевалы. В один месяц испанцы были разнесены, а англичане, у которых тогда отлучился Веллингтон, едва успели спастись на суда. И Жозеф опять занял мадридский престол.
Вдруг в январе 1809 года император оставляет маршалам превосходный план, а сам скачет верхом в Париж. Наконец-то и “гений побед” почуял “начало конца”: “Испанская война сгубила меня”, признавался он потом. Наполеона вызвала грозная туча: начиналась великая борьба народов против мирового цезаризма. Весть о Байлене встряхнула все нации, не исключая самих французов: донесение о заговоре в Париже с Талейраном и Фуше во главе ускорило возвращение императора из Испании.
Наполеон как орудие революции бессознательно сам вызывал борьбу народов: разрушение старины не обходится без отпора со стороны косных и невежественных масс. Нетерпеливость и заносчивость нового Цезаря подливали масла в огонь; насилия пробуждали в народах самосознание и чувство мести. Оттого чем решительнее “шахиншах” истреблял гидру, тем больше вырастало у нее голов. Сначала с ним боролись одни затхлые правительства со своими рутинными армиями; теперь выступали сами нации во всеоружии патриотизма и просвещения. Наполеон был сильнее в 1803 году, когда ему сочувствовали за благодатные реформы не только испанцы, но и немцы, а интеллигенция всюду приветствовала его как вождя прогрессивных идей. Теперь же геройство испанцев напомнило народам о попрании их исконных прав на независимость.
Особенно поднимался патриотизм в Германии. Здесь настал культурный расцвет, снискавший немцам имя “народа философов и поэтов”, Философ Фихте стал “светским священником” воинствующего национализма, и его поддерживали проповеди пастора Шлейермахера. Профессор Арндт основал с тою же целью гимнастическое общество. Кенигсбергские масоны создали тайный Союз Добродетели – патриотическое общество, которое под покровом королевы Луизы быстро распространялось по городам, особенно среди студентов. Поэты, не исключая Гете, запели “в испанском духе”. Весной 1809 года показались и признаки германской гверильи: один офицер чуть не пленил короля Жерома; “черный легион” сына герцога Брауншвейгского промчался среди французов по всему северу как вестник смерти поработителей германского отечества.
Взоры всей Германии опять были устремлены на Пруссию, как при Фридрихе II. Да она и не могла терпеть долее. Наполеон, очевидно, хотел просто истребить государство, которое десять лет помогало ему своим нейтралитетом сокрушать ненавистного Габсбурга. Он называл Пруссию “канальей без души и чести” и признавался потом, что “извлек из нее миллиард”. Он не думал выводить из нее своих войск и собирался отнять у нее еще Силезию. Оттого-то после Иены эта отсталая держава стала готовиться к борьбе серьезно: она взялась за коренные реформы. Фридрих Вильгельм III, скрепя сердце, дал ход истинным патриотам – людям прогрессивным, даровитым и честным. Во главе их сначала стоял ганноверец Гарденберг, который хотел совершить “революцию на демократических началах”. Уезжая в Россию от мести Наполеона, он просил своего товарища, нассауского барона Штейна, “спасти государство”. Король ненавидел этого гордого патриота, не терпевшего царедворцев: он дал ему власть только на пятнадцать месяцев (1807 – 1808 годы). Но этого было довольно, чтобы посеять благие семена, для которых почва была уже готова.
Опасаясь, как бы массы не поднялись за Наполеона, который освобождал крестьян в Польше и западной Пруссии, Штейн подготовил уничтожение крепостничества, которое совершилось в 1811 году. Затем он заводил муниципалитеты, поднимал земства, поддерживал мелкое землевладение и кустарное производство, мечтал о “национальном представительстве” для всей Германии. Наполеон потребовал отставки “некоего Штейна”, и король рад был отделаться от беспокойного реформатора. Но советы Штейна пригодились Францу II и Александру I, у которых он искал убежища. А в Берлине остался его приятель, ганноверец, крестьянский сын, Шарнхорст, первый стратег после Наполеона и военный организатор в духе Карно. Он подготовил всеобщую воинскую повинность, которая была введена лет шесть спустя. Он смягчил жестокие телесные наказания и отменил привилегию юнкеров на офицерство. Он в три года создал “национальную” армию в сто пятьдесят тысяч, благодаря “системе обработки”, этой матери “ландвера” (ополчения): беспрестанно набирали новых рекрутов, не более сорока двух тысяч, как было дозволено Наполеоном, но распускали их по домам после быстрого обучения.
Отчасти под влиянием оживления в Пруссии зашевелилась и неповоротливая Австрия. Даже в Вене явился свой Штейн в лице Стадиона, а военным министром стал эрцгерцог Карл. Посланником в Париж был отправлен друг Стадиона, Меттерних, уверявший Франца II, что французы восстанут против деспота, как испанцы. Австрийские газеты открыто требовали войны. Начиналось патриотическое движение даже по провинциям: на приятелей Франции, баварцев, уже напали горцы Тироля, предводимые кабатчиком Гофером Бородачом. Летом 1809 года у Австрии было уже триста тысяч, и она решилась “приставить нож к горлу Наполеона”: Франц призывал всех немцев ополчиться против “системы завоеваний”. Англия опять сорила деньгами и готовила флот для высадки во Францию. Она устроила пятую коалицию из Австрии, Испании и Португалии, с тайной поддержкой почти всех народов и самого султана. У нее нашлись союзники и в Париже: Талейран и Фуше замышляли заменить Наполеона Мюратом, который досадовал, что его миновала испанская корона.
Никогда Наполеон так искренно не желал уклониться от жребия войны. Он писал царю: “Разоружись Австрия – и казармы стали бы убежищем нищих, а рекруты остались бы земледельцами”. Но Александр уже после Эрфурта говорил своей сестре: “В Европе нет места для нас обоих; рано или поздно один из нас должен удалиться”. Теперь он всячески оправдывал перед Наполеоном свои уклонения от помощи и успокаивал его словами: “Ведь я ничего не делаю наполовину”, а сам говорил австрийскому послу: “Не нанесу вам удара: желаю вам всякого успеха”. В то же время прусская чета гостила в Петербурге и устроила брак Екатерины Павловны с принцем Ольденбургским. Наполеона опять спасли старые союзники – собственная гениальность да негодность врагов. Он снарядился в поход “с быстротой молнии”. У немцев возродилось недоверие к Габсбургу. Гофер был выдан своими же и расстрелян. Вспышки патриотизма в Пруссии были подавлены самим королем, который испугался и императора, и “преступных волнений”. Александр выдвинул небольшую армию в Австрию, хотя она опоздала помочь французам. Наконец, в Австрии реформы оказались лишь на бумаге и сам Карл со страху наделал ряд промахов.
Наполеон же весной 1809 года в четверо суток примчался в Баварию, где и показал стратегию, которую даже враги признают самым гениальным его шедевром. И он сам считал это дело наиболее художественным из своих кровавых произведений. Когда эрцгерцог Карл узнал, что перед ним сам герой Аустерлица, с ним сделались судороги и он остолбенел. А Наполеон, заметив главный его промах, воскликнул: “Они попались, они погибли! Через месяц мы в Вене!” Император ошибся: французы были в столице Австрии через три недели, после дивного “пятидневного боя” в Баварии с более многочисленным неприятелем.
Но под Веной повторилось Эйлау как новое предостережение судьбы. Дунай бушевал, а на другом берегу, у Асперна, стоял на отличной позиции Карл. Едва переправилась часть французов, как мосты снесло: пришлось драться одному против двух в течение двух дней. Наконец французы ушли обратно за Дунай. Солдаты роптали, маршалы восставали против переправы. Среди офицеров образовался “союз филадельфов” – республиканцев и миролюбцев, которые сносились с Фуше. И “волнение овладевало всей Германией”, – говорит очевидец. Но Наполеон снова воодушевлял всех, сам работая везде, не сходя с коня по двадцать часов в сутки, изобретая новые мосты, создавая речную флотилию. Специалисты находят все эти приготовления выше похвал. Наконец Наполеон снова наладил переправу и смутил Карла. Разразился бой у Ваграма (6июня) – лучший пример хладнокровия вождя и новой тактики обходов и сосредоточения пушек. Но победитель задумался. Австрийцы дрались уже не хуже французов и готовы были снова принять бой. А у императора были “уже не солдаты Аустерлица”: у них поколебались и дисциплина, и вера в себя. Бернадот загадочно опозорился и был отпущен домой: говорили, будто он заодно с Макдональдом сносился с Талейраном. “Исход всякой битвы сомнителен”, – сказал тогда Наполеон меланхолически. Он обрадовался, когда ему предложили мир.
По Шенбруннскому (Венскому) миру, Габсбург лишился еще трех с половиной млн. подданных: к Франции переходили Триест, Крайна и часть Каринтии, что составило “губернаторство Иллирию”. Франц I заплатил еще огромную контрибуцию и обязался не иметь более ста пятидесяти тысяч войска. Наконец, он должен был отдать победителю собственную дочь, Марию-Луизу, по совершении развода жениха с Жозефиной. Республиканцы злились, но массы во Франции радовались этому залогу прочного мира: рента поднялась.
Звезда Наполеона достигла зенита. Его называли уже “западным императором”. Его владения распадались на сто тридцать департаментов с сорока четырьмя млн. подданных всяких наций. Он попросту присоединил к Франции северные берега Германии и лишил престола герцога Ольденбургского (1810 год) и даже своего Люи. Затем вся Скандинавия была втянута в союз против Англии; шведы даже провозгласили своим наследником шурина Жозефа, Бернадота. Пруссию держали в руках маршалы с неумолимым Ожеро во главе. Монархи Южной Германии, Рейнский союз, Швейцария и Италия были прямо вассалами Наполеона. На крайнем юге престолы занимали пока Мюрат и Жозеф. Самый Рим формально обратился во французский департамент (1810 год), а папа проживал в Фонтенбло. Наконец, от Варшавы до Кадиса действовала конституция Франции с наполеоновским Кодексом во главе.
Развернулся вполне и талант Наполеона как государственного мужа. Тогда-то централизация достигла высшего предела: возникло даже “бюро общественного мнения”, снабжавшее печать темами и статьями. Умное, расторопное чиновничество вносило всюду порядок, помогавший кормиться трудолюбивому населению. И во главе полиции стоял уже не предатель Фуше, а преданная и столь же искусная ищейка Савари, который хвастался, что все боялись его больше чумы. Казна процветала: в запасе хранилось триста млн. А дипломатия императора закрыла для Англии все рынки, кроме России, и поднимала против нее Америку. Англичане уже помышляли о мире: у них опять начиналось банкротство. Весной 1811 года Наполеон сказал публично: “Еще три года – и я буду владыкой вселенной”.
Но именно тогда звезда “рокового человека” окружалась черными точками. Колониальная система вызывала торговый застой и промышленные кризисы в самой Франции. Земледелие страдало от наборов вперед, а в 1811 году оказался еще неурожай. Рост финансовых запасов означал высасывание соков из народа: “Казна государства пуста, а казна монарха полна”, сказал тогда Меттерних. Лучшая армия таяла за Пиренеями, и особенно от падения дисциплины. Ряды солдат пустели от дезертирства и укрывательства, несмотря на драконовские меры против ослушников. Глухое недовольство овладевало всею нацией, разуверившейся в мире. Буржуазию обижало еще пристрастие императора к привилегированным, а те презирали выскочку и мечтали о своих Бурбонах. Массы негодовали на угнетение св. отца. В самой семье владыки росли раздоры: когда Люи был изгнан из Голландии, Люсьен бежал в Англию. Немудрено, что молва заговорила о “филадельфах”, когда, после Ваграма, было уволено восемь генералов и погибли таинственно двадцать три офицера из республиканцев, а в Париже был посажен в сумасшедший дом непокорный генерал Малэ.
Наконец, уже совсем явственно выступал главный враг миродержавия – национализм. Он поднимал кротких братьев, Жозефа и Люи, против властителя. Он ощущался и среди добровольцев Англии, и в “ландвере” (ополчении) Пруссии, и в отлучительной булле папы, который благословлял испанцев. Сам завоеватель прельщал поляков и венгров призраком “национальной независимости”. Он понял эту новую силу, когда после Ваграма попович, студент Штапс, хотел зарезать “палача Германии”. За германизмом обрисовывался скандинавизм: Бернадот именем шведского народа переговаривался с царем, который обещал ему Норвегию. А на другом конце Европы англичане разбередили “испанский веред[5]”: Веллингтон воздвиг окопы у Торрес-Ведрас, о которые разбились молодецкие атаки Массена.
Миродержец смутно чувствовал, что предстоит тяжелая расправа. Он скорбел, что у него уже нет “ветеранов Аустерлица”. Он с ужасом вспоминал про Асперн и Ваграм, где он ставил все на карту, был контужен, впадал в онемение, однажды расшибся, свалившись с коня. Наполеон старался заклясть глухую вражду, поднимавшуюся отовсюду. Он сыпал милостями, приманивал вождей французской нации, задумывался над искоренением нищенства, основал обширный воспитательный дом. Гений бурь искал угла, куда бы приклонить свою буйную голову. Он стал самым нежным мужем, а когда родился сынок, судорожно прижал его к сердцу: он не переставал любить его и после того, как жена покинула его в несчастии.
Главная сила, которой суждено было подкосить богатыря, скапливалась на севере. Наполеон уже в апреле 1811 года писал: “Война разыграется вопреки мне, вопреки Александру, вопреки интересам Франции и России”. Он, во главе почти всей Европы, был невольным представителем Запада в борьбе с Востоком: Англия, втравившая в нее своих соперников, отступилась тогда от России.
“Борьба колоссов” подготавливалась с самого Ваграма. Наполеон шел только на тайное соглашение и внушал Александру: “Франция не должна быть врагом России: это – неоспоримая истина. Географическое положение устраняет всякий повод к разрыву”. Тогда же император возвестил в Сенате свою радость по поводу того, что “друг” приобрел часть Галиции и Финляндии и занял Молдо-Валахию. Между тем с весны 1810 года в Париже появился Нессельроде, который сносился с Талейраном тайком даже от нашего министерства. В то же время обострился экономический вопрос. Континентальная система довела Россию до торгового кризиса, причем рубль пал до четвертака. И 1811 год начался в России резкою мерой: указ не только облегчал ввоз английских товаров, но и запрещал ввоз произведений Франции. С этой минуты Наполеон начал готовиться к войне.
Понятно, что в интересах континентальной блокады владыка захватил Ольденбург. Понятен и протест царя против этой “пощечины перед лицом всей Европы”. Староруссы растравляли рану Александра. Они называли Тарнополь “подачкой на водку”, Финляндию – даром “безбожника”. Их агенты в Париже, с нашим посланником во главе, закидывали царя ядовитыми донесениями о “тиране Европы”. В душе “друга” негодование слилось со страхом, когда летом 1812 года Соединенные Штаты объявили войну англичанам, которые всячески запугивали его и без того. А тут явилось соблазнительное поощрение из Вены. Александр вообще был не против обещанного Наполеоном “разбития Пруссии на куски”. Он говорил в начале 1812 года: “Я – друг короля: я удовольствуюсь частью до Вислы”. Теперь же владыка вздумал обойти Россию: он заставил Франца I тайком принять Силезию взамен остававшегося у него клочка Галиции, который предназначался полякам. Но Меттерних отплатил России за 1809 год, показав договор русскому послу.
Александром овладела лихорадочная поспешность. Не дав созреть немецкому патриотизму, не дав Австрии и Пруссии времени изготовиться, он уже весной 1811 года начал стягивать войска в Литве, а в октябре был заготовлен ультиматум. В начале 1812 года Александр уже заключил союз с Швецией, Англией и даже с испанскими кортесами, причем обещал Бернадоту французский престол. Затем последовал мир с Портой, доставивший нам Бессарабию, и царь открыто говорил, что, “покончив с Наполеоном, мы создадим греческую империю”. В апреле Россия потребовала, чтобы император очистил Пруссию и Померанию. “Как вы смеете делать мне такие предложения! Вы поступаете, как Пруссия перед Иеной!” – крикнул Наполеон нашему послу. “Я остаюсь другом и самым верным союзником императора”, – сказал Александр его послу, отъезжая к армии в Вильну.
В Вильне все, не исключая Барклая, рвались в бой, низко оценивая силы врага. Два немца, Фуль и Толль, взялись устроить на Двине, в Дриссе, Торрес-Ведрас, забывая, что там нет ни гор, ни моря. А в лагере кишели интриги, перекоры да обычные беспорядки. Войска были разбросаны, хотя их было не меньше, чем у Наполеона, а пушек даже больше (тысяча шестьсот). Налицо оказывалось тысяч двести, да и тут было много плохой милиции. Только Багратион шел с юга, а Чичагов, с дунайской армией, мог еще позже выдвинуться против австрийской армии Шварценберга. Хорошо еще, что не было исполнено первоначальное приказание Александра Чичагову – “действовать в тыл неприятелю, приближаясь даже к границам Франции”.
Приподнятый дух ясно обнаруживался в самом Александре. Он возвестил, что “никогда не отлучится от мира”. Вопреки советам брата, матери, приближенных, он отвечал на мирные предложения Наполеона: “Не положу оружия, пока хоть один неприятельский солдат останется в России”. А вскоре он воскликнул: “Лучше отращу себе бороду и буду питаться картофелем в Сибири вместе с последним из моих крестьян, чем примирюсь с Атиллой новейших времен”. Правда, Наполеон получил в Вильне предложение о мире; но, по словам самого царя, оно было сделано лишь с тем, чтобы “Европе было известно, что не мы начинаем войну”. Воинственный пыл остыл, как только враг вторгся в наши пределы. Александр тотчас составил список того, “что надобно будет увезти из Петербурга”, и 26 июня выехал из Вильны. Он приказал Барклаю отступать на соединение с Багратионом, оставив корпус Витгенштейна на Двине для прикрытия пути в Петербург.
Наполеон, напротив, не спешил. “Это – самое великое, самое трудное предприятие! – воскликнул он. – Чую, меня влечет к неведомой цели. Когда достигну ее, довольно будет одного атома, чтобы низвергнуть меня. Но нужно довершить начатое”. Впрочем, у него почти все верили в легкую победу западной цивилизации над восточным варварством. Когда владыка сделал смотр своим вооруженным “народам” в Дрездене, почти все монархи составляли его свиту. Лейпцигский университет назвал одно созвездие Наполеоном, старик Гете опять славословил великана истории. И сам Наполеон пророчествовал: “Рок увлекает Россию; ее судьба должна свершиться”.
Император уже давно снаряжался и измыслил прекрасную стратегию. “Русские воображают, что я стану гоняться за ними до Волги!” – подсмеивался он и определил: 1-й год – зимовка в Смоленске и восстановление Польши, 2-й – Москва, 3-й – Петербург. Он не думал уничтожать Россию, как Пруссию: он желал, как в Тильзите, сделать ее своей помощницей в разделе мира. Оттого ему хотелось еще подготовиться. Он покинул Париж лишь после отъезда царя в Вильну и приглашал “друга” на свидание в Дрезден. Только после упорного отказа мириться он воскликнул: “Хотят войны – буду воевать! Багратион с Барклаем уже не увидятся более. Одна-другая битва – и я в Москве: и Александр падет на колени предо мной!”.
Этого и все ожидали. Наполеон вел более полумиллиона бойцов, за которыми стоял такой же резерв в Европе. Если даже его гвардия была “молодая”, почти отроки, то иностранцы были отличным воинством, а Наполеон сознавался, что “выставлял на смерть немцев и поляков”. Недостаточность артиллерии (тысяча триста пятьдесят орудий) возмещалась достоинством вождей: она работала лучше даже, чем под Ваграмом. Кавалерия со своим “палачом” Мюратом представляла невиданную силу по численности и отваге. Интендантство было образцово. Тыл был обеспечен ликующими поляками. Наполеон открыл им сейм в Варшаве, который провозгласил восстановление Речи Посполитой. Несчастные не знали, что Наполеон говорил самому царю: “Мне нужен в Польше лагерь, а не форум. Я желаю иметь поляков лишь как дисциплинированную военную силу, чтобы меблировать поле битвы”.
Русский поход – ряд сюрпризов: у русских был уже не один суворовский штык, но и прекрасная артиллерия, а стойкость их опять поразила мир. Здесь, как в Испании, оказался младенческий народ, но цельный, привязанный к земле и вере отцов. Да еще у него была сила, которой недоставало испанцам, – прочное правительство, до того связанное с массой, что не смело заключать мир без ее воли.
Вот среда, которая расстраивала все расчеты ума. Началось с такого сюрприза, как отступление бахвалившихся варваров перед “великою армией”. Но этот-то позор и спас их. Наполеон, жаждавший “хорошей битвы”, принужден был, вопреки себе самому, “гоняться за ними до Волги”. Тыл оказался не таким уж и обеспеченным: в Вильне, где уже шла Литва, а не Польша, французы были встречены холодно. Крылья великой армии общипывались побочными русскими отрядами, которые все росли, питаемые соками родной земли. И эти варвары не знали бегства врассыпную, как немцы: они, как в стаде, теснились друг возле друга и, отступая, давали горячие арьергардные битвы. Озадаченный завоеватель стал чересчур осторожен, даже нерешителен. Им овладевала гибельная для полководца выжидательная тактика дипломата. Его нервы раздражались, тем более что верховая езда стала для него мукой вследствие нового недуга (задержка мочи). Отсюда преувеличение силы русских, что раз спасло Барклая от гибели. Затем испортили дело ослушание Даву и бездарность Жерома.
А тут – главный враг, который следовал за великой армией с самого перехода через Неман (23 июня): ливни и жара, грязь и пыль изнуряли и людей, и скот. Провиант отставал от вождя, а без него пошло воровство да лентяйство. Жители не брали фальшивых рублей, изготовленных во Франции; они прятались по лесам, оставляя за собой пылающие деревни. Тиф и понос косили голодавших людей; кони гибли в большом количестве, заражая воздух. Уже в августе пришлось вычеркнуть из списков сто тридцать тысяч человек. При отступлении из Москвы, в морозы, погибло вдвое меньше.
Рухнула гениальная стратегия, тем более что австрийцы вместо помощи совершали у своих границ какие-то военные прогулки. Барклай и Багратион “увиделись” в Смоленске. “Наконец-то! Они у меня в руках”, – воскликнул Наполеон и начал громить город из ста орудий. Но он с ужасом увидел, что жители сами помогали разрушению. Здесь же французы узнали удаль казаков, с их неведомыми пиками. И до сих пор ни одного пленного! Двухдневный бой поглотил равное число жертв у противников: и оказалось, что дрался лишь арьергард русских, прикрывавший их дальнейшее отступление! Великая армия пустилась в новое преследование, но оно уже походило на борьбу за собственное существование: “Перед нами лежала новая Испания, но Испания без границ, без городов, без средств”, сказал Наполеон. Его армия таяла, изнывала: люди ели мертвечину, пили из луж. Вожди плели лапти от незнания местности и врага; они перекорялись между собой, особенно герои наступления – Даву с Мюратом. И гонители потеряли больше народу, чем гонимые. А русскими овладевал патриотизм, напоминавший 1612 год. Всюду повторяли горячие слова царя в Москве по поводу манифеста об ополчении, увещания синода и афишки московского генерал-губернатора Ростопчина, обещавшие шапками закидать полчища “антихриста”. Помещики снаряжали целые полки из своих крепостных; купцы давали деньги; крестьяне подымали народную войну, все истребляя перед врагом. Все негодовали на отступление, приписывая его начальникам, “проклятым немцам”. Староруссы, помещики и интриганы в лагере и при дворе требовали Кутузова как “спасителя отечества”. “Публика желала его – и я назначил его; но лично я умываю руки в этом”, – сказал царь. “Враг пройдет в Москву только через мой труп!” – поклялся дряхлый герой.
И он дал под Бородином, в сорока верстах от столицы, сражение, которое французы назвали “Московским”. Бойцы были почти в равном числе (по сто тридцать тысяч), но у нас было с полсотни лишних орудий. Поле было чистое, и Кутузов на скорую руку окопался в несколько рядов. План Наполеона считается образцом тактики. Зная природу необразованных народов, он прибегнул к грубой атаке с фронта, зато искусно сосредоточил силы на слабом левом крыле врага – на редутах Багратиона, которые и были взяты сразу, хотя после отчаянного боя: он обманул “старую лису” ложными атаками в других местах. Кутузов сам помог ему: задумав “обойти” “гения побед”, он не пускал в дело своего сильного правого крыла, а потом, впопыхах, слишком скучил войска, превратив их в мишень для перекрестного огня французской артиллерии. Следующий день противники отдыхали. 7 сентября (26 августа) разразился главный двенадцатичасовой бой, особенно у батареи Раевского. Наполеон взял искусною тактикой: он выдвигал резерв за резервом и пускал конницу в массовые атаки; храбрецов поддерживал отменный огонь мастерски поставленной артиллерии.
Наполеон и не думал воспользоваться дорого купленной победой. Русские уступили только тысяча восемьсот шагов и остановились у задних окопов, готовые возобновить бой. Если у них пало чуть ли не вдвое больше людей и двадцать генералов с Багратионом, то и французы лишились тридцати тысяч солдат, сорока трех генералов и многих знамен. С боков французам угрожали удалые казаки с отважным Платовым во главе. Простуженный Наполеон был мрачен и ворчлив. Он признавался, что еще не видал такого кровавого дела. Он не дал своей гвардии, отвечая на мольбы маршалов: “А если завтра новая битва, чем я буду сражаться?” Он был крайне осторожен, почти вял и мало распоряжался сам. А Кутузов послал донесение о “победе”, хотя в конце говорилось об отступлении: у него не оставалось ни свежей роты, ни лишних снарядов. От недостатка провианта он двинулся на Калугу, в хлебный край. Следуя за ним, французы вступили в Москву (2/14 сентября) среди гробового молчания. Наполеон запретил грабеж: он думал хорошо отдохнуть в богатой столице и ждал депутаций от “бояр”, а также мольбы царя о мире.
Новый сюрприз. В Москве из двухсот тысяч оказалось тысяч десять разного сброду, в том числе колодников, выпущенных Ростопчиным, который сам бежал, захватив пожарные инструменты. А на другой день сразу вспыхнул во всех концах Москвы трехдневный пожар, истребивший девять десятых деревянного города. “Это – скифы! Это – предвестие наших величайших бедствий!” – воскликнул Наполеон – и словно окаменел: гренадеры насильно увезли его из Кремля в загородный дворец. А в Москве начался грабеж. Особенно усердствовали наши собственные “шалопаи” (chenapans); французы обращали каменные церкви, уцелевшие от пожара, в казармы и конюшни.
Наполеон отправил к царю письмо, где оплакивал гибель Москвы, чего не было бы, если бы “тильзитский друг” черкнул ему пару слов перед Бородином или тотчас после. Александр не мог отвечать: Петербург волновался, слышался ропот. “С тех пор в мою душу снизошла горячая вера”, – говорил потом царь. А тогда он воскликнул: “Все это – рука Всевышнего!” – и счел себя “спасителем Европы” от ее “деспота”. Еще он сказал: “Наполеон или я, я или он; но вместе мы не можем царствовать!” А завоеватель тридцать три дня ждал ответа! “Москва – не военная, а политическая позиция; здесь я – не полководец, а император”, – говорил он в ослеплении. Он вел беспорядочную жизнь, впадал то в лихорадочное возбуждение, то в тупое равнодушие и строил фантастические планы о поднятии крепостных, татар и украинцев, о польской короне на своей голове. А “великая армия” таяла и опошлялась. Русские же силы быстро росли, и наши солдаты пуще всего боялись мира. Отовсюду тянулись ополченцы; появились отчаянные партизаны, с Денисом Давыдовым во главе, и даже православные Жанны д'Арк (Дурова). Начала свирепствовать “святая война”, как в Испании. Ожесточился и завоеватель: уходя из Москвы, он взорвал Кремль.
А пришлось уходить, как ни старался Наполеон избежать этого “позора”, несмотря на мольбы маршалов. Пришла весть, что Кутузов сам напал победоносно на французский авангард при Тарутине. 6/18 октября “великая армия” двинулась на Калугу. Тут было еще до ста тысяч бойцов, но испорченных и отягченных добычей да семьями иностранцев. Русские войска тотчас преградили им путь. Правда, французы одолели у Малоярославца, но город восемь раз переходил из рук в руки и сам Наполеон чуть не попал в плен к Платову. Пришлось повернуть на Смоленскую дорогу, через Бородино, еще усеянное трупами.
Началось беспримерное отступление “великой армии”, за которою следовал по пятам Кутузов (более ста тысяч), а по бокам – Чичагов (шестьдесят тысяч) и Витгенштейн (пятьдесят тысяч). Всюду кружились казаки. Северный ветер подымал непроглядные вьюги; ударили морозы, под конец до 30°. Полунагие французы, питавшиеся мукой да сырой кониной, коченели сотнями на бивуаках. Многие сходили с ума. А там вдруг наступала оттепель – и студеные лужи да гололедица губили последних коней. Но русские не смели нападать на издыхающего льва, который выказывал неслыханную живучесть, “как в Египте”. Молчаливо, но бодро шагал император, в шубе, с суковатой палкой в руке. И это погребальное шествие армии-скелета ознаменовалось трехдневным боем под Красным, где она одними штыками пробилась сквозь массу пушек Кутузова, а Ней изумил мир переправой через подтаявший Днепр, перед тучами врага на другом берегу.
От “великой армии” осталось всего тысяча человек и девять орудий, если не считать двадцати тысяч безоружных, добравшихся до Немана. Сам вождь едва ускользнул от рук русских партизан и в самом жалком виде прискакал в Вильну. А тут зловещая новость. В Париже опять зашевелились филадельфы. Бежавший Малэ увлек национальных гвардейцев вестью о мнимой смерти императора в Москве и провозгласил республику с Моро и Карно во главе. Правда, заговорщики были расстреляны, но императора поразило, что никто не вспомнил ни об императрице, ни о римском короле. Наполеон прочел маршалам 29-й бюллетень, который все сваливал на морозы и кончался словами: “Здоровье его величества никогда не было лучше”. Затем император укатил с тремя наперсниками (6 декабря). Он передал начальство Мюрату, но тот уже уехал к себе в Неаполь, проклиная шурина.
В России погибло до двухсот пятидесяти тысяч европейцев почти всех наций. Но и русские не забудут нашествия “двунадесяти язык”. У Кутузова осталось только тридцать тысяч солдат, а всего их погибло также не менее четверти миллиона. Кутузов призывал к миру, и его поддерживало общественное мнение России. Но Александр, явившись вслед за Наполеоном в Вильну, сказал: “Прочный мир может быть подписан только в Париже”. И в приказе по армии значилось: “Идем положить конец нестерпимому кичению; станем за веру против безверия, за свободу против властолюбия, за человечество против зверства”. 1/13 января 1813 года русское войско перешло границу со своим царем во главе.
Глава VI. Оборона гения. 1813 – 1814
У русских не было и двадцати тысяч бойцов. Ими и пруссаками командовал нелюбимый солдатами бездарный Витгенштейн. Пруссия и Австрия еще боялись Наполеона, а в тылу поляки оставались верными ему, так как Россия уклонилась от немедленного восстановления Польши. Наполеон представлял себе врагов в гораздо более страшном виде, но не испугался. 1813 год – одна из самых блестящих эпох в его жизни. Французы поддержали его, опасаясь нашествия “скифов”: они осыпали его патриотическими адресами и пожертвованиями. Наполеон поддерживал свое влияние изумительной деятельностью. Совершались благотворения, все во имя Марии-Луизы, которая назначалась регентшей на случай отлучек императора. Ради толпы Наполеон принудил Пия VII к новому конкордату. Деньги явились в виде облигаций под захваченные у общин земли. Была согнана масса подростков пятнадцати-семнадцати лет, которых Цезарь сразу превратил в львов. Он грозил даже дипломатам, что вооружит и женщин. В четыре месяца император снарядил до полумиллиона бойцов, а всего их у него было немного меньше, чем у всех врагов вместе. Тогда же на море американцы брали верх над англичанами, а избитый в Испании Веллингтон ретировался в Португалию. Немудрено, что миродержец хотя и предлагал мир державам, но на старых условиях.
Тем не менее Наполеон поддавался ослеплению. Патриотизм усталых французов быстро остыл: они стали рассуждать о “виновнике” всех бедствий. Сам виновник уже не думал об их будущем. Отнимая земли у общин и рабочие руки у земель, он приказывал женщинам и детям обрабатывать почву заступами. Он отнял у пахарей и лошадей, но и их не хватало так же, как и пушек: плохая разведка, за недостатком кавалерии, была одною из причин неудач 1813 года. А в пехоте героизм не мог возместить слабосилия юнцов, которые быстро утомлялись. Паладины были уже не прежние. Ланн погиб на поле брани, и вскоре его участь разделили Бессьер и Дюрок. Массена удалился на покой, Даву был почти отстранен из подозрительности. Самим Бертье овладевало переутомление: он раскрывал врагам слабости своей армии, чтобы принудить своего императора к миру. Мюрат почти явно изменял, и Мармон готовился последовать его примеру, а Бернадот, Моро и Жомини уже работали в лагере неприятеля. Остальные маршалы выказывали строптивость и перекорялись между собой.
Не замечал Наполеон и внешней грозы. Пий VII отверг конкордат, распаляя тем ненависть католиков к “тирану церкви”. Англия опять ловко действовала своим золотом и дипломатией, а Веллингтон снова перешел в наступление и уже грозил вторжением во Францию. Александр I стал фанатиком мщения, а император надеялся опять прельстить его, как в Тильзите. Еще больше ошибался он в тесте: ловкий дипломат Франца I, Меттерних, становившийся “арбитром Европы”, льстил Наполеону и стал посредничать с виду, но тайно вступил в заговор с Россией и Пруссией. А главное, Наполеон все еще не постигал новой великой силы – национализма, хотя Талейран уже говорил тогда: “Пришла пора императору стать французским королем”. После испанцев и русских пришла очередь немцев: начиналась их война за освобождение. Даже в Саксонии за императора стоял один только король: народ принял союзников с восторгом. Но главным палачом тирана стала Пруссия, которая испытывала такой гнет победителя, что ей оставалось или погибнуть, или восстать.
Уже при возвращении французов из России пруссаки сделали два покушения на жизнь Наполеона. Фридриха Вильгельма III засыпали ободрениями со всех концов Северной Германии. Потекли пожертвования, даже от детей и слуг; женщины продавали свои косы парикмахерам; крестьяне жгли свои избы на пути неприятеля. Всюду раздавались патриотические песни Рюккерта и Кернера. Арндт писал катехизисы для народа языком Лютера. На войну рвались даже сынки юнкеров, царедворцы и те, которые раньше откупались от рекрутчины, а во главе шли студенты и гимназисты со своими преподавателями. Фридрих Вильгельм III испугался “революции”: при дворе снова появились Штейн и Гарденберг. В армии тихо, но отлично хозяйничал Шарнхорст и горячился “семидесятилетний юноша” Блюхер, которого прозвали генералом-Вперед, а рядом выдвигались дельные чистокровные пруссаки: Клейст, Гнейзенау и Бюлов. Пруссия выставила больше войск, чем Россия с Австрией, и никогда еще у нее не было такой хорошей армии. Уже в феврале король заключил союз с Россией и Швецией, а Англия дала ему денег. Так налаживалась шестая коалиция, к которой примкнула даже Испания.
А Наполеон воображал, что все еще воюет с “ленивыми монархами”, и надеялся опять смять их молодецким ударом. И он обнаружил прежнюю гениальность и энергию. Его юнцы совершали дивные маневры. Сам он вихрем носился по огромному театру войны, и при одном его имени враги падали духом. Правилом союзников было избегать его, щипать только маршалов. Однако герой был уже не прежний. Роковой недуг вызывал обмороки и бездействие по целым неделям, а во время битв непреодолимую спячку. И в душе “рокового человека” поневоле, как в России, дипломат, император мешал великому полководцу. А отсюда – ошибки в расчетах, впрочем, понятные при массе случайностей в войне с непредсказуемым врагом.
Первою ошибкой было преувеличение силы противников, вызвавшее излишнюю поспешность, чтобы не дать им собраться, чтобы прорвать их центр. Начало пошло блестяще: при равных силах Наполеон сумел напасть на русско-прусское войско в двойном числе под Лютценом. Его маневры отличались меткостью и хладнокровием шахматного игрока. Вслед за тем – новая блестящая победа, у Бауцена: и враг попятился за Одер. “Мы надеялись идти на запад, а двигаемся на восток!” – с горечью воскликнул король. Царь, который все время сам командовал лицом к лицу с Наполеоном, утешал его лишь надеждой на Бога. Пруссаки потеряли Шарнхорста в бою; Александр заменил Витгенштейна Барклаем.
Но тут произошла вторая ошибка, которую сам Наполеон назвал “величайшею в своей жизни”. Союзники были угнетены и расстроены. Барклай собирался уйти в Россию, чтобы преобразовать свою разбитую армию. Король твердил, что Пруссия погибла, если не остановить победителя перемирием. Союзники готовы были снова возненавидеть друг друга: отступая, они обвиняли один другого в бездарности и даже в измене. Саксония опять пристала к французам. А Наполеон сам схватился за мысль о перемирии.
Победитель оторопел, в свою очередь. Он был угнетен душевно и телесно: уже под Бауценом на него нападала вялость, спячка. Его солдаты тысячами превращались в мародеров от голода; не хватало офицеров, которые падали, бросаясь вперед для одушевления “детей”. Пришли вести о новом бедствии в Испании, о горячем миролюбии в Париже и о подозрительном поведении Австрии. Наполеон дважды предлагал царю мир с разделом Пруссии и Полыни, но его посланцы даже не были приняты. Тогда он призвал Меттерниха. Почуявший гибель миродержец промучился с венским Янусом целых десять часов, то грозя, то ласкаясь. Наконец он загремел, бросив шляпу на пол: “Так вы хотите войны? Хотите получить свою долю, как пруссаки и русские? Извольте! Назначаю вам поединок в Вене. Я три раза ставил императора на престол. Я женился на его дочери: то была глупость, я раскаиваюсь в ней. Чего хотят от меня? Бесчестия? Никогда! Скорее умру, чем уступлю хоть пядь земли. Ваши рожденные на тронах государи могут быть двадцать раз побиты – и они все-таки возвратятся в свои столицы. Я же – сын счастья: мое царство прекратится в тот день, когда я перестану быть сильнейшим. Вы грозите мне союзниками. Сколько их у вас? Четыре, пять, шесть, двадцать? Чем больше, тем лучше для меня!.. Но нет, вы ведь не станете воевать со мной?” “Вы погибли”, – отвечал Меттерних.
Наконец Наполеон пошел и на “бесчестие”: он согласился на конгресс в Праге, предложенный Меттернихом. Но венский дипломат обратил этот конгресс в комедию: не успел пробить час окончания перемирия, как Габсбург объявил войну своему зятю. Не дождались даже ответа императора, который соглашался почти на все.
Мир опять увидал ужаленного льва. Опять блеснула самоуверенность гения. Опять улыбалось ему счастье: Бернадот “топтался на месте” в Померании; Блюхер застрял в Силезии. А главною, богемскою армией командовал трусливый венский аристократ, князь Шварценберг, походивший более на дипломата, чем на полководца; да и тому мешали целых три венценосца. Оттого-то Наполеон, гонявшийся за Блюхером, подоспел на выручку к осажденному Дрездену. Здесь-то, в незабвенном двухдневном бою (26-27 августа 1813 года), он показал пример гениальной обороны. “Император в Дрездене!” – с ужасом воскликнул Шварценберг, завидя искусные маневры французов: и у союзников опустились руки. Они потеряли трех своих людей, и половина попала в плен. Тут пал и Моро со словами: “Как! Я, Моро, умираю среди врагов Франции, от французского ядра!” Союзники, мечтавшие отрезать Наполеону “отступление” к Рейну, сами бежали босые, голодные, в беспорядке; а в тылу у них, в Богемии, показался корпус Вандамма. Сам Наполеон пустился было в погоню, но вдруг упал в обморок.
Болезнь приковала победителя на несколько недель к Дрездену. “Моя шахматная игра запуталась”, – сказал он. И политик все больше брал верх над полководцем. Император не преследовал Шварценберга, надеясь отвлечь от коалиции своего тестя, которому даже посылал лестные предложения о мире вдвоем. Он думал уже не об истреблении армии, а о занятии столиц: Удино получил отчаянный приказ – захватить Берлин врасплох. А тем временем забытый в Исполинских горах Вандамм должен был сдаться целой армии союзников, хотя и после жестокого боя под Кульмом. Макдональд также наткнулся на вдвое сильнейшего врага у Кацбаха: Блюхер взял у него множество пленных и пушек. Наконец, Берлин был спасен победой пруссаков у Денневица. Тут померкла звезда Удино, как потом слава Нея и Даву, а утвердилось имя прусского “маленького Наполеона” – цезаревидного, но нервного чудака с оборванными пуговицами, Бюлова. Денневиц важен и по нравственному влиянию. Здесь пруссаков было не больше французов, и их ландвер, который сражался иногда дубинками и ездил без стремян, на недоуздках, уверовал в себя. Здесь же саксонцы, дравшиеся с пруссаками как львы, возненавидели неблагодарных французов, сваливших на них всю неудачу. С тех пор гордость, отвага, непобедимость перешли от французов к пруссакам, которые стали совершать молодецкие подвиги. Блюхер с Бюловым продвинулись к Эльбе, хотя им мешал Бернадот: этот лукавец, поджидавший, чтобы “убили” его шурина, “плута и бича мира”, не хотел бить своих “будущих подданных”, французов.
Опять, как в России, вокруг “великой армии” сжималось железное кольцо и отрезался путь к отступлению. Франц I уже не принимал посланцев зятя, а Меттерних успел вовлечь в коалицию и другого родственника – короля Баварского. Армия французов таяла: из четырехсот тысяч оставалась разве только половина. Французы истомились от “системы туда-сюда”, как назвал Наполеон свои маневрирования в треугольнике-мышеловке между Дрезденом, Лейпцигом и Бауценом. Местные жители прозвали тогда императора, который сам скакал между этими городами, “бауценским почтальоном”. У солдат оставалось мало сапог и даже снарядов. С голоду они то дезертировали, то уродовали себя, чтобы попасть в лазарет. Генералы скопом требовали возвращения за Рейн. “Гению битв” оставалось дерзнуть по-старому: он дал генеральное сражение вдвое сильнейшему неприятелю.16 – 18 октября грянула под Лейпцигом трехдневная “битва народов”: тут дрались даже “амуры”, как называли французы лучников-башкиров. В первый день французы отразили все нападения, направляя в центр врагов массовые атаки кавалерии и залпы ста пятидесяти орудий. Но у союзников были такие стены людей, что их нельзя было ни пробить, ни обойти; и подходили все свежие подкрепления. На другой день противники отдыхали, не сговариваясь. И Наполеон не отступил. Эта “необъяснимая беспечность” объясняется его надеждой на тестя, которому он предложил тогда возвратить почти все, кроме Италии. 18-го виртуоз войны решился показать невиданное – пример генерального сражения при отступлении. То была величайшая битва целого тысячелетия и день славы для французов. Их было сто тридцать тысяч против трехсот; да еще им изменили в разгар боя саксонцы и вюртембергцы. И все-таки они удержали главную позицию, разгромили Шварценберга и погубили семьдесят пять тысяч солдат, сами потеряв только пятьдесят тысяч. Но, конечно, пришлось отступить перед стихийной силой поднявшихся народов. И, уходя, воитель бесподобно морочил преследовавших, бил их авангарды и уничтожил баварцев, вставших у него на пути. Император опять изумлял ветеранов своим спокойствием, самоотверженностью и выносливостью: “Точно так шел он из Москвы”, перешептывались между собой бородачи в медвежьих киверах.
А позади завоевателя вспыхивала и утолялась “жажда мести”. Рухнули Рейнский союз и Вестфальское королевство. В Голландию возвратился принц Оранский. Мюрат даже выступил против своего родственника, Евгения, который отлично дрался с австрийцами, отказавшись принять итальянскую корону из рук союзников. Веллингтон вторгся во Францию, а Меттерних предложил Наполеону “естественные границы”: потом он признавался, что хотел этим только разлучить императора с армией и народом Франции, жаждавшим мира. Наполеон согласился на всеобщее примирение, но на европейском конгрессе. Тогда союзники возвестили, что они “воюют не с Францией, а с преобладанием Наполеона за ее пределами”. То была воля царя, которого уже называли “новым солнцем”. Александр шел впереди всех Агамемноном, и во Франции принимал союзников как хозяин. Немецкие государи толпились в его передних. Когда усталые союзники заговаривали о мире, он твердил о Париже – “для чести русского имени”.
Но месть народов возбуждала национализм и во французах. Сознавая, что вчера еще мир преклонялся перед ними за просветительные начала “великой” революции, они вообще смотрели на другие народы как на “варваров”. А теперь они получали право на это: пруссаки выказали истинное зверство. Жалкая, вероломная дипломатия разжигала ненависть и презрение гордой нации. Французы забыли про “виновника” бедствий и опять восторгались своим героем, который не был побежден: он отступил так, что потерял гораздо меньше людей, чем союзники, у которых было наполовину больше войск. Могикане “великой армии” все еще находились под обаянием “гения битв”, который разделял с ними все опасности и лишения и всегда вовремя являлся к ним на выручку. Они разносили по Франции вести о его чудотворствах и еще о его великой душе. Воитель и вправду становился все сердечнее по мере колебания счастья. Он запретил жечь Лейпциг при отступлении. Его кошелек был открыт для обездоленных. “Бедняга!” – говорили солдаты, видя неутешного вождя после смерти его Патрокла, Дюрока. А он выказывал отеческую заботливость и искреннее сострадание к юным жертвам голодного тифа, которых увозили на ломовиках, “связывая трупы, как сено”. Наполеон даже отпустил папу в Рим, а Фердинанда VII – в Мадрид. Сам Талейран признавался, что если девяносто девять процентов нации жаждали мира, то девяносто девять с половиной процентов желали своего императора: французы верили, что только его гений опять спасет их и от варваров, и от Бурбонов. И по стране слышалась теплая песенка Беранже о “нем”.
Союзников встретил во Франции патриотизм, напоминавший Испанию и Россию; а в крепостях стойко держались ветераны. Солдаты кричали вместе с народом: “Долой изменников! Смерть роялистам!” “Придется охранять армию с тыла другою армией!” – воскликнул испуганный Шварценберг. Но Цезарь и теперь не мог освободиться от рокового заблуждения. Когда законодательный корпус потребовал мира, а также “свободы и политических прав для нации”, он закрыл его как гнездо “изменников и друзей Англии”. Он закричал на “идеологов”: “Настоящий трон – человек; и это – я, с моей волей, с моим характером, с моей славой. Я могу спасти Францию, а не вы! Франция больше нуждается во мне, чем я – в ней... Я сам хочу мира, но согласного с честью нации. Через три месяца враги будут изгнаны из Франции или я умру!”
А между тем у императора не хватало ни оружия, ни мундиров, ни денег. Поспешная спекуляция с землями общин дала мало; если увеличили налоги наполовину, то столько же оказалось недоимок. Товары лежали массами от застоя в торговле; всюду объявлялись банкроты. Народ нес белье в ломбард; в Париже продавались только пища да конфекты. Звонкая монета исчезла; развилось ростовщичество; рента упала наполовину. Мало было и рекрутов: крестьяне хотели защищать только свои усадьбы. У Наполеона оказалось всего двести тысяч боевых детей и калек с двумя сотнями орудий; у неприятеля было шестьсот тысяч и девятьсот пушек.
Началась бесцельная, но дивная “кампания во Франции”, едва ли не более славная, чем первый поход в Италию. Кампания, которая покрыла гения, обезумевшего от отчаяния, новыми лаврами. Неприятель был ошеломлен юношеской энергией сорокачетырехлетнего полководца, который носился птицей между Сеной и Марной. Никогда еще враги не дрожали так при одном его имени, хотя им было известно его бессилие. “Наполеон, – говорит Ланжерон, – был каким-то пугалом для наших командиров. Он мерещился им всюду. И правда, он колотил нас всех поочередно. Смелость его предприятий, быстрота движений, замечательное искусство в замыслах держали нас в постоянном страхе. Едва мы успевали выработать какой-нибудь план, как он уже оказывался расстроенным”. “Мы разбиваемся нарочно, чтобы и Наполеон разделял свою армию, чтобы он не везде был сам”, – признавался Шварценберг.
Но этого-то и не могли достигнуть союзники. “Гений битв” исчезал на их глазах среди болот и внезапно возникал у них в тылу, по бокам, где никто не мог ждать его. Ряд его чуть ли не ежедневных побед тем поразительнее, что он вел борьбу среди морозов и ливней против отличных армий и тех полководцев, которых обучил сам. А у него ничего не было готово, и он был почти один. Оторопелые маршалы терпели поражения даже находясь в лучших условиях: во главе их очутились такие бездарности и отчасти будущие Иуды, как Мармон и Мортье, Виктор, Макдональд и другие. Немудрено, что Наполеон говорил тогда: “Я нашел мои ботфорты итальянской кампании. Я рассекаю гордиевы узлы, как Александр”. Раз он даже воскликнул, к ужасу паладинов: “Пусть не воображают, что лев уже издох! Я продиктую царю мир на Висле”.
Как всегда, у Наполеона был только один союзник – сам неприятель. Здесь не падал духом лишь фельдмаршал-Вперед. Но он умел только лезть напролом, губя вдесятеро больше своих, чем чужих, и у него самого постоянно было “рыло в крови”, как говаривал Кутузов. Нередко он еще путал дела своим непослушанием и юношеской нетерпеливостью. Все остальные пали духом: даже англичане желали мира. Только русский солдат опять прославился покорной стойкостью. И один лишь царь представлял душу коалиции. Он сам ехал верхом, впереди всех, франтом в непогоду, шагал ночью, по колени в грязи, по квартирам монархов, всех ободрял своей веселостью, приветливостью, распорядительностью. Но Александр же был одною из причин вялости союзников: они опасались его роли Агамемнона и не сходились с ним в политике. Отсюда – вечные пререкания в главной квартире. И Шварценберг рад был приказу Меттерниха продвигаться “умненько”: он все оглядывался на Рейн.
Раз только соединились союзники – и Наполеон был разбит у Ля-Ротьера, хотя с великим трудом. Монархи тотчас собрались в Шатильоне, чтобы потребовать возврата границ, существовавших до 1792 года. Но они вдруг опять разделились, и император в пять дней нанес пять жестоких поражений пруссакам и русским. Затем он бросился на Шварценберга и дал ему таких же два урока, хотя у него было втрое меньше сил. Наконец, Блюхер был побит еще два раза, и только случай спас его от плена. Но то были последние удары издыхающего льва. Он принял отчаянное решение – броситься в Вогезы, чтобы отрезать врагу отступление, подняв гверилью и стянув к себе гарнизоны пограничных крепостей. Наполеон написал об этом Марии-Луизе, но казаки перехватили депешу. Тогда только сто семьдесят тысяч союзных войск устремились к Парижу. Они гнали перед собой пятнадцать тысяч измученных солдат Мармона и Мортье.
Этот-то жалкий обрывок “великой армии” да столько же едва вооруженных национальных гвардейцев составляли всю оборону столицы, почти лишенной укреплений. Но все, не исключая граждан, схватившихся за баррикады, рвались в бой. Часовые на фортах кричали при виде всякого всадника на белом коне: “Это он, он!” И союзники дрожали от страха, оглядываясь на юго-восток. Их опять воодушевлял только царь, воскликнувший: “На развалинах или в пышных палатах, но Европа должна ныне же ночевать в Париже!” Под Парижем произошла одна из самых кровавых битв всей кампании: союзники потеряли до десяти тысяч, французы – наполовину меньше. Героем дня оказался Мармон, но команда проклинала его, когда он подписал документы о почетной сдаче столицы, видя, что “его” не дождаться. 31 марта союзники вступили в “столицу мира”.
А “он” был далеко, в тылу у неприятеля. И там уже кипела “императорская Вандея”: сотни тысяч крестьян требовали оружия и успели привести две тысячи пленников. Стягивались гарнизоны крепостей. У Наполеона опять скопилось пятьдесят тысяч одушевленных бойцов, а он справедливо говорил: “Пятьдесят тысяч да я, это – сто пятьдесят тысяч”. И они уже уничтожили один корпус пруссаков. На юге стояли армии у Лиона и Бордо, а за Пиренеями – сам Сульт с сотней тысяч ветеранов. Но теперь, как и после Дрездена, смелый вождь был озадачен трусостью маршалов. Его окончательно остановило известие, что союзники под столицей, а Мария-Луиза покинула ее. Император искусно повернул свою армию назад, а сам поскакал вперед с ничтожной свитой. 31 марта он был уже в пятнадцати верстах от Парижа – чтобы видеть, как туда вступали союзники.
Наполеон послал к царю Коленкура, предлагая принять шатильонские условия. Отказ. “Так докажем же им, что мы еще способны защищать нашу независимость и кокарду!” – воскликнул император. Он ускакал в Фонтенбло как помешанный: глаза его сверкали, весь он был рвение и самоотверженность юности. 4 апреля вокруг него собралось уже шестьдесят тысяч солдат, рвавшихся в бой. Но генералы перешептывались между собой, и послышался грубый голос Нея: “Отречение!” Наполеон вздрогнул, но углубился в план сражения. Он думал: “Следовало бы выслать из армии всех этих бывших героев. Пусть себе спят на пуховиках и важничают в своих гордых замках; а мне – начать войну опять с честной молодежью незапятнанной доблести”. Маршалы ворвались в кабинет. Император стал красноречиво доказывать им неизбежность победы. Но Ней грубо заявил, что они не пойдут на Париж. Говорят, паладины обнаруживали даже намерение умертвить своего вождя.
Наполеон не видел, что военное дело уже кончилось: началась работа дипломатии. Смысл ее был ясен с начала кампании 1813 года из мстительных слов царя: “Наполеон унизил меня: я унижу его. Я веду войну не с Францией: если его убьют, я тотчас остановлюсь!” Оттого-то все мирные предложения Наполеона оставались без ответа. Союзники повышали свои требования при малейшей неудаче противника, но ничего не спускали при самых блестящих его успехах. Самым позорным лицемерием с их стороны был Шатильонский конгресс, где заговорили о “старых границах” Франции, что намекало и на “старый порядок”. Это было требованием отказа от Бельгии и Рейна, которые к Франции присоединились до империи, и по желанию самого местного населения. Император был глубоко оскорблен. Но маршалы опять стали наседать на него – и он уже соглашался. Вдруг последовал ряд новых подвигов – и победитель написал Францу I: “Никогда не откажусь от Бельгии и Антверпена”.
Дипломатия не могла спеться только относительно преемника Бонапарта. Англия, а за нею Австрия и Пруссия скоро столковались насчет Бурбонов: они надеялись при этой ничтожной династии возвратить утраченное во время революции. Александр же, жаждавший только сокрушить соперника, все остальное предоставлял воле Франции: он презирал “невозможных и неисправимых” Бурбонов, к которым пригляделся в России. Но Наполеон недаром говорил еще в 1810 году, что если не он – будут Бурбоны. Роялисты живо победили. Ведь во главе их стоял Талейран! Он сошелся с царедворцами Александра, закадычными друзьями эмигрантов, а в Париже распускал злостные клеветы на своего императора и даже подкупал убийц. По провинциям орудовали наперсники графа Артуа. Они передавали союзникам военные тайны, командовали их отрядами, сдали англичанам Бордо.
В столице среди убитого горем населения “бодрствовали” только юркие “кавалеры” и прелестницы Сен-Жермена.
Собранный Талейраном Сенат, этот вчерашний раб Наполеона, объявил низложение корсиканца; к нему тотчас присоединился обрывок законодательного корпуса. Но что скажет армия? Шварценберг обратился к Мармону, герцогу Рагузскому волей Наполеона, с щедрыми предложениями. Герой 30-го марта задумал разыграть роль Монка, восстановившего Стюартов после английской революции; но народ назвал его Иудой, а измену – “рагузадой”. Мармон собрал свой корпус и сказал, что ведет его в бой, а привел к австрийцам. Когда солдаты поняли измену, они стали стрелять в свой штаб; офицеры срывали с себя опозоренные эполеты.
Это произошло 4 апреля, в тот день, когда изменили и паладины. Император набросал отречение в пользу сына: из ответа царя, только что привезенного Коленкуром, видно было, что тот не отвергал регентства Марии-Луизы. Александр даже предлагал самому Наполеону “гостеприимство в России”. Наполеон послал отречение с Коленкуром и Неем: он не хотел поручить такое щекотливое дело своему любимцу, Мармону. А посланцы были приняты Александром в ту самую ночь, когда совершилась измена Мармона. Царь уже соглашался на регентство, как вдруг вошел адъютант и что-то сказал ему по-русски. “Господа! – воскликнул Александр, – вы ссылаетесь на преданность армии императору, а вот его авангард сейчас дезертировал”. Посланцы возвратились с таким решением: Сенат провозглашает Людовика XVIII, а Наполеон будет жить на острове Эльба “гостем Европы”. Последняя милость была плодом “романтизма” царя: англичане, Талейран и Меттерних были озабочены такою близостью “великана” к Европе.
В ту минуту Наполеон готовился к новой кампании: он хотел или укрепиться за Луарой, куда призывал и жену, или, в крайнем случае, идти в Италию, к своему Евгению. Вдруг маршалы возвестили ему волю союзников и измену его Вениамина. “Неблагодарный! Он будет несчастнее меня. У этих людей нет ни сердца, ни ума. Я побежден не столько судьбою, сколько себялюбием да неблагодарностью товарищей по оружию”, – прошептал император. На другой день он издал приказ по армии, где заклеймил позором измену Мармона и низость Сената. Из сердца падшего “великана” вырвалось проклятие человечеству: “Императора упрекали в презрении к людям: теперь должны признать, что он имел основание к тому”. Затем Наполеон пытался еще раз увлечь маршалов, раскрывая перед ними страшную картину мести Бурбонов. Но Ней настаивал на “безусловном отречении”. “Вы хотите покоя? Извольте!” – сказал император и твердою рукой написал: “Ввиду заявления союзных держав, что император Наполеон – единственное препятствие к восстановлению мира в Европе, император Наполеон заявляет, что отказывается за себя и за своих наследников от престолов Франции и Италии, ибо нет такой личной жертвы, которой он не принес бы на благо Франции”.
Через неделю привезли Фонтенблский договор, заключенный Сенатом с союзниками 11 апреля. Державы предоставляли Наполеону императорский титул и остров Эльба, а также два млн. франков в год и четыреста гвардейцев; Марии-Луизе обеспечивалось герцогство Парма. Император отложил ответ до завтра. Ночью произошла еще невыясненная драма. С Наполеоном сделался один из сильнейших припадков. Так как с 1808 года он носил на шее ладанку с ядом, то разнесся слух о самоотравлении. Но император говорил накануне: “Самоубийство противоречит как моим убеждениям, так и моему положению в мире”. Перед отъездом на Эльбу, он прибавил: “Меня станут осуждать за то, что я пережил мое падение. Это несправедливо. Я не вижу ничего великого в том, чтобы покончить жизнь, как все спустивший игрок”. На другой день Наполеон встал здоровый и спокойный. Он уволил в отставку своих паладинов и милостиво простился с ними, щедро наградив приближенных. Затем он стал обстоятельно условливаться с комиссарами держав насчет своего пути и огромного багажа. Только раз, сидя за столом, он вдруг ударил себя по лбу и воскликнул: “Боже мой, да неужели же все это – не сон?”
Быстро все опустело вокруг “эльбского императора”. Впереди всех устремился под белое знамя Бертье, а за ним Ней, Ожеро, Удино и другие. Только джентльмен Макдональд сказал Иуде-Мармону: “Я отдал бы свою руку, чтобы не видеть этого”. Да вдали Сульт разгромил врага под Тулузой, а Даву в Гамбурге стрелял в парламентеров. Но вскоре и Даву закричал: “Если Бонапарт не уберется спозаранку, схвачу его за шиворот!” А Сульт со свечкой в руках принял участие в церемонии “погребения короля-мученика”. Нежный муж поджидал только жену, гневаясь на “насилие” над нею, но ему донесли, что Мария-Луиза добровольно отбыла с сыном к батюшке. Зато Валевская стучалась к императору в кабинет, когда его постиг припадок. Говорят, он сказал тогда, что его последние мысли посвящаются Жозефине. А та умерла в Мальмезоне в тот день, когда Мария-Луиза прибыла к отцу в Шенбрунн.
Настало 20 апреля. Император вышел на двор замка Фонтенбло, где выстроилась рота гренадер старой гвардии. Он трогательно благодарил их за верную службу и воскликнул: “С вами да с моими крепостями я мог бы воевать еще два-три года. Но я предпочел, во избежание междоусобия, пожертвовать моими личными правами и выгодами счастью и славе отечества. Продолжайте служить Франции! Я же охотно покончил бы с собой, но остаюсь в живых, чтобы возвестить потомству о подвигах моих воинов”. Изгнанник, но не пленник Европы прижал к груди императорского орла и приложился к нему. “Во всех рядах послышались вздохи”, – говорил очевидец. И прослезились суровые ветераны.
На пути народ сначала встречал своего императора изъявлениями преданности и сожаления. Но на юге сказалась работа роялистов. Толпы кричали: “Долой Бонапарта!” Наполеон едва избегнул шайки наемных убийц. Ему пришлось переодеваться, даже прицеплять белую кокарду. Он прятался в карете, за спиной адъютанта, со слезами на глазах; а припадки болезни не давали ему покоя. 3 мая великан вступил в свое лилипутское царство – ряд скал в двести квадратных верст.
Глава VII. Сто дней и остров Св. Елены. 1815 – 1821
Возвращение Бурбонов было следствием обстоятельств: нужно было спешить с умиротворением Европы, а ни у кого, кроме них, не было формальных прав на престол. Им помогла также недальновидность и взаимное недоверие союзников. Что же касается самих французов, то Наполеону изменил не народ, а его вожди. Массы, по мнению самих роялистов, “не видели другого врага, кроме иноземцев”, и верили в своего “спасителя”. Но то “общество”, которое раболепствовало перед деспотом в силе, лягало его при падении. Оно повторяло лозунг чужеземцев о том, что Европа воюет не с Францией, а с Бонапартом. Среди всеобщего утомления и ошеломления работали смелые роялисты, хотя они и сознавали, что “народ не поднимется за забытую фамилию”. Опираясь на иностранные штыки, они действовали так нагло, что сам Талейран испугался “принципа” Бурбонов, названного тогда легитимизмом, то есть “законным” наследием, и пожелал оградить себя конституционной Хартией. Александр I согласился с ним. Он заставил даже союзников смягчить условия. Если, по Первому парижскому миру (30 мая), Франция входила в пределы 1792 года, она все-таки приобретала до одного млн. жителей и возвратила почти все свои колонии. Союзники даже оставили ей награбленные сокровища искусства и не взяли контрибуции. Для установления подробностей нового порядка державы решили собраться на конгрессе в Вене.
3 мая, когда Наполеон высадился на Эльбе, совершилась Реставрация, или “восстановление”. В Тюильри возвратились Бурбоны. Гвардейцы сурово всматривались в эти “привидения”: в холодного, спесивого толстяка, Людовика XVIII, в его дерзкого, вздорного брата, графа Артуа, в сухую, мрачную фигуру его племянницы, герцогини Ангулемской, которая упала в обморок в Тюильри от кровавых воспоминаний и от жажды мести. “На Эльбу, Бертье, на Эльбу!” – загудела толпа, увидев в свите Бурбонов этого Вениамина императора.
Людовик XVIII был противоположностью Наполеона и по своему нраву, и по убеждениям. Ленивый, пустой старик-подагрик, он уже с 1795 года (со смерти Людовика XVII) осыпал Европу манифестами о своей преданности “старому порядку” да о “мести злодеям”. Впрочем, желая только тишины и безделья, он твердил об “умеренности”, соглашаясь с Талейраном, который опять стал министром иностранных дел. Но король сдал дела брату, годному лишь на роль заговорщика и палача и вдохновляемому бессердечной герцогиней Ангулемской. Правой рукой графа Артуа стал Сульт, назначенный военным министром: он клялся “роялизовать” армию огнем и мечом.
Начался белый террор. Хартия была изуродована согласно с “традициями” Бурбонов: она оказалась “пожалованием” и восстановлением “цепи времен”. Люди, двадцать пять лет занимавшиеся заговорами против своего отечества, считали целую великую эпоху французской и мировой истории какими-то злодейскими кознями и сновидением! Немудрено, что Хартия превращала парламент в куклу, а королю предоставляла право “издавать ордонансы (указы) для безопасности государства” и учреждать специальные суды “по необходимости”.
И во всех шагах правительства стало проглядывать решительное намерение воскресить “привилегированных”, а это вело к резкому уничтожению всех мер Наполеона против феодализма. Было уволено до пятнадцати тысяч молодых офицеров, питомцев императора: их заменили юными жантильомами, а впредь в военные школы (то есть в офицерство) могли поступать только отпрыски столетнего дворянства. В полгода раздали или просто продали старых титулов больше, чем в два последние века монархии. Духовенство всюду захватывало власть, прибирая к рукам в особенности все народное просвещение. Оно приказывало даже “детям Вольтера” строго соблюдать воскресенье и украшать дома при крестных ходах. Мало того: в указах появились прозрачные намеки на возвращение национальных имуществ церкви и эмигрантам. Это уже затрагивало массы: среди двух миллионов, купивших эти имущества, было немало крестьян, заработок которых сокращался еще от соблюдения праздников. Сверх того, народ был смущен явным стремлением духовенства восстановить десятину да помещичьими замашками жантильомов по деревням. Недовольство росло изо дня в день. В Париже рабочие били иноземцев и роялистов. На бульварах пили “за здравие великого человека”. В театре студенты рукоплескали при фразе Вольтера: “подавленный герой привлекает все сердца”. По провинциям встречались надписи: “Да здравствует император! Он был и будет!” Особенно зашумели военные, когда вернулись сто тысяч героев “великой армии” в виде голодных лохмотников, которые с проклятиями надевали белую кокарду, а на дне ранцев хранили как святыню трехцветку. В этой-то грозной среде твердили о “постыдном мире”. Гарнизоны бунтовали, сжигали или пачкали белое знамя. В казармах распевали: “Он придет, придет опять!” И это были не наемники: солдаты разжигали ненависть к Бурбонам среди родных крестьян и рабочих. Задумалась, а потом вознегодовала и интеллигенция. Ее смутило появление церковников в институте, где они вытесняли ученых и уже закрыли целое отделение – изящных искусств. Ее заставил трепетать новый цензурный устав, который преобразил даже Шатобриана: этот певец католицизма и “вожделенных” Бурбонов теперь грустил, что “старая монархия живет лишь в истории”.
Так “неисправимые” сумели в десять месяцев смутить и восстановить против себя все слои народа ради блага горсти допотопных “привилегированных” и алчных царедворцев. Да и те уже разочаровались. Завзятые роялисты досадовали на то, что еще не произведена “всеобщая чистка”, или “оздоровление”, и называли правление Людовика XVIII “революционною анархией”; они требовали отмены Хартии. Еще более негодовали “политики” по ремеслу – либералы, бонапартисты и старые революционеры, или республиканцы. В особенности горячился Фуше, услугами которого пренебрегли спесивые Бурбоны. В феврале 1815 года он составил заговор для их низвержения, хотя еще не знали, кем заменить их. Один из этой компании уже поскакал тайком на Эльбу.
А правительство, словно нарочно, только бередило раны многострадальной нации. В указах возвращались к старому слогу: “Так нам угодно. Объявляем нашим подданным”. Французов заставляли торжественно “раскаиваться”. Начались церемонии в дни смерти “четы-мученицы”; служили панихиды по Пишегрю и генералам. А делами с отъездом Талейрана на Венский конгресс никто не занимался. Министры почивали на лаврах: не слыша голоса нации из-за цензуры, они хвастались, что подавили революционный дух политикой “усыпления”.
Между тем уже почти вся Франция, не исключая Вандеи, обращалась в открытый заговор. Кучами появлялись подпольные листки против “отеческой анархии”. Венцом их была песенка Беранже “Маркиз Карабас”. За недогадливостью цензоров проскальзывали даже прозрачные намеки в печати. В карикатурах венценосный толстяк скакал за спиной казака по трупам французов. На улицах громко рассуждали о расправе над “королем иноземцев”. Все партии сливались в возгласе: “Так нельзя дальше!” Словом, положение Бурбонов стало напоминать презренную Директорию: и, как в октябре 1799 года, всюду само собой воскресало имя героя из героев. Хозяйничанье иностранцев разжигало память о его дивной обороне в 1814 году. Народ скрежетал зубами при возвращении своих трехсот тысяч пленных, которых было достаточно для нового завоевания мира при “гении побед”. А эти несчастные стали называть своего капральчика “Отцом-Фиалкой”: они ждали его весной. И он явился 1 марта.
“Император умер: я – ничто”, – сказал Наполеон, высадившись на Эльбе. Казалось, он весь ушел в обязанности монарха крохотного царства, которое он назвал Островом Отдохновения. Он завел образцовое управление и отличную “армийку”. Островок процветал; туземцы привязались к своему доброму, простому императору. Изгнанник увлекался собственным хозяйством: он лучше гофмейстера знал, сколько у него матрацев, простынь и так далее. У него было еще много хлопот с приемами: иногда его посещали до трехсот человек в день. Тут ему помогали мать и сестра Полина, про привязанность которой ходили грязные сплетни благодаря бурбонским шпионам, кишевшим на островке. Приезжала и Валевская с сыном, но ненадолго: император все ждал Марию-Луизу, а та утешилась в Шенбрунне с красивым камергером, которого отец приставил к ней.
Но, в сущности, Наполеон был опять занят мировою задачей. Сами враги подталкивали его к ней. Державы не выплачивали ему пенсии и отняли у него жену и сына. Их агенты замышляли даже или убить его, или похитить и заточить навеки; и на Венском конгрессе уже говорили, по предложению Талейрана, про остров св. Елены. Оттого-то эльбский император счел себя свободным от всяких обязательств. А здоровье его поправилось: он имел вид сорокапятилетнего крепыша и все еще прекрасно владел своей страстной природой. Завоеватель решил, что мир еще не может обойтись без него.
Наполеон отлично видел подвиги “неисправимых”. Он сказал одному приятелю: “Как только Бурбоны ступили на землю Франции, их министры делали только глупости. Нынешнее правительство хорошо для попов, знати да старых графинь: оно гроша не стоит для современного поколения. Народ привык при революции, чтобы его брали в расчет: он никогда не согласится впасть в прежнее ничтожество, стать пациентом дворянства и духовенства”. Узнал Наполеон и о раздорах на Венском конгрессе. И вот у него начались таинственные сношения с итальянцами, стонавшими под австрийским игом, в особенности же с Мюратом, который уже разуверился в державах. Наконец к нему пробрался приятель господина Фуше и еще какая-то переодетая личность. И, на глазах беспечных крейсеров держав, с острова отплыла “флотилийка” с “армийкой” эльбского императора. 1 марта 1815 года Наполеон высадился во Франции.
Искатель приключений рассчитывал на всеобщее ошеломление, которое произведет “эта великая новость”. “Нужно лететь, опережать молву!” – воскликнул он. Вперед он пустил ловкие воззвания к народу и армии: во всем виноваты-де изменники, с этими Бурбонами во главе, которые “ничему не научились и ничего не забыли”. Тут значилось: “Французы! Я услышал в изгнании ваши жалобы и вожделения: я переплыл моря и явился к вам. Мои права – права народа и армии. Орел с национальными цветами пролетит, с колокольни на колокольню, до башен Богоматери!”
Однако “орел” побаивался роялистского Прованса: “армийка” пронеслась обходом, по снегам морских Альп, следом за своим императором, который шел пешком. В Дофине народ уже стал изъявлять восторг. Под Греноблем смельчак встретился с первым королевским отрядом. Он подошел на пистолетный выстрел, раскрыл грудь и сказал: “Кто из вас хочет убить своего императора?” Солдаты побросали свои белые кокарды и стали целовать ноги героя. К ним присоединились тысячи крестьян. В самом Гренобле также не было пределов восторгам.
Дальше массы народа провожали своего “спасителя” от деревни до деревни. Всюду слышалась марсельеза, крики: “Долой попов! Смерть роялистам!” Встречались и сильные отряды, высланные против “кровавого чудовища”; но они переходили к императору. Склонился перед ним и Ней, хваставший, что он привезет его в клетке. Только в Париже слышался глухой ропот буржуазии, ее национальной гвардии да политиков. Остальные “так же мало интересовались приездом одного, как и отъездом других”, по словам самого Наполеона. Утром 20 марта король незаметно бежал в Гент, бросив на столе даже депеши Талейрана, но не забыл бриллиантов и четырнадцати млн. франков. А вечером в Тюильри опять показался император.
Без выстрела совершилось событие, которое называли неслыханным ни в истории, ни в мифологии. Оно перевернуло умы. Во Франции были смертельные случаи от нервного удара. Бертье покончил с собой. Г-жа Сталь сочла себя побежденной. Сульт и Констан стали бонапартистами. Лафайет называл этот эпизод “прекрасной страницей истории”. Байрон отрекся от своей злой оды на эльбского человека. В Москве опять собирались укладываться. А дело было просто, если бросить традиционный взгляд на него как на военный переворот. Полет “орла” был делом народных масс, которые подталкивали заскорузлые в дисциплине войска. При первой встрече изгнанника с королевскими отрядами солдаты колебались. Наполеон крикнул им, указывая на столпившихся крестьян: “Спросите этих молодцов – и вы узнаете, что им угрожает возвращение десятин, привилегий, феодальных прав”. “Правду ли я говорю, друзья?” – обратился он к горцам. “О да, да! Нас хотели прикрепить к земле. Вы явились, как ангел Божий, чтобы спасти нас!” – загудела толпа. И Наполеон уже в Лионе издал указ об отмене знати и об изгнании эмигрантов. Оставалось удовлетворить буржуазию и интеллигенцию, которые опасались воскресения цезаризма. Наполеон уже в Гренобле возвестил, что посвящает себя миру да “ограждению начал революции”. Прибыв в Тюильри, он тотчас заявил державам, что будет соблюдать существующие договоры.
Так началось его господство Ста дней (20 марта – 26 июня 1815 года). То была последняя, отчаянная, но мимолетная борьба сверхчеловека с превратностями судьбы. Наполеон развернул былую мощь и энергию. Он опять работал по шестнадцать часов в сутки, опять создавал гигантские планы и проводил их уверенной рукой. Казалось, явился и неисчерпаемый источник средств. Все уплаты производились наличными деньгами, подрядчики даже получали вперед. Долги и пенсии оплачивались точно. Воскресла обширная “система” общественных работ. Деньги давали и банкиры, свои и чужие, и народ.
Но среда, а отчасти и сама личность смельчака нагромождали непреодолимые препятствия. Непривычная роль конституционного короля, вялость чиновников, ослабление дисциплины и веры в дело, наконец, угроза нашествия иноземцев – все подкашивало силы богатыря. Он видел это – и молчал. Он перехватил переписку Фуше с союзниками – и не трогал его; он понял роль Талейрана из забытых королем депеш – и вступил с ним в переговоры. Сам император обнаруживал нерешительность, стал задумчив и кроток, жаловался на перемену судьбы. Он быстро уставал за работой и томил приближенных болтовней о разных предположениях, с промежутками долгого молчания. Страдания от старых недугов стали хроническими; появились непроизвольные судороги и миганья глаза; император не раз впадал в истерику перед портретом своего сына. “Не узнаю его”, – сказал тогда Карно.
И эпоха Ста дней была сплошным противоречием, как, впрочем, и вся политическая история Европы в начале реакции. Сам Наполеон, решивший стать “Карлом Великим конституционных идей”, обратился к Констану с такими характерными словами: “Нация желает – или думает, что желает – трибунов и сходок. Она не всегда желала их. Она бросилась к моим ногам, когда я достиг власти... Теперь все изменилось: слабое, враждебное нации правительство приучило народ к самозащите, к укалыванию властей. Впрочем, этого желает лишь меньшинство; толпа желает только меня... Я – не император одних солдат: я – император крестьян, плебеев... Я вышел из народа: мой голос действует на него; я и он – одна природа. Мне стоит только дать знак или, вернее, отвернуться – и знать будет избита повсюду. Но я не хочу быть королем жакерии. Если можно управлять с конституцией – прекрасно. Я желал мирового господства – и для этого нужна была безграничная власть; а для управления одною Францией, пожалуй, лучше конституция. Да, я желал мирового господства, но кто не пожелал бы его на моем месте? Сам мир призывал меня управлять собой: государи и подданные взапуски стремились под мой скипетр. Гласность обсуждения, свобода выборов, ответственность министров, свобода печати! Я сам желаю всего этого, особенно свободы печати: подавлять ее – нелепость; я убедился в этом. Я – человек народа: если народ желает конституции, я обязан дать ее ему. Я признал его державность – и должен повиноваться его воле, даже его прихотям... Я не ненавижу свободу: я устранял ее, когда она стояла поперек моей дороги, но я понимаю ее; я воспитан на ее идеалах. Итак, дело пятнадцати лет разрушено: оно не может быть восстановлено. Да и я желаю мира; только его не получить иначе, как путем побед. Не стану внушать вам ложных надежд: я распространяю слух, что идут переговоры, но их нет. Предвижу тяжелую борьбу, долгую войну. Мне нужна поддержка нации, чтобы выдержать ее. Но за это она потребует, я думаю, свободы: она получит ее. Я старею: сорок пять лет – не тридцать. Теперь мне, пожалуй, будет к лицу покой конституционного короля. Еще вернее, что он пристанет моему сыну”.
Тогда же император отвечал на адрес сановников, напоминавший о “воле народа” и о “восстановлении всех либеральных принципов”: “Государи – первые граждане (citoyens) государства: их власть соразмеряется с интересами их наций. Отказываюсь от идеи великой империи, которой я положил лишь основание в течение пятнадцати лет”. И явилось примирительное министерство: Карно находился рядом с Фуше. Главой Государственного совета был назначен тот самый Бенжамен Констан, который накануне громил в журналах “Аттилу, Чингисхана”. И ему-то было поручено начертать новую Хартию.
Наполеон, который подсмеивался над “цепью времен” в Хартии Бурбонов, сам назвал свою Хартию Дополнительным актом “к учреждениям империи”. Зато он набросал такое вступление: “Доселе я старался создать в Европе великую федеративную систему, согласно с духом эпохи и на пользу цивилизации: отныне же у меня одна только цель – возвеличить благоденствие Франции утверждением политической свободы. В Акте очевидны все основы этой свободы: полный демократизм выборов (никакого ценза), почти полная законодательная власть палат с безусловным правом низвергать министров и определять рекрутские наборы, упразднение государственной церкви, феодальных привилегий и чрезвычайных судов, наконец, личная свобода. В особенности была подчеркнута свобода печати: Наполеон заметил, что в последний год на него вылили уже все помои, а для врагов еще остается довольно чернильной грязи. Предварительная цензура была отменена; малейшие проступки печати могли рассматриваться судом присяжных. И Францию наводнили листки и газеты, где авторы, с полной подписью, всячески издевались над императором и называли его правление “временным”.
Но и Дополнительный акт никого не удовлетворил. Плебисцит о нем не дал и полутора миллионов “да” – менее половины того числа голосов, которым была утверждена империя. В палату депутатов были избраны в большинстве либералы да республиканцы. Из провинций доносили императору: “Всеми овладевает уныние. Везде женщины – ваши отъявленные враги, а во Франции нельзя пренебрегать таким противником”. Да и ветераны ворчали: “Мы не знаем Толстяка Папашу (Людовик XVIII ), но нам надоела война”. И добровольцев явилось всего шестьдесят тысяч.
Дело в том, что никто не верил в превращение Цезаря в Цинцинната. И император поддерживал роковое противоречие. Увидав в Акте статью, воспрещавшую отбирать имущества за политические проступки, он закричал: “Меня толкают на чужой путь, меня ослабляют, сковывают цепями! Франция ищет меня – и не находит. Она спрашивает: что сталось со старой рукой императора, которая нужна ей для усмирения Европы?.. Когда настанет мир, тогда видно будет. У всякого своя природа: моя – не ангельская”. Этот “человек народа”, который называл в Гренобле французов “гражданами”, перешел в Париже к слову “подданные”. Он признал наследственное право пэров и восстановил пышный двор. Наконец, при обнародовании Дополнительного акта было воскрешено феодальное Майское Поле – допотопный, холодный маскарад. Владыка и его братья появились в театральных костюмах из белого бархата, в испанских плащах, усеянных золотыми пчелами (эмблема империи), в шляпах с широкими полями и страусовыми перьями. Кругом поднялся ропот негодования, посыпались насмешки интеллигенции. И как только открылись палаты, императора попросили не увлекаться “соблазнами победы”.
Но эти советы запоздали: Наполеон должен был или опять воевать со всею Европой, или бежать, как похититель, застигнутый на месте преступления.
Французы не верили речам Наполеона о свободе, чужестранцы не верили его внезапному миролюбию. Европа и вообще опасалась “мятежной” нации. Оттого, как при Людовике XIV, все ее заботы состояли теперь в том, чтобы “заковать” ее в “естественные” границы. И вот, явившись на Венский конгресс, “союзные державы”, или “четверо” (Россия, Пруссия, Австрия и Англия), все предрешили заранее, помимо Франции, надеясь кстати попользоваться наследием ее миродержца. Но Талейран как истинный “хромой бес”, по словам самих дипломатов, сразу смутил их и перессорил. Этот “цареубийца”, предатель всех и всего стал жрецом “принца, на котором зиждется весь общественный порядок”: так он назвал легитимизм.
Эта политика, нити которой тянутся, с одной стороны, до Ришелье, с другой – до Наполеона III, была ловким ходом против Габсбурга и Гогенцоллерна, так как она поддерживала выгодную для Франции раздробленность Германии и Италии. И сами дипломаты Венского конгресса, которые сначала “гнушались” Талейраном, должны были признать его своим главой. Но политика законности шла вразрез с “интересами” трех северных держав, вытекавшими из “права завоевания”. Россия и Пруссия хотели поделиться землями саксонского короля, который томился в берлинском плену за свою преданность “тирану”. Царь накричал на Талейрана за его “бескорыстные” принципы: он грозился даже, что “выпустит на Бурбонов чудовище”, если те не уймутся. А король занял своими войсками Саксонию.
Поднялась мировая буря и без “чудовища”. Немецкие потентаты завопили, что гогенцоллернское занятие Саксонии – “узурпация” хуже наполеоновской, и опять бросились в объятия Франции. Англия и Австрия вздрогнули при мысли о новом усилении своих старых соперниц. С помощью Талейрана они заключили “конвенцийку” с Францией, как называл союз трех против двух “хромой бес”, потирая руки: новая коалиция обязывалась даже оружием охранять условия Парижского мира. Россия и Пруссия должны были умерить свои желания. Но затем они чуть не поссорились между собой и с Австрией из-за польских земель.
Вдруг всех объединил ужас: пришло известие об исчезновении эльбского императора. Затем последовал взрыв ярости: даже Франц I обозвал своего зятя “авантюристом”, проходимцем. Особенно горячился опять царь: он готов был “положить своего последнего человека и последний грош”, чтобы истребить “чудовище”. Тотчас же, без совещаний, державы подписали декларацию, изготовленную Талейраном. Она объявляла Бонапарта “сумасбродным и немощным злодеем, врагом и разрушителем всеобщего спокойствия”; она изъяла его “из гражданских и общественных отношений” и предоставила “всенародной мести”.
Образовалась седьмая коалиция, с целью охранить и “дополнить” Парижский договор. Напрасно Наполеон осыпал державы мирными предложениями; напрасно он послал царю “конвенцийку”, забытую Людовиком XVIII у себя на столе: монархи не принимали его послов, не распечатывали его писем; они даже арестовывали его курьеров. Мария-Луиза объявила, что предпочитает Вену Парижу, и у римского короля французская гувернантка была заменена австриячкой. Английские корабли окружили Францию, а к ее границам стягивалось более миллиона солдат коалиции. По словам Александра, их задачей было “низвергнуть гения зла вторично, и уже в последний раз”.
Наполеону оставалось дерзать. Он знал, что у союзников пошли старые распри. Русские с австрийцами тащились еще вдалеке. Франц I опасался за свой тыл: Мюрат внезапно изменил державам и уже пробрался со своими войсками к реке По. Готовы были только пруссаки Блюхера да англичане и немцы Веллингтона, стоявшие близ Брюсселя. Правда, их одних было не меньше двухсот пятидесяти тысяч. Но они стояли врассыпную, беспечно, с массой новобранцев: сам Веллингтон называл свое воинство “отвратительным”. Этот медлитель побаивался “гения побед” и думал только об укрепленной обороне, о “прикрытии всего”; а у его “братца”, фельдмаршала-Вперед, войска чуть ли не голодали.
У Наполеона дело закипело по-старому, как только он убедился, что все его спасение – в натиске. Он вдруг образовал отличную и чисто национальную армию. Она состояла преимущественно из ветеранов, вернувшихся из плена и жаждавших отомстить, особенно англичанам, которые мучили их на галерах. И император позволил им идти в атаку под звуки марсельезы, покрыв трауром своих орлов до новой победы. Хотя эта армия была вдвое меньше неприятельской, зато у нее было больше пушек и она была лучше снаряжена. А во главе ее стояли старые молодцы: Ней, Сульт, Даву и другие. Театр войны был благоприятен французам: бельгийцы и голландцы сочувствовали им. Сам император создал план, достойный героя Аустерлица, отличавшийся величавой простотой: он решил внезапно врезаться клином между Веллингтоном и Блюхером, пользуясь знаменитым “французским натиском”.
Противники смутились. “Наполеон надул меня!” – воскликнул Веллингтон, заметив, что его отрезают от пруссаков. А Блюхер попал под удары самого императора. Правда, при Линьи он наткнулся лишь на французский резерв, и его солдаты дрались львами; при всем том, он был разгромлен. Сам пылкий вождь чуть не погиб под копытами конницы, свалившись с раненой лошади. Блюхер потерял более двадцати тысяч. Остальные отступали по первой попавшейся дороге, которая привела к Ватерлоо. Туда же двигались с другой стороны англичане, которых потрепал Ней у Катр-Бра, хотя их было вдвое больше.
Но тут же почувствовалось, что счастье отворачивается от “рокового человека”. Все было уже не прежнее. Сам император был “не тот, которого мы знали”, сказал Вандамм про своего кумира. Он уже не мог носиться птицей по полям: невыносимы стали его недуги, к которым прибавился геморрой – плод долгой верховой езды. Он внезапно погружался почти в летаргический сон. Он колебался в атаках, затягивал дело, давал неточные, даже противоречивые приказания, слишком полагался на маршалов. Так как и адъютантства почти не было, то полководец либо не знал, где стоят части его войск, либо принимал целую армию врага за мелкий отряд. Оттого Груши простоял у него сложа руки, вместо того чтобы разъединить Блюхера с Веллингтоном. Паладины тоже работали вяло и несметливо: приказания доходили к ним поздно, путаные. Наполеон не понял причины соединения врагов: “братцы” сошлись случайно, отступая после первых поражений. Мог ли он предвидеть еще измену командира лучшей дивизии, Бурмона, который в самом начале бежал к неприятелю, зная все?
После битвы у Линьи Наполеон торжествовал, вообразив, что пруссаки уже уничтожены. Он устремился к верной победе над Веллингтоном, стоявшим у Ватерлоо: у него было немного больше войск, чем у англичан, и гораздо больше пушек. Он устроил блестящий парад на глазах у неприятеля и, вопреки своему обычаю, начал последний свой бой поздно (18 июня 1815 года). И тотчас же император почувствовал себя очень плохо: он то впадал в дремоту, то внезапно пробуждался. А здоровый, рьяный “железный герцог” Англии, по своему обычаю, отлично окопался на горе Сен-Жан. Но невиданная масса кавалерии Нея, под которым пало пять коней, уже два раза вскакивала на вершину. “Блюхер или ночь!” – воскликнул Веллингтон в отчаянии. В ответ сбоку раздались крики пруссаков: “Месть за Линьи!” У Наполеона не хватало сил против двух врагов. Но для него отступать значило погибнуть: и он пустил на гору старую императорскую гвардию. “Гвардия умирает, но не сдается!” – доносили ему с горы. Эта фраза – сказка, но она соответствовала действительности. Гвардия натыкалась грудью на штыки английских каре, но давила, разрезала их, пока массы врага не сбросили ее в деревню Бель-Аллианс (этим именем англичане назвали битву).
Император с двадцатью всадниками поскакал в Париж. За ним расстилалось поле, на котором лежало до тридцати тысяч французов и еще больше союзников. Блюхер с семьюдесятью тысячами солдат несся к столице Франции по пятам разбитой армии, от которой уцелела едва одна четверть.
И все-таки казалось, не все еще проиграно. Последняя кампания стоила союзникам вдвое больших жертв, чем французам. На границах стояли свежие отряды императора. Под Парижем опять собралось до ста тысяч защитников. В палатах снова заговорили о сопротивлении иноземцам. Но вот сюда внезапно явился “храбрец из храбрецов” в жалком виде: Ней загремел своим грубым голосом, доказывая, что палаты обмануты, что все погибло. И правда: отовсюду к границам подходила почти вся вооруженная Европа. Конечно, если бы Наполеон и победил 17 июня, он скоро нашел бы Ватерлоо в другом месте.
Не так думал император. Тотчас после Ватерлоо он писал в Париж Жозефу и Люсьену: “Не все потеряно. Мужайтесь, будьте тверды!” Вновь явился блестящий план отпора врагам, которые продвигались к столице по-прежнему: врассыпную, вяло, сварливо. “Гений битв” надеялся в лучшем виде повторить кампанию 1814 года, подняв всю нацию. У него уже набиралось солдат больше, чем у Блюхера и Веллингтона; а по границам крупные отряды дрались победоносно с русскими и австрийцами. Этот план мог выполнить лишь деспот во главе армии, а генералы боязливо указывали на ненадежность палат. “Знаю, – воскликнул император, – мое место здесь. Но я поеду в Париж, хотя чувствую, что вы заставляете меня сделать глупость”.
В столице царствовало смятение: император здесь – и без армии, как после Москвы и Лейпцига! Рабочие предместий и беглецы из-под Ватерлоо кричали об “измене” и требовали цезаристской диктатуры. То же говорили Карно и Даву. Но “политики” и буржуазия боялись новых войн. Наполеон растерялся. На ободрение Люсьена он отвечал бесстрастным отказом. Но вот палаты высказались за отречение – и император рассвирепел, начал проклинать “якобинцев”. Тогда палаты пригрозили “опалой” – и он подписал отречение в пользу “Наполеона II”: они назначили Директорию, или временное правительство под председательством Фуше.
Так 22 июня окончилось господство Ста дней.
Наполеон удалился в Мальмезон. Покинутый всеми, экс-император набрасывал план бегства в Соединенные Штаты Америки. Вдруг воздух задрожал от канонады: пруссаки громили форты Парижа. А под окнами Мальмезона грянуло: “Ура император! Долой Бурбонов! Долой изменников!” То проходила дивизия ветеранов. Наполеон надел мундир и послал сказать Директории: “Сделайте меня простым генералом. Мне хочется только раздавить врага, принудить его к благоприятному миру. Затем я удалюсь”. Фуше отвечал, что не ручается даже за его личную безопасность. “Эти господа раскаются потом”, – сказал Наполеон кротко и поехал с четырьмя спутниками на юг, к морю, переодевшись в статское платье.
Он подвигался медленно. По дороге народ и войска бросались к нему с восторгом: он прятался от них. Он то предлагал Директории распоряжаться им “как простым солдатом”, то переписывался с командирами ближайших отрядов о низвержении “предательского” правительства. Между тем союзники вступили в Париж. “Летучие” отряды Блюхера искали беглеца, чтобы “расстрелять” его; шпионы Бурбонов собирались “повесить” его. А на рейде показались английские крейсеры. Наполеон собирался плыть в Новый Свет даже на одном суденышке, которое он купил, как вдруг увидел американский флаг. Капитан корабля великой заатлантической республики, которой недавно помогала революционная Франция, заявил, что сочтет за честь и счастье отвезти “падшее величие”. Наполеон сказал своему секретарю Лас Казу: “Отправлюсь в Соединенные Штаты и кончу тем, чем начинал человек: буду жить плодами моих полей и стад. Англичане не помешают мне, ведь американцы еще не дошли до того, чтобы серьезно тревожить их. Со временем, пожалуй, они явятся мстителями за моря. Правда, я мог бы приблизить эту эпоху... А если не ускользну от англичан – не беда. У них правительство ничего не стоит; но это – великая, благородная, великодушная нация. Они обойдутся со мной, как должно”.
От англичан нельзя было ускользнуть, и Наполеон обратился к их крейсеру. Капитан принял его с подобающими почестями, чтобы доставить “в Англию”. Он отправил вперед следующие строки своего гостя к принцу-регенту: “Подобно Фемистоклу иду сесть у очага британского народа. Взываю к нему как к самому могучему, самому упорному и самому великодушному из моих врагов”. На крейсере Наполеон часто впадал в дремоту и все показывал портреты жены и сына, чуть не плача о разлуке с ними. Когда приплыли к берегам Англии, союзники уже договорились считать Наполеона военнопленным, а следовательно, расстрелять его. Но британское правительство испугалось своего народа: он стекался к берегам приветствовать своего великого противника и даже собирался освободить его. И державы решили сослать “генерала Бонапарта” на остров св. Елены. Пленник отвечал спокойно: “Протестую перед потомством и перед самим английским народом: нарушены права гостя, освященные международным обычаем. Хотя и побежденный, я – все-таки монарх... Мне не выжить на маленькой скале: я привык ездить верхом верст по тридцать в день”. Позже он воскликнул: “Позор моей смерти завещаю царствующему дому Англии”.
Во время долгого плавания Наполеон был спокоен, даже поправился. Он много читал и начал свои Записки. 16 октября показалась земля ссылки. Остров св. Елены – вулканическая скала в сто квадратных верст. Наверху стоял небольшой дом, куда и поместили пленника с его четырьмя друзьями и их семьями, с врачом и дюжиной слуг. Кругом были часовые. Тюремщики не спускали глаз с заключенного. Их глава, Гудсон Лоу, педант из ториев, отравлял жизнь своему “Наполеону” мелкими придирками.
Бонапарт сначала воевал со своим мучителем, потом затих. Вообще он вел себя достойно: за обедом соблюдался даже этикет в костюмах. Днем он то писал, то работал в своем садике; по вечерам рассказывал друзьям о прошлом и много читал, особенно интересуясь английскими газетами. Узник все надеялся на освобождение, но отказывался от предложений друзей устроить побег: он ждал или победы оппозиции в Англии, или изгнания Бурбонов из Франции. Ему удавалось пересылать в Англию свои жалобы, которые тотчас попадали в печать. Но это только раздражало державы: они одобряли строгости Гудсона Лоу относительно “человека, мрачная известность которого не перестает волновать мир”. Тогда Наполеон предался диктовке своей автобиографии, которая выходила потом отрывками под видом записок его секретарей и врачей. Тогда же были набросаны его замечательные военные заметки.
Прошло четыре года. Узник плохо спал, мало ходил: он быстро тучнел. Вдруг у него обнаружился упадок сил: он стал томиться и столь же быстро худеть. От наследственного недуга он уже не переносил пищи. Наполеон составил завещание. В нем сначала говорит набожный католик, нежный муж и отец, патриот и “друг справедливости”, а потом сыплются корсиканские стрелы. Бывший император надеялся, что Франция, как и он сам, простит его предателей и злодеев, и брал на себя ответственность за смерть герцога Энгиенского. В приписке сказано по поводу одного человека, посягавшего на жизнь Веллингтона: “Он имел такое же право убить этого олигарха, какое имел тот уморить меня здесь, на скале св. Елены”. Свои шесть млн. франков умирающий распределил между всеми, кто оказал ему услуги с самого детства. Затем настали двухдневные жестокие страдания. В бреду слышалось: “Голова... Армия”. 5 мая 1821 года не стало Наполеона.
Теперь на вершине океанийской скалы лежит безыменная каменная плита: Гудсон Лоу не позволил начертать на ней “император”. Он не исполнил и просьбы покойного послать его сердце в Парму, к Марии-Луизе. Но могила пуста. Корсиканец завещал: “Желаю покоиться на берегу Сены, среди французского народа, который я так любил”. И прах его был перевезен в 1840 году с великим торжеством, в им же построенный Дом Инвалидов. А на океанийском островке уцелел только пустой домик “Наполеона”, охраняемый часовым третьей французской республики.
Так “народов ненависть почила, и луч бессмертия горит” на том “пустынном и мрачном граните”, где восемьдесят лет тому назад нового прикованного Прометея “сторожил, как он непобедимый, как он великий, океан”. Понятно, что этот каземат казался “проклятым островом” “сверхчеловеку”, для которого вся Европа была “удушливо тесна”. Однако в этом историческом Прометее, как и в его мифическом первообразе, все – человеческое, как силы, так и слабости; только все – в преувеличенных размерах. Судьба словно желала, чтобы на этом примере потомство легче разглядело свойства разрешителей величайших человеческих задач. Но вышло как раз наоборот.
В течение целого века не был понят самый страстный представитель одной из самых страстных эпох. С ним связан такой бурный мировой переворот, что его самого судили страсти, а не разум: наполеоновская “легенда” боролась с исторической карикатурой. Только “конец века”, озаренный небывалым сиянием науки в виде эволюционизма, устраняющего чудеса повсюду, подошел к спокойной оценке всего “сверхчеловеческого”. Благодаря сухим, как мумии, но беспрекословным, как вечный судия, документам архивов, к числу погребаемых пережитков отошла и теория “героепоклонства”. И тут герой нашей биографии оказался самым наглядным, самым поучительным примером.
Теперь историк, как бы с нотариальными актами в руках, может сказать приверженцам героепоклонства: “Наполеона I совсем и не было”. По крайней мере, уже никто не опровергнет того факта, что нет у него ни одного замысла, ни одного вожделения, которые не вытекали бы из прошлого, не были бы прямым и неизбежным завершением задач вчерашнего дня. Это иногда поражает исследователя даже в мельчайших подробностях: довольно вспомнить первые депеши консула в Петербурге, знаменитый план итальянской кампании или же египетский замысел.
Если “роковой человек” несет в себе все человеческое в слишком выпуклом виде, то это преувеличение лишь стоит рядом с необычайной порой в жизни мира. Эта нервная, почти до эпилепсии, натура была дочерью печального поколения. То поколение как плод измученных тяжким недугом отцов болезненно спешило жить: оно до совершеннолетия силилось разрешить массу великих задач, которых хватило на целый век. Не могла быть иною личность, которая, имея все условия, чтобы попасть в “великие люди”, оказалась исполнительницей неумолимых законов эволюции обществ, нередко даже слепым, бессознательным орудием истории. Эта личность сама сказала нам, отправляясь в Россию: “Чую – меня влечет к неведомой цели. Когда достигну ее, довольно будет одного атома, чтобы низвергнуть меня. Но нужно довершить начатое”.
Эта бурная, как стихия, натура ощущала инстинктивную, завещанную великим переворотом ненависть “человека народа” к “привилегированным” старого порядка, хотя она не постигала ею же вызванного национализма. Она со злорадством искореняла пережитки феодализма по всей Европе и гордилась этой задачей, хотя задача была незавидна: белыми ручками нельзя было разгребать навозную кучу “старого порядка”. А свобода, так же, как и мир, представлялась великану в благодатной дали будущего как мировое окончательное воплощение трех волшебных слов “великой революции”: “Моему сыну пристанет покой конституционного короля”, говорил он. Наполеон “чуял”, что он ломает корень старины, и точно так же повсюду, нередко бессознательно, идеи Просвещения проводились первой республикой. В лебединой песне миродержца, в этом полубезумном потоке фраз, излившемся перед олицетворяющим юный либерализм Констаном, есть слова с историческим смыслом: “Для мирового господства нужна была безграничная власть... Да, я желал мирового господства: но кто не пожелал бы его на моем месте? Сам мир призывал меня управлять собой”.
Углубляясь в изучение того беспримерного времени, вглядываясь в вожделения окружавших Наполеона лиц, начинаешь понимать восторженность возвышеннейших поэтов разных стран и партий. При всех печальных сторонах героя нашей биографии, которых мы вовсе не думали скрывать, чувствуешь утешение хотя бы в том, что в данном случае роковой исторический закон воплотился в почти мифологическом гиганте, которого недаром горячо ненавидели “столпы старины” как “исчадие революции”, не дававшее им покоя, нарушавшее их гробокопанье. В этом смысле иные создания Наполеона даже во внутренней политике живут и теперь. Вообще же его деятельность послужила источником тех всесторонних движений, которые наполнили весь только что истекший век.
Примечания
1
бумажные деньги, выпущенные во Франции во время Великой французской революции и обращавшиеся в период 1789 – 1797 годов
(обратно)2
обладания и управления миром. (Сл. В. Даля)
(обратно)3
приз – захваченное воюющей стороной неприятельское судно или нейтральное торговое судно, перевозившее контрабанду (фр.)
(обратно)4
негласно, келейно (Словарь В. Даля)
(обратно)5
чирей, болячка (Словарь В. Даля)
(обратно)



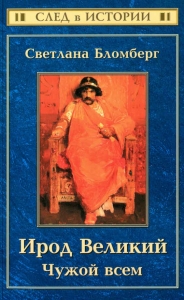


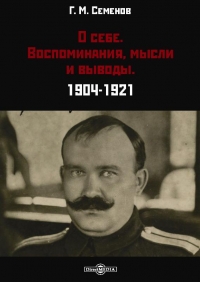

Комментарии к книге «Наполеон I. Его жизнь и государственная деятельность», Александр Трачевский
Всего 0 комментариев