Мария Августовна Давыдова Джакомо Мейербер. Его жизнь и музыкальная деятельность
Биографический очерк М. А. Давыдовой
С портретом Мейербера
Глава I. Детство и воспитание
Семья. – Мать, отец, братья. – Первые проблески музыкальности. – Воспитание. – Первые учителя. – Первый концерт. – Неудачная фуга. – Школа аббата Фоглера.
Немногим выдающимся людям выпадает на долю счастливая судьба родиться и развиваться при таких благоприятных условиях, какими была обставлена жизнь Мейербера. В то время как многие гении в поте лица добывали свой хлеб, Мейербер, так же, как Мендельсон, жил в роскоши и холе, на его воспитание тратились целые капиталы, и он мог свободно предаваться влечению своего творчества, не зная забот о насущном хлебе, забот, под гнетом которых заглохло не одно дарование. С другой стороны, и богатство не раз являлось раззолоченным тормозом развития таланта, но Мейербер был во всех отношениях поставлен в условия, лучше которых нельзя было и желать. Семья его обладала громадными средствами и принадлежала к числу лучших и богатейших домов Берлина.
Родители его отличались высоким разносторонним образованием, просвещенными, гуманными взглядами и необыкновенной любовью к искусствам. Отец Мейербера был страстный любитель музыки, постоянный посетитель концертов, и в его гостеприимном доме собирался цвет берлинского общества в лице лучших представителей наук и искусств.
Мать Мейербера была замечательной женщиной. Ее нравственный облик напоминает нам величавые образы классических женщин. Она представляет собой один из редких и драгоценных типов – матери великого человека, какою была Корнелия, мать Гракхов, мать Гете и многие другие. Все эти женщины имели громадное влияние на развитие своих гениальных сыновей, которые платили им чувством безграничного доверия и обожания. Мейербер никогда ничего не предпринимал, не посоветовавшись с матерью, не имея ее согласия; ни расстояние, ни время, ни возраст не могли изменить в нем этой привычки, которую он сохранил до тех пор, пока сама смерть не отняла у него этого лучшего друга. Во время первого представления «Роберта-Дьявола» Мейербер получил записку от матери с надписью: «Прочесть после представления». Придя домой, он тотчас же открыл конверт, заключающий дорогое для него письмо, и прочел: «Спаси и благослови тебя Бог!.. Да сияет лик Его над тобой!.. Да хранит Он тебя и да дарует тебе мир!..» Внизу подпись матери.
С этим письмом Мейербер никогда не расставался, но, как драгоценный талисман, носил его всегда с собой. Отличаясь красивой внешностью, блестящим, глубоким умом, мать Мейербера обладала еще многими драгоценными качествами души и, по отзыву знавших ее лично, была добрым гением дома. Ее доброта и щедрость были всем известны, и многие знакомые направляли к ней бедняков, которые никогда не уходили от нее с пустыми руками. Вот что пишет о ней Гейне: «Не проходит дня без того, чтобы она не помогла какому-нибудь бедному; да, кажется, как будто она не может спокойно лечь спать, не сотворив предварительно какого-либо доброго деяния. Притом она расточает свои дары всем без различия вероисповедания – евреям, христианам, туркам и даже неверующим самого подлого вида. Она неутомима в добрых делах и, по-видимому, рассматривает их как высшее назначение своей жизни».
Семейство Мейерберов принадлежало к иудейскому вероисповеданию, фамилия их, собственно, была просто Бер, но впоследствии они прибавили к ней фамилию Мейера, своего родственника, который только с этим условием завещал им свое большое состояние. Отец Мейербера, Якоб Герц Бер, был банкиром и владельцем большого сахарного завода. Его жена, Амалия, была дочерью берлинского Креза – Липмана Мейера Вульфа, и таким образом в их дом стеклись состояния трех семейств. Старший сын их, Якоб, переделал свое имя в итальянское Джакомо и как Джакомо Мейербер приобрел себе всемирную известность. Следующий сын, Генрих, был единственным в семье, не чувствовавшим призвания ни к наукам, ни к искусствам, тогда как третий сын, Вильгельм, являлся в свое время выдающимся астрономом, построил в своем доме, в Тиргартене, частную обсерваторию, в которой производил постоянные наблюдения вместе со своим другом Медлером, и напечатал много прекрасных трудов по своей специальности. Последний брат Мейербера, Михаил, обладал крупным поэтическим дарованием, которое привело бы его к славе, если бы нервная горячка преждевременно не свела его в могилу. Это был молодой человек с симпатичным нравом, с умом, жаждавшим познаний, с душой, открытой для всего прекрасного. Он написал две прекрасные поэмы, «Парий» и «Струэнзе»; на последнюю Джакомо Мейербер впоследствии сочинил музыку.
Старший сын, Джакомо Мейербер, родился в 1791 году и с самого раннего возраста стал обнаруживать задатки своей необыкновенной музыкальности. К своим детским играм он любил примешивать музыку, если же где-нибудь раздавались звуки шарманки, то он весь обращался в слух и потом подбирал весь мотив на фортепиано, сопровождая его сочиненным им совершенно верным аккомпанементом, полным прелести и грации. Четырех лет от роду он устроил из своих товарищей нечто вроде оркестра, которым сам управлял и для которого писал какие-то сочинения. Такие несомненные проявления музыкального таланта не могли не обратить на себя внимания родителей Мейербера; они решили посвятить сына музыке и, когда ему минуло пять лет, пригласили к нему известного, очень любимого в свое время учителя и исполнителя Франца Лауска. Под руководством этого опытного преподавателя он делал такие громадные успехи, что возбуждал удивление всех, кому приходилось его слышать. Через два года, то есть когда ему минуло всего семь лет, он был уже законченным виртуозом и, как в свое время Моцарт, сделался чудо-ребенком. Девяти лет (14 октября 1800 года) он первый раз выступил публично, исполнив один из концертов (d-moll) Моцарта и вариации своего учителя, Лауска, с блестящим успехом. За первым выступлением в скором времени последовали другие, возбудившие восторг не только публики, но и печати, которая сразу отвела маленькому пианисту место в рядах лучших артистов его времени. После Лауска учителем Мейербера сделался знаменитый в свое время Муций Клементи. Аббат Фоглер, органист и теоретик, славившийся своею превосходной музыкальной школой в Дармштадте, по приезде своем в Берлин слышал маленького Мейербера и, подвергнув его предварительно самому строгому музыкальному испытанию, предсказал ему блестящую будущность. «Если вы не перестанете работать, – сказал он мальчику, – то со временем вы будете одним из самых знаменитых людей Европы». Между прочим он посоветовал взять ему в учителя теории Ансельма Вебера, бывшего ученика его школы, так как прежний его учитель, Карл Фридрих Цельтер, друг Гете, несмотря на обширные знания по специальности, своим сухим преподаванием отнимал у мальчика охоту заниматься. К сожалению, выбор второго учителя не был особенно удачным: хотя преподавание его оказалось не настолько сухим, но познания были довольно ограниченны, и под его руководством Мейербер не мог научиться многому.
Творчество Мейербера стало проявляться с самого раннего возраста: десяти лет, еще не будучи знаком с правилами композиции, он написал кантату ко дню рождения своего отца, а к двенадцати годам у него накопилось порядочное количество всевозможных сочинений. Родители Мейербера, заботясь о его музыкальном развитии, прилагали не менее стараний к равномерному развитию других его способностей и дали ему самое тщательное, основательное образование. Под руководством лучших учителей Берлина Мейербер проходил самый разнообразный систематический курс общеобразовательных наук и, обладая любознательным, пытливым умом, посредством чтения классических и других серьезных авторов расширял постоянно свой умственный кругозор. Он знал греческий, латинский, еврейский языки, в совершенстве владел французским и итальянским, что дало ему возможность изучать всех авторов на их родном языке; он неутомимо читал, изучал историю и литературу всех народов и поражал знавших его своими обширными, разносторонними познаниями.
Занятия музыкой шли своим чередом под руководством Ансельма Вебера, который был в восторге от успехов своего гениального ученика. К сожалению, сам учитель, как уже было сказано выше, не обладал достаточными знаниями в области теории и не мог ознакомить своего ученика со всеми трудными правилами контрапункта и фуги. Конечно, Вебер не сознавал своей несостоятельности в этом отношении, но следующий случай, который нам передает Фетис, открыл ему истину и вместе с тем решил судьбу Мейербера. Однажды Джакомо принес своему учителю фугу, от которой Вебер пришел в необычайный восторг: она казалась ему своего рода совершенством; желая блеснуть ею как результатом своего преподавания, он поспешил отправить ее аббату Фоглеру. Ожидая ответа, Вебер предвкушал всю сладость своего торжества; но ответ не приходил.
«Фоглер не отвечает из зависти, – говорил с ликованием Вебер. – Ни один из его учеников не напишет такой фуги; его гордость страдает, он сердит на нас».
Бедный Вебер напрасно заранее радовался. Месяца через два из Дармштадта пришел целый большой пакет, но каково было разочарование Вебера, когда он нашел в нем не восторженное письмо, которого ожидал, а объемистую рукопись, рукопись самого Фоглера – целое сочинение о том, как должно писать фуги. Это сочинение состояло из трех частей: первая заключала в себе все главные правила фуги; во второй разбиралась фуга Мейербера и приводились неопровержимые доказательства ее негодности; третья часть состояла из фуги Фоглера, написанной на тему Мейербера. В этой фуге каждая нота была основана на логической последовательности и объяснена теоретическими правилами.
Бедный Вебер впал в немалое уныние. Мейербер же, напротив, еще с большим рвением принялся за изучение теории: завладев драгоценной рукописью, проливавшей новый свет на его познания, он стал тщательно, нота за нотой, изучать ее и изучал до тех пор, пока не был в состоянии написать фугу по всем правилам, изложенным аббатом Фоглером, которому послал опять свое новое произведение.
На этот раз ответ не замедлил прийти. «Приезжайте ко мне, – писал ему Фоглер, – я приму вас, как сына, и помогу вам почерпнуть познания из самых источников науки». Это было истинным торжеством для Мейербера, и он всей душой устремился в Дармштадт.
Родители его были настолько лишены религиозных и других предрассудков, что не остановились перед мыслью послать своего сына в католическую школу и поручить его дальнейшее воспитание католическому патеру. Видя страстное желание сына, они согласились на его неотступные просьбы. Молодого человека снарядили в дорогу; следуя моде того времени, он приобрел себе изящный альбом, в который его учителя, друзья и многие из выдающихся людей, его знакомых, вписали напутствия и пожелания самого трогательного содержания. В 1810 году Мейербер очутился в Дармштадте. Школа аббата Фоглера пользовалась в то время громкой известностью, в нее со всех концов Германии стекались многочисленные ученики. Мейербер действительно был принят, как сын, и благодаря своему состоянию имел возможность поселиться у самого аббата. В одно время с Мейербером в школе находились Карл Мария Вебер, будущий бессмертный творец «Фрейшютца», и Генсбакер (позднее капельмейстер церкви св. Стефана в Вене); между талантливыми юношами завязалась вскоре самая тесная дружба, которая продолжалась неизменно всю жизнь. Вебер, кроме музыкального таланта, обладал еще крупным поэтическим дарованием, и, не будь он музыкантом, он был бы, наверное, выдающимся поэтом. Он сочинил слова ко дню рождения Фоглера, на которые все три друга сообща написали музыку. Изящный, благовоспитанный Мейербер не сразу привык к шумной, необузданной толпе своих товарищей, среди которых находились юноши всех сословий, религий и состояний; но мало-помалу он втянулся в эту пеструю, беспокойную жизнь, сблизился с товарищами, которых охотно угощал вкусными лакомствами, присылаемыми ему родителями, и снабжал книгами из своей богатой библиотеки.
Школьный день начинался постоянно обедней, которую служил сам аббат при содействии Вебера. После этого он раздавал своим ученикам задачи, состоявшие обыкновенно из церковных тем на Kyrie eleison[1], Sanctus[2] и так далее; эти задачи должны были быть исполнены в течение дня. Часы отдыха посвящались дружеским беседам или веселым прогулкам по окрестностям Дармштадта. В воскресенье и в праздники после обедни вся компания направлялась в собор, где два органа предоставлялись в их полное распоряжение. За один из них садился Фоглер и предлагал мотивы, которые ученики его по очереди развивали за другим органом; тут они могли давать полную волю своей фантазии, своему молодому вдохновению, и между ними происходили настоящие музыкальные состязания. Из-под пальцев гениальных учеников лились такие богатства, что, по выражению Крейцера, глаза слепило от чрезмерного блеска. «Когда эти блестящие импровизаторы, – говорит он дальше, – без правил, предаваясь лишь пылу своего вдохновения, гнались за неизвестным, скрещивая ритмы, планы, модуляции по своему произволу, то добрый учитель останавливался пораженный: он не узнавал более своих послушных учеников; он не сердился, но становился грустным. Быть может, гордость его страдала. Эта смелость открывала ему источники вдохновения, из которых ему не дано было черпать. Он сознавал, что прошел лишь половину дороги и что должен остановиться на той ступени, с которой для его даровитых учеников открывался блестящий и цветущий путь».
Через два года Мейербер знал не хуже самого учителя все правила контрапункта и фуги. В это же время Фоглер, закрыв свою школу, предпринял со своими учениками путешествие по главным городам Германии. Этим завершается школьное образование Мейербера. Со школьной скамьи он переносит свое творчество на эстраду; критика учителя сменяется критикой публики; он вступает на путь, усыпанный лаврами, среди которых скрыто немало колючих терний.
Глава II. Юношеские произведения
Юношеские произведения. – Кантата «Бог и природа». – «Клятва Иевфая». – «Алимелек». – Концерты Мейербера. – Встреча с Бетховеном. – Причина неуспеха его первых опер. – Совет Сальери. – Первое посещение Парижа.
Преодолев все трудности контрапункта и фуги, посвященный во все таинства искусства композиции, молодой Мейербер не замедлил применить к делу свои блестящие познания. Уже с первых шагов он обнаружил серьезное направление своего творчества, свою любовь к звуковым массам, к сюжетам, исполненным драматизма. Оперы были любимым родом его творчества, и хотя характеру последнего суждено было в будущем не только измениться, но совершенно переродиться, тем не менее опера осталась той сферой, в которой гений Мейербера проявлялся с наибольшей силой и яркостью. Первой попыткой его на этом поприще была опера «Процесс», написанная еще в школе совместно с другими учениками Фоглера. Первенцем молодой музы Мейербера стала кантата «Бог и природа», написанная в 1811 году в короткий срок, с 15 марта по 22 апреля. Содержание ее состоит в восхвалении Бога и выражении Ему благодарности за создание вселенной. Эта кантата, выдержанная в самом строгом стиле, демонстрирующая необыкновенное, мастерское владение формой и разнородными приемами письма, могла бы служить ярким опровержением мнения тех противников Мейербера, которые отрицали серьезное направление его творчества и приписывали ему лишь одну погоню за внешними эффектами. К сожалению, это произведение не известно публике; оно не напечатано, и единственный экземпляр его Мейербер тщательно прятал от посторонних глаз, показывая его только ближайшим друзьям, в преданности которых он был уверен. Узкие рамки строжайшей формы, в которые Мейербер заключил свой молодой гений в этой кантате, стеснили свободу его творчества, поэтому мелодии ее сухи, неоригинальны и бледны; в них не видно тех смелых штрихов, тех ярких красок, которыми блещут последующие произведения этого великого художника. Но уже и здесь обнаруживается его необыкновенная способность к драматической характеристике, к музыкальной иллюстрации драматических положений. «Появление света, постепенное зарождение жизни в природе, нежную гармонию цветов, вообще всю поэзию природы он передал особенно удачно. Величаво-торжественно бушуют могучие волны моря и раздаются грозные удары грома в его музыке. Очень ярко также передана сцена воскресения мертвых».
Эта кантата была исполнена с большим успехом в Дармштадте и доставила своему автору почетное звание придворного композитора этого герцогства.
Следующими его произведениями были многочисленные мелкие вещи, преимущественно религиозного содержания. Также строго выдержанные по форме, они очень похожи по стилю на кантату и носят чисто немецкий характер, которым отмечены все юношеские произведения Мейербера вплоть до поездки его в Италию. Особенно удачными вышли «Семь религиозных песен» на слова Клопштока. Простые, но прочувствованные, «проникнутые глубокой религиозной поэзией, эти песни принадлежат к лучшим произведениям этого рода». В школе аббата Фоглера Мейерберу приходилось упражняться преимущественно на церковной музыке, поэтому весьма естественно, что он достиг наибольшего мастерства в этом роде творчества и что его первые произведения почти исключительно носят религиозный характер. Так, он вскоре написал на библейский сюжет возбудившую необыкновенный восторг товарищей его по школе оперу «Клятва Иевфая». Она была исполнена в Мюнхене, но, против ожидания автора и его друзей, не имела успеха, причина чего кроется не только в бедности мелодий и в сухости форм, но также в неумело составленном либретто. Мейербер сам руководил последними репетициями и управлял оркестром во время представления, роли были поручены лучшим исполнителям, но ничто не спасло этой оперы от ее горькой участи.
Тем не менее, несмотря на холодное отношение к ней публики, многие музыканты отозвались с большой похвалой о ее серьезном направлении, тщательной обработке и тонкой инструментовке. Опера эта больше не повторялась, и в довершение неудачи ее единственная партитура сгорела во время пожара в театре.
Огорченный и озадаченный холодным приемом публики, Мейербер сначала не мог понять настоящей причины его, приписывая вину дурно составленному либретто и неудачному выбору сюжета. Он решил попытать счастья, положив в основу оперы более простое содержание, стал искать хорошего либреттиста и наконец нашел его в лице Вольбрюка, который написал ему текст к комической опере «Алимелек, или Два калифа». Содержанием послужила одна из бесподобных сказок «Тысячи и одной ночи»; либретто, составленное умелой, талантливой рукой, изобиловало разнообразием положений, блистало остроумием и представляло самый благодарный материал для композитора. Но Мейербер сделал большую ошибку, взявшись за комическую оперу: его гению, склонному к глубокому психологическому анализу, к потрясающему драматизму, был совершенно чужд комический элемент, поэтому данная опера принадлежит к его наиболее неудачным произведениям.
Благодаря стараниям друга его Вебера эта опера была поставлена в Штутгардте, но прошла без всякого успеха. Тем не менее ее дали еще раз в Вене, где она также не понравилась. Мейербер, присутствовавший на обоих представлениях, был грустным свидетелем фиаско своего детища. В первый день своего приезда в Вену он попал на концерт знаменитого пианиста Гуммеля, который произвел своей замечательной игрой потрясающее впечатление на восприимчивую душу юноши. Мейербер сам выступал не раз в концертах и считался с самого детства одним из лучших пианистов своего времени; но, прослушав Гуммеля, он ощутил все пробелы своей техники, недочеты своего искусства и понял, что не может соперничать с ним. Это задело за живое самолюбивого юношу, он не хотел уступить первенства своему сопернику и решил достигнуть еще большего совершенства. С замечательной выдержкой и упорством, которые были отличительными свойствами его природы, Мейербер засел за фортепиано и только после десятимесячных самых усиленных и добросовестных упражнений решился выступить опять перед публикой. Этот продолжительный искус принес блестящие результаты: Мейербер восторжествовал над соперником. В течение этого времени Мейербер сочинил множество пьес для фортепиано, которые в его художественном исполнении производили неотразимое впечатление и вызывали бурю восторгов у слушателей. К сожалению, Мейербер не хотел их печатать из странной боязни, что другие пианисты воспользуются его новыми музыкальными мыслями. Впоследствии, когда его композиторская деятельность отвлекла его от инструмента, он позабыл эти произведения, которые даже не были им записаны, и таким образом они навеки потеряны для публики.
В Вене произошла также встреча Мейербера с Бетховеном. При исполнении симфонической картины последнего «Победа Веллингтона при Виттории» Гуммель управлял оркестром, Мошелес бил в литавры, а Мейербер играл на барабане. Бетховен остался им недоволен: от природы застенчивый и робкий, смущенный еще присутствием величайшего из гениев, Мейербер, играя на этом непривычном ему инструменте, никак не мог вступить вовремя, за что получил хорошую головомойку от Бетховена, который так говорил о нем Томашеку: «Я остался им совсем недоволен: он всегда запаздывал, так что я должен был хорошенько его выбранить. С ним ничего не поделаешь: ему недостает смелости вступать вовремя». Мейербер с удовольствием вспоминал этот случай и любил о нем рассказывать.
К этому времени относятся также и многие другие сочинения Мейербера, преимущественно духовного содержания. Он почтил день рождения своей матери кантатой и на патриотическое движение двенадцатого года написал псалом, исполненный в Берлине и вызвавший горячее сочувствие публики. Но этим ограничился весь успех первых сочинений Мейербера: все остальные его вещи встречали неизменное равнодушие публики. Эти неудачи подействовали на юного композитора самым угнетающим образом. Пылкий, честолюбивый, страстно жаждавший славы, Мейербер совершенно пал духом и не верил больше утешениям друзей, которые всячески старались успокоить его, поддержать в нем бодрость и веру в собственные силы. Особенно близко к сердцу принимал эти неудачи К. М. Вебер, угадывавший художественным чутьем своей артистической души в своем бедном товарище будущего великого Мейербера. Он не ограничился словесными утешениями, но неоднократно выступал печатно в защиту молодой музы своего друга. Он говорил о нем как о человеке всестороннего образования, как о первом пианисте своего времени и обрисовывал его композиторский дар следующими словами: «Живая, огненная фантазия, благозвучные, почти что слишком роскошные мелодии, верная декламация, музыкальная выдержка характеров, богатство и новизна гармонических приемов, тщательная и иногда поразительная в своих сочетаниях инструментовка характеризуют его вполне».
Как видно из этого отчета о нем одного из лучших музыкантов, его творчество и в то время уже обладало крупными достоинствами, которые, указывая на несомненный большой талант, должны бы были примирить публику с его слабыми сторонами и послужить гарантией того, что молодое дарование спокойно окрепнет и освободится от своих недостатков. Но холодная публика оставалась глуха, и Мейербер был близок к полному отчаянию, из которого его вывел Сальери, питавший большую симпатию к молодому композитору. Он указал ему, что причина неуспеха его произведений кроется в сухости приемов, в неумении писать для голоса. «У вас слишком много целомудрия в творчестве: ваше искусство еще девственно. Вы должны зажечь свою музу поцелуем».
Сальери посоветовал Мейерберу ехать в Италию, чтобы в этой стране bel canto (прекрасного пения) заимствовать у ее великих мастеров ту грацию, поэтичность и красоту мелодий, которыми они пленяли весь мир и которых недоставало слишком серьезному, несколько сухому в то время творчеству Мейербера, выросшему в строгой дисциплине контрапункта и фуги.
Мейербер, воспрянувши духом, не замедлил последовать доброму совету maestro Сальери. Но по желанию отца он до поездки в Италию посетил Париж, где многочисленные рекомендательные письма открыли ему доступ в лучшие дома. Молодой Мейербер тем не менее не отдался всецело одним развлечениям, но в течение года, проведенного им во Франции, тщательно изучил ее литературу, историю и ознакомился с нравами и бытом народа.
Глава III. Путешествие в италию
Италия и ее значение. – Россини. – Влияние его музыки на Мейербера. – Перемена направления. – «Эмма Ресбургская» и «Крестоносец». – Образ жизни Мейербера в Италии. – Успех у дам. – Вызов на дуэль. – Месть примадонны. – Возвращение в Германию. – Отношение к нему немецкой критики. – Смерть отца и детей. – Переселение во Францию.
В 1816 году Мейербер посетил Италию, где провел лучшие годы своей юности. Италия долгое время была полновластной музыкальной владычицей Европы: ее музыканты стояли во главе учреждений всех стран, ее мелодии раздавались во всех концертах и театрах; все подчинялось ее законам и ее оценке. В нее стекались музыканты со всех концов Европы для того, чтобы, забыв свою национальность, проникнуться итальянским духом и научиться писать итальянскую музыку.
Сила и значение итальянской музыки состояли в ее мелодичности. Но вскоре, увлеченные своим стремлением к наибольшей благозвучности, желанием дать возможность певцам блеснуть своей техникой и голосом, итальянские маэстро перешли за пределы художественной красоты, что и было главной причиной упадка значения итальянской музыки. Немецкая музыка или, скорее, опера, переняв у итальянской все ее хорошие свойства, стала постепенно освобождаться от ее владычества, от ее недостатков и начала проявлять свою самобытность: усвоив себе мелодичность, немецкая опера стала стремиться к наибольшей выразительности, к драматизму, глубине и художественной правде.
Вскоре ученица переросла свою учительницу и, опираясь на таких колоссов, как Моцарт и Бетховен, могла бы уже тогда занять то первенствующее значение, которое заняла впоследствии; но мода на итальянскую музыку еще не скоро прошла: петь по-немецки долго считалось дилетантизмом, а итальянский язык и мелодии продолжали раздаваться по всей Германии.
В это время в Италии, на темнеющем небе ее славы, взошло новое яркое светило в лице Россини, который вновь поднял упавший авторитет итальянской музыки.
Россини был сыном странствующего музыканта и певицы: его гений, миновав школу, вырос и развился на подмостках, где он выступал с самого раннего возраста в качестве певца. Этот замечательный гений-самородок проявился довольно поздно, в 17 лет, но засверкал такими пленительными, яркими красками, что сразу очаровал сердца своих соплеменников и покорил театры всех стран. В течение 10—12 лет Россини написал более тридцати опер, но затем в его творчестве наступил период затишья; между тридцатью – сорока годами Россини достиг апогея своей славы, и в том возрасте, когда обыкновенно у других дарование только начинает развиваться, он внезапно и навсегда прекратил свою композиторскую деятельность. В его творениях встречается немало погрешностей против правил, но все искупается силой и свежестью его дарования. Он хотел оставаться чем был, и во время своего пребывания в Германии сказал: «Немецкие композиторы требуют, чтобы я писал, как Гайдн и Моцарт. Но если бы я приложил все свои старания, то все-таки был бы плохим Гайдном и Моцартом. Так уж я лучше останусь Россини. Чем бы он ни был, он все-таки – нечто, и по крайней мере я – неплохой Россини».
Свободно развившийся гений Россини представлял собой крайнюю противоположность гению Мейербера, воспитанному в строгой дисциплине аббата Фоглера. Мейербер оказался в Италии в самый разгар славы Россини, только что выступившего со своей первой оперой («Танкред»), и тотчас же подпал обаянию его чарующих мелодий. Он предался изучению итальянской музыки со свойственной его натуре страстностью и дошел до того, что знал некоторые партитуры опер Россини наизусть. Роскошная природа юга, благоухающие лавры и миртовые деревья, чарующие мотивы пробудили в душе Мейербера новые чувства, вдохнули в нее поэзию и освободили его гений от тех оков, в которые его заключили строгие правила немецкой школы.
Вот что он сам пишет об этом времени д-ру Шухту: «Вся Италия в то время находилась в каком-то блаженном чаду: казалось, словно вся нация обрела наконец свой давно желанный рай и что для ее счастья не требовалось ничего другого, кроме музыки Россини. Я был невольно опутан этими чудными сетями звуков и попал в заколдованный сад, из которого не мог и не хотел уйти. Все мои чувства и мысли сделались итальянскими. После года, проведенного там, мне казалось, что я природный итальянец. Под влиянием роскошной природы, искусства, веселой и приятной жизни я совершенно акклиматизировался и в силу этого мог чувствовать и думать только как итальянец. Что такое совершенное перерождение моей духовной жизни должно было иметь влияние на мое творчество – понятно само собой. Я не хотел подражать Россини и писать по-итальянски, как это утверждают, но я должен был так писать, как я писал – в силу своего внутреннего влечения. <…> То обстоятельство, что я во второй период своего творчества был более склонен к итальянской мелодичности, станет понятно всем, кто примет во внимание, что я был слишком строго выдержан своими учителями на работах, требующих только рассудка; что живые чувства, подавленные сухими образцами, были пробуждены теплом Италии и пением ее соловьев. Понятно – я впал в крайность, впрочем, вызванную направлением школы и самой жизнью».
После трехлетнего изучения Италии и ее музыки Мейербер выступил с первым сочинением нового направления. Им стала опера «Ромильда и Констанца». Эта опера дана была в Падуе 19 июня 1818 года и имела порядочный успех. За нею следуют одна за другой оперы: «Маргарита Анжуйская», «Альманзор» и многие другие. Все они мало отличаются одна от другой: преобладание мелодии, лиризм и отсутствие драматизма составляют главную суть их характера. Новый стиль Мейербера выразился ярче всего в «Эмме Ресбургской» и в «Крестоносце». Их автор доказал, что он не только усвоил себе манеру итальянского письма, но вполне переродился сам. Он как будто забыл все премудрости, которыми немецкие учителя его так усердно начиняли; перестав думать о контрапунктах и фугах, молодой композитор все внимание сосредоточил на мелодиях, которые лились теперь прямо из души и не были, как прежде, продуктом сухого разума. Содержание «Эммы» основано на любовной интриге, музыка ее лирического характера – простая и ясная. Отсутствие драматизма обусловливается очень дурно составленным текстом. В «Крестоносце» заметно более серьезное направление, стремление к музыкальной характеристике. Обе оперы были встречены итальянской публикой восторженно и положили начало будущей славе их молодого автора. Они появлялись на всевозможных сценах, а «Крестоносец» даже совершил путешествие через океан и был поставлен в Соединенных Штатах и других государствах Америки. Король Бразилии прислал автору оперы местный орден. Только в Париже «Крестоносец» не имел успеха. Л. Крейцер, рассказывая о его первом представлении, передает следующий анекдот:
«В восхитительном квартете второго акта участвует ребенок (немая роль), сын Пальмиды, которого она приносит в дар султану в надежде смягчить его сердце. Этот младенец, проклятый Аполлоном, не любил музыки и не интересовался сценой. Было поздно, и он открыл рот, но не с тем, чтобы присоединиться к общему пению, а для того непроизвольного движения, от которого мы не можем удержаться, когда нас одолевает сон. Одним словом – ребенок зевает, и публика улыбается. Пальмида поет: „Сдержи свои слезы“ – второй зевок; „Небо сумеет тебя утешить“ – третий зевок, за которым следует беспрерывное зевание. Вся публика разражается хохотом. Певице невозможно довести роль до конца. Маленького варвара – невинную причину этого переполоха – спешат удалить».
Через несколько лет «Крестоносец» снова появился в Париже, где на этот раз он был оценен по достоинству. Гейне пишет о Мейербере по поводу «Крестоносца»:
«Чувственность, шумливая веселость итальянцев не могли долго удовлетворять немецкому характеру. В нем пробуждается тоска по серьезному духу отечества; пока он гостил под итальянскими миртами, его охватило воспоминание о таинственной прелести дубовых рощ Германии; под теплые ласки зефира он думал о суровых песнях северного ветра».
Хотя главная цель пребывания Мейербера в Италии и состояла в изучении стиля итальянской музыки, но его живой, любознательный ум не мог остановиться исключительно на одном предмете и продолжал обогащаться самыми разнообразными знаниями. Он знакомился с бытом народа, его литературой, историей. В Риме он изучал все великие памятники древности и благодаря аббату Баини мог наслаждаться всеми сокровищами библиотеки Ватикана. Роскошная природа юга немало содействовала духовному развитию Мейербера; по целым часам просиживал он в саду, под тенью лавров, отдаваясь всецело наслаждению природой, и с трудом отрывался от созерцания ее красот, чтобы вернуться опять к своим занятиям. Образ жизни он вел самый простой, не предаваясь ни излишествам, ни особым удовольствиям, свойственным его возрасту: общество, беседы просвещенных друзей были его лучшим развлечением, его отдыхом. Благодаря своему богатству и образованию он был принят в среде аристократов и интеллигенции. Его привлекательная внешность, изящные манеры, благородный характер, тонкий ум делали его желанным гостем всякого общества и покоряли бесчисленные женские сердца. Увлекался ли Мейербер так же часто, как увлекались им, – неизвестно. Скорее можно предположить, что нет: его душа была всецело поглощена одной любовью к искусству, которому он отдавал все свои силы и все свои помыслы. Тем не менее, несмотря на всю его сдержанность, ревнивые соперники не раз вызывали его на дуэли, которых ему удавалось избегать только с большим трудом. Так, его часто приглашала к себе одна прекрасная аристократка, вероятно, тоже неравнодушная к красивому, талантливому юноше. Мейербер, занимавшийся с нею музыкой и совершавший прогулки, в обращении был чрезвычайно сдержан, не желая возбуждать в ней напрасных надежд, тем более что ее родители не прочь были заполучить в зятья такого богатого и красивого юношу. Но однажды к нему является почти незнакомый ему маркиз и вызывает его на дуэль. Удивленный Мейербер спрашивает о причине, но маркиз не желает объяснять. Только после того, как Мейербер категорически отказался драться на дуэли, не зная, чем она вызвана, маркиз дал ему понять, что он был причиной охлаждения к нему этой дамы, на которой Мейербер, вероятно, женится. Мейерберу едва удалось убедить ревнивого маркиза в неосновательности его подозрений. Ему пришлось дать честное слово в том, что он не имеет никаких намерений относительно дамы сердца маркиза, в доказательство чего он обещал ускорить свой отъезд.
Этот случай был не единственный, и пламенные итальянки всех сословий преследовали молодого Мейербера нежными взглядами, пылкими объяснениями, стараясь всячески зажечь сердце этого непреклонного и тем более пленительного молодого человека. За свою недоступность ему иной раз приходилось платить дорогой ценой. Вот что он сам рассказывает д-ру Шухту:
«Когда я в 1818 году приготовлял свою оперу „Ромильда и Констанца“ к постановке в Падуе, то примадонна, с которой мне приходилось разучивать ее роль, забрала себе в голову выйти за меня замуж, если возможно, еще до представления, хотя я своим обращением не подавал ей никаких надежд. Так как я заметил ее явные намерения, то стал еще сдержаннее, но не подозревал, что это повлечет грустные последствия для моей оперы, тем более что генеральная репетиция прошла великолепно и возбуждала самые лучшие надежды. Наступил вечер; несмотря на то что это происходило в один из знойных июньских дней и что вечером еще царил удушливый жар, публика Падуи спешила в театр, чтобы ознакомиться с новой оперой молодого немца. Занавес взвился и – о ужас! Все певцы пели, как будто они в полнейшем изнеможении, как будто они все больны. Несчастие довершали флейтисты, валторнисты, трубачи и барабанщики. То трубач прозевает паузу и так грянет в свой инструмент в средине арки, что у всех в глазах потемнеет и в ушах зазвенит; то валторнист вступал не вовремя, и флейты начинали слишком рано и продолжали играть несколько тактов, прежде чем замечали свою ошибку; то опять барабаны и литавры начинали греметь, как ружейные выстрелы, и все не вовремя, возбуждая неумолкаемый смех публики, которая, однако, под конец утомилась от этих штук и начала всячески выражать свое неодобрение. Когда же я обратился к директору и участвующим за расспросами, то получил единодушный, общий ответ: „Духота, томительный жар не давали вздохнуть“. К сожалению, через некоторые итальянские газеты разнеслась весть о неуспехе моей оперы, с различными злорадными добавлениями. Что певцы и оркестр соединились против меня, было мне ясно сразу, но я не мог добиться – почему, так как я был ласков со всеми и они, казалось, были очень расположены ко мне. Только впоследствии узнал я от некоторых музыкантов, что примадонна, которая властвовала почти безгранично над всем составом музыкантов, возбудила всех против меня и даже грозила некоторым увольнением, если они не будут играть и петь, как она приказала. Тогда я понял, что это была месть отвергнутой любви».
Конец всем романическим недоразумениям и трагикомедиям положила женитьба Мейербера на кузине Минне Моссон, состоявшаяся в Берлине в 1827 году. Во время пребывания своего в Италии Мейербер получил заказ написать для берлинского театра оперу, которая была вскоре готова и получила название «Бранденбургские ворота». Но по неизвестным причинам ее постановка не состоялась.
Мейербер, заручившись известностью в Италии, что, как ему казалось, обеспечивало ему успех на родине, вернулся в Берлин, исполненный надежд на сочувственное отношение немецкой публики к его обновленному творчеству. Но его ожидало одно из самых горестных разочарований: если первые его произведения были приняты публикой и критикой холодно, то его итальянские оперы были встречены враждебно. Немецкая опера, только что избавившаяся от гнета итальянского владычества благодаря гениям Глюка и Моцарта, уже определила свои задачи, свое направление, выработала художественные идеалы, которые стояли несравненно выше идеалов итальянской оперы, впавшей в рутину; поэтому обращение молодого немецкого композитора к принципам итальянской школы было принято критикой за измену национальному искусству. Его встретили как отступника, в его музыке видели одно слепое подражание Россини, и даже друг его Вебер, хотя разучил и с трогательной самоотверженностью поставил на дрезденской сцене «Эмму Ресбургскую» (под названием «Эмма Лейчестер»), но на следующий день после представления писал Лихтенштейну: «Сердце мое обливается кровью при виде того, как немецкий артист, одаренный громадным талантом, ради жалкого успеха у толпы унижается до подражания. Неужели уж так трудно этот успех минуты, я не говорю – презирать, но не рассматривать как самое великое?»
Единодушные ожесточенные нападки критики глубоко огорчали Мейербера и заставили его призадуматься: его художественное чутье подсказывало ему, что он отчасти впал в крайность, что он может быть больше, чем простым подражателем. Он перестал писать итальянские оперы и упорно отвергал все многочисленные заказы различных итальянских театров. К артистическим огорчениям присоединилось семейное горе: Мейербер потерял горячо любимого отца и одного за другим двух старших детей. Эти потери так сильно потрясли Мейербера, что он впал в глубокое уныние, парализовавшее на долгое время его творческую силу. В продолжение восемнадцати месяцев он не мог оправиться от поразившего его удара и не был в состоянии писать ничего иного, кроме духовной музыки, которая одна могла успокоить боль его душевных ран. Музыкальными плодами его скорби явились двенадцать псалмов, восемь песен на стихи Клопштока и множество кантат религиозного содержания. Его скорбь была настолько глубока, что, будучи стариком, он не мог вспомнить этого времени без горестного волнения и говорил: «Эти смерти лишили меня надолго творческой способности… Я находил единственное утешение в сочинении духовных песен и в изучении древней церковной музыки, которая одна только была в состоянии успокоить мою глубокую скорбь. Об операх я уже больше не думал».
Чтение, занятия и путешествия исцелили наконец его душевный недуг и вернули его к творческой деятельности. В это время он надолго покидает дважды отвергнувшую его Германию, где ему пришлось перенести столько горьких утрат, и переселяется окончательно во Францию, ставшую впоследствии его вторым отечеством, отечеством его славы.
Глава IV. Переселение во Францию
Причина переселения. – Париж. – Жизнь Мейербера. – Поиски либреттиста. – Скриб. – «Роберт-Дьявол». – Содержание оперы. – Препятствия к постановке. – Успех. – Различные случаи во время первого представления. – Популярность «Роберта-Дьявола». – Немецкие критики.
Приезд Мейербера в Париж был вызван вторичной постановкой там его «Крестоносца». Эта опера, лучшая из его опер итальянского периода, положила начало всемирной славе композитора: она совершила настоящее триумфальное шествие по Италии, где все наперерыв старались оказать ее автору знаки внимания и уважения; свои восторги публика перенесла даже на мать композитора, присутствующую на этих торжествах; ее осыпали цветами, лавровыми венками и восхваляли в восторженных стихах как счастливейшую из матерей, родившую такого гениального сына. Но «Крестоносец» был принят в Париже в первый раз довольно холодно. После этого прошло несколько лет, и во время вторичной постановки «Крестоносца» в Париже во главе оперного театра стоял прославленный и несравненный Россини, с которым Мейербер познакомился еще в Италии. Россини, оказывавший всегда большую поддержку молодым талантам, пригласил Мейербера приехать в Париж, чтобы дирижировать самому своей оперой. Мейербер с радостью принял это предложение, и так как жизнь его в Берлине была отравлена грустными воспоминаниями и постоянными несправедливыми нападками критики, то он решил поселиться в Париже (1827 год).
В то время Париж представлял собою центр, в котором кипела самая разнообразная и интересная умственная жизнь. В парижских салонах политика сменялась музыкой, музыка – литературными беседами; в изысканном обществе этих салонов можно было встретить Адама Мицкевича, Шатобриана, Ламартина, Гейне, Галеви, Обера, Крейцера и многих других светил поэзии и музыки, присутствие которых делало для Мейербера его пребывание в Париже особенно заманчивым. Он поселился на улице Вивьен, в Hôtel Bristol, и вскоре его роскошное помещение стало одним из самых посещаемых и любимых мест, где собирались все лучшие представители блестящего Парижа. Сам гостеприимный хозяин чувствовал себя особенно хорошо среди своих избранных друзей. Жизнь веселого города как нельзя более отвечала вкусам Мейербера: его глубокий, разносторонний ум находил себе здесь обильную пищу, его музыкальная деятельность – широкое поприще, его оскорбленное самолюбие – удовлетворение. Его душевные раны стали понемногу заживать, и скоро он вышел из той замкнутости, в которую его заключила скорбь об умерших родных; кипучая жизнь Парижа втянула Мейербера в свой водоворот: он посещал итальянские представления, оперу, комическую оперу – одним словом, принимал живое участие во всех проявлениях умственной жизни.
Но его творческая деятельность никак не проявлялась. Многие думали, что развлечения и другие соблазны Парижа заглушили на время его гений; но они ошибались: Мейербер никогда не увлекался низменными удовольствиями, всегда стремясь только к духовным наслаждениям, и в то время как его обвиняли в рассеянной жизни, он неутомимо, хотя незримо для постороннего глаза, продолжал трудиться и идти вперед по указанному ему его гением пути. Он проникался духом французского народа и, уже знакомый с немецким и итальянским стилем, теперь со свойственной ему страстной энергией изучал французскую музыку в ее лучших образцах, стараясь усвоить ее своеобразный ритм, ее элегантность и блеск. В то же время в нем самом происходила усиленная внутренняя работа: его потрясенная натура успокаивалась, складывалась, сосредоточивалась и определялась, выясняя все больше и больше настоящий характер и направление его гения. «Я долгое время искал и писал, – говорит он сам, – прежде чем нашел свою индивидуальность и присущий мне род творчества; прежде чем я нашел, что история и сильные драматические характеры составляют мой настоящий элемент». Уяснив себе призвание своего творчества, Мейербер должен был решить еще одну очень трудную задачу – найти подходящего либреттиста. Хороший либреттист и в наше время редкое явление: помимо того, что он должен обладать большим знанием сцены и многими другими весьма трудно сочетаемыми в одном лице качествами, от него еще требуется полное самоотвержение и подчинение своей воли, своих вкусов намерениям его музыкального соавтора. Крупным поэтам неохота снисходить до такой трудной и вместе с тем неблагодарной работы, так как имя автора текста поглощается именем композитора; мелким дарованиям часто недостает многих качеств, необходимых автору оперного текста: мелодичности, сжатости, выразительности стиха, художественного чутья, способности создавать сильные характеры и эффектные положения. Между тем текст имеет громадное влияние на работу композитора, на его вдохновение, и потому хорошие либреттисты всегда составляли предмет их особых забот. Мейербер пишет по этому поводу:
«Я истратил много, очень много денег на либретто, и по большей части даром. Как часто я обращался к тому или другому поэту в надежде и уверенности, что он напишет мне хороший текст. Я вступал с ним в переговоры, советовался, обещал ему большое вознаграждение, платил высокий гонорар и получал произведения, совершенно непригодные. Таким образом я заказал и оплатил по крайней мере с дюжину либретто, которых я не мог употребить». Случалось, что он заказывал одно либретто сразу двум стихотворцам и принужден был возвращать работу обоим. «Поэты того времени, – пишет он д-ру Шухту, – даже Гете, были слишком низкого мнения об опере, они не доверяли ни ей, ни сочинителям; менее всего считали ее способной сделаться большой, захватывающей драмой; еще менее могли предположить, что она может изображать всемирные события, героические характеры и рисовать их с психологической правдой. Они считали оперу пригодной лишь к изображению домашних сцен; любовные истории, колдовство и весь мир суеверия со всеми добрыми и злыми духами – вот что, по их мнению, было главным содержанием оперы. Исполнить более крупную, драматическую задачу – на это они ее не считали способной. Это низкое мнение было в то время всеобщим и держится еще до сих пор. Большинство наших драматических писателей смотрит на нас с высоты своего величия с некоторым сожалением и считает оперу пустой забавой, украшенной всякими прелестями; некоторые забываются до того, что говорят о „щекотании ушей“. В этом закосневшем убеждении они продолжают упрямо пребывать, не обращая никакого внимания на наши стремления. Еще менее труда они себе дают на изучение действительно хорошей оперы, чтобы увидеть, как музыка могущественна, с какой правдой передает она все душевные движения, все чувства, и даже подробнее и глубже, чем это возможно словами. Еще худшего мнения эти господа о музыкальном изображении характера. Что можно посредством музыки создать настоящие, живые характеры и изобразить весь строй мыслей и чувств, это выше их понимания. Многие из них очень мало или вовсе музыкально не образованны, для того чтобы оценить вполне большую, глубоко задуманную оперу. Отсюда их неверные взгляды и неправильная оценка. Последняя происходит также от уверенности в едином господстве драмы. Для этих господ опера – только игрушка, драма же призвана выражать идеи духа и изображать героев. Могут ли поэты с подобными воззрениями написать хорошее либретто?»
Наконец после долгих поисков Мейербер нашел Скриба, дарование которого вполне отвечало требованиям и дарованию самого Мейербера, духу его музыки, стремящейся равно как к изображению сильных характеров, так и к созданию внешних эффектов.
«Этот дьявол (Скриб), – пишет о нем Лист, – мог быть схвачен только музыкальным гением, который в понимании акустических эффектов, в инструментовке, в гармонии, в приложении и комбинации масс и отдельных лиц так бы был опытен, как Мейербер. Любовь этого последнего к натянутым и блестящим, чарующим, одуряющим впечатлениям подходила Скрибу. Он питал такое же пристрастие к сильным контрастам, неожиданным противоречиям, кричащим сопоставлениям, как и Скриб, прибегал, так же как он, к мишурному блеску, чтобы ввести в музыку чуждые ей доселе элементы, при посредстве которых можно бы было ярче оттенять в опере светлые и темные стороны драмы».
В 1830 году, после почти пятилетнего перерыва, композиторское дарование Мейербера вновь проявляет себя, и вновь иначе, чем прежде. Начинается третий – последний и самый блестящий – период его творческой деятельности. Произведения этого периода принесли Мейерберу всемирную славу, к которой он так горячо, так долго стремился. Его эластичное дарование, сумевшее быть по очереди немецким и итальянским – двумя крайностями, позволило ему усвоить и французский стиль: к немецкой серьезности, вдумчивости, к итальянской мелодичности и чувствительности он прибавил французское веселье, элегантность и блеск; но пока он еще не умел связать этих разнородных элементов, соединить их в одно целое; поэтому в «Роберте-Дьяволе», первом произведении французского периода, конкретные особенности всех трех стилей слишком заметны.
Либретто, написанное Скрибом, было основано на легендарном нормандском сказании о Роберте, родившемся «со всеми зубами и таким злым, что он кусал грудь матери и был прозван Дьяволом». Содержание этого необыкновенно фантастического сюжета, собственно, составляет борьба двух начал: злого (Бертрам, за которым скрывается сам дьявол) и доброго (Алиса).
Роберт-Дьявол, герцог Нормандский, этот бич своей страны, убивавший мужей, соблазнявший жен и дочерей своих вассалов, был изгнан ими наконец за пределы герцогства. Он долго скитался из государства в государство, ища смерти в ужасных боях, и наконец попал в Сицилию, где влюбился в принцессу Мессинскую, Изабеллу. Заметив расположение к себе принцессы, он желает ее похитить, что ему не удается: он вызывает на бой всех мессинских рыцарей и уже почти погибает в неравной борьбе, когда к нему на помощь является Бертрам. Но рука принцессы обещана ее отцом тому, кто окажется победителем на турнире, который герцог Мессинский для этой цели назначает. Когда занавес поднимается, Роберт пирует со своими оруженосцами и с Бертрамом, который сделался его неразлучным спутником и другом. Во время пира приводят пойманного пилигрима Рембо, рассказывающего о том, как в Нормандии некогда царствовал доблестный герцог, у которого была прекрасная дочь, Берта, презиравшая всех поклонников. Ее соблазнил дьявол, явившийся к ней под видом блестящего принца, и она родила сына Роберта, настоящего дьявола. Слыша это, Роберт приходит в бешенство, велит убить рассказчика, но узнав, что у него есть прелестная невеста, дарует ему жизнь – за невесту. Но он щадит невесту Рембо, которая оказывается его молочной сестрой, Алисой, пришедшей в Палермо, чтобы сообщить своему государю о кончине его матери, страстно его любившей, и передать ему ее завещание. Пораженный Роберт не берет этого завещания, считая себя недостойным его. Между тем он посылает Алису узнать у принцессы Изабеллы о ее чувствах к нему, и за эту услугу обещает Алисе устроить ее брак с Рембо. Бертрам, который есть не кто иной, как сам дьявол – отец Роберта, проникнут адской любовью к своему детищу. Вследствие этой любви он усиленно старается склонить его на все дурное, для того чтобы увлечь его в свой ад и больше с ним не расставаться. Он заставляет Роберта играть в кости с рыцарями, причем Роберт проигрывает все свое золото, оружие и лошадей. Алиса тем временем, проникнув во дворец, узнает у принцессы Изабеллы о ее любви к Роберту. День турнира наступает, и Роберт заранее наслаждается счастьем победы. Но Бертрам присылает к нему одного из подчиненных себе дьяволов, принявшего образ принца Гренадского, который вызывает Роберта на дуэль, увлекает его в глубину леса, где Роберт и блуждает все время, пока его соперник побеждает на турнире остальных рыцарей и делается женихом Изабеллы. Роберт в отчаянии. Бертрам убеждает его совершить кощунство: проникнуть в развалины монастыря и с гробницы св. Розалии сорвать вечнозеленую ветвь – страшный талисман, который все его желания сделает доступными. Бертрам надеется, что Роберт падет жертвой своих страстей и станет добычей ада. Бертрам спешит в монастырь до появления Роберта. Бывшие обитательницы этого монастыря, прикрываясь отшельнической жизнью, предавались удовольствиям и греховным наслаждениям. Св. Розалия, узнав о том, призвала на них гнев неба, и смерть поразила их среди наслаждений. При приходе Бертрама они оживают; он заклинает их своими чарами соблазнить Роберта к кощунству, что они исполняют. При посредстве чар волшебной ветви Роберт проникает в спальню принцессы, но его хватают и приговаривают к смертной казни. Бертрам его вторично спасает и в день свадьбы принцессы с принцем Гренадским открывает сыну тайну их родства и обещает ему любовь принцессы, если только он подпишет адский договор, соединяющий их навеки; в противном случае они должны расстаться, так как в полночь этого дня истекает срок пребывания Бертрама на земле. Любовь к отцу, любовь к принцессе, все блага, которые сулит ему Бертрам, почти что склоняют его подписать договор, когда входит Алиса с радостной вестью, что принц Гренадский не может переступить порога церкви, свадьба не состоится и принцесса ждет Роберта у алтаря. В Роберте происходит сильная борьба зла с добром. Алиса, видя его мучения и нерешительность, протягивает ему завещание матери, в котором мать умоляет сына избегать советов ее обольстителя. Бьет полночь. Добро побеждает. Дьявол исчезает с проклятиями. Роберт падает без чувств. Апофеоз показывает принцессу со свитой, ожидающую Роберта.
Мейербер окончил свою оперу за несколько дней до июльской революции, повлекшей за собой большие перемены в управлении театром: из рук государства оно перешло к частному лицу, доктору Верону, который, не питая надежд на то, что гений Мейербера обогатит его, отказался от постановки его оперы. Боязливость Верона увеличивалась слухами о дурной музыке, распространяемыми недоброжелателями автора, что еще больше затрудняло борьбу Мейербера с трусливым директором. Наконец, благодаря богатству, дозволившему ему обеспечить Верону сбор и заплатить издержки, Мейерберу удалось достигнуть желанной цели.
Устроив судьбу своего детища, композитор стал заботиться о том, чтобы подыскать хороших исполнителей. Он выписал из Италии для роли Бертрама Левассера, для которого переписал всю партию из баритоновой в басовую; знаменитому Нури был поручен Роберт, г-жа Дорю исполняла роль Алисы, чередуясь с г-жой Фалькон, находившейся в то время в полном расцвете красоты и таланта. Впечатление, производимое ее кристальным, чарующим голосом, усиливалось ее замечательно привлекательной внешностью. Она была «явлением гения в красоте». «Современное искусство приветствовало в ней свою вдохновенную царицу, все восхищались ею и рукоплескали ей, ибо вокруг этой юной головки было больше надежд, чем цветов и бутонов на ветвях в чудную майскую ночь. Ее глаза проливали больше сияния, чем лучи зари и все звезды востока».
С первых же репетиций по городу разнеслась весть о необыкновенной, неслыханной до сих пор опере. Эта весть зажгла в публике любопытство, она стала ожидать новую оперу с лихорадочным нетерпением, и в утешение Верону билеты на шесть первых представлений были раскуплены заранее. Пятьдесят следующих представлений дали небывалый сбор в десять тысяч франков, который не падал никогда ниже семи тысяч. Успех был поражающий, «одуряющий». Публика и критика разразились единодушными восторгами и позабыли на время своих прежних кумиров, Россини и Обера. «Роберт-Дьявол» вознаградил своего автора за все разочарования прежних лет и вознес его разом на вершину его артистической славы. Переведенный на немецкий, итальянский, голландский, русский, венгерский, датский, шведский и другие языки, «Роберт-Дьявол» появлялся на сценах всевозможных театров Европы и всюду возбуждал восторги публики. Подобно «Крестоносцу», он переплыл океан, и в Америке, так же как в Европе, утвердил славу Мейербера. В Новом Орлеане он давался сразу в двух театрах на французском и итальянском языках, и появление его в Гаване, Мексике, Китае и Алжире встречалось такими же горячими восторгами, как и во Франции.
Эффектный сюжет, небывало блестящая постановка, чарующая музыка «Роберта-Дьявола» производили такое захватывающее, могучее впечатление, что заставляли забывать все многочисленные недостатки, которые, как и достоинства мейерберовского творчества, особенно ярко выразились именно в этой опере: мелодии, полные задушевной прелести, сменяются шаблонными ариями, испещренными искусственными украшениями; рядом с глубоким, потрясающим драматизмом встречается пустой, надутый пафос; сила и красота оркестровки часто направлены на достижение внешних эффектов; художественное чутье часто затемняется желанием автора произвести непосредственное впечатление на публику, чего он достигал, конечно, в ущерб настоящим достоинствам произведения.
В день первого представления «Роберта-Дьявола» в Париже Мейербер получил письмо от матери, которое сохранял всю жизнь как талисман. В довершение счастья после представления его заключили объятия самой матери, которая приехала неожиданно для него в Париж, чтобы присутствовать при торжестве своего гениального сына. Гейне пишет о ней: «Эта женщина – самая счастливейшая из матерей, которые существуют на этом свете. Повсюду ее осеняет слава ее сына; где бы она ни была, куда бы она ни пришла – везде до слуха ее доносятся разные отрывки его музыки; всюду ей светит блеск его славы, и в опере, где вся публика шумными рукоплесканиями выражает свой восторг ее Джакомо, ее материнское сердце замирает от такого счастья, которое нам трудно себе представить».
Первое представление прошло не без приключений, которые могли бы окончиться очень печально. Подробности их нам передает Верон в своих мемуарах. В третьем акте сорвалась люстра и упала на сцену в то время, когда г-жа Дорю, игравшая Алису, только что появилась. Люстра чуть было не задела ее за голову, но артистка проявила замечательное присутствие духа: отстранившись немного, она продолжала свою роль без остановки. В третьем же акте, после хора демонов, посредством бесчисленных проволок поднимался снизу занавес, изображающий облака. Проволоки, вероятно, были недостаточно крепки, занавес, не дойдя и до половины, оборвался и упал на сцену, где Тальони неподвижно лежала, изображая статую. Она едва-едва успела «ожить» и отскочить в сторону, чтобы не быть раздавленной. Но еще более ужасный случай произошел в пятом действии, после заключительного трио. Бертрам должен был исчезнуть в трапе, чтобы вернуться в царство мертвых. Роберт, обращенный Алисой к добру, должен был остаться на земле и обвенчаться с принцессой Изабеллой. Но Нури, изображавший Роберта, в пылу увлечения бросился вслед за Бертрамом и исчез в трапе. Вся труппа ахнула! Думали, что Нури убит. Г-жа Дорю, еще не оправившаяся от испуга вследствие грозившей ей опасности, разразилась рыданиями. В зрительном зале, среди актеров и внизу происходили различные сцены. Публика недоумевала и думала, что Роберт, побежденный злом, увлечен Бертрамом в ад. Среди артистов царили печаль и отчаяние. Между тем внизу, к счастью, не успели убрать матрасов и тюфяков, на которые перед тем спрыгнул Левассер-Бертрам; Нури, таким образом, был спасен. Он тотчас же побежал наверх, чтобы успокоить публику и товарищей. На лестнице он столкнулся с Левассером, который спокойно и не торопясь возвращался в свою комнату. Он был крайне удивлен при виде Нури. «Вы что тут делаете? – воскликнул он. – Разве конец изменен?» Но Нури пролетел мимо, не отвечая. Наконец он вместе с г-жой Дорю, плакавшей теперь от радости, предстал перед публикой, и восторженные рукоплескания приветствовали любимого артиста. «Роберт-Дьявол» сделался сразу так популярен во Франции, что мотивы его раздавались повсюду, даже в самых отдаленных от Парижа местностях. Один очевидец рассказывает об очень оригинальном представлении на берегу моря, в маленьком глухом городке близ Норбонны:
«Театр был построен на барке. Беспредельная поверхность моря, спокойная и гладкая, как зеркало, голубое ясное небо заменяли декорации и искусственное освещение. Сам берег служил партером, куда спешила публика, возбужденная, многочисленная. Оркестр, состоявший из корнет-а-пистона, флажолета и большого барабана, заиграл увертюру, и вскоре странствующие актеры, пришедшие Бог весть откуда, смело принялись разыгрывать эту потрясающую драму. Бертрам в лохмотьях распевал свои дьявольские арии. Увядшая Алиса пела свои дивные песни у подножия распятия; старая и безобразная Изабелла и ужасный Роберт, но оба с могучими легкими, прокричали во весь голос чудный дуэт четвертого действия. В пятом – ад разразился против неба, Бертрам боролся с Алисой, был побежден, провалился в трюм с ужасным воплем, Роберт был спасен, и довольная публика огласила берег рукоплесканиями».
В то время как Франция рукоплескала гению приемного сына своего искусства, немецкие собратья Мейербера «бросали в него бешено каменья». Главными противниками его явились Шуман и Мендельсон. Шуман мало говорил о «Роберте-Дьяволе», но весь яд своей критики хранил для «Гугенотов» и «Пророка»; Мендельсон же выражался о «Роберте-Дьяволе» весьма определенно и крайне нелестно; он пишет из Парижа Иммерману:
«Здесь дают постоянно „Роберта-Дьявола“ Мейербера с большим успехом; театр всегда полон, и музыка всем нравится. Эта опера есть скопление всевозможных сценических приспособлений, каких я в жизни своей не видывал; всякий, кто может в Париже танцевать, петь и играть, танцует, поет и играет там. Сюжет романтический, т. е. там появляется дьявол (этого достаточно для романтизма и фантазии парижан). Но все-таки он очень плох, и если бы не было двух блестящих сцен соблазна, то он даже не был бы эффектен. Дьявол этот – жалкий дьявол, появляется в костюме рыцаря… и называется – Бертрам. На такой холодный, придуманный рассудком образ я не могу себе представить никакой музыки, потому эта опера меня не удовлетворяет: она сплошь холодна, бездушна, я даже не нахожу ее эффектной. Многие хвалят музыку, но где нет чувства и правды, там у меня пропадает мерило».
В 1832 году Мейербер ездил в Берлин для постановки «Роберта-Дьявола», который шел под его управлением и имел громадный успех у публики. Король пожаловал ему почетное звание придворного композитора, но Мейербер вскоре должен был покинуть Германию, преследуемый нападками своих беспощадных критиков. Во Франции король Луи Филипп наградил его орденом Почетного легиона, Institut de France избрал его своим членом, а дирекция театров, обогатившаяся благодаря «Роберту-Дьяволу», заказала его автору новую оперу на либретто Скриба – «Гугеноты».
Глава V. «Гугеноты» и другие произведения Мейербера
Содержание оперы «Гугеноты». – Неустойка. – Дуэт четвертого акта. – Первое представление. – Критика в Германии. – Назначение Мейербера генеральным директором музыки в Берлине. – Мейербер как дирижер. – Его мнение об операх на античные сюжеты. – «Лагерь в Силезии»
Хотя в «Роберте-Дьяволе» и выведено историческое лицо, но при такой фантастической, сверхъестественной обстановке, что эта опера никак не может быть названа исторической, поэтому не «Роберт-Дьявол», а «Гугеноты» являются первою и самой блестящей исторической оперой Мейербера, в которой его гений достиг наибольшей силы, выразительности и красоты.
Сюжет «Гугенотов» заимствован из смутного времени борьбы религиозных партий во Франции, окончившейся кровавой Варфоломеевской ночью, на фоне которой в опере развивается трагическая история любви католички Валентины к гугеноту Раулю.
Первое действие начинается пиром в замке графа Невера, католика, пригласившего к себе Рауля в знак примирения враждующих партий. Среди веселья, возбужденные вином, все хотят рассказывать друг другу свои любовные похождения; начинать приходится Раулю, сообщающему своим собеседникам, что он недавно, во время прогулки, встретил медленно подвигавшиеся носилки, на которые напала буйная толпа молодежи. Рауль бросился на помощь, разогнал буянов и, приблизившись к носилкам, увидал в них молодую женщину ослепительной красоты, которая зажгла в нем мгновенно сильную страсть. Но он до сих пор не знает, кто его прекрасная незнакомка. В самый разгар пира приходят доложить хозяину, что с ним желает говорить какая-то дама. Граф Невер, блестящий вельможа, одержавший не одну победу над женскими сердцами и привыкший к подобным таинственным посещениям плененных им красавиц, отправляется к ожидающей его в саду даме. Заинтригованные гости бегут к окну взглянуть на посетительницу, и, о ужас, Рауль узнает в ней спасенную им незнакомку. Вслед за ее уходом появляется паж королевы Маргариты с письмом, в котором королева сообщает Раулю, что пред солнечным закатом за ним придет ее посланный и, завязав ему глаза, привезет его во дворец. Все окружают Рауля, поздравляют его со счастьем, думая, что его ждет любовь королевы и сопряженные с нею почести; больше всех радуется счастию Рауля его слуга, Марсель, ярый гугенот с непреклонным, преданным сердцем, добрый гений Рауля, которого он никогда не покидает, охраняя его как от опасностей, так и от могущих смутить его душу соблазнов. Являются замаскированные люди и увозят Рауля.
Второй акт представляет прекрасный сад в придворном замке Шенонсо. В глубине виднеется река, где купаются придворные дамы Маргариты; другие бегают по саду, забавляясь всевозможными играми, между тем как сама королева занята беседою со своей любимой фрейлиной Валентиной, дочерью губернатора Лувра, католика, графа Сен-Бри. Из их разговора мы узнаем, что Валентина – та самая таинственная незнакомка, приходившая к графу Неверу, с которым она помолвлена; встреча с Раулем смутила ее душевный покой, возбудив в ней такую глубокую любовь, что она решилась пойти к своему жениху умолять его отказаться от брака с ней. Маргарита, поверенная ее сердечных тайн, не только покровительствует ее любви к Раулю, но даже намерена устроить ее брак с ним в надежде, что союз католички с гугенотом упрочит мир среди этих враждебных партий, для чего она призывает Рауля в свой замок. Оставшись с ним наедине, она объясняет ему свои намерения и, получив его согласие на брак с католичкой, призывает всех своих вельмож, в том числе графа Невера и Сен-Бри, который подводит к Раулю свою дочь. Рауль с ужасом узнает в своей невесте девушку, приходившую к графу Неверу на свидание, и, оскорбленный виденной им сценой, отказывается назвать ее своей женой. Валентина, не понимая настоящей причины такого поведения, убита горем; ее, полубесчувственную, уводят в другую комнату. Невер и Сен-Бри, возмущенные, разъяренные нанесенным им оскорблением, требуют объяснения, и так как Рауль упорно молчит, то вызывают его на дуэль, желая его кровью смыть свою обиду. Маргарита своим вмешательством останавливает кровавую развязку, подвергает Рауля аресту, спасая его таким образом от ярости его врагов, и объявляет Неверу и Сен-Бри приказание короля явиться в этот день в Париж. Не смея ослушаться, они уходят, угрожая рано или поздно отомстить Раулю за его поступок.
Действие третьего акта происходит в Париже, на площади, с правой стороны которой виден вход в церковь. Туда вскоре по поднятии занавеса проходит брачная процессия: Валентина, утратившая всякую надежду на взаимность со стороны Рауля, уступает настояниям отца и соглашается стать женою графа Невера, которого она просит после венчания оставить ее до вечера одну в часовне, где она хочет в уединении горячей молитвой испросить у Бога утешения и успокоения своей страждущей души, все еще любящей вероломного Рауля. Невер исполняет желание своей молодой супруги и, возвращаясь из церкви вместе с Сен-Бри, наталкивается на Марселя, прибывшего вслед за ними в Париж вместе с Раулем, письмо которого он вручает Сен-Бри. К своему ужасу, из слов Сен-Бри Марсель узнает, что письмо заключало вызов на дуэль; верный слуга решается подкараулить приход своего господина, чтобы вовремя явиться на помощь и предотвратить угрожающую его жизни опасность. Сен-Бри скрывает от Невера содержание письма, не желая нарушать счастья и покоя молодого супруга; удалившись с Моревером в капеллу, они составляют заговор на жизнь Рауля. Не замеченная ими Валентина слышит все и выбегает в ужасе из капеллы. Узнав Марселя, она рассказывает ему о заговоре и решается вместе с ним спасти жизнь любимого человека. Вскоре после Рауля приходят его противники с толпой вооруженных людей, которые окружают Марселя и Рауля. Марсель в отчаянии сзывает гугенотов, и вот вместо поединка начинается стычка многочисленной толпы. Внезапное появление королевы вместе с графом Невером, приехавшим за своей супругой, прекращает борьбу враждующих партий, которые расходятся, угрожая друг другу.
В четвертом действии Рауль, узнав, что Валентина его любит, проникает в ее дворец и объясняет ей причину грустного недоразумения, лишившего их обоих счастья. Рауль едва успевает спрятаться, как входят вельможи с графом Невером и Сен-Бри, который передает присутствующим план кровавого истребления гугенотов. Невер, возмущенный, отказывается принять участие в гнусном деле, считая его позорным для своей чести. Спрятавшийся Рауль узнает таким образом об опасности, грозящей гугенотам, и тотчас по уходе заговорщиков хочет бежать, чтобы спасти братьев или погибнуть вместе с ними. Слезы, мольбы и отчаяние Валентины на минуту колеблят его решимость, но когда до него доносятся из окна крики и стоны избиваемых, он поручает Валентину Богу и бросается из окна.
В пятом акте, который обыкновенно пропускается, показана кровавая резня Варфоломеевской ночи. Благородный Невер погибает, спасая жизнь Марселю. Валентина сопровождает всюду Рауля и, желая разделить его участь, примыкает к партии гугенотов. Сен-Бри, предводительствующий отрядом убийц, велит стрелять во всех встречных гугенотов и получает возмездие за свою жестокость, признав в убитой им женщине свою дочь.
Такой богатый сюжет, полный интереса, драматических, захватывающих положений, не мог оставить композитора равнодушным, и Мейербер принялся за сочинение со страстной энергией. Задолго до окончания оперы все газеты наперерыв восхваляли новое произведение маэстро; возбужденная ими публика ожидала оперу с лихорадочным нетерпением. Наконец опера была сдана дирекции; уже собирались приступить к разучиванию ее, когда г-жа Мейербер опасно заболела и должна была, чтобы поправить здоровье, ехать на воды. Мейербер последовал за женой и, к отчаянию директора, увез оперу с собой, предпочитая заплатить 30 тысяч франков неустойки, чем поручить судьбу своего детища чужим попечениям. Ко всеобщему удовольствию, болезнь г-жи Мейербер была непродолжительна, все семейство вскоре вернулось в Париж, и на 29 февраля 1836 года было назначено первое представление «Гугенотов», а директор театра был настолько благороден, что вернул Мейерберу 30 тысяч обратно. Мирекур рассказывает, что накануне самого дня представления, после генеральной репетиции Мейербер, взволнованный и бледный, вбежал в квартиру своего друга Гуэна.
– Что с тобой? – спросил его Гуэн, испуганный его расстроенным видом.
Маэстро в отчаянии опускается в кресло и говорит:
– Опера провалится! Все идет вкривь и вкось. Нури утверждает, что он никогда не в состоянии будет спеть последнего номера четвертого действия, и всякий с ним соглашается.
– Отчего же не написать другой арии?
– Невозможно. Скриб не хочет больше ничего изменять в либретто.
– А! Скриб отказывается от импровизации? Это понятно. Много ли стихов тебе нужно?
– Нет, очень мало: лишь столько, сколько потребуется для andante – вот и все.
– Хорошо! Подожди здесь минут десять, я найду кого-нибудь.
Преданный друг, невзирая на поздний час – 11 вечера, – садится на извозчика, летит к Эмилю Дешану, которого находит за сочинением гекзаметров, и привозит его к Мейерберу. Через некоторое время желанные стихи были написаны, обрадованный Мейербер бросился к роялю, и не прошло и трех часов, как новый дуэт был готов. Мейербер, проведший бессонную ночь, с первыми лучами рассвета уже был у Нури с дуэтом в руках.
– Посмотрите-ка, – сказал он ему, – может быть, вам больше понравится этот новый дуэт?
Нури взял бумагу, пропел арию и с криком восторга упал в объятия композитора.
– Это успех, – сказал он. – Огромный успех! Я ручаюсь вам, я вам клянусь! Идите скорей, приготовьте инструментовку! Не теряйте ни минуты, ни секунды!
Таким образом был создан один из самых блестящих номеров этой оперы. Роли были распределены между лучшими силами труппы, оркестром управлял Габенек, пользовавшийся, по словам Бюри, безграничным доверием артистов. Наконец наступил желанный день первого представления. «Чудное зрелище представляла собой вчера парижская публика, нарядная, собравшаяся в большой оперной зале с трепетным ожиданием, с серьезным почтением, даже благоговением. Все сердца казались потрясенными. Это была музыка!» – пишет Гейне. Успех был феноменальный и перешел в овацию гениальному композитору. Когда же спет был дуэт четвертого акта[3], «то в оркестре поднялись неистовые аплодисменты. Габенек, перескочив через рампу, бросился к маэстро, к Нури и г-же Фалькон. Все музыканты последовали за своим дирижером, и Мейербера торжественно привели на сцену среди оглушительных восторгов. Рауль рукоплескал, Валентина плакала».
Вскоре слава «Гугенотов» вышла за пределы Франции, и опера совершила триумфальное шествие по всей Европе; в строго католических странах ее ставили под названием «Гвельфы и Гибеллины» или «Гибеллины в Пизе» из страха, что опера оскорбит религиозные чувства католиков. «Гугеноты» доставили Мейерберу множество знаков отличия, между прочим, он получил бельгийский орден Леопольда и австрийское музыкальное общество прислало ему свой почетный диплом.
«Гугенотам» принадлежит, бесспорно, первое место среди всех сочинений Мейербера, и вообще эта опера стоит в ряду лучших произведений оперной литературы. В ней особенно замечательна музыкальная обрисовка характеров: железный Марсель, лицемерный ханжа Сен-Бри, Валентина – все эти личности очерчены очень рельефно и ярко; что же касается знаменитого дуэта последнего акта, то Л. Крейцер сказал про него: «Это один из наилучших гимнов любви, который композитор вырвал из своего сердца и бросил его, еще трепещущий, на сцену».
«Гугеноты» стали одной из самых популярных, любимых опер Европы: скоро минет полстолетия со дня их первого появления, но до сих пор они остаются в репертуарах театров всех стран и до сих пор одинаково привлекают публику и потрясают сердца слушателей.
Встреченные всеми нациями с восторгом, «Гугеноты» лишь в Германии нашли себе осуждение и врагов. Немецкие критики с каким-то особенным злорадством искали недостатки в новом творении своего соотечественника и изощрялись друг перед другом в красноречивом поругании тех красот, которые им были недоступны или непонятны. Даже сам великий Шуман безжалостно, хотя и безуспешно, старался развенчать «Гугенотов».
«Часто хочется схватить себя за голову, – пишет он, – чтобы удостовериться, все ли там на своем месте, когда взвешиваешь успех Мейербера в здравой, музыкальной Германии. Один остроумный господин сказал про музыку и действие „Гугенотов“, что они совершаются или в веселых притонах, или в церкви. Я не моралист, но хорошего протестанта возмущает, когда его святые песни раздаются на подмостках, возмущает, когда кровавую драму его религии превращают в балаган, чтобы этим добыть себе деньги и дешевую славу; нас возмущает вся опера, начиная с увертюры с ее забавно-пошлой святостью, до конца, где нас по крайней мере хотят сжечь заживо. После „Гугенотов“ не остается больше ничего другого, как казнить на сцене преступников и выводить на сцену распутных женщин… Распутство, убийства и молитвы – больше ничего нет в „Гугенотах“; напрасно вы будете искать в них чистого помысла и действительно христианского чувства. Мейербер вырывает руками свое сердце наружу и говорит: смотрите, вот оно! Там все – деланное, все лишь внешнее и ложное».
Вообще музыка Мейербера была совершенно противна романтическо-возвышенной натуре Шумана и внушала ему такое отвращение, которого он не в силах был преодолеть. После многократных посещений «Гугенотов» он не изменил о них своего мнения и подписал под статьей слова: «Никогда не подписывал я чего-либо так убежденно, как сегодня. Роберт Шуман».
Вскоре после постановки «Гугенотов» в Париже Мейербер предпринял маленькое путешествие, чтобы поправить здоровье, посетил Баден-Баден и навестил свою мать в Берлине, где, между прочим, отыскал новый сюжет, основываясь на котором, Скриб не замедлил написать либретто для «Африканки». На этот раз Скриб не особенно угодил вкусам и желаниям Мейербера, который стал настаивать на разных переменах в тексте и довел своими требованиями Скриба до такой степени раздражения, что тот стал грозить ему процессом. Дело кончилось бы, без сомнения, скандалом, если бы Мейербер не был внезапно отозван в Берлин, где король Фридрих Вильгельм, признавая все заслуги уважаемого композитора, пожаловал ему орден Pour le mérite[4] и назначил его Generalmusikdirector (генеральным директором музыки) на место вышедшего в отставку Спонтини. Мейербер принял это назначение, но от четырех тысяч содержания отказался в пользу оркестра.
Признание заслуг Мейербера на родине делало его пребывание в Берлине более приятным и доставило большое удовлетворение его самолюбию, которое так много потерпело в Германии. Здесь, как и везде, он сделался любимцем публики; кроме того, король, а за ним все общество, старались оказать прославленному артисту всевозможные знаки внимания. Король любил окружать себя выдающимися людьми, старался привлечь к своему двору артистов и ученых, с которыми любил беседовать о всевозможных вопросах науки и искусств. Мейербер сделался обычным посетителем дворца, куда его часто приглашали или на вечер, или просто к обеду, и он находил истинное наслаждение от пребывания в том просвещенном обществе, которое окружало королевскую семью, отличавшуюся не только любовью к музыке, но и большой музыкальностью, так что некоторые принцы и даже принцессы сами сочиняли.
Несмотря на такие благоприятные условия жизни в Берлине, Мейербера тянуло в Париж, мягкий климат которого был особенно полезен его слабому здоровью. По своей деликатной натуре он не умел также справляться с интригами, царящими во всяком учреждении, и в скором времени отказался от должности, сохранив лишь почетное звание, что позволяло ему большую часть года проводить в Париже и лишь на короткое время приезжать в Берлин, где он дирижировал придворными концертами или оперой, если шла какая-нибудь из его опер. В Берлине, хотя несколько поздней, наш знаменитый соотечественник Глинка познакомился с Мейербером, который проявил большой интерес к произведениям гениального русского композитора.
«21(9) января, – пишет Глинка своей сестре, – в королевском дворце исполнялось трио из „Жизни за царя“… Оркестром управлял Мейербер, и надо сознаться, что он отличнейший капельмейстер во всех отношениях».
Но хотя все слышавшие Мейербера как дирижера отзывались о нем с большой похвалой, он сам дирижировал неохотно, не любил разучивать своих опер, так как многочисленные ошибки первых репетиций слишком его расстраивали, а сами репетиции отнимали у него много времени. Случалось, что ему приходилось идти на репетицию как раз в то время, когда его посещало вдохновение, когда в голове его теснились богатые мелодии, и он с неудовольствием отрывался от работы.
«Я был тогда расстроен на целый день, – говорит он, – так как потерял не только время, но и мысли». «Я не очень гожусь в дирижеры, – пишет он доктору Шухту. – Говорят, хороший дирижер должен обладать большой дозой грубости. Не хочу этого утверждать. Мне же такая грубость была всегда противна. Это производит всегда очень неприятное впечатление, когда к образованному артисту обращаются со словами, которых не скажешь и прислуге. Я не требую грубости от дирижера, но он должен действовать энергично, должен уметь делать строгие внушения, не будучи грубым. Притом ему необходимо быть приветливым, чтобы приобрести расположение артистов; они должны любить и вместе с тем бояться его. Он никогда не должен показывать слабости характера: это ужасно подрывает уважение. Я не могу поступать так резко – энергично, как это необходимо при разучивании, и потому охотно предоставляю это дело капельмейстерам. Репетиции делали меня часто больным».
Деятельность Мейербера в качестве генерального директора музыки ознаменовалась многими гуманными и благородными постановлениями. Между прочим он добился, чтобы композиторы и драматические поэты получали каждый раз 10 процентов от кассового сбора, а после их смерти в течение 10 лет их наследники сохраняли за собой это право; добился также, чтобы ежегодно давалось не менее трех опер современных немецких композиторов. Он относился очень серьезно к взятым им на себя обязанностям, обновил и значительно возвысил оперный репертуар, включив в него многие выдающиеся оперы, в том числе «Дон Жуана» Моцарта, тщательно им самим разученного. Своими великодушием и благородством Мейербер приобрел себе всеобщую любовь, и многие из его прежних противников сделались теперь его друзьями. Часто он давал концерты, сбор от которых шел на благотворительные цели.
К этому времени относятся многие сочинения Мейербера; желая обрадовать свою мать и почтить память рано умершего брата, Мейербер написал музыку к трагедии Михаила Бера «Струэнзе». Это сочинение, состоящее из увертюры с антрактами, было исполнено в первый раз в 1846 году и хотя произвело сильное впечатление, но не удержалось в репертуаре, кроме увертюры, которая принадлежит к числу лучших произведений этого рода и до сих пор исполняется с большим успехом в концертах. Эта увертюра представляет собой не только простое вступление к драме, но в ней очень ярко изображена вся драма, так что она является цельным и весьма замечательным по красоте и значению произведением. Кроме того, Мейербер написал множество кантат, псалмов и других вещей. По желанию Фридриха Вильгельма он должен был написать музыку к какой-нибудь греческой трагедии и начал сочинять хоры к «Эвменидам» Эсхила, но не докончил их, не имея никакого влечения к сюжетам из древнего мира. По этому поводу он пишет Шухту:
«Вы меня спрашиваете, не было ли у меня желания переложить на музыку, подобно Мендельсону, античные трагедии, например, Софокла. Скажу прямо: нет; такого рода сюжеты слишком отдалены от нашего времени и не подходят к современной музыке: заставлять людей седой старины петь и декламировать современную музыку – по моему мнению – величайшая нелепость, которая только мыслима в искусстве. Там, где поэты и композиторы пытали свои силы, перед нами не греки, римляне или древнегреческие герои, но такие же современные нам люди, как и мы сами. Древнее одеяние и вооружение ничего не значат, не они изображают античные характеры. Когда же стараются создать античную музыку, характерную музыку, подобную той, какая была у греков и римлян, то это просто смешно и указывает на полное незнание истории культуры. У древних народов не было музыки, которую можно бы было хотя приблизительно сравнить с нашей. На это нам указывает не только история духовного развития народов, но также и история развития музыки».
Ко дню торжественного открытия нового оперного театра в Берлине Мейербер написал «Лагерь в Силезии». На этот раз либретто было составлено не Скрибом, а знаменитым берлинским критиком Людвигом Рельштабом; оно не отличалось большими сценическими достоинствами и состояло из анекдотических событий в жизни Фридриха Великого. Музыка этой оперы чисто немецкого характера и потому не могла иметь успеха в других странах. Главная роль – роль Фиелки – была написана для Енни Линд, которая исполняла ее потом в Вене, где опера шла под названием «Фиелка» и возбудила страшные восторги. Енни Линд возвели в божество, в честь композитора вычеканили медаль и самого его чуть не оглушили овациями. С таким же успехом «Фиелка» давалась в Лондоне. Впоследствии Мейербер переделал эту оперу, для представления ее в Париже, в «Звезду Севера», заменив ее немецких героев русскими, преобразив старого Фрица в Петра Великого. Такие превращения привели к различным несообразностям, к несоответствию текста и музыки, что было причиной неуспеха оперы, несмотря на то что в ней встречаются места необыкновенной красоты.
В самый разгар чествований Мейербер узнал, что в Вене живет старая бедная вдова, последняя представительница рода Глюков. Он разыскал ее, дал ей большое вспомоществование и выхлопотал для нее процентный доход с представлений опер Глюка в Париже.
Посетив вместе с Енни Линд Лондон, Мейербер некоторое время наслаждался отдыхом во Франценсбаде. Осень 1847 года прошла в разучивании им, ко дню рождения короля, оперы Рихарда Вагнера «Риенци», после чего он вернулся в Париж, чтобы поставить свою новую оперу «Пророк», написанную на либретто Скриба, с которым он снова заключил мир и вступил в прежние дружеские отношения.
Глава VI. Продолжение деятельности
«Пророк». – Содержание. – Отзывы. – Реклама. – Гуэн. – Огюст. – «Зевуны». – Отношение к Мейерберу Россини и Спонтини. – Избрание Мейербера доктором философии.
Тринадцать лет прошло со времени появления «Гугенотов» и до первого представления «Пророка», второй большой исторической оперы Мейербера, которую некоторые ставят даже выше «Гугенотов»; но по справедливости «Гугенотам» надо отдать пальму первенства уже потому, что эта опера написана в период наибольшего расцвета творческих сил композитора и полна свежего вдохновения, между тем как «Пророк» явился позднее и в нем ощущается уже некоторый упадок творчества. Сюжет «Пророка», исполненный такого же захватывающего интереса, как и сюжет «Гугенотов», относится к той же эпохе и затрагивает жгучий вопрос борьбы крепостных против притесняющих их владельцев. Глухое недовольство перешло вскоре в восстание, которое было возбуждаемо и поддерживаемо партией анабаптистов. Анабаптисты, или перекрещенцы, весьма мало знакомые со Священным Писанием, выдавали себя за пророков и под прикрытием мнимой святости, мнимого стремления к освобождению притесненных и уравнению прав преследовали корыстные цели, опустошая Германию междоусобиями. Они увлекали за собой крестьян, и наконец вся эта толпа фанатиков, воображавших себя пророками, укрепилась в Вестфалии. Предводительствуемые главным «пророком» Матфеем, анабаптисты заняли город Мюнстер и свергли его епископа. По смерти убитого Матфея их «пророком» сделался Иоанн, трактирщик или портной из города Лейдена. Он сумел так настроить толпу своих невежественных приверженцев, что был избран ими в цари и коронован с необыкновенной пышностью. Разосланные им повсюду апостолы проповедовали общность имущества и жен. Рассказывают, что Иоанн превратил свой дворец в гарем и вообще был далеко не тем идеальным героем, каким его изобразил Скриб. Но он отличался большой храбростью и мужественно защищал Мюнстер, осаждаемый епископом Вальдеком, пока наконец не был изменнически предан одним из своих апостолов. Этим событием воспользовался Скриб для своего сюжета, конечно, изменяя иногда исторической правде и прибавив множество вымышленных лиц.
Действие первого акта происходит в Голландии, в окрестностях Дортрехта, в деревне, расположенной близ замка ее владельца, графа Оберталя. Крестьяне собрались к завтраку; вскоре появляется Берта, бедная девушка, сирота, которую Иоанн когда-то спас из волн Мозеля, приютил у себя и заменил ей семью. Они любят друг друга, и вскоре должна состояться их свадьба, но Берта как крепостная должна испросить разрешение графа покинуть свою деревню и вступить в чужую семью. Фидес, мать Иоанна, приходит за ней, посланная Иоанном, чтобы привести в тот же день невесту в г. Лейден, где он содержит один из лучших трактиров. Во время дуэта обеих женщин являются три анабаптиста и убеждают народ восстать против владельцев. Крестьяне уже готовы к возмущению, но раболепно отступают перед появлением Оберталя, который удивленно смотрит на странных пришельцев и в одном из них узнает выгнанного им за воровство своего дворецкого. Берта излагает графу свою просьбу, но он, пораженный красотою девушки, не соглашается отпустить ее, говоря, что такую красоту ожидает более блестящая будущность, причем велит взять ее в замок. Этот гнусный поступок, вместе с отчаянием обеих женщин, еще более возбуждает недовольных крестьян, которые, вслед за уходом Оберталя, примыкают к анабаптистам с клятвой отомстить своему господину.
Во втором акте Иоанн в своей таверне с беспокойством ждет возвращения матери с невестой; в это время в таверну входят анабаптисты, которые повсюду ищут царя на место своего погибшего «пророка». Пораженные сходством Иоанна с изображением царя Давида на одной очень чтимой в Мюнстере иконе, они стараются склонить его быть их царем, тем более что Иоанн видел сон, который анабаптисты объясняют пророческим указанием свыше. Но Иоанн, полный сладких надежд и мечтаний об ожидающем его счастье, отказывается от всех почестей; как раз в это время Берта вбегает к нему, умоляя спасти ее от преследователей. Он прячет ее, но сержант, ищущий Берту, грозит убить его мать, если он не выдаст беглянку. Чтобы спасти жизнь матери, Иоанн жертвует любимой девушкой; затем, не помня себя от отчаяния, он принимает предложение анабаптистов быть их царем в надежде, что власть даст ему возможность отомстить Оберталю; пользуясь сном Фидес, он тайно уходит от нее.
Третий акт представляет осаду Мюнстера анабаптистами, которая оканчивается их победой.
Четвертый начинается с того, что граждане Мюнстера несут в городскую ратушу все свое золото и серебро по приказанию анабаптистов, которые собираются короновать Иоанна. В Мюнстер пробирается Фидес под видом нищей; она уверена в смерти Иоанна, убитого, как ей сказали, по воле пророка. К ней вскоре присоединяется Берта, которая избавилась от Оберталя, бросившись в реку. Ее спасли рыбаки, и она явилась в Мюнстер, пылая ненавистью к пророку, от злодеяний которого решилась освободить Германию. Затем показан собор Мюнстера; в то время как приближается коронационная процессия и народ, думая, что Иоанн – избранник Бога, призывает на его главу благословение неба, Фидес проклинает того, в ком она потом узнает своего сына. Народ разъярен и хочет убить Иоанна как обманщика, выдававшего себя за пророка. Чтобы спасти себя и мать, он объявляет, что эта женщина принимает его за своего сына в припадке безумия, от которого он ее сейчас исцелит, причем кладет руку на голову Фидес и, подставляя свою грудь под удары толпы, предлагает всем поразить его, если эта женщина еще раз назовет его своим сыном. Фидес отрекается от сына для спасения его жизни; толпа, поверившая в чудесное исцеление безумной, проникается еще большим благоговением перед «пророком». Фидес заключена в подземелье; она знает о намерении Берты проникнуть во дворец Иоанна через посредство своего дяди – сторожа, чтобы произвести взрыв, и бьется в отчаянии, что лишена возможности предупредить несчастье. К ней в подземелье спускается Иоанн, просит ее прощения и объясняет ей причину своего поведения. Фидес, как мать, прощает сына, но Берта, которая вскоре приходит в подземелье для исполнения своего плана, узнав в Иоанне ненавистного пророка, проклинает его и лишает себя жизни. Опера кончается пиром во дворце Иоанна. Анабаптисты, узнав, что к Мюнстеру приближаются войска, предводительствуемые императором, решили выдать своего «пророка». Иоанн знает о грозящей ему измене; желая наказать вероломных и предпочитая смерть позору, он отдает тайное приказание взорвать дворец во время пира. Происходит взрыв, дворец рушится, и в его развалинах погибает Иоанн со всеми пирующими анабаптистами.
Конец последнего действия не соответствует исторической правде, которой Скриб пожертвовал для эффектного финала.
В этой опере декорационная обстановка была доведена до небывалой роскоши и искусства, так что навлекла большие нарекания на композитора за его излишнее стремление воздействовать на публику посредством внешнего блеска. Что же касается музыки, то чувствуется, что она вылилась не таким горячим потоком вдохновения, как в «Гугенотах»: рядом с местами чарующей красоты встречается бедность внутреннего содержания, прикрытая внешней роскошью.
«Каждая вещь имеет свой предел, – пишет о „Пророке“ Линднер, – и если внешний эффект применяется ко всему, то под конец теряешь всякую меру; тот, кто все время только поражает и поражает, в конце концов, при всем желании, перестает поражать. Сочинения Мейербера страдают в этом отношении избытком, который особенно сильно выступает в этой опере. Мы приведем для большей ясности одно довольно смелое сравнение: когда вас приглашают на большой обед, то вы были бы очень удивлены, если бы вам предложили хотя и питательный, но очень простой молочный суп; пища должна быть тоньше, изысканнее, более приятной для вкуса; гости даже не будут возражать, если в блюда прибавят некоторые пикантности; но если хозяин с самого начала станет всыпать вам в рот перец, соль и т. д., то он портит вкус, раздражает его и делает его невосприимчивым для дальнейшего наслаждения. Так же и музыка Мейербера притупляет чувства чрезмерным искусством гармонизации, постоянной яркостью красок, страдающих недостатком основных тонов в тех вещах, которые своей простотой, своим определенным отпечатком, которым они должны бы были отличаться, только бы еще сильнее и глубже захватывали».
Что же касается мнения о «Пророке» Шумана, этого ярого противника музыки Мейербера, то он, как и всегда, оставался глух ко всем красотам, рассыпанным в опере щедрою и искусною рукою автора. Он пишет Гиллеру: «Тут все в возбуждении благодаря „Пророку“, и я должен был много вынести по этому случаю. Музыка его мне кажется очень бедной, и у меня нет слов, чтобы выразить, как она мне противна». В своей записной книге он вместо отзыва написал просто: «„Пророк“, опера Дж. Мейербера», и под этими словами нарисовал могильный крест.
Между тем Шуман был несправедлив, столь предвзято относясь к «Пророку», помимо своего значения исторической оперы обладающему крупными художественными достоинствами, красотою, глубиною мелодий, большим драматизмом, верностью в изображении характеров, из которых самым удачным, прочувствованным, глубоким и величественным является характер Фидес, матери Иоанна.
Как при постановке «Гугенотов», так и теперь задолго до появления «Пророка» на сцене все журналы, газеты подготовляли почву новому произведению, подстрекая любопытство публики, жадной до всяких новинок. Мейербер отлично знал свою публику, и так как его богатство давало ему возможность заботиться не только о блеске постановки и хороших исполнителях, но и о подготовке публики к восторженному приему оперы, то он употреблял все средства, чтобы возбудить в будущих зрителях интерес к новому произведению. Генрих Лаубе говорит в своих воспоминаниях, что у Мейербера существовало нечто вроде настоящей канцелярии для своевременной подготовки общественного настроения.
«В Париже, в Берлине, в Лондоне – повсюду начинали тихонько напевать, когда надлежало появиться какому-нибудь новому его произведению или же когда предстояло повторение его оперы; с недели на неделю песня раздавалась все громче и громче, число городов и газет все увеличивалось, вопросы и заметки усиливались в forte, даже в fortissimo, пока барабанный бой не возвещал самого представления. Это была хорошо организованная канцелярия».
Гейне со свойственным ему неподражаемым и злым юмором называет Мейербера не только музыкальным дирижером, но капельмейстером своей славы, оркестром которой он управляет. «Он кивнет головой, и все трубы больших журналов раздаются в унисон; он мигнет глазами, и все скрипки поют ему хвалу; он шевельнет чуть заметно левой ноздрей, и все флажолеты фельетонов наигрывают сладчайшую лесть». Благодаря своему знанию людей, умению пользоваться ими Мейербер достигал того, что его оперы имели сразу колоссальный успех, между тем как оперы многих других великих композиторов должны были ждать долгие годы того успеха, который они заслуживали.
Одним из главных поборников славы Мейербера, его поклонником и другом был Гуэн, преданность которого была просто баснословна и дала повод некоторым предполагать, что оперы Мейербера написаны им и проданы Мейерберу; иначе не могли себе объяснить той самоотверженной заботливости, с какой Гуэн относился к произведениям своего друга. Гейне шутит по этому поводу:
«Эта музыка, которою все занимаются, одни – чтобы вознести ее до небес, другие – чтобы унизить ее, эта знаменитая музыка обладает лишь тем недостатком, что она не мейерберовская. Имя Мейербера, известное всей Европе, – не более как псевдоним, под которым скрывается один из скромных гениев, легко эксплуатируемых знаменитыми авантюристами. Если в Германии и существуют простаки, способные не видеть подлога, то во Франции всякий знает, что пресловутый Мейербер не кто иной, как Гуэн, юный композитор с большим дарованием, но которому служба в почтовом ведомстве не позволяет подписываться на своих произведениях и который без этого обстоятельства и чрезмерной скромности характера был бы теперь всемирно известен».
Причина такого нелепого предположения имела своим основанием то, что Гуэн, преданный Мейерберу всей душой, иначе не говорил, как «наш „Роберт“», «наши „Гугеноты“», «мы имели успех» и так далее. Гуэн не обладал ни малейшим музыкальным дарованием, отличался далеко не художественной внешностью, был стар, служил в почтовом ведомстве и все свое время, свободное от занятий, посвящал попечениям об операх Мейербера, которого иначе не называл, как «le maître» (господин, маэстро), и о котором говорил, как о Мессии. Мейербер был его идолом, его божеством, и при виде маэстро лицо его поклонника преображалось, принимало блаженное, восторженное выражение. Он аккуратно посещал все концерты, все собрания, где исполнялась хоть одна нота из произведений Мейербера. Он посещал врагов Мейербера в надежде горячностью своих убеждений обратить их в друзей; посещал друзей его, чтобы поддержать их рвение. «Все время его проходит в этом, утро, вечер, день и ночь – без устали. Пламенная душа в железном теле». Мейербер был всепоглощающей идеей его существования, овладевшей его помыслами и чувствами; перед каждой постановкой новой оперы Гуэн разъезжал по всему Парижу, развозя друзьям и знакомым билеты. У него была особая записная книжка, в которую он вносил не только деловые заметки, но и провинности знакомых по отношению к его идолу. Так, Блаз де Бюри рассказывает, что он однажды не получил билета на первое представление «Звезды Севера», несмотря на обещание Мейербера, который всегда держал данное им слово. Удивленный такой случайностью Бюри заподозрил, что здесь не обошлось без участия Гуэна, и не ошибся. Встретившись с ним однажды в коридоре оперы, Бюри сказал ему:
– А знаете ли, что я на вас сердит.
– В чем дело?
– Ведь если я присутствовал на первом представлении «Звезды Севера», то…
– Вот, – перебил его Гуэн, – как раз этого-то я и ждал.
При этих словах он вытащил свою записную книжку из кармана, стал в ней что-то искать и наконец прочел, ударяя на каждом слове: «Ложа № такой-то на первое представление „Звезды Севера“ была продана ровно в восемь часов вечера на площади Оперы за двести тридцать франков». Тогда только Бюри догадался, в чем дело. В день первого представления он занимался фехтованием со своим преподавателем, личностью темной и сомнительной честности. Прощаясь с ним, он имел неосторожность попросить его справиться у швейцара, не прислан ли ожидаемый билет. Хитрый господин смекнул, какую выгоду ему может доставить этот билет: воспользовавшись данным ему поручением, он завладел им и продал затем за громадную сумму.
Гуэн, этот преданный и ревностный друг, не только радел о славе своего владыки, но наблюдал за всем, что имело хоть какое-либо отношение к нему, прислушивался к разговорам и следил за поступками всех знакомых, карая и награждая их по своему усмотрению. Увидит ли он двух, трех беседующих людей, он бежит к ним в надежде услышать что-нибудь о Мейербере и когда узнает, что они толкуют о посторонних вещах, то награждает их бранью: «Дураки, – говорит он, – они ни слова не сказали о нем!» Он появлялся всюду, вербуя приверженцев своему божеству. Но когда приближался день первого представления, то волнение его доходило до страшных размеров; бедный старик лишался сна, аппетита. «А что, если кто-нибудь подстроит интригу?» – и при одной мысли об этом у него волосы становились дыбом, он дрожал, бледнел, запирался у себя, боясь шевельнуться. Наконец час наставал, – Гуэн грустно направлялся к Опере и входил в залу, пряча лицо в платок. Сердце его готово было разорваться на части; он слушал, боясь взглянуть. «Это что за шум? Аплодируют! Победа, победа! Публика не так бессмысленна, как я полагал!» И он плакал от радости. На другой день старичок начинал свой поход, возвещая в столице, как герольд, рождение нового произведения – шедевра. Во время первого представления «Роберта», как уже известно, свалилась люстра.
– О, – воскликнул Мейербер, – лишь бы не повредило успеху.
– Maître, это ничего, – возразил Гуэн, стараясь казаться уверенным.
Занавес, поднимаясь над монастырем св. Розалии, чуть было не раздавил Тальони.
– Еще! – воскликнул Мейербер в страшном испуге.
– Maître, это все ничего, – повторял Гуэн, вид которого противоречил голосу.
В последнем акте Нури проваливается в трап вместе с Бертрамом.
– Ну, теперь мы погибли, – говорит Мейербер. Гуэн все повторяет: «Это ничего, это ничего». Несмотря на дурные предзнаменования, артистов и композитора вызывали с криками восторга.
– Ах, у меня отлегло от сердца! – говорит Гуэн. – Признаюсь вам, maître, я дрожал и три раза чуть было не упал в обморок.
Мейербер хотел увлечь его к себе.
– Нет, maître, – сказал Гуэн, – я едва стою на ногах. Вот уже три месяца, что я не сплю. Ступайте спать и пустите меня тоже спать.
Придя домой, этот самоотверженный друг лишился чувств.
Другим, хотя более корыстолюбивым, но не менее могущественным организатором успехов представлений был известный всему Парижу Огюст. Этот геркулес с широкими «звучными» руками был не кто иной, как Глава партии клакеров, которая, очевидно, была правильно организована и доставляла своему хозяину ежегодный доход от тридцати до сорока тысяч франков. Огюст появлялся в театре всегда в самом необыкновенном костюме, по ярким, резким цветам которого его узнавали члены его труппы, ожидающие сигнала в решительный момент. Так как от его благосклонности зависело многое, то все участвующие в представлениях певцы, певицы и танцовщицы относились к Огюсту с должным почтением, оказывали ему всякого рода внимание и любезность, а главное, не забывали его в дни своего дебюта или бенефиса. Огюст в полном сознании своего могущества восклицал иногда: «Какого громадного успеха я вчера достиг!» Он присутствовал на всех репетициях, держал себя с большим авторитетом, давал советы, и даже Мейербер нередко справлялся с его мнением. Однажды Огюст прервал длинную арию словами:
– Вот опасный номер.
– Вы думаете? – спросил Мейербер.
– Я уверен. Если у вас много друзей в зале, которые «поддержат» его, я велю своим людям «продолжать», но не ручаюсь ни за что.
– В таком случае, – сказал Мейербер, – сократите его: вы в этом более сведущи, чем я.
В противоположность обществу клакеров в Париже существовали так называемые «зевуны», обязанность которых состояла в том, что они зевали во время исполнения вещи, чем наводили уныние на публику и проваливали произведение. Их нанимали, так же как клакеров, когда желали повредить успеху какой-нибудь пьесы. К сожалению, нельзя обойти молчанием того факта, что Мейербер сам прибегал к их посредству, когда желал провалить произведение какого-нибудь из своих соперников. Мало того: зная, что его присутствие в театре не может не быть замечено, он иногда делал вид, что засыпает сам, чтобы еще сильнее подчеркнуть всю скуку пьесы. Мирекур рассказывает, что однажды Мейербер появился в своей ложе во время исполнения г-жой Бозио ее лучшей арии из «Семирамиды» Россини. «Мейербер повернулся к сцене, прослушал и начал аплодировать, желая показать, что он платит справедливую дань лишь таланту певицы. Затем в конце первого акта он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и сделал вид, что погрузился в сладкий сон. На него смотрят со всех концов залы; шепчут, возмущаются. „Не обращайте внимания, – говорит своим соседям Жюль Сандо, случайно находившийся в оркестре, – это Мейербер: он себе выгадывает одного „зевуна“ (il s’économise un dormeur)“.»
Надо отметить странное совпадение между появлением во Франции холерной эпидемии и новых опер Мейербера. После «Роберта-Дьявола» явилась холера в 1832 году, после «Пророка» – в 1849 и, наконец, после «Звезды Севера» – в 1854, что дало повод одному довольно пошловатому фельетонисту сказать, что «в этом нет ничего необыкновенного. Когда раздается музыка Мейербера, то это всегда предвещает народное бедствие. Это не музыкант, а дьявол».
Громадный успех Мейербера, какого не достигал ни один из его предшественников, возбуждал немалую зависть в сердцах современных ему композиторов и многих из его прежних друзей обратил во врагов. Даже сам великий Россини, покровительствовавший некогда юному Мейерберу, не мог примириться с мыслью, что этот «ученик» превратился в опасного соперника, слава которого затмила славу Россини. Россини, по природе своей более горячий и менее сдержанный, чем Мейербер, не стеснялся бранить своего противника направо и налево. Благовоспитанный, изысканно вежливый Мейербер хотя не упускал случая послать «зевунов» на представление оперы Россини, но никогда не обмолвился ни единым дурным словом насчет своего бывшего учителя и оказывал ему всегда знаки самого глубокого почтения. Возвращаясь в Париж после своих отлучек, он в первый же день по приезде посещал своего знаменитого собрата, который через полчаса отдавал ему визит, наподобие коронованных особ. В письмах к Россини Мейербер употреблял самые лестные выражения:
«Мой божественный маэстро! Выиграть в лотерее в один прием три главных выигрыша кажется невозможным; тем не менее вчера мне выпало на долю это громадное счастье.
Первый выигрыш – автограф Россини; второй – весьма лестное для меня письмо бессмертного маэстро; третий – любезное приглашение с чудной перспективой провести несколько часов за гостеприимным столом и рядом с Юпитером музыки. Я принимаю Ваше приглашение с радостью и с благодарностью и с нетерпением ожидаю следующей субботы, чтобы повторить Вам еще раз чувство постоянной и искренней привязанности и бесконечного удивления Вашего Дж. Мейербера».
Верон, директор оперы, заметив тотчас после первого представления «Роберта», что его необычайный успех привел Россини в дурное расположение духа, хотел успокоить его, предложив ему написать новую оперу на один драматический сюжет, но раздраженный Россини отвечал: «Нет, я подожду, когда жиды кончат свой шабаш». Говорят, что Мейербер, бывший очень чувствительным и обидчивым, когда задевали его религию, услышав эти слова, разразился рыданиями.
К ярым противникам Мейербера принадлежал также Гаспаро Спонтини, бывший музыкальный директор в Берлине, предшественник Мейербера. Он покинул вследствие недоразумений и отчасти интриг это место, дававшее ему блестящее положение и большие средства; на его долю выпал один из самых горьких уделов – пережить самого себя, при жизни своей быть забытым. Рассказывают, что впоследствии он, желая хоть чем-нибудь блеснуть, купил титул графа и кончил жизнь в Италии не как музыкант Спонтини, а как блестящий граф Сан-Андреа. Но едва ли это могло удовлетворить его оскорбленное честолюбие. Известно, что Спонтини был одним из самых ярых завистников Мейербера, о котором распускал самые нелепые слухи. «Альфа и омега всех жалоб Спонтини – это Мейербер, – пишет Гейне, посвятивший целую статью отношениям этих двух соперников. – Он не может утешиться, что он давно уже умер и что жезл его правления перешел в руки Мейербера». Если верить словам Гейне, у которого факты часто украшались гениальным вымыслом и, наоборот, сквозь фантазию иногда сквозила горькая правда, то Спонтини в порывах ненависти уверял, что Мейербер скупал свои первые оперы у бедных итальянцев, что автор его французских опер не кто иной, как Гуэн, что прусский король призвал Мейербера в Берлин лишь для того, чтобы он не растрачивал своего состояния в чужих странах. Со свойственным ему сарказмом Гейне пишет:
«Пункт помешательства Спонтини есть и будет Мейербер; рассказывают препотешные истории о том, как эта ненависть вместе с необыкновенным тщеславием безвредно проявляется. Жалуется ли, например, какой-нибудь литератор на то, что Мейербер до сих пор не сочинил музыки на стихи, которые он ему уже давно послал, – Спонтини схватывает живо за руку оскорбленного поэта и восклицает: „J’ai votre affaire[5] – я знаю средство, как вы можете отомстить Мейерберу, это действительное средство и состоит в том, что вы должны написать на меня статью, и чем больше вы будете восхвалять мои заслуги, тем больше вы рассердите, Мейербера“. В другой раз один французский министр бранил творца „Гугенотов“ за то, что он, несмотря на все оказываемые ему здесь любезности, принял в Берлине видное казенное место; наш Спонтини бросается радостно к министру и говорит: „J’ai votre affaire – вы можете жестоко наказать неблагодарного: ему будет острым ножом, если вы изберете меня командором Почетного легиона“.»
Но бедный Спонтини мог предлагать какие ему было угодно средства, его никто не слушал, так как он был лишь тенью своего прежнего величия и бродил по Парижу, как привидение, снедаемый завистью к своему счастливому сопернику, который был избран вместо него командором Почетного легиона и награжден орденами чуть ли не всех европейских государств. В то же время, признавая его громадные заслуги в области музыки, Иенский университет присвоил ему звание доктора философии – отличие, которым Мейербер особенно гордился. Мейерберу был послан предварительно запрос от факультета через одного знакомого ему профессора, которому растроганный композитор отвечал письмом, напечатанным впервые Кохутом.
«Берлин, 24 июня 1850 г. Многоуважаемый господин профессор!
Я получил вчера Ваше уважаемое письмо, в котором Вы мне сообщаете, что декан факультета философии Иенского университета, профессор Снель, поручил Вам известить меня, что факультет решил дать мне докторский диплом, если я пожелаю принять такую честь. Этот запрос может быть сделан лишь в виде формальности, так как можно ли сомневаться в том, что я буду обрадован и польщен тем отличием, которым меня удостаивает старый и прославленный Иенский университет! Вместе с моим согласием прошу почтенный факультет принять выражения моей искреннейшей благодарности.
Позвольте же мне еще, многоуважаемый профессор, сказать Вам, как мне приятно, что, несмотря на давность, Вы сохранили обо мне добрую память, что доказывает содержание Вашего письма. Я со своей стороны вспоминаю всегда с живейшим интересом те приятные часы, которые мне доставило Ваше личное знакомство, и счел бы за счастье выразить Вам устно чувства полнейшего уважения.
Преданный Вам Дж. Мейербер».
Слабое здоровье Мейербера, расстроенное напряженным трудом, заставило его некоторое время провести в Спа и других лечебных местах, где он наслаждался отдыхом и принимал лечебные ванны; затем, восстановив силы, он вернулся в Париж и приступил к сочинению своих последних произведений.
Глава VII. Последние годы жизни
Дальнейшие события его жизни. – «Динара, или Праздник в Плоэрмеле». – Содержание. – Отзывы. – Различные сочинения Мейербера последних лет его жизни. – Болезнь и смерть. – Торжественные похороны его. – Завещание. – Первое представление «Африканки». – Содержание. – Отзывы о музыке.
Все оперы Мейербера отделены друг от друга большими промежутками времени, в продолжение которых композитор не оставался в бездействии, но работал над множеством разнообразных более мелких произведений. Мейербер становился стар; годы начинали сказываться на его слабом организме; он часто хворал и вынужден был подолгу жить на всевозможных курортах, из которых Спа было его любимым местопребыванием. Он решительно отклонил предложение приехать в Петербург, чтобы дирижировать «Струэнзе», так как был занят работой над «Африканкой». В это время он написал «Танцы с факелами» ко дню свадьбы принцессы Христины Прусской и принца Саксен-Веймарского. Следующими его произведениями являются большая кантата на торжество серебряной свадьбы Вильгельма IV и ода ко дню открытия памятника Фридриху Великому. Эта ода была переименована в «Оду Юпитеру» и давалась в разных городах с большим успехом. Академия искусств в Берлине избрала Мейербера своим членом, а Нидерландская королевская академия прислала ему почетный диплом. Кроме этих и многих других произведений, написанных для празднования всевозможных торжеств, он сочинил музыку на 31-й псалом Давида, к 87-му дню рождения своей матери. Этот псалом, названный «Утешение в опасности смерти», был исполнен в Потсдаме в присутствии королевской семьи.
Свои занятия Мейербер должен был часто прерывать из-за постоянно повторявшихся болезней; к ним вскоре присоединилось глубокое горе, причиненное смертью его горячо любимой матери. 27 июня 1854 года умерла эта замечательная женщина, за гробом которой шли все власти города и громадная толпа бедняков, оплакивавших в ней свою щедрую благодетельницу. Вскоре после потери матери Мейербер утратил многих близких друзей; эти смерти глубоко потрясли его душу: он проводил время в тихом уединении и искал утешения в сочинении духовной музыки. Оправившись от горестных утрат, композитор написал трехактную комическую оперу «Динора», которая по стилю и содержанию нисколько не походит ни на одну из его прежних опер. На этот раз либреттистом его был не Скриб, а Барбье и Kappe; содержание этой оперы совсем не историческое, а идиллическое, что видно из самого названия: «Динора, или Праздник в Плоэрмеле». После того как в операх Мейербера появлялись слоны, лошади и другие животные, в «Диноре» на сцену выведена коза, участие которой не могло не произвести должного эффекта. Сама Динора – бедная крестьянская девушка, на которую обрушиваются всевозможные бедствия.
В то время как она шла со своим возлюбленным Гоэлем на богомолье, разразилась гроза, причем молния, ударив в хижину Диноры, сожгла ее. Динора сделалась нищей, Гоэль покинул ее: увлеченный желанием обогатиться, он ушел в лес за стариком Тоником, который обещал через год посвятить его в тайну нахождения большого клада. Динора от горя лишается рассудка, бродит по скалам, поет безумные песни, играет с собственной тенью и ждет возвращения милого, который действительно возвращается, но не к ней, а за кладом. В то мгновение, когда он собирается приступить к откапыванию клада, разражается сильная буря, гремит гром, сверкает молния; в это время Динора, которая повсюду ищет свою пропавшую козочку Бэлу, бежит за ней через мостик; он рушится под ней, и Динора исчезает в бездне. Гоэль, узнавший по оставленному ожерелью, что упавшая девушка – Динора, забыв о кладе, бросается спасать ее. Он возвращается с Динорой, лишившейся чувств. Она приходит в себя, как год тому назад, в объятиях Гоэля. И так как год тому назад в день праздника в Плоэрмеле была такая же гроза, то Гоэль уверяет Динору, что все остальное – лишь сон; рассудок возвращается к ней, они отправляются в храм совершать свое бракосочетание.
Кроме некоторых прекрасных арий, таких как легенда Диноры (Sombre destinée[6]), танец с тенью, колыбельная песня, музыка этой оперы довольно слаба, сюжет лишен действия и даже интереса.
Ганслик сравнивает музыку ее с «престарелой, нервной дамой, нарумяненной, расфранченной, которая своими живыми, изящными манерами может ввести в заблуждение большое общество. Даже самые веселые номера этой оперы звучат разбито, как будто они заморожены временем. По сравнению с прежним удивительным богатством изобретательности Мейербера его источник вдохновения кажется иссякшим и замененным старыми мотивами, которым он необыкновенно искусно сумел придать блеск новизны. По внешности чрезвычайно элегантная и блестящая, эта музыка по содержанию убога и неправдива. Ослепительное сияние, которое из нее струится, не более как холодный блеск алмаза, но не луч одухотворенного ока». Дальше Ганслик говорит, что, несмотря на все крупные недостатки, эта опера тем не менее стоит выше многих подобных ей произведений по своей законченности и техническому мастерству. «Мы нигде не встречаем неверного искания, подражания или заимствования; во всем произведении царит уверенность опытного художника. Все идет, все действует так, как того хотел композитор».
Вскоре «Динора», как и все оперы Мейербера, сделалась любимицей публики, достоянием театров всех больших городов и избранной оперой многих колоратурных певиц; особенно Патти исполняла трудную роль Диноры с неподражаемой поэзией и искусством.
После «Диноры» Мейербер вынужден был снова предаться продолжительному отдыху, так как к его обычным желудочным страданиям присоединилась болезнь горла и глаз. Он опять посетил свое излюбленное Спа, откуда поехал в Ниццу, к опасно заболевшей дочери, которая, впрочем, вскоре поправилась. Здесь Мейербер провел всю зиму. Мягкий климат и красота окрестностей оказали благодетельное действие не только на его здоровье, но и на творческие силы. Он усердно работал над «Африканкой», либретто которой было готово еще до «Пророка», но вследствие возникших недоразумений между требовательным композитором и либреттистом Скрибом долгое время оставалось в портфеле Мейербера.
Весной 1858 года композитор вернулся в Берлин, где ему поручили составить музыкальную программу к торжеству бракосочетания принцессы Гогенцоллерн с королем Португалии. Лето он провел в Швальбахе, откуда осенью вернулся в Париж для постановки оперы «Динора». 4 апреля 1859 года состоялось первое представление, окончившееся громадной овацией автору: под гром рукоплесканий его вызвали на сцену и засыпали цветами. Мария Кабель, исполнявшая партию Диноры, подняв лавровый венок, брошенный из императорской ложи, увенчала им главу великого маэстро.
Лето 1859 года Мейербер провел, как и предыдущее, в Швальбахе, откуда снова вернулся в Париж, где ему поручили написать музыку к торжеству, посвященному памяти Шиллера. 10 ноября состоялся великолепный праздник в честь Шиллера, устроенный в цирке императрицы Евгении. Кантата на слова Людвига Фау, «Шиллер-марш» Мейербера были лучшим украшением этого торжества. Почтив память любимого поэта своей матери, Мейербер задумал сочетать свое имя с другим великим немецким поэтом – Гете. Как раз в это время Блаз де Бюри написал пьесу «Юность Гете», принятую в театре Одеона. Он предложил своему другу Мейерберу иллюстрировать ее музыкальными картинами, и композитор согласился на это; он не хотел писать оперы, говоря, что старые формы ветшают, но задумал весьма интересное и оригинальное соединение слов с музыкой: «Вступить в пьесу, не вмешиваясь в действие; дать говорить ее автору в продолжение четырех актов, затем внезапно, между четвертым и пятым, открыть свой вулкан, развернуть все силы, которыми владею, и затем предоставить заключение опять автору пьесы. Гете где-то сказал: где кончается слово, начинается музыка».
Таким образом, Мейербер задумал написать симфонию, в которой бы посредством звуков была передана вся жизнь молодого Гете с ее борьбой и пылкими страстями. Эта симфония должна была служить увертюрой к целому ряду музыкальных картин, не связанных между собой, но изображающих при посредстве оркестра или невидимых хоров различные произведения великого поэта. Фауст, Маргарита, Миньона, Лесной царь – все эти образы должны были как бы проноситься в туманных картинах перед духовными очами юного Гете. Это произведение доставило Мейерберу большую радость, но он не согласился дать его директору театра; оно вместе с оперой «Юдифь» до сих пор лежит нетронутым среди документов, оставленных автором.
Следующие сочинения Мейербера состоят из различных торжественных кантат, маршей и так далее, написанных им для всевозможных празднеств. Его жизнь по-прежнему проходила в переездах из одного города в другой; повсюду маститого композитора встречали овациями.
Между тем «Африканка», над которой Мейербер работал с особой любовью, была уже окончена, но не появлялась на сцене лишь потому, что Мейербер не находил для нее хороших исполнителей. Наконец опера была передана министру и маршалу Вальяну для всей Франции; акт передачи торжественно скрепили контрактом. Уже приступили к репетициям, и Мейербер собирался еще раз поехать в Брюссель, чтобы подыскать певцов и певиц, как вдруг 26 апреля 1864 года композитор почувствовал недомогание, которое, все усиливаясь, вскоре перешло в серьезную болезнь. Положение больного при его слабости и возрасте было очень опасно и не давало надежд на выздоровление; сам же Мейербер, не думая о близкой смерти, всей душой был погружен в те планы, которые собирался еще исполнить. Доктор Райер поддерживал бодрость умирающего, говорил о его музыке, хвалил его оперы.
– Вы очень добры, милый доктор, – ответил Мейербер, – но если бы вы знали, сколько у меня здесь (он указал на лоб) мыслей и планов.
– Которые вы и приведете в исполнение, – прибавил поспешно доктор.
– Вы думаете? – сказал Мейербер. – Ну, так тем лучше.
Ему не пришлось довести до конца своих гениальных намерений; силы его ослабевали, минута смерти приближалась; его жена и старшие дочери не успели приехать ко дню смерти, и лишь младшие дочери присутствовали при кончине своего великого отца. В воскресенье в восемь часов вечера он попросил всех оставить его, так как пожелал заснуть. «До завтра, – были его последние слова, – желаю вам всем покойной ночи». Через несколько часов началась агония, и в понедельник, 2 мая в 5 часов 40 минут утра, он тихо скончался 73-х лет от роду. После его смерти нашли запечатанное письмо, в котором он просил в течение четырех дней не хоронить его тело: он очень боялся мнимой смерти и возможности быть погребенным заживо. Его воля была исполнена: тело его четыре дня стояло в его квартире в Париже, на улице Монтэнь, куда приходили все желающие поклониться праху великого композитора.
Париж воздал должную дань памяти своего знаменитого приемного сына, устроив ему великолепные похороны. Парижане, приветствовавшие своими восторгами появление во Франции юного гения, провожали его теперь с тою же сердечностью и любовью. Уже к двенадцати часам в день похорон прибыли депутации всевозможных музыкальных учреждений, занявшие почти половину Елисейских полей. В час дня гроб, покрытый черным усыпанным звездами покровом и бесчисленными венками, был вынесен из дома, и печальное шествие направилось по главным улицам Парижа к Северному вокзалу, так как тело покойного, желавшего быть похороненным рядом с любимой матерью, отправляли в Берлин. Колесницу сопровождали войска, игравшие марши из различных опер Мейербера. Впереди шел раввин, за ним следовал весь состав синагоги; церемониймейстеры несли бесчисленные ордена покойного; шесть лошадей, покрытых черными попонами и украшенных лавровыми венками, везли печальную колесницу, за которой шли многочисленные депутации, несшие знамена со своими наименованиями. На бульваре Маделэны шествие встретила депутация дам, возложивших на гроб венки и букеты цветов. Многотысячная толпа провожала прах великого композитора на Северный вокзал, который был задрапирован траурными материями и превращен в огромный зал: посредине его на гигантском жертвеннике горел огонь, по сторонам возвышались трибуны, стены были украшены щитами с названиями всех произведений Мейербера. Все городские власти, сановники, представители учреждений, музыканты и друзья покойного присутствовали на этом печальном и великолепном торжестве. После молитв на французском и еврейском языках произносились многочисленные речи; одной из самых выдающихся была прочувствованная, глубокая по смыслу речь Эмиля Оливье:
«Это печальное торжество, – говорил он, – было бы неполно, если бы к искусству, дружбе и религии не присоединился голос большой французской публики, которая восхищалась Мейербером в продолжение стольких годов. Да, господа, благословим от всего сердца вдохновенных людей, которые, в то время как мы боремся со страданиями, переменами, нуждой и горем жизни, углубляются в свой гений и уносятся им в те высшие сферы, откуда они посылают нам песни мира и утешения. Они не только проливают на утомленный дух освежающую росу, но служат посредниками между нациями. Интересы разделяют народы; общая любовь к гению соединяет их. Пророческие мелодии возвещают победу гуманности… Будем радоваться, что здесь позволено сказать такое слово, что этот сын Германии так долго восхищал своими могучими звуками великую Францию».
7 мая тело Мейербера было отправлено с экстренным поездом в Берлин, куда оно прибыло через два дня. Похороны его в Берлине были совершены также с большой пышностью, в присутствии членов королевской фамилии, посольств всех стран, депутаций от театров и других учреждений, многочисленных ученых, художников и литераторов.
Вскоре после смерти композитора организовали представление в память об усопшем, по окончании которого в живых картинах прошли главные герои и героини всех его опер. Посреди сцены возвышался бюст Мейербера, увенчанный лаврами. Во многих других городах чествовалась его память различными торжествами; в Париже и Берлине воздвигались его бюсты, многие улицы назвали его именем; смерть заставила замолчать его врагов, и все нации с одинаковым сочувствием отнеслись к этой горестной утрате.
Мейербер оставил после себя завещание, в котором выразилась его гуманная и просвещенная личность. Он завещал проценты от суммы в 10 тысяч талеров на путешествия молодых композиторов по Италии и Германии; 10 тысяч франков обществу любителей драматического искусства в Париже; 10 тысяч франков парижскому музыкальному обществу; по 1000, 500 и 300 франков разным больницам и благотворительным учреждениям; остальные суммы распределил между членами своей семьи.
Мейерберу не суждено было дожить до желанной минуты первого представления «Африканки». В своем завещании он поручает ее попечениям Фетиса, директора Брюссельской консерватории, которого просит пересмотреть партии, докончить то, что было лишь в набросках, выбрать те номера, которые ему кажутся лучшими; таким образом, эта опера могла появиться перед публикой лишь через год после кончины ее автора. Роскошь постановки была необычайная, что опять дало противникам Мейербера повод к нападкам и обвинениям в его адрес. «Африканка» имела громадный успех не только в Париже, где всякая опера Мейербера вызывала бурю восторгов, но также в Германии и даже в холодном, флегматичном Лондоне, который довольно трудно заставить чем-нибудь восхититься. Представление состоялось летом, и тем не менее театр Ковент-Гарден был переполнен, невзирая на жаркий июльский день. «Событие, ожидаемое с таким жгучим нетерпением всеми любителями музыки, наконец совершилось в субботу вечером в здании театра Ковент-Гарден», – писала одна лондонская газета. «Африканка» шла в первый раз в Англии с громадным и блестящим успехом.
Благодаря бесчисленным поправкам и переделкам либретто Скриба полно многих погрешностей против художественной, исторической и даже географической правды.
Содержание либретто следующее. Васко да Гама, флотский офицер в Португалии, убежден в существовании многих неизвестных Европе стран, доказательство чего он видит в своих двух рабах, Селике и Нелюско, приобретенных им в Африке, но совершенно отличающихся по типу от всех африканских рас. Просьба Васко да Гамы о снаряжении экспедиции отклонена государственным советом, и сам он, по настоянию закосневшего в невежестве великого инквизитора, посажен в тюрьму вместе со своими рабами. Селика, рабыня Васко, бывшая царица какого-то неведомого острова, проникнута страстью к своему господину, но он с младенческих лет привязан к прекрасной Инесе, дочери Диего, которая, получив во время одного из путешествий Васко ложные известия о гибели своего друга, покорилась воле отца и вышла замуж за дона Педро, сохранив прежнюю привязанность к морскому офицеру. Узнав о заключении своего любимца, она испрашивает его освобождения и вместе с мужем спускается в темницу, чтобы обрадовать его счастливой вестью. Присутствие Селики смущает ее; Васко, чтобы успокоить подозрения любимой женщины, дарит ей рабыню вместе с Нелюско, но узнает, к своему отчаянию, что Инеса – жена Педро. Дон Педро же, пользующийся большим доверием короля, завладевает планами и бумагами Васко, получает от короля три корабля и отправляется в новые страны по намеченному его соперником пути. С ним едут Инеса, Селика и Нелюско, страстно любящий последнюю. Он ведет корабли, направляя их с умыслом так, чтобы они погибли вблизи его отчизны. Два корабля уже сделались жертвой океана, но третий корабль хитрый Нелюско ведет к своей стране с намерением погубить его у близлежащего мыса бурь, откуда ему легко спастись вместе с Селикой. Уже они близко от опасного места, буря начинается, Нелюско ликует, как вдруг их настигает корабль под португальским флагом и к ним является Васко. Получив свободу, он продал свое имущество и снарядил корабль в надежде опередить дона Педро. Храбрый моряк видит грозящую им гибель, превозмогает свою ненависть к сопернику и идет предупредить их, но уже поздно – корабль разбивается о мель, индейцы, ворвавшись на палубу, захватывают всех европейцев в плен и узнают с восторгом свою бывшую царицу – Селику. Чтобы спасти Васко, она объявляет его своим супругом, но в то время, как в ее дворце совершается над ними благословение браминов, слуха Васко достигают звуки печальной песни Инесы, обреченной в жертву богам. Он не может подавить в себе волнения охватившей его вновь страсти, Селика замечает это и убеждается еще раз в том, что он ее не любит. Ее великодушная, глубокая натура побеждает желание отомстить коварному, она освобождает Инесу, муж которой убит индейцами, и приказывает Нелюско отвести Васко да Гаму вместе с Инесой на его корабль. Сама же африканка, потеряв со своей любовью все, что привязывало ее к жизни, отправляется на высокий мыс, откуда ей виден корабль, уносящий ее надежды и счастье, вдыхает аромат ядовитого дерева и умирает под сенью его в тот момент, когда пушечный выстрел возвещает отплытие корабля.
Либретто составлено рукой мастера, изобилует драматическими положениями, эффектными сценами, но страдает также немалыми недостатками. Хотя действие и совершается на фоне исторических событий, но они отодвинуты на второй план, главный герой, Васко, изображен не как отважный мореплаватель, а как несчастный любовник, любящий в одном акте Инесу, в другом – Селику и в третьем – опять Инесу. Селика, которая, по словам Ганслика, должна являть собой противоположность европейцам – необузданное дитя природы, великодушную, наивную, страстную африканку, действует, поет и говорит совершенно по-европейски, так что только темный цвет лица и головной убор из разноцветных перьев свидетельствуют о ее происхождении.
Более правдиво выдержан характер Нелюско, истого дикаря, преданного своей госпоже и готового убить всякого европейца.
Что касается музыки, то она более всего напоминает музыку «Гугенотов», но далеко не может соперничать с ней в красоте, свежести и силе выражения. Все достоинства и недостатки, свойственные автору, выступают в ней менее резко, не достигают своей обычной яркости. Может быть, возраст престарелого композитора ослабил силу его прежнего вдохновения или же сам он лишил музыку ее первоначальной свежести, работая над ее исправлениями в течение почти что 20 лет. Тем не менее гений Мейербера, его мастерское владение оркестром, его мелодический талант проявляются здесь настолько внятно, что «музыка переносит нас без помощи слов в цветущий полуденный край. Колорит юга, благоухание цветов веет на нас во всех сценах, которые происходят в Индии. Притом музыка передает так понятно язык ощущений, что не требует слов для понимания душевного состояния героев». Музыка «Африканки» вызвала много споров и разногласий в среде критиков; одни возносили ее выше «Гугенотов», другие, напротив, считали никуда не годной; но публика, этот лучший друг Мейербера, и после его смерти оставалась верна своему любимому композитору: «Африканка» привлекала всегда многочисленных зрителей, которые награждали великодушную Селику восторженными рукоплесканиями. Опера эта – одна из самых больших, какие существуют, – первоначально продолжалась целых шесть часов, что несомненно утомляло как исполнителей, так и слушателей, вследствие чего пришлось значительно ее сократить. Последнее не могло не отозваться на цельности этого произведения. Из Парижа, где она впервые появилась, «Африканка» начала свое кругосветное путешествие и до сих пор принадлежит к числу самых посещаемых и любимых опер Старого и Нового Света.
Глава VIII. Мейербер как музыкант и человек
Возникновение оперы. – Развитие ее во Франции. – Значение Мейербера как оперного композитора. – Его реформы, достоинства и недостатки его музыки. – Суждение о нем современников: Ганслика и Рубинштейна. – Боязливость Мейербера перед представлением. – Чувствительность к похвале. – Отношение его к другим музыкантам. – Любовь к классической музыке. – Свойства его творчества. – Слабое здоровье. – Щедрость. – Заключение.
Мейербер имеет значение лишь как оперный композитор, поэтому нелишним будет сказать несколько слов об историческом развитии оперы.
Своим возникновением опера обязана обществу ученых и художников, образовавшемуся во Флоренции в конце XVI века. Члены этого общества «Камерата» собирались в доме графа Вернио Джовани Барди для обсуждения и исследования научных и художественных вопросов. Граф, человек весьма образованный, был центром этого кружка и заботился о его процветании. Изучая искусство классической старины, это общество задумало восстановить древние трагедии с музыкой по образцам древних мелодий, открытых Винченцио Галилеи, отцом знаменитого астронома. Первая такая драма, наподобие греческой, появилась в 1598 году, называлась «Дафна», была написана Пери на слова Рануччини и исполнялась с громадным успехом в доме Джовани Корси, который стал во главе кружка после того, как граф Барди был отозван в Рим папой Климентом VIII. Таким образом возникла опера, которая, сделавшись любимым родом развлечения при различных дворах, стала быстро развиваться и распространяться. В начале XVII столетия опера «Дафна», переведенная на немецкий язык, с новой музыкой Шюца, была перенесена в Германию, где исполнялась также с большим успехом при дворе курфюрста Иоганна Георга I. Несколько позднее, в 1645 году, итальянская труппа, вызванная кардиналом Мазарини, появилась во Франции, где дала в парижском дворце «Petit Bourbon» оперу «La finta Pazza» Сакрати.
Во Франции до появления там итальянской оперы существовали сценические представления – «балеты», состоявшие из танцев, разговора и музыки. Эти «балеты» – зародыш французской национальной оперы, и так как в них преобладали танцы, то этим объясняется тот короткий, живой ритм, который составляет характерную особенность и своеобразную прелесть французской музыки. Музыка в этих балетах была отодвинута на задний план; с появлением же итальянской оперы у французов явилось желание создать свою национальную оперу; первые попытки их были неудачны, пока во главе французской музыки не стал Люлли, который сделался родоначальником французской национальной оперы. Хотя Люлли, так же как и Рамо, главный последователь его, уступают итальянским композиторам в красоте мелодий и музыкальной изобретательности, но главная заслуга их заключается в стремлении к драматической правде, в правдивой, выразительной декламации; итальянские же композиторы, увлеченные прекрасными голосами певцов своей родины, все внимание свое сосредоточили на «кантилене», мелодичном пении, на виртуозности, фиоритурах и вскоре впали в такую крайность, что музыка их утратила все свое внутреннее содержание и потеряла всякую связь с текстом. Таким образом, Люлли и Рамо являются основателями того направления, могучим выразителем которого впоследствии сделался Глюк. Несмотря на очевидные недостатки, итальянская опера благодаря умелым либреттистам, хорошим певцам и талантливым композиторам приобрела господствующее значение во всей музыкальной Европе и затмила собою национальную музыку всех стран. Когда она в 1752 году появилась вторично во Франции в виде комической оперы (opera bouffe в отличие от opеra séria – серьезной оперы), то увлекла на свою сторону большую часть публики. Весь Париж разделился на две партии: буффонистов, приверженцев итальянской оперы, с Пиччинни во главе, и антибуффонистов, или приверженцев национального направления, представителем которого сделался Глюк. Он энергично боролся против злоупотреблений, вкравшихся в оперу, выработал новые принципы, основанные на художественной простоте, на правильной декламации, и одержал победу над итальянцами как силою своего дарования, так и верностью новых положений. Его гениальным последователем в Германии явился Моцарт, который сделался основоположником немецкой национальной оперы. Продолжателями принципов Глюка во Франции были Гретри («Ричард Львиное Сердце»), Буальдье («La dame blanche»), Мегюль («Иосиф»), итальянцы Керубини и Спонтини и, наконец, Обер, предшественник Мейербера и основатель той «большой оперы», которая достигла своего наибольшего развития и блеска в творчестве Мейербера. Таким образом, Мейербер является самым крупным представителем французской большой оперы. Главная заслуга его заключается в том, что он перенес оперу из круга бытовых картин и мифологии на историческую почву, сделав ее героической музыкальной драмой. В этом отношении он является прямым предшественником Вагнера, который был бы немыслим без Мейербера, почему весьма странными кажутся нападки Вагнера на своего знаменитого собрата, оказывавшего ему немало услуг как в начале его музыкального поприща, так и впоследствии. Мейербер ввел хоровые массы и необыкновенно ярко изображал народные сцены; он значительно увеличил оркестр, ввел в него новые инструменты и совершенно уничтожил «диалоги» – разговоры, служившие как бы связью между отдельными номерами оперы. Он сам излагает свои взгляды на это д-ру Шухту: «Я считаю оперу с разговорными диалогами не современной, так как это производит отвратительное впечатление, когда после прекрасной, прочувствованной арии вы должны слушать самую прозаичную болтовню. Что же касается всех инструментов, декораций и машин для всевозможных целей, то с этим соглашается большинство понимающих искусство, кроме немногих критиков, которые уж чересчур придерживаются старины и ничего другого не желают ни видеть, ни слышать».
Мейербер очень заботился о внешней постановке своих опер, исходя из того, что богатству звуков и содержания для гармоничного и более сильного впечатления должна соответствовать обстановка. Его состояние позволяло ему обставлять свои произведения с небывалой пышностью, и, быть может, он впал здесь в крайность, тем более что либретто Скриба были основаны главным образом на внешних эффектах. Стремление к блеску, к воздействию на толпу, к непосредственному успеху было причиной главных нападок на Мейербера, в которых его враги доходили даже до отрицания его громадного таланта. Но время, самый строгий и беспристрастный критик, показало, что успех его опер был основан не на одном внешнем блеске: они до сих пор привлекают многочисленную публику и вызывают ее горячий восторг при всякой обстановке, простой или блестящей, которая в наше время перестала быть диковиной. Музыка Мейербера страдает некоторыми недостатками: в ней нет единства стиля, но смешение всех трех стилей, которые так внедрились в плоть и кровь композитора, что ему трудно было отрешиться от одного в пользу другого; в его операх, которые он писал по несколько лет, встречаются часто работа рассудка, пустой блеск и напыщенный пафос рядом с потрясающим драматизмом, вдохновенными мелодиями и силой гениального творчества. Ганслик, один из лучших представителей современной критики в Германии, где Мейербер столько вынес при жизни, отдает теперь должное его громадному таланту, и в признании его заслуг именно немецкой критикой можно видеть доказательство действительного значения этого композитора. «Каждое хорошее представление „Роберта-Дьявола“ или „Гугенотов“ на любой сцене любого государства дает блестящее доказательство власти мейерберовских опер над публикой. Уже давно их мелодии утратили прелесть новизны, сценические эффекты перестали удивлять и поражать и столь злобно превозносимое влияние самого композитора сошло вместе с ним в могилу, а его оперы все еще производят действие, какое может истекать лишь из необыкновенной музыкальной изобретательности и равного ей по величине художественного понимания. Внутреннее развитие Мейербера, сила и противоречия его удивительного дарования, так же как факт неоспоримого владычества его поруганной музыки, должны будут подвергнуться более глубокому и беспристрастному исследованию. Как мало говорит безусловная похвала, доказывается французскими критиками, которые своими безмерными фимиамами заслонили, как дымом, реальную личность композитора. Но этот энтузиазм, с которым чужая нация выдвигает преимущества немецкого художника, кажется нам симпатичнее, чем злостный, презрительный тон, который большая часть немецкой публики позволяет себе по отношению к Мейерберу. Рихард Вагнер, чьи „Риенци“, „Тангейзер“, „Голландец“ нам кажутся немыслимыми без предшествия Мейербера, судит о Мейербере не так, как судят о художнике, но как о преступнике. Вероятно, есть доля правды в утверждении Берне, что неблагодарность к собственным согражданам лежит в природе немцев, – иначе к Мейерберу, единственному немецкому композитору, который (исключая Вагнера) в течение 40 лет пользуется успехом и который со времен Вебера является бесспорно величайшим драматическим композитором, немецкая критика не относилась бы как к провинившемуся ученику». Еще беспристрастнее характеризует Мейербера Рубинштейн, этот великий представитель нейтральной нации. «Мейербер сделался типом французской большой оперы. Этот сочинитель был во Франции чересчур превознесен, а серьезными критиками Германии слишком принижен. Правда, он не без некоторых грехов на своей артистической совести, каковы: болезненное самолюбие, страсть к непосредственному успеху, недостаточная самокритика, подчинение плохому вкусу немузыкальной публики, накрашенная музыкальная характеристика; но зато у него также и большие качества: сильный театральный темперамент, замечательная отделка оркестра, артистическая отделка массы, сильный драматизм, виртуозная техника и т. д. Многие говорящие против него музыканты были бы рады, если бы могли ему подражать».
Быть может, причина недостатков музыки Мейербера лежала именно в ожесточенном гонении на него, что развило в нем чрезвычайную чувствительность как к похвале, так и к порицанию, и вместе с тем заставило его стремиться к непосредственному успеху. Всякий дурной отзыв его глубоко огорчал, и он старался всеми силами устранить возможность какого-либо порицания своих произведений. Накануне первого представления он давал роскошный пир для критиков и фельетонистов, называя это «подогреванием рекламы».
До представления он отличался большой робостью, боязливостью, неуверенностью, обращался ко всем за мнениями, даже не брезгал советами машиниста. Всякая мелочь казалась ему опасной для успеха его опер. Когда Мейербер разучивал в Париже своего «Роберта», рассказывал Верон, то он нашел кое-что в обстановке слишком простым. «Милейший директор, – сказал он Верону, – вы хотите совсем погубить мою музыку и не хотите ее поддержать?» Верон принял его слова к сведению и обставил сцену в монастыре с небывалой роскошью. «Но, милый Верон, – обратился к нему опять композитор, – вы хотите совсем погубить мою музыку? Публика будет только смотреть и не слушать».
Но после представления его неуверенность исчезает. Мейербер меняет свое поведение, не спрашивает больше советов, но, наоборот, требует беспрекословного исполнения всего, что он считает необходимым изменить или исправить. Иногда его непреклонность доходит даже до жестокости. Так, однажды, в то время как «Звезда Севера» почти не сходила со сцены и делала огромные сборы, одна из лучших участниц, г-жа Декруа, внезапно лишилась матери, и директор комической оперы, г-н Перэн, дал ей восьмидневный отпуск из уважения к ее горю, назначив г-жу Белио на ее место. Мейербер тотчас приехал справиться о причине перемены состава и, узнав, в чем дело, сказал:
– Вы хорошо сделали, отпустив г-жу Декруа, но мне невозможно принять ее заместительницу. Один параграф нашего контракта запрещает вам менять исполнителей до пятидесятого представления.
– Да, но…
– Просто-напросто снимем пьесу до поры до времени.
– Как так? – воскликнул Перэн. – Но я не могу менять репертуара, мне нужны сборы «Звезды».
– В таком случае, – сказал Мейербер, – заставьте петь Декруа.
Мейербер дорожил похвалою как настоящих ценителей искусства, так и дилетантов; непосредственные искренние восторги его поклонников из публики доставляли ему невыразимое удовольствие. Среди его знакомых были две молоденькие девушки, почти еще дети, к мнению которых он относился с каким-то трогательным любопытством. Если случалось одной из них попросить у него ложу на «Гугенотов» или «Пророка», то он на следующий же день отправлялся узнавать о впечатлении своей юной поклонницы, и больше чем все восхваления критики его утешали и пленяли наивные восторги этой чистой души, еще трепещущей от впечатления его музыки. Мейербер прибегал иногда к тонкой хитрости, чтобы склонить на свою сторону враждебных людей. Однажды, рассказывает Мирекур, в кабинет Миреса, владельца газеты «Pays», входит один господин, который спрашивает его:
– Вы знакомы с автором «Гугенотов»?
– Нет, я никогда его не видал.
– Как странно! Вчера он отзывался о вас с бесконечной похвалой. На вашем месте я бы ему сделал визит.
– Я бегу к нему сию же минуту! – восклицает Мирес, весьма падкий на дружбу со знаменитостями.
Десять минут спустя он вылезает из экипажа на улице Ришпанз, у гостиницы «Дунай», где композитор останавливался, посещая Париж. Нечего говорить, что визит его ожидался. Мирес, очарованный приемом, беседует целый час с великим артистом, который пленяет его своей любезностью, и вдруг Мейербер говорит ему совершенно спокойным тоном:
– Кстати, на меня нападают в «Pays»; известно ли вам это?
– В «Pays»? В моем журнале! Как они смеют!..
– Я был уверен, что вы не имеете понятия об этих статьях, – прерывает Мейербер.
– Нет, клянусь вам… Ах, черт возьми, я взмылю голову этим редакторам.
В тот же вечер он говорит критикам:
– Я запрещаю вам впредь бранить моего друга Мейербера!
– Но…
– Без возражений! Вы будете иметь к его гению безграничное уважение.
– Но, однако…
– Соглашайтесь или уходите. Я передам ваш отдел другим, если вы не согласны мне повиноваться.
Все свои новые оперы Мейербер ставил прежде всего в Париже, потому что, как он пишет, там великолепный состав певцов, первоклассный оркестр. «Тот факт, что опера, которая нравится в Париже, совершает кругосветное путешествие, может склонить композитора к предпочтению этого города; что же касается критиков, то в то время как французские ценители отмечают все, что достойно похвалы в произведении, обо всем прекрасном и удачном отзываются одобрительно, прощая маленькие погрешности и неровности или же порицая их со снисхождением, в это время немецкие критики занимаются лишь тем, что отыскивают ошибки и слабые стороны, ругают автора, как будто перед ними стоит школьник». Сам Мейербер относился всегда с большой снисходительностью к своим собратьям по искусству, никогда не отзывался дурно об их произведениях и не пропускал случая оказать им поддержку или покровительство. Особенно теплое участие он принимал всегда в своем противнике, Вагнере. Еще в 1839 году Мейербер давал ему рекомендательные письма в Париж и через несколько лет писал о нем одному влиятельному лицу:
«Г-н Рихард Вагнер из Лейпцига – молодой композитор, отличающийся не только прекрасным музыкальным образованием, но богатой фантазией, разносторонним развитием, – по своему положению заслуживает во всех отношениях сочувствия своего отечества. Окажите молодому артисту свое покровительство и дайте ему возможность выказать свое прекрасное дарование».
Мейербер поставил оперу Вагнера «Риенци» в Дрездене как торжественное представление, по его настоянию «Риенци» и «Голландец» были поставлены в Берлине. Рихард Вагнер «отблагодарил» своего покровителя злобными нападками на него в своих статьях «Die Kunst und ihre Revolution»[7] и «Das Judenthum in der Musik»[8], в которых он, не называя имени, поносит знаменитого композитора самым недостойным образом; но он относился к Мейерберу иначе в те дни, когда нуждался в его покровительстве. «Глубокоуважаемый маэстро», – обращается он к нему в письме, в котором выражает надежду «уважаемого маэстро приветствовать в скором времени лично», и подписывается: «Ваш вечно преданный».
В бытность свою в должности генерального директора музыки в Берлине Мейербер позаботился об увеличении содержания музыкантов, которые стали получать вдвое больше. В память о своем друге Вебере он дал блестящее представление оперы «Эврианта», сбор с которой, составивший две тысячи талеров, пошел на устройство памятника безвременно погибшему композитору. Мейербер был страстный любитель классической музыки и горячий поклонник гения Бетховена, Моцарта, Баха.
«Я бы всегда проводил зиму в теплом климате, – пишет он, – если бы там была возможность слушать хоть несколько концертов классической музыки, которую мы здесь слушаем ежедневно. Поверьте, что если Вы ничего не слышите, кроме итальянской и французской оперной музыки, когда до Вас доносятся со всех сторон лишь мелодии Доницетти и Верди, то начинаешь жаждать положительной, классической немецкой музыки, как путник в пустыне – глотка свежей воды. Квартеты и симфонии наших классических авторов, так же как некоторые произведения наших молодых композиторов, держат меня в Берлине дольше, чем это полезно моему здоровью».
«Мейербер – человек убеждений, – пишет о нем Гейне, – но его убеждения не политического и не религиозного свойства. Собственно, религия Мейербера – это религия Моцарта, Глюка, Бетховена, это – музыка; ей только он верит, в этой вере находит все свое блаженство и живет в этом убеждении, которое напоминает убеждения былых веков по глубине, страстности и постоянству. Да, я бы хотел сказать – он апостол этой религии».
Свои оперы Мейербер сочинял очень быстро, и лучшим доказательством быстроты его творчества может служить знаменитый дуэт из оперы «Гугеноты», написанный накануне представления. Но по окончании сочинения Мейербером овладевали сомнения, беспокойства, он принимался исправлять, переделывать, и иногда от первоначального вида оперы почти ничего не сохранялось. Эта особенность творчества Мейербера была главной причиной того, что он писал оперы по десять лет. Гейне говорит, что Мейербер употребляет на правку и подчистку больше времени, чем другой композитор на сочинение целой оперы. «Одна нота не у места, – говорил сам Мейербер, – данная неподходящему инструменту, возбуждает во мне упреки совести и действует на меня при исполнении, как укол иглы». Подобно многим великим людям, Мейербер отличался большим суеверием; рассказывают, что перед постановкой своих произведений он ездил к гадалке Ленорман.
В Берлине он занимал роскошное помещение на Парижской площади, № 6; приемные комнаты были обращены на площадь, остальные выходили в Тиргартен и были отделаны с царской роскошью. В самом конце дома находилась небольшая комнатка с видом на зеленые аллеи парка, до которой не достигал шум большого города, и эта комната была рабочим кабинетом композитора. В ней он обыкновенно проводил все утро до двух часов за занятиями, затем отправлялся гулять, в три часа принимал посетителей, около четырех-пяти часов обедал, а вечером посещал концерты или отправлялся в театр. Он вел чрезвычайно умеренный образ жизни и хотя любил тонкий стол и хорошие вина, но был очень воздержан как в пище, так и в питье, мог довольствоваться иногда скромной трапезой, состоявшей из кусочка жареной трески. Всегда приветливый, Мейербер с одинаковой вежливостью относился как к высшим, так и к низшим по положению; никогда его нельзя было застать в халате, он не позволял себе принимать гостей иначе как в сюртуке. Но иной раз его встречали в изношенном пальто, в старой шляпе; в Париже он жил в отеле, довольствовался услугами одного лакея, не держал экипажа. На вопросы своих любопытных друзей он всегда отвечал: «Прежде всего я артист и нахожу удовлетворение в сознании, что с семилетнего возраста мог бы существовать на свое искусство. В Берлине у меня есть помещение, соответствующее моему состоянию; я не хочу затмевать своих собратьев и разыгрывать богача».
Мейербер сочинял везде и всегда, но его творчество пробуждалось с особой силой при сверкании молнии, при раскатах грома, при завывании бури: смятение природы, стихийная мощь ее зажигали в душе композитора самое яркое пламя вдохновения. В дни непогоды он весь отдавался творчеству, был незрим для посетителей, которые получали всегда один и тот же ответ: «При дурной погоде его нельзя видеть; если хотите его застать, то пожалуйте в ясный день: он показывается только с солнцем». Мейербер любил сочинять во время прогулок, для которых выбирал всегда самые отдаленные, безлюдные дорожки. В пылу вдохновения он забывал весь окружающий мир, шел вперед, никого не замечая, напевая потихоньку мелодии, держал иногда раскрытый зонтик при безоблачном небе и бывал всегда очень недоволен, когда какой-нибудь назойливый знакомый своим обращением выводил его из его гениальной задумчивости.
– А, это вы, cher maître! Как я рад вас видеть! Ну, а когда же «Африканка»? Что вы теперь делаете?
Бедный гений, захваченный врасплох, проклинал в душе свои зеленые очки, не сумевшие его скрыть, глядел на вопрошавшего, которого он обыкновенно едва знал, спешил прервать беседу; иной раз, выходя из себя, он говорил:
– Что я делаю? Как видите – гуляю по Елисейским полям.
С детства изнеженный, Мейербер отличался всегда довольно слабым здоровьем, внушавшим часто серьезные опасения при тех усиленных занятиях, треволнениях и неприятностях, с которыми сопряжена артистическая деятельность. «Любовь к искусству приняла у нашего великого маэстро такой страстный характер, – пишет Гейне, – что его почитатели часто опасаются за его здоровье. К этому человеку подходит в самом деле восточное сказание о восковой свече, которая, светя другим, тает сама. Он самый ярый враг всяких фальшивых звуков, гама, шума, пискотни; рассказывают презабавные вещи о его отвращении к кошкам и к их концертам. Одна близость кошки способна изгнать его из комнаты, даже довести до обморока. Я уверен, что Мейербер бы умер, если бы это понадобилось, за музыкальную фразу, как другие – за догмат религии. Да, я того мнения, что если в день страшного суда один ангел протрубит фальшиво, то Мейербер в состоянии остаться спокойно лежать в гробу и не принимать участия в воскресении».
Простой образ жизни композитора приводил многих к ложному заключению о его скупости, но он был далеко не скуп, напротив того, делал много добра; в этом отношении маэстро был истый сын своей матери и особенно щедро помогал музыкантам, поэтам и литераторам. Александр Вейль пишет о нем:
«Мейербер узнал от Гейне, что я живу в Париже на 70 франков в месяц и что благодаря тому, что журнал, в котором я сотрудничал, платил нам каждые три месяца, я жил пять недель на 25 франков. И это была правда. Мейербер, у которого я не просил ни полушки, прислал мне еще раньше из Бадена двести франков, хотя я ни слова не писал о нем; но он знал о моем поклонении его гению и сказал мне: „Вы заслужили пенсию в награду за ту добродетель, что сумели прожить в Париже на такую маленькую сумму, и я уверен в том, что вы разбогатеете“. Несколько недель спустя Мейербер уведомил меня, что он по просьбе Гейне будет платить мне ежемесячно тридцать франков за квартиру. Я принял это предложение по-братски, и Мейербер платил действительно за мою квартиру в течение двух лет. Как скоро я благодаря своему перу стал зарабатывать втрое и вчетверо, я попросил его отдавать эти деньги другому, и этот другой был также немецкий журналист. Насколько Мейербер был скуп относительно своей особы, настолько он был щедр к другим. Он никогда не давал менее ста франков тем, кого я ему посылал».
Одной из маленьких слабостей его была любовь к орденам; он видел в них знак признания своих заслуг и потому в торжественных случаях являлся украшенный тридцатью орденами. Это не мешало ему, однако, быть необыкновенно скромным человеком; его гуманность, тонкий, всесторонне развитой ум, чуткое сердце производили обаятельное впечатление и покоряли сердца всех, кому случалось хоть раз подойти поближе к этому замечательному артисту.
Судьба, одарившая его всеми духовными и материальными благами, дала ему познать самое горькое зло – быть отвергнутым своей страной. Этот великий человек, сознававший всю силу своих гениальных стремлений, должен был «искать по свету, где оскорбленному есть чувству утолок». Этот «уголок» он нашел в гостеприимной Франции, откуда завоевал себе весь мир. «Мейербер не принадлежит ни Италии, ни Германии: он принадлежит нам, только нам одним», – говорит его французский биограф. «Такого рода патриотизм мне нравится, – замечает Рубинштейн в своей книге. – В нем, во всяком случае, более национальной гордости, чем в отрицании личности».
Гейне был прав, когда писал, что артист – то самое дитя, о котором народная сказка говорит, что его слезы – чистые жемчужины. «Ах, злая мачеха-судьба бьет бедное дитя так безжалостно, чтобы оно выплакало побольше жемчужин».
Источники
1. D-r Schucht. Meyerbeer's Leben und Bildungsgang. Leipzig, 1869.
2. D-r A. Kohut. Musiker-Biographien. Meyerbeer. Leipzig.
3. A. Niggli. G. Meyerbeer. Sein Leben und seine Werke. 1884.
4. Henri Blaze-de-Bury. Meyerbeer, sa vie, ses oeuvres et son temps. 1865.
5. Eugène de Mirecourt. Meyerbeer. 1854.
6. Fr.Roch. M. G. Meyerbeer. 1845.
7. D-r A. Reissmann. Die Oper. 1885.
8. Hanslick. Die moderne Oper.
9. W. Riehl. Musicalische Charakterköpfe. 1868.
10. A. Г. Рубинштейн. Музыка и ее представители. 1891.
А также статьи Вебера, Шумана, Гейне, Вагнера; письма Мендельсона; «История музыки» Бренделя, Доммера, Саккети; «Музыкальный лексикон» Римана.
Примечания
1
«Господи, помилуй» (лат.)
(обратно)2
«Свят» (лат.)
(обратно)3
Часть дуэта помещена в музыкальном приложении
(обратно)4
За заслуги (фр.)
(обратно)5
Я придумал, как помочь вам (фр.)
(обратно)6
Печальная судьба (фр.)
(обратно)7
«Искусство и революция» (нем.)
(обратно)8
«Еврейство в музыке» (нем.)
(обратно)

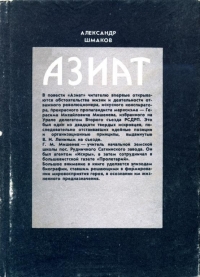


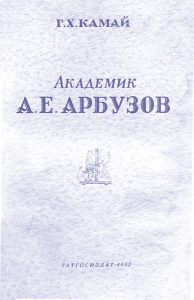
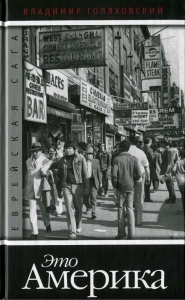
Комментарии к книге «Джакомо Мейербер. Его жизнь и музыкальная деятельность», Мария Августовна Давыдова
Всего 0 комментариев