Р. И. Сементковский Михаил Катков. Его жизнь и публицистическая деятельность
Биографический очерк Р. И. Сементковского
С портретом Каткова, гравированным в Лейпциге Геданом
Введение
Михаила Никифоровича Каткова, бесспорно, следует признать самым известным из русских публицистов. Не только в России, но далеко за ее пределами, в течение двадцати четырех лет постоянно говорили о Каткове, читали и обсуждали его статьи. В этом отношении наряду с ним может быть поставлен разве только И. С. Аксаков. Но публицистическая деятельность последнего по разным причинам часто прерывалась на более или менее продолжительное время; голос же Каткова за все это время раздавался почти беспрерывно и притом так громко, что как у нас, так и за границей к нему внимательно прислушивались всякий раз, когда пульс русской государственной и общественной жизни бился ускоренно.
Известность, однако, бывает различная, смотря по тому, достигается ли она положительною или отрицательною деятельностью. Сама по себе она не может еще считаться доказательством выдающихся заслуг. Чтобы уяснить себе значение того или другого публициста, надо разобраться в его деятельности, подвергнуть ее тщательному анализу. Современники относились к покойному Каткову весьма различно. Одни признавали его заслуги перед Россией громадными; другие столь же решительно заявляли, что он, кроме вреда, ничего не принес. Стоит только вспомнить эпитеты, которые присваивались Каткову при его жизни или тотчас после смерти, чтобы понять, какой противоречивой оценке он подвергался. Одни называли его «создателем русской публицистики», «борцом за русскую правду», «носителем русской государственной идеи», «установителем русского просвещения», «столпом русского и славянского самопознания», «златоустом-апостолом величия и славы России», «русским палладиумом», «грозою Германии и Англии», «русскими Фермопилами». Другие давали ему насмешливые и презрительные клички: «громовержец Страстного бульвара», «будочник русской прессы», «жрец мракобесия», «проповедник сикофанства», «московский Менцель» или даже «герцог Альба»[1]. Но даже если не останавливаться на этих эпитетах, содержащих очевидное преувеличение отрицательных или положительных сторон деятельности Каткова, другими словами, если иметь в виду только более или менее обоснованные суждения современников о московском публицисте, то и в таком случае надо будет признать, что деятельность Каткова оценивалась в двух диаметрально противоположных направлениях. «Дивное поистине зрелище! – говорил в надгробном слове московский митрополит Иоанникий при отпевании покойного Каткова. – Человек, не занимавший никакого видного высокого поста, не имевший никакой правительственной власти, делается руководителем общественного мнения многомиллионного народа; к голосу его прислушиваются и иностранные народы и принимают его в соображение при своих мероприятиях. Редко кому выпадала на долю такая завидная участь!»… «Церковь и общество, государство и семья, наука и искусство, – присовокуплял другой проповедник, – все, все стороны человеческой жизни и деятельности охватывал он своим орлиным зорким взглядом, оценивал, определял и устроял своим гениальным умом, обо всем болел своею великою душою. Его взглядом дорожили сильные мира сего; к его слову прислушивались правители народные; его душа обаяла всех истинно русских людей».
С другой стороны, мы читаем в некрологе, посвященном «Вестником Европы» покойному публицисту: «Совершенно правы те, кто называет Каткова отрицателем по преимуществу… Это еще не значит, чтобы в отрицании заключалась его сила… Критика Каткова стоит разве немногим выше его положительного учения; его отрицание не только бесплодно, оно бессильно… Искусственное единодушие, вынужденное согласие, организованное лицемерие – вот чего хотел Катков… Сложилась целая легенда, приписывающая ему честь удержания Царства Польского за Россией… Как и всякая другая легенда, она не устоит перед судом истории… Говорили, что Катков много сделал для русской печати, что он поднял ее на небывалую высоту, дал ей небывалое значение. Более ошибочного мнения нельзя себе и представить».
Независимо от этой противоречивой оценки современников, обыкновенный суд над московским публицистом затрудняется еще тем, что он сам отличался изумительною неустойчивостью в своих воззрениях. Он с одинаковою внешней страстностью защищал и либеральные, и консервативные воззрения, отстаивал широкое участие общественных сил в государственной жизни и отвергал это участие, высказывался за сильную центральную власть и дискредитировал главные ее органы, издевался над сторонниками национального принципа и сам выступал его страстным поборником, превозносил суд присяжных и глумился над ним; громил и фритредеров[2], и протекционистов, проповедовал союз с Францией и отвергал его, видел в Бисмарке нашего вернейшего друга и злейшего врага. При такой изменчивости его основных взглядов нельзя прикладывать к нему обычной мерки. Его деятельность в этом отношении не выдерживает даже снисходительной критики. Если руководствоваться исключительно его статьями, то можно только прийти к выводу, что их писал человек малоподготовленный и неспособный к зрелому обсуждению государственных и общественных вопросов, а громкая известность Каткова представится нам явлением совершенно загадочным. Только в связи с обстоятельствами его жизни и с общими условиями, в которые поставлено наше отечество, эта загадка может быть разрешена. Б отношении Каткова, более чем в отношении какого бы то ни было публициста, можно сказать, что очерк его деятельности должен совпадать с очерком его жизни. Поэтому мы рассмотрим его публицистические работы в связи с обстоятельствами его жизни, придерживаясь хронологического порядка и избегая всяких суждений, не основанных на точном и проверенном фактическом материале. Факты в данном случае лучше и полнее всяких слов объяснят нам истинное значение Каткова.
Глава I
Молодость Каткова. – Его первые литературные работы.
К своей публицистической деятельности Катков приступил очень поздно, а именно: в начале шестидесятых годов, когда ему было уже более 40 лет. Собственно редактировать «Московские ведомости» он начал в 1851 году, но о широкой публицистической деятельности в то время, по цензурным условиям, еще и речи быть не могло; да и сам Катков не решался приступить к ней. Только ко времени основания «Русского вестника» (1856) относятся его первые слабые попытки приступить к обсуждению политических вопросов. Но независимо от цензурных условий неподготовленность самого Каткова к разработке вопросов внутренней и внешней политики служила в этом отношении препятствием, так что публицистическая роль Каткова остается весьма незаметной, и только в шестидесятых годах, в особенности же в 1863 году, когда Катков окончательно принял на себя редактирование «Московских ведомостей», он обращает общее внимание как публицист. «Русский вестник» приобрел известность и популярность благодаря сотрудничеству выдающихся литературных сил (Тургенева, Толстого, Салтыкова и др.); «Московские ведомости» приковали к себе общее внимание благодаря статьям самого Каткова.
Мы указываем на этот поздний расцвет публицистического дарования Каткова, чтобы выяснить одно обстоятельство, чрезвычайно важное для правильной оценки его деятельности. Все биографические сведения о Каткове сходятся в том, что он начал интересоваться государственными науками только с 1858 года, т. е. на 41-м году жизни. До того времени никто в нем и не подозревал публициста. Когда Катков приступал к основанию «Русского вестника», такой компетентный судья, как Грановский, высказал решительное сомнение, чтобы Катков и его товарищ Леонтьев могли успешно и со знанием дела обсуждать политические вопросы. Этот взгляд вполне разделили сотрудники самого «Русского вестника». Да и действительно, стоит только бросить взгляд на всю предшествующую жизнь Каткова – и мы убедимся, что политическими вопросами он не интересовался и к обсуждению их не был подготовлен.
Лишившись очень рано отца, мелкого чиновника, он был помещен матерью своею, урожденной Тулаевой[3], в Преображенский сиротский институт; оттуда он был переведен в Первую московскую гимназию, а затем в славившийся в то время пансион известного профессора Павлова, где и окончил гимназический курс 17-ти лет в 1834 году. В том же году Катков поступил в Московский университет на словесное отделение. Через четыре года, в 1838 году, он окончил университетский курс кандидатом с отличием. Из тогдашних профессоров наиболее популярен был известный критик Надеждин, читавший теорию изящных искусств и логику, и Павлов, читавший физику и теорию сельского хозяйства, но перемешивавший изложение этих предметов разными философскими теориями, главным образом философией Гегеля и Шеллинга. Как Надеждин, так и Павлов увлекались Шеллингом, и это увлечение передавалось их слушателям. Таким образом, молодой Катков по обязанности занимался филологией, а увлекался философией, чему много содействовало общее настроение тогдашней молодежи. Как известно, в то время русская молодежь бредила Гегелем и Шеллингом; увлечение Францией заменилось увлечением германскою наукою и германскою поэзией. Белинский, Грановский, Герцен, Огарев, К. Аксаков, Самарин, Буслаев, Кудрявцев, Кавелин, Тургенев, Кольцов – все эти видные деятели русской литературы или науки либо получили в то время образование в Московском университете, либо примкнули (в том числе даже Огарев со своими друзьями) к кружку, душою которого первоначально был Станкевич, а потом Белинский и члены которого занимались главным образом обсуждением и изучением немецкой философии. К этому кружку присоединился и Катков, хотя он был моложе многих его членов и, следовательно, не мог играть в кружке сколько-нибудь видную роль. Ближе всего он сошелся с Белинским и Бакуниным, особенно с последним.
Немецкою философией увлекались все члены кружка. Увлечение это доходило до того, что «у них отношение к жизни, к действительности, сделалось школьное, книжное, что, например, человек, который шел гулять в Сокольники, не просто гулял, а отдавался пантеистическому чувству своего единства с космосом, и если ему попадался по дороге солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народности в ее непосредственном и случайном проявлении. Слеза, навертывавшаяся на глаза, также строго относилась к своей категории – к трагическому в сердце». Все споры, пререкания, размолвки между тогдашнею молодежью имели своим предметом все ту же немецкую философию или вызывались ею. Она не только живо интересовала умы, но и составляла основание всего миросозерцания молодежи. Участвовать в государственной или общественной жизни было тогда немыслимо. Таким образом создалась искусственная атмосфера, которою дышала молодежь. Само собою разумеется, что по мере того как молодежь приходила в соприкосновение с действительностью, идеалы, почерпнутые из немецкой философии, должны были постепенно видоизмениться. Впечатления, почерпнутые до университетской жизни, также оказывали свое действие. Наконец, и характер данного лица, его нравственные начала должны были повлиять в этом отношении. Только таким образом можно себе объяснить, что из московских кружков Станкевича и Белинского вышли люди столь различного направления, как Белинский, К. Аксаков, Герцен, Катков. Чтобы понять, как одно дерево могло дать столь различные ростки, надо вдуматься в жизнь каждого из этих выдающихся деятелей, проследить влияние, которому они подвергались в раннем возрасте, и вникнуть в обстоятельства их дальнейшей жизни. Умственный интерес был одинаково возбужден у всех членов этих кружков и на первый случай находил себе удовлетворение в той приподнятой умственной и нравственной жизни, которая царила в Московском университете во второй половине 30-х годов, в блестящую Строгановскую эпоху.[4] Отвлеченные идеалы и теории Гегеля и Шеллинга не могли не произвести сильного впечатления на юношей, мало затронутых требованиями практической жизни. Но по мере того, как эта жизнь вступала в свои права, теории и идеалы немецких философов бледнели. Приходилось считаться с конкретными условиями, избрать определенную деятельность. Нравственная атмосфера, которою дышали члены кружков, согрела многих из них на всю жизнь: она, вероятно, немало содействовала появлению таких светлых и идеальных личностей, какими были некоторые из русских деятелей, вышедшие из этих кружков. Но и наиболее светлые из них, как, например, незабвенный Белинский и К. Аксаков, далеко разошлись в своих воззрениях, а другие, не будучи в нравственном отношении такими стойкими, подчинились в своей деятельности влияниям, не имевшим ничего общего с тем или другим миросозерцанием. К числу последних принадлежит и Катков.
Он довольно тесно примкнул к кружку Белинского и долгое время шел с ним как бы рука об руку. Он был деятельнейшим сотрудником «Московского наблюдателя» в пору, когда этот журнал редактировался Белинским. Вместе с ним он начал сотрудничать и в «Отечественных записках» Краевского, т. е. перенес литературную деятельность из Москвы в Петербург. В чем заключалось сотрудничество Каткова в этих двух изданиях? Чем была тогда занята его мысль? Он был в восторге от эстетики Гегеля и так хорошо усвоил себе его учение, что, как пишет Белинский, разбивал в прах тогдашние теории нашего знаменитого критика, впрочем знакомившегося с Гегелем, по незнанию немецкого языка, как известно, из вторых рук. Катков же знал прекрасно не только немецкий, но и французский, и английский языки. Может быть, поэтому Белинский чрезвычайно дорожил его обществом. Но, кроме философии, Катков занимался еще и поэзией. Особенное пристрастие он питал к Гейне, Гофману, отчасти Шекспиру. Сотрудничество его в «Наблюдателе» выразилось, главным образом, в переводах из этих писателей, – переводах, надо сказать, довольно неудачных. Так, например, последняя строфа знаменитого стихотворения Гейне «К матери» звучит в катковском переводе так:
Больной, назад я путь поворотил, Пришел домой, и мать меня встречала. И то, чего душа моя алкала, — Любовь, любовь в глазах ее сияла.Столь же неудачны переводы из «Ромео и Джульетты»:
О, продолжай, мой светлый ангел! Ты Над головой моей средь ночи блещешь В такой же славе, как посланник неба Пред взорами смущенными людей, Которые, упав на землю навзничь, На дивного посла взирают в страхе…Спрашивается, вызывались ли эти переводы внутреннею потребностью Каткова или только желанием зарабатывать на хлеб литературным трудом? В то время материальные обстоятельства Каткова были незавидны. Он должен был содержать себя, мать и младшего брата, а денежных средств не было никаких. Но не подлежит сомнению, что Катков искренно увлекался как философией, так и поэзией. В литературных воспоминаниях Панаева рассказан случай из жизни Каткова, вполне подтверждающий искренность его увлечения поэзией. В то время он зачитывался Гофманом и до того увлекся этим писателем, что хотел непременно попасть в погребок (Weinkeller), играющий большую роль в произведениях знаменитого немецкого рассказчика, и пригласил Панаева посетить такое заведение. Когда же Панаев отказался, разъяснив Каткову, что в Петербурге погребков на немецкий лад не существует, Катков серьезно рассердился и два дня дулся на Панаева. Кроме того, известен факт, что Катков в то время любил декламировать стихи, сопровождая декламацию усиленными телодвижениями, закатыванием глаз, выкрикиваниями и завыванием. Наконец, искренность его увлечения германской философией и поэзией выразилась в том факте, что он, будучи лишен всяких средств к существованию, предпринял поездку за границу и прожил около двух лет в Германии в самом бедственном положении.
Тут мы встречаемся уже с другою чертою характера молодого Каткова. В нем, несомненно, был большой запас энергии, производивший сильное впечатление на его товарищей. В университете он занимался прекрасно. Его ответы на экзаменах обращали на себя общее внимание. Новички-студенты, как передает г-н Любимов, ходили слушать, «как отвечает Катков». Их к этому, впрочем, поощрял и тогдашний инспектор, известный Нахимов. «Что болтаетесь? – говорил он студентам. – Пойдите послушайте, как Катков отвечает». Тогда уже ставший попечителем, граф Строганов обратил особенное внимание на Каткова. По окончании университета он, несмотря на затруднительное материальное положение, на необходимость заниматься литературою, чтобы прокормить себя, мать и брата, через год сдал магистерский экзамен, а когда ему улыбнулось счастье, и он получил от Краевского приглашение участвовать в «Отечественных записках» (в том же году), то с редкою энергиею принялся за литературный труд. Начал он с перевода статьи Варнгагена фон Энзе о Пушкине; затем следовали статьи «О русских народных песнях», об «Истории древней русской словесности» Максимовича, о сочинениях графини Сарры Толстой. Кроме того, он продолжал заниматься переводами из Шекспира и Гейне (перевел «Ромео и Джульетту» и «Рэдклифа»), вел чрезвычайно деятельно библиографический отдел в журнале, и поэтому Белинский мог с полным основанием писать в 1840 году, что «Отечественные записки» существуют трудами только трех людей: Краевского, Каткова и самого Белинского. Во всех этих статьях, понятно, никакой особенной эрудиции 22-летний Катков проявить не мог. Самые значительные из них – статьи о народных песнях и о Сарре Толстой. Первая из них написана по гегелевскому шаблону, но в ней заметна уже одна струя позднейшей катковской деятельности, именно: национальная. «Солнце, – восклицает молодой Катков, – озарило дивное зрелище, озарило дивную монархию, какой еще не видало человечество. Откуда, как возникла она? Каким чудом так внезапно, так неожиданно из хаоса и мрака явился этот исполинский организм, атлетически сложенный, раскидавшийся своими мощными членами во все концы мира? Каким чудом вдруг без труда и развития сочленилось и образовалось это ужасающее своим громадным объемом целое, проникшее собою с беспримерною силою все свои части, до бесконечности разнородные, и связывающее их в неразрывном единстве государства, предназначенного свыше управлять кормою человечества?» Конечный вывод статьи тот, что русскую историю следует разъяснять философским путем и что одним из самых важных источников подобного разъяснения является народное песнетворчество. Однако в своей статье о народных песнях Катков, по недостатку эрудиции, понятно, не изучил их, а ограничился общими положениями в духе немецкой философии. В статье о сочинениях графини Сарры Толстой (известной, воспетой Жуковским семнадцатилетней поэтессы, впадавшей в экстазы и ясновидение) Катков дал волю своему тогдашнему поэтическому настроению и, в общем, пришел к выводу, что в подобном состоянии человек иногда вернее прозревает истину, чем при помощи хладнокровно взвешивающего ума. Он говорит, что мы со всех сторон окружены чудесами, и предается следующим поэтическим излияниям, которые мы приводим как свидетельство его тогдашнего поэтического настроения и стиля: «Таинственный ужас объемлет душу в час полуденного затишья, когда природа, переполненная обременительными силами, будто ждет кого-то и не дождется, в дремучем сумраке леса деревья с вопросом помахивают своими махровыми вершинами; в чудном шуме, в котором сливаются фантастический шелест листьев и говор ночных насекомых, слышится вздох, и непонятною грустью подернуты спящие воды… Обаяние ли это призраков, болезнь мечтательной души или полусумрачное откровение высшей действительности, мерцание иной жизни?»
Эти две статьи обратили на себя общее внимание и доставили только что достигшему гражданского совершеннолетия Каткову громкую известность. Белинский пророчил молодому литератору большую будущность. «Я вижу в нем, – писал он В. Боткину, – великую надежду науки и русской литературы. Он далеко пойдет, далеко, куда наш брат и носу не показывал и не покажет». Вообще, Катков производил сильное впечатление на своих товарищей. Они удивлялись его способностям, в особенности его сильному и решительному характеру. Может быть, именно это обстоятельство, более чем достоинство его литературных произведений, действовало на его сверстников. У Каткова в то время произошла ссора с Бакуниным, распустившим про него какую-то сплетню, в которой была замешана женщина. В квартире Белинского состоялась встреча двух противников; произошла перебранка, кончившаяся тем, что Катков оскорбил Бакунина действием. «Я в первый раз, – пишет по этому поводу Белинский, – увидел, что такое мужчина, достойный любви женщины». По этому поводу должна была произойти дуэль, которая, однако, по малодушию Бакунина, не состоялась. Двадцать четыре года спустя Катков имел известное столкновение с гласными московской городской думы, в частности с Гончаровым, братом жены Пушкина, состоявшим тогда старшиною дворянского сословия в думе. Тут Катков повел дело так, что на дуэль вышел не он, а его друг и товарищ Леонтьев. Но в молодости Катков был – как видно из всех приведенных нами фактов – решительным и энергичным человеком.
Литературный успех, видимо, вскружил ему голову. «Он вел себя со всеми нами, – пишет Белинский В. Боткину, – как гениальный юноша с людьми добродушными, но недалекими, и сделал мне несколько грубостей и дерзостей, которые мог снести только я, но которые нельзя забыть и о которых расскажу тебе при свидании. Панаеву с Языковым тоже досталось порядочно за то, что они не знали, как лучше выразить ему свое уважение и любовь… В нем бездна самолюбия и эгоизма, – пишет дальше Белинский в том же письме. – Этот человек как-то не вошел в наш круг, а пристал к нему… Самолюбие ставит его в такие положения, что от случайности будет зависеть его спасение или гибель, смотря по тому, куда он повернется, пока еще есть время поворачивать себя в ту или другую сторону». Вообще, Катков плохо ладил со своими товарищами. Он со всеми ссорился, и все на него жаловались; но в то же время все видели в нем какую-то нарождающуюся силу.
Его энергия, равно как его увлечение философией и поэзией, выразились и в его заграничной поездке, состоявшейся в конце 1840 года. Чтобы заручиться средствами на эту поездку, он перевел вместе с Панаевым один из куперовских романов. Рассчитывал он, кроме того, на гонорар за перевод «Ромео и Джульетты». Но его надежда сбылась лишь отчасти и, как рассказывает Панаев в своих воспоминаниях, он уехал за границу, имея в кармане не более 200 рублей ассигнациями. За границей Катков страшно бедствовал. Материальное положение Краевского было тогда далеко не блестящим, и он мог оказывать Каткову только слабую денежную поддержку. Катков жил за границей большею частью в долг и подчас находился в таком критическом положении, что готов был просить посольство о возвращении его в Россию на казенный счет[5]. К тому же состояние его здоровья было весьма неудовлетворительным, может быть отчасти вследствие лишений, которые ему пришлось терпеть. К литературе Катков в то время, видимо, охладел, потому что его сотрудничество в «Отечественных записках» было весьма отрывочным и скудным. Он прослушал лекции Шеллинга в течение двух семестров. О других занятиях его ничего не известно. Шеллингом он восторгался и, во всяком случае, прекрасно изучил немецкий язык. Вот что пишет Боденштедт о Каткове по возвращении его из-за границы: «С особенным одушевлением говорил Катков о Шеллинге и Якове Гримме. В доме Шеллинга он был принят весьма радушно и часто посещал его. В воспоминаниях об этом знакомстве играла немалую роль прелестная дочь Шеллинга, с которой я познакомился впоследствии, когда она была уже замужем за бароном Цехом (Zech). Катков говорил о ней всегда с большим уважением, тогда как вообще он не находил особенного удовольствия в дамском обществе. Немецким языком, разговорным и письменным, Катков владел в таком совершенстве, что мне ни разу не случалось подметить в его речи какого-нибудь иностранного выражения».
Глава II
Перелом в настроении Каткова. – Прекращение литературной деятельности и разрыв с товарищами по перу. – Хлопоты по приисканию казенного места. – Ученые работы. – Профессорская деятельность. – Первый период редактирования «Московских ведомостей». – Основание «Русского вестника»
Из писем, которые Катков писал Краевскому из-за границы, ясно видно, как повлияли на него перенесенные им лишения. Они сделали из несколько романтического и пылкого юноши человека весьма практичного. Вместе с тем в нем заметно отрешение от тех чистых нравственных идеалов, которыми отличались все члены кружка Станкевича и Белинского. Заграничное пребывание отразилось на Каткове и в смысле отчуждения от национальных идеалов, которые он воспринял в ранней молодости и которые нашли себе выражение в вышеупомянутой его статье о народных песнях. Касаясь полемики «Отечественных записок» с Шевыревым и Погодиным, он пишет Краевскому в 1841 году: «Ей Богу, старые русопеты, посланные царем Алексеем Михайловичем к флорентийскому двору, при всей своей глупости и апатии смотрели на вещи умнее и человечнее, чем эти твари, эти с…, эти п… по сердцу и из видов. Не вступая с ними ни в какие споры, чтоб не осквернить себя, а главное не профанировать дела, надо же, однако, делать отвод этому глупому русопетскому направлению и тем, по крайней мере, в ком есть жизнь, показывать, что в Европе жизнь не сохнет и не гниет и что в русском народе понимают русопета только ж… его, в которой живут, движутся, и суть». Затем 23-летний Катков дает Краевскому следующее наставление: «Ваше дело теперь стоять от них подальше, вести себя как можно политичнее, издали всеми средствами подзадоривать их, не давая им, однако, этого замечать. Я бы на вашем месте позволил себе пускаться на всякие макиавеллистические хитрости и тонкости, потому что уничтожение этих м… – богоугодное дело; к тому же и выгода немалая – руки ваши останутся чистыми; листы „Отечественных записок“ не забрызганы золотом» и т. д.
По возвращении из-за границы в конце 1842 года он почти совсем перестает заниматься литературой и усиленно добивается какого-нибудь места на государственной службе. Еще из-за границы он писал Краевскому, что «максимум его амбиций – попасть к какому-нибудь тузу или тузику в особые поручения», и, приехав в Петербург, немедленно принялся хлопотать об этом. В начале 1843 года он уже пишет Краевскому из Москвы, что условился с Н. А. Милютиным (служившим тогда уже в министерстве внутренних дел) относительно поступления своего на службу, но что известий никаких от него не получает. «Я нахожусь, – пишет он, – в положении критическом, тяжесть которого чувствуется не одним мною, но и семейством моим: моею старою матерью, моим братом, еще связанным студенчеством». Он просит оказать ему материальную помощь, хотя сотрудничество его в «Отечественных записках» тогда уже совершенно прекратилось. Мало того, со времени возвращения Каткова из-за границы прежние его литературные связи также прерываются. В воспоминаниях Панаева о Каткове уже более не упоминается. С московскими славянофилами он никогда не поддерживал тесных сношений. В переписке Белинского о Каткове также уже вовсе не упоминается: последние указания встречаются в письме к Боткину от 6 февраля 1843 года. Вот что он пишет: «Каткова ты видел. Я тоже видел. Знатный субъект для психологических наблюдений. Это – Хлестаков в немецком вкусе. Я теперь понял, отчего во время самого разгара моей мнимой к нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза. Ты некогда недостойным участием к нему жестоко погрешил против истины; но честь и слава тебе, ты же хорошо и поправился, ты постиг его натуру, попал ему в самое сердце. Этот человек не изменился, а только стал самим собою. Мы все славно повели себя с ним: он было вошел на ходулях, но наша полная презрения холодность заставила его сойти с них».
Белинский и его друзья всецело были преданы идеальным интересам русской литературы; Катков же, видимо, разочаровался в ней. Лишения, которые он перенес за границей, и материальные заботы о будущем исцелили его от пристрастия к литературе. Он стал деятельно искать более практических средств устройства своей судьбы. Этим только и можно объяснить себе, что он одновременно прекращает литературную деятельность и усиленно хлопочет о приискании себе казенного места. В лучшую пору своей жизни он не принимает никакого участия в литературе. Его столь успешно начатая литературная карьера совершенно прекращается. Не доказывает ли это, что Катков никогда серьезно не любил литературы, что она служила ему только средством для достижения других, посторонних целей? С 23-х и до 38-летнего возраста, т. е. в течение пятнадцати лет, он занимается не литературою, а скорее, наукою, и притом его вынуждает к этому не внутренняя потребность, а внешние обстоятельства, которым он сам, в своих письмах, придает громадное значение. Катков очень ловко устанавливает связи в официальном мире. Для этого он пользуется впечатлением, которое во время пребывания в университете ему удалось произвести на высшее учебное начальство. Он спешит напомнить о себе попечителю московского учебного округа графу Строганову. Тот дает ему совет не прерывать ученой карьеры и написать магистерскую диссертацию для получения профессуры. Катков охотно принимает этот совет и в то же время начинает давать в Москве уроки в аристократических семействах, вероятно по рекомендации того же графа Строганова. Так, Боденштедт сообщает, что когда он состоял воспитателем в доме князя Голицына (московского богача, двоюродного брата московского генерал-губернатора), там же состоял преподавателем и Катков. Впоследствии мы увидим, что Катков через того же графа Строганова успел заинтересовать собою министра народного просвещения и его товарища, и что только благодаря этому обстоятельству он мог выхлопотать себе разрешение на издание «Русского вестника». Живейшее участие в нем принимал тогдашний товарищ министра народного просвещения, столь известный в нашей литературе князь П. А. Вяземский. Впоследствии, когда Катков уже издавал «Московские ведомости», он пользовался ревностною поддержкою графа Милютина и князя Горчакова.
На все это будет указано нами в свое время. Теперь же мы остановимся на вопросе, как провел Катков эти пятнадцать лет вплоть до основания им «Русского вестника»? В течение восьми лет он занимался исключительно ученою деятельностью, продолжая в то же время давать частные уроки в аристократических домах. Свою диссертацию «Элементы и формы славяно-русского языка» он успел написать лишь к 1845 году. Труд этот, составляющий ныне библиографическую редкость, представляет, по отзыву специалистов, только сырой материал и почти вовсе не содержит выводов. Серьезного научного значения ему придавать нельзя. Он составлен Катковым, как обыкновенно составляются ученые диссертации, то есть с целью представить доказательство точного знакомства автора диссертации с избранною им темою. После защиты диссертации Катков тотчас же получил кафедру и был назначен в том же 1845 году адъюнктом на кафедре философии. В течение пяти лет он преподавал свой предмет в Московском университете. Даже горячие поклонники Каткова, как, например, г-н Любимов, говорят, что его лекции не производили впечатления, хотя и обрабатывались им весьма тщательно, особенно в стилистическом отношении. Но даром слова Катков никогда не обладал и поэтому не мог увлекать слушателей. Заметим кстати, что Катков и в начале своей литературной деятельности обращал особенное внимание на слог и с необычайным трудолюбием обрабатывал свои статьи в этом отношении. Профессорствовал он до 1850 года, когда вследствие реакции, вызванной 1848-м годом, состоялось распоряжение, в силу которого преподавание философии было возложено на профессора богословия. Ученых исследований Катков за все это время не писал. Только в 1852 году он напечатал оригинальное философское сочинение «Очерки древнего периода греческой философии» в «Пропилеях» – сборнике, издававшемся в то время Леонтьевым, с которым Катков близко сошелся еще в 1847 году, когда Леонтьев получил кафедру в Московском университете. Этот труд, по отзывам компетентных лиц, также не представляет собою ничего выдающегося. Особенное внимание обращено автором на Пифагорову философию. Весь труд построен на началах Шеллинговой философии. Любопытно только, что в нем Катков остается верен гегелевскому принципу о «разумности всего существующего», между тем как Белинский совершенно отказался от этой точки зрения еще в начале 40-х годов. В 1851 году Катков одновременно получил место редактора «Московских ведомостей» и женился на княжне Софье Петровне Шаликовой, дочери небезызвестного в свое время литератора и одного из бывших редакторов «Московских ведомостей». Таким образом тут повторилось явление, наблюдаемое столь часто в прежней России, и притом не только в духовном быту, где оно превратилось в общераспространенный обычай, именно: предоставление тестем своего места зятю. В данном случае предоставление Каткову места редактора университетской газеты было тем более возможно, что Катков лишился кафедры, состоял только номинально профессором и в то же время пользовался сильною поддержкою учебного начальства. Место редактора освободилось благодаря случайному обстоятельству, именно: вследствие чрезмерного увлечения предшественника Каткова гастролировавшею в то время в Москве знаменитою танцовщицею Фанни Эльслер. Редактор университетской газеты дошел в своем увлечении до того, что на проводах занял место лакея на козлах ее кареты с громадным букетом в руках и наполнил орган учебной корпорации не в меру усердными восхвалениями. Он был уволен, и таким образом для Каткова очистилось место с жалованием в две тысячи рублей и казенною квартирою. В то же время Катков был назначен чиновником особых поручений при министерстве народного просвещения.
Казалось бы, что теперь должно было проявиться публицистическое дарование Каткова. На самом же деле он был занят своим ученым исследованием о древнейшей греческой философии, а на «Московские ведомости», по-видимому, смотрел как на доходную статью. Стоит только сравнить номера «Московских ведомостей», составлявшиеся при прежних редакторах и при нем, чтобы убедиться, что все осталось по-старому и что инициатива Каткова ни в чем не проявилась. Между тем он состоял редактором этого издания в течение целых пяти лет, вплоть до 1856 года. В это время он прервал свою ученую деятельность, но и публицистической не проявил. Вот в кратких чертах вся его деятельность до 38-летнего возраста, когда он приступает наконец к изданию «Русского вестника».
Катков не без труда получил разрешение на этот журнал. Собственно, он намеревался издавать не только журнал, но и ежедневную газету, мотивируя необходимость подобного издания отсутствием в тогдашней русской печати «патриотических органов» вроде прежних «Вестника Европы» и «Сына Отечества». Но Московский университет опасался, что новая газета Каткова нанесет ущерб «Московским ведомостям», тем более что, по отзыву правления университета, «Московские ведомости» под редакцией Каткова «не обнаруживали уже такого живого и современного движения в статьях своих, какое заметно было в них прежде». Несмотря на прекрасную аттестацию Каткова со стороны тогдашнего министра народного просвещения А. С. Норова, заявлявшего, что «он ему известен с весьма хорошей стороны по своим способностям», и что о нем дал лестный отзыв граф Блудов; несмотря на ловко составленное Катковым прошение, в котором он заявляет, что «журнальное поприще не было им избрано произвольно, а вследствие стечения обстоятельств, в которых он видит некоторое для себя указание, и что он, испрашивая себе право основать особое издание, лучше всего может опереться на изъявленное самим правительством к нему доверие», – просьба его, вероятно, не была бы удовлетворена, если бы за него не вступился энергично товарищ министра народного просвещения князь П. А. Вяземский. Он письменно заявил министру, что «хотя и находит опасения университета отчасти заслуживающими внимания», но, тем не менее, полагает «справедливым и для общей пользы желательным, чтобы г-ну Каткову было оказано возможное удовлетворение по его просьбе». Не довольствуясь этим, он сам составил всеподданнейший доклад по этому делу, – и Катков получил разрешение издавать «Русский вестник». Но ему пришлось отказаться от ежедневной газеты, от редактирования «Московских ведомостей», и удовольствоваться ежемесячным журналом, который и начал выходить с января 1856 года. Ближайшими сотрудниками Каткова были Корш, Кудрявцев и Леонтьев.
Глава III
Отсутствие публицистических статей в «Русском вестнике». – Чисто литературный характер этого журнала. – Первые публицистические работы Каткова, совпавшие с началом реформ прошлого царствования. – Столкновение с цензурою, – Объяснительные записки Каткова.
В первое время существования «Русского вестника» Катков был далек от всякой мысли о видной политической роли. Публицистика в журнале почти совершенно отсутствовала. Сам Катков занимался литературными вопросами. Так, он поместил, «оставшуюся, впрочем, неоконченною», критическую статью о Пушкине, в которой разбирал произведения нашего великого поэта с чисто эстетической точки зрения, хотя и восставал против утилитарного взгляда на искусство, и требовал, чтобы художнику было предоставлено право быть только художником. Обсуждение текущих политических событий было в то время невозможно. Само разрешение на издание Каткову дано было только под условием, чтобы он строго воздерживался от всяких рассуждений по поводу политических и военных событий и ограничивался перепечаткою известий из других периодических изданий. Еще в 1858 году Катков в частном письме к генерал-адъютанту Я. И. Ростовцеву, состоявшему тогда председателем комитетов по освобождению крестьян, жаловался на то, что участие печати в задуманной правительством реформе невозможно вследствие цензурных стеснений. Каждая статья должна была странствовать из Москвы в Петербург и проходила семь инстанций, так что возвращалась только через несколько месяцев, утратив, понятно, всякий интерес. Слово «выкуп» вовсе не допускалось в печати. Не политическими статьями, а чисто литературными «Русский вестник» первоначально обратил на себя внимание читающей публики и стал одним из самых видных журналов своего времени. Достаточно назвать некоторых из его тогдашних сотрудников, чтобы понять, какое значение он должен был приобрести. В нем приняли участие все трое Аксаковых, Анненков, Бабст, Буслаев, Гончаров, Григорович, Жемчужников, Кавелин, Каченовский, Лажечников, Лохвицкий, Д. А. Милютин, Никитенко, Огарев, Островский, Писемский, Полонский, Потехин, Пыпин, Соловьев, Сухомлинов, графы А. К. и Л. Н. Толстые, Тургенев, Чичерин и другие. При таких сотрудниках журнал не мог не иметь успеха. К тому же по своему направлению он мало отличался от других видных журналов того времени. Еще в 1860 году «Современник» следующим образом отзывался о «Русском вестнике»: «Никто более нас не радовался блестящему успеху „Русского вестника“ и никто более нас не желает, чтоб успех этот продолжался и возрастал». И действительно, хотя между обоими журналами и была разница в направлении «по оттенку», так как «Современник» представлял собою, выражаясь парламентским языком, левое, а «Русский вестник» – правое крыло либеральной партии, но оба они не имели ничего общего с тогдашними консерваторами. Еще в 1862 году в «Русском вестнике» в известной статье «К какой мы принадлежим партии?» можно было встретить следующее рассуждение: «Плохие те консерваторы, которые имеют своим лозунгом status quo, как бы оно ни было гнило, которые держатся господствующих форм и очень охотно меняют начала. Для таких все равно, какое бы ни образовалось положение дел; для них все равно, какая бы комбинация ни вступила в силу. Им важно знать, на которой стороне власть… Если со временем разовьется у нас политическая жизнь и образуются партии, то да избавит Бог наше отечество от таких консерваторов».
Это было время нарождавшейся надежды на полное обновление русской жизни. Надежда эта в равной мере охватила все слои русского общества, всю интеллигенцию и всех передовых общественных и государственных деятелей. Разлада сколько-нибудь значительного тогда еще не замечалось. Все чувствовали, все сознавали, что кончается одна эпоха и начинается другая, громадное значение которой было для всех очевидно. Россия находилась накануне освобождения крестьян и целого ряда коренных внутренних реформ.
Политическая печать еще безмолвствовала, но дух нового времени находил уже себе яркое выражение отчасти в беллетристических трудах корифеев нашей литературы, отчасти в критике их произведений. Весьма понятно поэтому, что Катков, став во главе литературного журнала, пытался сам принять участие в этом движении. Таким образом и объясняется появление его статьи о Пушкине. Но статья эта осталась, как мы уже указывали, неоконченною, и Катков, в предвидении наступающей эпохи коренных реформ, начинает впервые в жизни проявлять интерес к политическим и социальным вопросам. Отдел «Современной летописи» в «Русском вестнике» составлялся и редактировался первоначально без всякого участия Каткова. Он сам и главные его сотрудники полагали, что для ведения этого отдела требуются специальные знания, которыми Катков не обладал. Но интересен факт, что он постоянно оставался недоволен ведением этого отдела; следовательно, он его занимал. Кроме того, сохранились указания, что приблизительно год спустя после основания «Русского вестника» отдел составлялся самим Катковым и его ближайшим сотрудником Леонтьевым, и что в 1858 году Катков усердно занимался изучением Блэкстона (знаменитого английского государствоведа, сочинение которого «Commentaries on the Laws of England» признается классическим трудом по английскому государственному праву) и Гнейста, уже тогда начавшего ряд своих блестящих и капитальнейших трудов по изучению английского центрального и местного управления. Очевидно, Катков носился тогда с мыслью о приискании для России в эпоху наступавших коренных государственных реформ надлежащих иноземных образцов и что он остановился на английском государственном строе как на наиболее пригодном в этом отношении. Это обстоятельство не замедлило отразиться на публицистических работах, появлявшихся с тех пор в «Русском вестнике». Катков выступил решительным защитником свободы слова, суда присяжных (против г-на Спасовича, полагавшего тогда, что Россия еще не созрела для этого, и что лучше было бы ограничиться системою выборных судей), местного самоуправления под руководством не то дворянства, не то интеллигенции вообще (он, очевидно, имел в виду английское джентри) и всего английского государственного строя. Увлечение Каткова Англией доходило до того, что его начали насмешливо называть «англоманом» и в «Искре» изображали не иначе как в шотландском костюме. Впрочем, пристрастие Каткова к английским государственным порядкам кончилось довольно скоро. Правда, еще в 1863 году после польского восстания можно было встретить в «Русском вестнике» (в статье «Что нам делать с Польшею?») рассуждения в таком роде, что «будущий политический строй России должен быть основан на подтверждении, раскрытии, оживлении связи между верховною властью и народною жизнию» и что Польше можно предоставить только участие в таком строе, но никак не отдельное федеративное устройство. Равным образом и в статьях «Московских ведомостей» еще долго после польского восстания встречались отзвуки тогдашнего настроения Каткова, но эти отзвуки становились все слабее и слабее и уже в конце 60-х годов почти совсем замерли. Надо заметить, что даже в «Русском вестнике» конца 50-х годов это настроение Каткова (мы не говорим об убеждениях, потому что, как вполне выяснится впоследствии, московский публицист никогда не руководствовался в своей деятельности твердыми и обдуманными политическими принципами, вытекавшими из более или менее глубокого изучения русской действительности и жизни других государств, а подчинялся чисто временным влияниям) очень быстро прерывается, как прерывается вообще его чисто публицистическая деятельность. Его внимание всецело поглощается борьбою с несочувственными для него течениями нашей общественной жизни, находившей себе выражение в беллетристических работах и критике их. В самом начале 60-х годов он открывает в «Русском вестнике» особый отдел под названием «Литературное обозрение и заметки», в котором вступает в полемику с «Современником», подобно тому, как раньше он вел энергичную борьбу со славянофилами. Кроме того, он вступает в оживленную полемику и с Герценом. Затем он много распространяется о нигилизме по поводу напечатанного в «Русском вестнике» романа Тургенева «Отцы и дети». Против Герцена он восстает с большею решительностью, находя его деятельность безусловно вредною. Он бросает Герцену в лицо укор, что тот не принимает никакого участия в положительной деятельности, направленной к обеспечению интересов русского народа, а ограничивается одною лишь скептическою критикою, имеющею весьма печальные последствия, так как она отражается самым невыгодным образом на молодежи и делает ее неспособною к полезной деятельности в сфере реальных интересов, выдвинутых самой жизнью. Он возлагает на Герцена ответственность за участь многих молодых людей. В статьях его по поводу романа Тургенева он признает нигилизм большим злом, но предостерегает против всяких репрессивных мер. «Стеснения и преследования, – говорит он, – оказывая только паллиативное действие, могут с течением времени только усилить болезнь и сделать ее хроническою». Наилучшим средством против нигилизма он признает «усиление всех положительных интересов общественной жизни».
Но вместе с тем сам Катков охладевает к этим положительным интересам. Его участие в разработке столь существенных в то время вопросов внутренней политики становится совершенно незаметным. Экономическими вопросами занимался в «Русском вестнике» по преимуществу Леонтьев, а Катков не принимал никакого участия в их обсуждении. Мало того, в начале 1861 года в издании «Русского вестника» произошла перемена. Журнал распался на два издания: «Современная летопись» отделена была от остального текста и составила отдельное еженедельное издание, на которое открыта была подписка особо. Таким образом, политические вопросы в узком смысле, как внешние, так и внутренние, были выделены из «Русского вестника». Заведование этим новым изданием принял на себя, однако, не Катков, а Леонтьев. Из этого видно, что Катков в то время либо не признавал себя компетентным в обсуждении политических вопросов, требующих более или менее специальной подготовки, либо не интересовался ими. Но зато он с конца 50-х годов решительно начинает признавать своею специальностью обсуждение вопросов так называемой высшей политики, которая у нас в значительной степени отождествляется с борьбою против отрицательных течений нашей общественной мысли. Полемика Каткова с Герценом и отчасти с Чернышевским (в статье о Пушкине) была началом этой борьбы, к которой он так часто возвращался впоследствии.
Но наш очерк деятельности Каткова в конце 50-х и начале 60-х годов был бы не полон, если бы мы не коснулись одной стороны ее, – стороны, которая в то время была известна немногим и только теперь постепенно выясняется. Мы видели уже, что Катков успел с первых же шагов на жизненном своем поприще заручиться покровительством высокопоставленных лиц, в том числе графов Блудова и Строганова и князя Вяземского. Только благодаря этому покровительству он добился разрешения издавать самостоятельный журнал, между тем как другим литераторам в этом отказывали (например, Тургеневу, В. Боткину и князю Черкасскому, ходатайствовавшим в 1857 году о разрешении им издания журнала для оказания правительству содействия в вопросе об эмансипации крестьян). Благодаря поддержке, которою пользовался Катков в высших правительственных сферах, он мог в своем журнале выступать очень решительно. Пользуясь этою поддержкою, он старался ограждать свободу печати в тогдашнее переходное время, когда голос ее не мог раздаваться авторитетно вследствие установившихся цензурных традиций, еще не поколебленных веяниями новой эпохи. Достаточно заметить, что в то время сколько-нибудь свободное обсуждение вопросов внешней и внутренней политики составляло запретный плод. «Отечественным запискам» и «Русскому вестнику» разрешалось, как мы уже указывали, только перепечатывать политические известия из «Русского инвалида». Печать сама завоевала себе право обсуждения внутренних и внешних событий, и в этом деле Каткову, несомненно, принадлежит заслуга инициатора. Как мы видели, Катков в ответ на приглашение Я. И. Ростовцева оказать правительству содействие в вопросе об эмансипации крестьян ответил письмом, что при существующих цензурных условиях содействие печати немыслимо. Цензоры действительно были тогда поставлены в весьма затруднительное положение. Как известно, раз установленные административные приемы сохраняются иногда еще долго после того, как они признаны высшим правительством ненужными. Так было и в данном случае. Цензоры не знали, что дозволено и что воспрещено. Катков старался выяснить этот вопрос и, когда имел столкновение с цензурой, посылал высшим властям длинные объяснительные записки, составленные иногда весьма дельно и всегда направленные к тому, чтобы расширить свободу обсуждения печатью разных текущих политических вопросов. В указанном уже нами труде г-н Любимов приводит две записки подобного рода. В первой из них он старается установить пределы духовной цензуры по отношению к светским органам; в другой – разъясняет вред официозной печати. В первой он подробно мотивирует, что духовной цензуре подлежат лишь сочинения, в которых излагаются догматы православной церкви. «Духовная цензура, – говорит Катков, – признает или не признает согласным излагаемое учение с установленным учением православной церкви – вот ее назначение, а всякое дальнейшее расширение ее пределов может только обратиться во вред как литературы, так и самой церкви. Православная церковь по своей сущности должна быть чужда всякого инквизиционного начала и полицейского духа; прививать к ней этот дух значит низводить ее на арену человеческих страстей и преходящих мнений, унижать ее достоинство, оскорблять ее характер, затемнять ее святую сущность и скоплять против нее напрасную горечь в умах. Внутренняя сущность нашей церкви достаточно обозначилась тою первоначальною чертою, которая стала чертою разделения между нею и римской церковью. В то время как римская церковь укрыла смысл Священного писания в формах мертвого и непонятного народу языка, православная церковь признала и благословила начала разумения, допустив все языки к прославлению Бога. Эта черта глубоко знаменательна».
Мы нарочно сделали эту длинную выписку, чтоб показать, в каком духе и в каких выражениях составлялись тогдашние объяснительные записки Каткова. Другая его записка, составляющая также целое литературное произведение со множеством фактов, почерпнутых из русской жизни и жизни других государств, посвящена вопросу о роли официозной печати. Статья, вызвавшая столкновение с цензурой, написана была в чрезвычайно резких выражениях. В ней Катков самым решительным образом высказался против правительственного вмешательства в журналистику путем субсидий, внушений и тому подобных средств. Статья эта не понравилась тогдашнему министру народного просвещения Е. И. Ковалевскому, который в предписании на имя исправлявшего должность попечителя учебного округа предлагал предостеречь редактора «Русского вестника», что «если он не изменит своего направления, то правительство вынуждено будет принять касательно его издания решительные меры». В ответ на это и послана была Катковым упомянутая объяснительная записка, показавшаяся министру настолько убедительной, что всякие дальнейшие меры против Каткова были признаны излишними. Во всех этих столкновениях с цензурой высшее правительство постоянно оказывалось на стороне Каткова, и вместе с тем он получал возможность все свободнее обсуждать разные государственные и общественные вопросы. Так, например, одна из очень резких статей Каткова, обсуждавшая переустройство России по английскому образцу, была доведена до сведения государя, полюбопытствовавшего узнать имя автора. Ему было доложено, что автор статьи – коллежский советник Катков, «весьма близко известный графу Сергею Григорьевичу Строганову». Покойный государь впервые тогда обратил внимание на Каткова. Вслед за тем во время пребывания государя в Москве (1862) Катков удостоился быть ему представленным вместе с профессорами Московского университета, и государь, равно как и государыня, обошлись с ним весьма милостиво.
Глава IV
1863 год. – Общее положение дел. – Первоначальное молчание Каткова. – Ошибочная оценка правительственных мероприятий. – Аксаков и Катков. – Успех «Московских ведомостей». – Как отразился этот успех на всей дальнейшей деятельности Каткова.
Настал 1863 год, – год наибольшей славы Каткова, сразу доставивший ему известность не только в России, но и на Западе и в то же время окончательно определивший характер его публицистической деятельности. 1 января этого года Катков, на 45-м году жизни, вторично начал редактировать «Московские ведомости», а 10-го числа того же месяца в Польше произошло вооруженное нападение на наши войска, послужившее сигналом к общему восстанию[6].
В 1862 году правительство решило сдать частным лицам в аренду как «Петербургские», так и «Московские ведомости». Граф Блудов, тогдашний президент Академии наук, имел в виду предоставить редактирование «Петербургских ведомостей» Каткову; но последний долго колебался. Тем временем переговоры с Коршем, бывшим помощником Каткова по редактированию «Московских ведомостей» в первой половине 50-х годов и редактором этой газеты после него, настолько подвинулись вперед, что вопрос мог считаться решенным. Однако Катков сильно дорожил получением права на издание ежедневной газеты, так как отделенная от «Русского вестника» «Современная летопись» приносила ему большие убытки. А вот «Русский вестник» шел хорошо и занимал по числу подписчиков второе место после «Современника» (имевшего 7 тысяч подписчиков, в то время как «Русский вестник» насчитывал 5700, а «Отечественные записки» и «Русское слово» – по 4 тысячи). Катков выступил соискателем на получение аренды. Конкурентами его были профессора Бабст и Капустин. Но Катков предложил самую значительную арендную плату (74 тысячи рублей). Большинство университетского совета высказалось за него, хотя и противников у него оказалось немало. Такой специалист по политическим наукам, как Чичерин, произнес в совете горячую речь против Каткова, в которой старался выяснить недостаточную подготовленность его к редактированию серьезного политического органа. Но большинство совета соблазнилось значительностью арендной платы, предложенной Катковым, и газета осталась за ним. Разрешение из Петербурга последовало немедленно. Таким образом, Катков с 1 января 1863 года вступил в редактирование «Московских ведомостей».
Чтобы должным образом оценить его публицистическую деятельность во время польского восстания, мы должны остановиться в кратких чертах на общем положении дел. Восстание 1863 года, как известно, вовсе не было неожиданностью для лиц, следивших за ходом событий в Польше. В конце 50-х годов пишущему эти строки приходилось неоднократно путешествовать в Польше, и происходившее в стране брожение бросалось ему в глаза. Незнакомые люди, случайно встретившись в общественных местах, тотчас же принимались толковать о наступающей новой эре в польской жизни и высказывали самые радужные надежды относительно возможности восстановления стародавней Польши. Тогдашние высшие административные сферы Варшавы тотчас же после смерти Паскевича начали относиться с большим недоверием к будущему и деятельно обсуждали вопрос о целесообразности более решительных мер. В 1861 году брожение уже совершенно ясно приняло революционный характер; в следующем году в самой Польше никто уже не сомневался, что страна находится накануне восстания. В высших варшавских административных сферах – как нам неоднократно приходилось слышать – с горячностью рассуждали о политике, которой следует придерживаться, причем одни высказывались за энергичные мероприятия, другие защищали меры кротости и соглашения с поляками, наконец третьи предлагали ряд законодательных мер, выразителями которых явились впоследствии Н. Милютин и князь Черкасский. Польское восстание подготовлялось очень долго, почти с того момента, как в страну вернулись вследствие амнистии, дарованной при коронации, 9 тысяч эмигрантов, и с тех пор, как слухи об освобождении крестьян в России заставили польскую шляхту опасаться, что похожая социальная реформа будет проведена и на их родине. Нельзя не отметить факта, что Катков, выступивший таким горячим защитником русских государственных интересов в 1863 году, не обмолвился ни одним словом о грозившей опасности ни в «Русском вестнике», ни в «Современной летописи», а между тем по другим вопросам он высказывался уже тогда с большой самостоятельностью. Пробегая его издания тех годов, никому и в голову не могло прийти, что в Польше готовятся грозные для России события. Правда, и в петербургских газетах того времени мало говорилось о Польше, но они до такой степени были поглощены обсуждением чисто русских злободневностей и, при тогдашнем их настроении, назревавший польский вопрос так мало гармонировал с их более или менее светлыми надеждами на будущее, что нерасположение обсуждать этот вопрос вполне понятно. Катков же тогда вел горячую полемику с проживавшими в Лондоне русскими эмигрантами, усматривая в их деятельности большую опасность для России, а о событиях, подготовлявшихся в Польше, он ничего не подозревал. Только когда 10 января 1863 года в Польше вспыхнул открытый мятеж, Катков очнулся, но на первых порах продолжал обсуждать польский вопрос еще довольно вяло, без всякого определенного плана. Только постепенно, по мере того как появились Высочайший манифест и указ правительствующего Сената об амнистии, как с разных сторон посыпались всеподданнейшие адреса и началась оживленная дипломатическая переписка, «Московские ведомости» все больше одушевляются и начинают говорить решительным и страстным языком.
Голос Каткова тогда один раздавался в нашей печати. Другие газеты высказывались весьма неопределенно или совершенно безмолвствовали. Даже славянофильский «День» в первое время не проронил ни слова; но он красноречиво объяснил причину своего молчания, помещая вместо передовой статьи, во главе номера, в большом пустом квадрате, лаконические слова: «Москва, такого-то числа». Мы указывали уже, что в конце 50-х и в начале 60-х годов вследствие переходного времени, переживаемого тогда Россией, сама цензура, не будучи в точности осведомлена о настроении высших правительственных сфер, весьма часто при одобрении тех или других статей проявляла неуверенность или робость, хотя бы эти статьи и были совершенно невинны и патриотичны. Особенно это замечалось при обсуждении печатью животрепещущих злоб дня, ближайших политических задач, государственных или общественных вопросов. Обсуждение польских событий считалось «запретным плодом». Но Катков, как мы выяснили, находился благодаря покровительству видных государственных деятелей в совершенно исключительном положении. Он давно мог говорить, но не говорил. Очевидно, он плохо понимал истинное положение дел, и только когда опасность окончательно стала явной, когда поляки произвели во всей Польше, за исключением Варшавы, нападения на наши войска, Катков начал высказываться в патриотическом духе, – в духе статьи о народных песнях, составленной им в молодости. Его голос в качестве голоса представителя независимой печати, вступившего, как тогда казалось, с необычайною смелостью в обсуждение вопроса первостепенной государственной важности, не мог не произвести впечатления как в самом обществе, так и в правительственных сферах. Он произвел впечатление и по другой причине. Статья Каткова о народном песнетворчестве была встречена Белинским с восторгом и вызвала общее сочувствие, потому что она дышала верою в народные силы, создавшие Россию. Но со времени появления этой статьи между представителями русского независимого слова произошел раскол. Они распались на западников и славянофилов и, как известно, западничество стало преобладающим течением нашей общественной мысли. Взоры тогдашних выдающихся писателей были направлены на Европу. Оттуда ожидалось обновление русской жизни; там сосредоточивались симпатии русских интеллигентных людей. Польша признавалась до некоторой степени представительницею начал западной жизни. При таком настроении общественного мнения польское восстание истолковывалось в смысле стремления к свободе и Польша внушала к себе сочувствие. Не следует при этом упускать из виду, что и правительство колебалось в своих решениях и долгое время надеялось побороть готовившееся восстание мерами кротости, путем соглашения. С надеждами на это состоялось назначение великого князя Константина Николаевича наместником Царства Польского, был восстановлен польский Государственный совет и начальником гражданского управления был назначен маркиз Велепольский. От всех этих мер правительство и общество ожидали благих результатов. Но, как мы уже указывали, в правительственной среде и особенно между администраторами, близко знакомыми с тогдашним настроением умов в Польше, существовали сильные сомнения относительно благотворного влияния примирительных мер. Понятно, что, когда вспыхнул польский мятеж, когда поляки сделали попытку обезоружить и вырезать наши войска, лица, настаивавшие на необходимости крутых мер, приобрели влияние и силу. Вместе с тем, как всегда, когда нашему отечеству угрожает внешняя опасность, патриотическое чувство пробудилось и в самом обществе. Вот в этот-то момент Катков, пользуясь своим благоприятным положением, вдруг возвысил голос и заговорил в духе пробудившегося патриотизма. Он восстал против мечты поляков о восстановлении прежней Польши. Он апеллировал к патриотическим чувствам русского народа и решительно примкнул к лагерю людей, восставших против дальнейших уступок. Понятно, что его слово должно было обратить на себя внимание: в нем звучало нечто неслыханное до тех пор – вторжение газеты в решение вопроса первостепенной государственной важности, по-видимому? совершенно изъятого из области газетного обсуждения. Таким образом, Каткову удалось сразу создать для печати благоприятное положение. Даже та часть общества, которая не сочувствовала его политике в польском вопросе, не могла не признать, что ему принадлежит почин в деле расширения свободы печати.
Мы не станем здесь возвращаться к вопросу об обстоятельствах, облегчивших Каткову возможность решительного почина в этом деле. Но необходимо выяснить, как он воспользовался своим влиятельным положением.
В начинаниях нашего правительства замечался примирительный дух, склонность кончить полюбовно с затруднениями. Тотчас после нападения, совершенного на наши войска, император Александр II на воскресном разводе Измайловского полка поспешил заявить, что он не обвиняет весь польский народ, а видит в этих печальных событиях только работу революционной партии. 31 марта, т. е. через три месяца, после того как вспыхнул мятеж, был обнародован манифест, в котором подтверждалась неприкосновенность уже дарованных Польше учреждений, равно как и намерение правительства приступить к их дальнейшему развитию. Тогда же Катков высказывается в том смысле, что «в интересах России, самой Польши и целой Европы лежит не подавлять польскую народность, а призвать ее к новой, общей с Россиею политической жизни».
Так рассуждал Катков в конце марта и первой половине апреля. Но затем в его рассуждениях вдруг произошел перелом: он начинает высказываться за крутые репрессивные меры. Со стороны казалось: ничто не могло его к этому побуждать. Сторонник западноевропейских порядков, восторженный англоман вдруг превращается в проповедника диктатуры. Еще вчера он высказывался, правда, за сохранение национальных прав, но советовал относиться по возможности снисходительно к родственному народу, вовлеченному в мятеж революционными элементами; сегодня он вдруг изменяет тон и требует самых крутых мер по отношению к тому же родственному народу. Такая перемена в настроении могла казаться загадочной. Но теперь мы знаем, что 17 апреля в первый раз выяснилось, что Муравьев будет назначен на важный пост в восставших губерниях. Действительно, уже 1 мая состоялось назначение Муравьева виленским генерал-губернатором, – и вот Катков становится горячим сторонником подавления восстания железною рукой.
Но еще интереснее следующий факт. Назначение Муравьева виленским генерал-губернатором ознаменовало собою коренную перемену в правительственной системе. Но оно было только частным выражением этой перемены. Уже летом 1863 года окончательно созрел в правительственных сферах целый план коренных законодательных и административных реформ по отношению к Польше. Заметим теперь же, что этот план, если иметь в виду не временные репрессивные меры, носителем которых был Муравьев, а основной характер политики России, – находился в самой тесной связи с историческим развитием русско-польских отношений. Крутые меры, принятые в северо– и юго-западном крае, составляли только частное проявление задуманного общего плана. Главное же внимание было направлено на установление в Польше такого политического и социального строя, который в будущем предотвращал бы возможность новых потрясений. Чтобы оценить значение этого плана, необходимо вспомнить, что со времени присоединения Царства Польского к России вплоть до лета 1863 года наше правительство придерживалось такой системы управления, которая по существу своему была основана на единении с польскими правящими классами в ущерб народной массе. Правда, русское правительство сознавало ненормальность этого положения дел и сознавало тем яснее, чем более назревал вопрос об освобождении крестьян в самой России. Уже при Николае I неоднократно заходила речь об облегчении тяжелой участи польских крестьян, находившихся в качестве бездомных батраков или работников в полной власти у магнатов и шляхты. С этою целью еще в 1846 году последовал по личной инициативе императора и во время его пребывания в Варшаве закон, в силу которого всем крестьянам, обрабатывавшим не менее трех моргов земли, даровано было неотъемлемое право на те участки и строения, которыми они пользовались до обнародования закона, а помещикам строго воспрещалось лишать исправных крестьян земельных участков. Кроме того, в законе содержались и многие другие постановления, облегчавшие участь крестьян. Двенадцать лет спустя, в 1858 году, последовал новый закон, в силу которого устранялись злоупотребления, вызванные законом 1846 года, и устанавливались условия более благоприятные для полюбовного соглашения в выкупной операции. Но оба этих закона остались более или менее мертвою буквою: польские помещики их обходили, а правительство не настаивало на полном их исполнении. Надо ли указывать на причину такой снисходительности? Она вызывалась желанием правительства поддерживать хорошие отношения с польской шляхтою и этим путем обезопасить себя от революционного движения с ее стороны.
Политика, которой придерживалось наше правительство по отношению к Польше с 1858 по 1863 год, также объясняется в значительной степени этими соображениями, хотя, с другой стороны, на примирительный ее характер влияло и общее настроение правящих сфер, полагавших, что либеральные реформы лучше всего обеспечивают как мирное течение дел, так и народное благосостояние. Только при таких условиях правительство могло в момент уже резко обозначившегося революционного движения доверить управление Польшей поляку, предоставив ему самые широкие полномочия. Маркиз Велепольский, однако, потерпел полное крушение. Заметим, что и он не решился приступить к освобождению крестьян от безусловной почти власти помещиков, зная, что этим он вооружит против себя тот класс населения, поддержка которого была ему необходима для осуществления его трудной миссии. Но, несмотря на эту поблажку, и он ничего не достиг. Польская шляхта, восставшая против русского правительства, отвергла и Велепольского, спасшегося от смерти только каким-то чудом.
И вот, когда полюбовное соглашение оказалось неосуществимым, русское правительство решилось отказаться от несостоятельного союза с польским дворянством и опереться на широкие народные массы. Это решение выразилось в законе 19 февраля 1864 года, предоставлявшем польским крестьянам поземельную собственность и положившем основание их независимому социальному и экономическому существованию. Это был решительный и коренной поворот в системе управления Польшей, и последствия этого поворота рельефно выразились в том общеизвестном факте, что польские крестьяне, занимавшие в начале мятежа, если можно так выразиться, нейтральное положение между русским правительством и повстанцами, затем, по мере того как намерения русского правительства стали все более проясняться, начали оказывать русским властям энергичное содействие в деле подавления мятежа. Можем засвидетельствовать, что еще в конце пятидесятых годов некоторые русские администраторы в Варшаве с уверенностью заявляли, что если бы наше правительство не отложило в угоду шляхте вопрос о наделе польских крестьян землей и решило бы этот вопрос одновременно с освобождением крестьян в России, то все разгоревшееся тогда восстание сразу бы улеглось. Содействие, оказанное польскими крестьянами русским властям в деле подавления мятежа в 1863 году и в начале 1864 года, подтверждает эту точку зрения. Кроме того, наделавшее нам столько хлопот и угрожавшее нам серьезною опасностью вмешательство иностранных держав было бы в таком случае избегнуто, потому что ни одно цивилизованное правительство не решилось бы дискредитировать себя в глазах собственного населения, принимая сторону польской революции, вспыхнувшей в такой именно момент, когда русское правительство приступило к гуманной и благодетельной реформе – к обеспечению экономического и социального быта сельского пролетариата в несколько миллионов душ.
Как бы то ни было, правительство наконец приступило к этой реформе. Но Катков, принявший на себя роль горячего защитника национального развития, долгое время не проронил ни одного слова по поводу целесообразного решения этого вопроса. Первым на необходимость крестьянской реформы указал в печати Иван Аксаков в своем «Дне». Но Катков обрушился на него за это всем своим гневом. Он доказывал, что такая коренная реформа немыслима, что она потребует целого ряда подготовительных мер, что она может осуществиться лишь в отдаленном будущем. Все это писалось Катковым в сентябре 1863 года, а 19 февраля 1864 года реформа уже осуществилась. Не поразительно ли, что именно в тот момент, когда наше правительство уже задумало коренные реформы в духе улучшения участи польских народных масс, когда в Петербурге уже разрабатывался план этих реформ во всех частностях, когда даже были намечены лица, на которых будет возложено его осуществление, Катков безмолвствовал относительно этой самой существенной стороны улаживания польского вопроса и писал только статьи в защиту строгих репрессивных мер, принятых Муравьевым. Только когда последовал решительный приступ к осуществлению этих реформ, когда оно было возложено на Н. Милютина и князя Черкасского, Катков вспомнил, что нельзя ограничиться одними репрессивными мерами. Но и тогда он защищал милютинское дело далеко не так страстно, как защищал Муравьева или впоследствии нападал на Потапова. Таким образом, знакомясь со статьями «Московских ведомостей» по польскому вопросу, мы должны признать, что Катков в решении этого вопроса проявил большую недальновидность и, энергично защищая национальный принцип, почти совершенно упустил из виду положительное законодательство, от успеха которого зависела не только в то время, но и в отдаленном будущем возможность решения польского вопроса на здравых исторических, социальных и экономических основаниях. Мы так подробно остановились на деятельности Каткова во время польского мятежа отчасти потому, что как сам Катков, так и его сторонники придавали и придают ей громадное значение, отчасти же и потому, что она самым решительным образом повлияла на все его дальнейшее настроение. Действительно, только уяснив себе значение тогдашних статей Каткова, обстоятельств, которыми они были вызваны, и успех, который они имели, мы поймем характер всей его последующей публицистической деятельности. Потерпев разочарование в своих юношеских литературных работах, испытав большие лишения во время своего пребывания за границей и по возвращении оттуда, он стал успешно налаживать связи с высокопоставленными лицами и, по-видимому, совершенно отказался от литературного труда, променяв журнал и газету на кафедру. Затем, когда кафедра, которую он занимал, была упразднена, он благодаря своим связям одновременно назначается чиновником особых поручений при министре народного просвещения и редактором полуказенного издания. К своей редакторской деятельности он, однако, относится довольно безучастно, видя в ней больше средство к существованию, чем удовлетворение внутренней потребности. Положение его остается весьма скромным, и он мечтает о том, как бы расширить свою деятельность. Литературные знакомства, с одной стороны, связи в высших административных сферах – с другой, позволяют ему приступить к изданию самостоятельного журнала, который благодаря участию в нем первоклассных литературных сил имеет значительный успех. Сперва робко, затем все увереннее Катков сам начинает писать в этом журнале, вступая в полемику со своими тогдашними конкурентами. Его деятельность в «Русском вестнике» совпадает с возрастом, когда человек гораздо меньше склонен увлекаться разными утопиями или радикальными теориями. Общение с правительственными деятелями к тому же предохраняет его от всяких опасных порывов. Продолжительный ученый труд в значительной степени содействовал уравновешению его духовных сил; знакомство со строем английской государственной жизни вызывает в нем симпатии к медленному, но верному развитию политических учреждений. Он начинает восставать против революционеров, добивающихся внезапного прогресса путем насильственных переворотов. Совокупность всех этих причин приводит его к борьбе с Герценом и другими радикальными умами. Его связи с административными деятелями дают ему возможность выступить решительно в этом направлении. Но он сохраняет за собою характер полной независимости, тщательно избегая всего, что навлекло бы на него подозрения в официозности. Получение «Московских ведомостей» в аренду расширяет поле его деятельности и совпадает с сильным возбуждением русской общественной мысли из-за вспыхнувшего польского мятежа. Память о литературных успехах, достигнутых в молодости статьею о силах, таящихся в русском народе, побуждает его высказаться по поводу «польского вопроса» в национальном духе. Его слово совпало, как мы говорили, с возбужденным настроением общества. Нашему отечеству угрожала не только Польша, но почти вся Европа, за исключением одной Пруссии. Произошел, как можно было предвидеть, взрыв патриотического чувства. В Москве и других местах крестьяне и рабочие собирались в церквах, чтобы служить панихиды по убитым русским воинам и молебны за победу русского оружия. Разные сословия обращались к правительству с адресами, в которых выражалась готовность нести всевозможные жертвы для ограждения интересов отечества. Катков один в независимой русской печати высказывался в том же духе. Поэтому читателям газет могло казаться, что все это общественное движение как бы вызвано Катковым, и он сам впоследствии этому поверил. На самом же деле, понятно, подъем патриотического чувства вызывался гораздо более могущественными факторами, чем статьи тогдашнего редактора «Московских ведомостей». Во все эпохи тяжких внешних испытаний, когда правительственная власть обращалась к народу с указанием на опасности, угрожающие России, у нас всегда бывали в ходу патриотические изъявления. К тому же первый адрес исходил от петербургского дворянства, за ним следовал адрес петербургского городского общества. Почин в этом деле исходил, следовательно, не от Москвы, а от Петербурга, и только его примеру последовали другие города. Но Катков примкнул к этому движению и в конце концов, кажется, уверовал сам и убедил других, что именно он спас в эти дни Россию.
Любопытен факт, рассказываемый по этому поводу г-ном Любимовым. Через шесть месяцев после того, как вспыхнуло восстание (19 июля 1863 года), Катков получил от саратовского дворянства телеграмму с изъявлением сочувствия его мнениям. «Краска бросилась в его лицо, – говорит г-н Любимов, когда он прочел бывшие неожиданностью для него строки», и затем г-н Любимов с Леонтьевым еще долго беседовали о том значении, какое столь неожиданно приобрела деятельность Каткова. Очевидно, сам Катков и его ближайшие помощники далеки были в первые месяцы восстания от мысли о государственном значении деятельности Каткова. Но постепенно они «втянулись» в эту мысль, потому что в конце 1864 года, в течение 1865-го и особенно в 1866 году Катков в своих так называемых «горячих» статьях уже прямо выступает защитником России против разных антигосударственных тенденций не только в самом обществе, но и в правительственных сферах и приписывает этим антигосударственным тенденциям значение интриги, направленной не только против благополучия России, но и лично против него. Именно в этом обстоятельстве следует искать корень его убеждения, что он призван стоять на страже русских государственных интересов и что все лица, не сочувствующие его воззрениям, являются врагами отечества. Отсюда вытекала далее его нетерпимость к чужим мнениям и его заносчивость.
Но его статьи по польскому вопросу еще и в другом отношении самым решительным образом отразились на всей дальнейшей его публицистической деятельности. Входя в роль единственного компетентного охранителя русских государственных интересов, он, как мы указывали, начал выступать обличителем антигосударственных тенденций не только в обществе, но и в правительственных сферах. Ему мерещилось, что некоторые государственные деятели замышляют измену, направленную против России и против него, Каткова. Он не допускал, чтобы столкновение вызывалось простым различием во взглядах на целесообразность тех или других административных и законодательных мероприятий. Успех его статей по польскому вопросу вскружил ему голову. Всякое противоречие представлялось ему последствием изменнической интриги. Только те государственные и общественные деятели, которые действовали в духе его статей, признавались им патриотами и благонамеренными людьми, и так как его идеи в дальнейшем своем развитии не соответствовали ни настроению общества, ни видам правительства, то он всюду видел врагов и вступал с ними в ожесточенную борьбу. Его личные враги казались ему в то же время и врагами России. Поэтому Катков признавал своею обязанностью не давать им пощады. На общественное мнение он уже обращал мало внимания. Свои громы он направлял преимущественно против враждебных ему органов печати и правительственных лиц, будто бы их вдохновляющих. Он начал восставать против официозных органов и обвинял их в том, что они подкуплены враждебными ему правительственными деятелями. До чего он зарвался в этом отношении, показывает, например, тот общеизвестный факт, что когда в июне 1865 года государь, принимая польскую депутацию, заявил ей, что он одинаково любит всех своих верных подданных: «русских, поляков, финляндцев, лифляндцев», – Катков, усмотрев в этих словах неодобрение лично «его» национальной политики, временно прекратил помещение передовых статей в «Московских ведомостях».
Глава V
Столкновения с администрацией, – Борьба с А. В. Головниным. – Увлечение классической системою. – Национальная политика. – Предостережение. – Аудиенция в Ильинском. – Новое предостережение и долголетнее молчание Каткова по поводу «национального вопроса»
Борьба Каткова с различными правительственными деятелями все обострялась. Он продолжал решительно высказываться в том смысле, что если его советы не принимаются во внимание, если в правительственных сферах существуют деятели, не вполне сочувствующие его отношению к национальной политике, то это объясняется не различием во взглядах на целесообразность той или другой системы управления, а всеобъемлющей интригою, в которой участвуют наряду с поляками, заграничными революционными элементами и русскими общественными деятелями и некоторые государственные люди. Ему казалось, что польский мятеж раскрыл ему глаза на сокровеннейшие пружины государственной политики, и он с горячностью неофита обрушился всем своим гневом на людей, которых считал причастными к обнаруженной им интриге. Не довольствуясь второстепенными деятелями, борьбою с такими людьми, как известный барон Фиркс (Шедо-Ферроти), указывавший на крайности катковского национального направления, и с «Голосом» – по его мнению, выразителем тех же антигосударственных тенденций, – он искал лиц, вдохновлявших его открытых врагов, и в своих розысках забирал все выше и выше. В этой полемике он начал договариваться до таких резкостей, которые, очевидно, не могли быть терпимы. Он говорил, что Россию хотят «уподобить Австрии введением в ее государственный организм принципа национального разделения», он упоминал о существовании «внутренних воров, в которых и заключается вся беда». «В порядке ли вещей, – спрашивал он, – что планы национального обособления встречают поддержку и сочувствие в некоторых правительственных сферах? Не странное ли дело, что мысль о государственном единстве России должна себе прокладывать путь с тяжкими усилиями, подвергаться всевозможным поруганиям как галлюцинация, как бред безумия, как злой умысел, как демократическая революция и встречать себе неутомимых и ожесточенных противников в сферах влиятельных, – противников, не отступающих ни перед какими средствами?»
К этому времени относится громкое столкновение Каткова с тогдашним министром народного просвещения А. В. Головниным, совпавшее с началом ряда страстных выступлений Каткова в пользу классической системы образования. До второй половины 1864 года Катков очень мало интересовался вопросом о будущей организации наших гимназий. Несмотря на то, что правительственные сферы были деятельно заняты его обсуждением, Катков относился к нему совершенно безучастно, и статьи по этому вопросу писались в «Московских ведомостях» г-ном Любимовым без всякого содействия со стороны Каткова. Новый гимназический устав был встречен «Московскими ведомостями» не только сочувственно, но прямо восторженно. «Мы смело можем сказать, – писали „Московские ведомости“ в конце 1864 года по поводу обнародования нового устава, – что эта огромная по своим размерам реформа, негромкая и малозаметная, окажется в своих последствиях одним из плодотворнейших дел нынешнего царствования и будет его славою». Но вслед за тем отношения между Катковым и А. В. Головниным, отличавшиеся раньше большим дружелюбием, приобретают неприязненный характер. Вместе с тем Катков начинает сильно интересоваться положением гимназического образования и сам пишет «горячие» статьи по этому вопросу. Восторженное отношение к уставу 1864 года сменяется явным недружелюбием к нему. В 1865 году Катков уже находит, что новый устав, хотя и «заслуживает полного сочувствия в своих началах», но «неудовлетворителен в подробностях своей программы и что этими подробностями обессиливаются и роняются его начала». Через два года, когда министром народного просвещения состоял уже не А. В. Головнин, а граф Д. А. Толстой и в административных сферах разрабатывается новый гимназический устав, Катков полагает, что в уставе 1864 года «все дело реформы висит как бы на волоске» и что «нет ничего легче, как направить его при исполнении в противоположную сторону». Отсюда видно, как взгляды Каткова колебались и в оценке законодательных мероприятий педагогического свойства и всецело зависели от тех или других веяний в административных сферах. Полное осуждение устава 1864 года совпало с намерением Каткова основать лицей цесаревича Николая, которое и осуществилось в 1868 году. Но и тут Катков проявил большую непоследовательность. Все время он ратовал за солидное образование, а между тем в своем лицее установил сокращенный, то есть трехлетний университетский курс! Кроме того, можно было бы думать, что он как страстный сторонник классической системы и как бывший профессор и педагог лично будет руководить лицеем. Но на деле он возложил педагогическую часть на Леонтьева, а сам принял на себя только хлопоты (весьма успешные, заметим мимоходом) по приисканию денежных средств для лицея, который без доброхотных пожертвований со стороны, по свидетельству г-на Любимова, не мог бы существовать.
Из всего этого видно, что классическая система, в сущности, вовсе не была основною причиною столкновения между Катковым и А. В. Головниным. Столкновение это было только отголоском другой, более широкой и значительной борьбы, происходившей в правительственных сферах, к которой Катков ловко примкнул и которую он первый решился довести до сведения общества. В этом смысле соответственные статьи Каткова не были лишены значения, но видеть в них проявление самостоятельного взгляда Каткова по меньшей мере наивно. Самостоятельностью и последовательностью в своих взглядах Катков никогда не отличался: он почти всегда пел с чужого голоса. В начале своей публицистической карьеры он пользовался покровительством графа Строганова, князя Вяземского, графа Блудова; потом его покровителями были Н. А. Милютин, князь Горчаков и Д. А. Милютин (впоследствии граф). Однако все эти государственные деятели постепенно от него отрекались. Наиболее продолжительным покровительством он пользовался со стороны графа Д. А. Толстого, горячего сторонника классической системы образования. Вступление последнего в должность министра народного просвещения (в 1866 году) и послужило для Каткова, как мы видели, сигналом к окончательному осуждению устава 1864 года. Граф Д. Толстой, как только был назначен министром вслед за каракозовским покушением, приступил к энергичным работам по изучению гимназической системы и пользовался в этом деле преимущественно содействием покойного профессора греческой словесности при Петербургском университете И. Б. Штейнмана (директора Петропавловской школы, а впоследствии историко-филологического института). Новый гимназический устав 1871 года и является делом его рук, любимым его детищем; он постоянно работал над ним с графом Толстым, ездил за границу для точного ознакомления с гимназическим образованием в других странах, защищал вместе с графом Толстым новый устав в Государственном совете. Мы упоминаем обо всем этом, чтобы выяснить, до какой степени несостоятельна легенда, будто бы Россия обязана Каткову системою классического образования. Катков и тут, как и во всех других вопросах, вторил только лицам, покровительствовавшим ему, – и вторил подчас очень неумело.
Так и в борьбе, возгоревшейся из-за «польского вопроса» и вскоре принявшей более общий характер, Катков не сумел быть выразителем идей тех элементов, которые для успешной борьбы с Польшею и с западными державами настаивали на национальной политике. Он и тут хватил через край, «обобщая» Польшу с Россией, или, точнее говоря, разочарования реформами в «польском вопросе» с разочарованием реформами вообще. А. В. Головнин и граф Валуев оказались против него; князь Горчаков и граф Милютин защищали его вяло. Поэтому неудивительно, что Каткова начали подвергать штрафам и внушениям. Это выводило его из себя. Он мечтал о роли «спасителя отечества» – и вдруг такая проза! Одно время он даже как будто решился бросить «Московские ведомости». Но, понятно, это была только уловка. За него, однако, вступился университет, который, по предложению профессоров Любимова и Соловьева, ходатайствовал о подчинении «Московских ведомостей» университетской цензуре. Это ходатайство не было уважено; но при этом оказалось, что Катков находит себе еще поддержку со стороны графа Милютина и князя Горчакова. Это его опять ободрило, и он снова дал полную волю своим нападкам на других правительственных лиц. Его расчет, однако, на этот раз не оправдался. Он получил предостережение, в мотивах которого прямо говорилось, что оно вызвано статьей, в которой «правительственным лицам приписываются стремления, свойственные врагам России, и мысль о государственном единстве выставляется как бы мыслью новой, будто бы встречающей в среде правительства предосудительное противодействие». Предостережение, впрочем, не испугало Каткова. Он в то время до такой степени преисполнился сознания своей миссии «спасителя отечества» и так был еще уверен в поддержке покровительствовавших ему лиц, что наотрез отказался поместить предостережение, сделанное ему через полицию. Он заявил в своей газете, что не напечатает его, воспользуется предоставленным ему законом правом не принимать предостережения в течение трех месяцев и будет платить установленный законом штраф в размере 25 рублей за каждый номер, а затем прекратит свою деятельность по изданию «Московских ведомостей». Кроме того, он выразил надежду, что «правительство возвратится на собственное решение». Происшедшее в это время покушение Каракозова подлило масла в огонь. Раскрывая причины этого покушения, Катков заговорил уже о польском патриотизме в России, о том, что нигилисты «являются только его жертвами». Далее он уже прямо спрашивает: «Где был истинный корень мятежа, – в Париже, Варшаве, Вильне? Нет, – отвечает он, – в Петербурге» – и, как бы опасаясь, что мысль его недостаточно ясна, прибавляет в другом номере своей газеты, что «колеблют доверие к правительству не нигилисты, а те, которые протестуют против сильных влияний, способствующих злу». Словом, Катков уже смешивает полонизм, нигилизм и несочувственное отношение к себе некоторых государственных деятелей, и все это объединяет в одну грозную интригу, направленную столько же против благоденствия России, сколько и лично против него. Кончилось дело тем, что Катков получил 6 мая 1866 года второе предостережение, а на следующий день третье, и его издательская деятельность была приостановлена на два месяца. Об этом событии Катков оповестил своих читателей в следующих торжественных выражениях: «До сих пор, – писал он, – в истории этого столетнего издания („Московских ведомостей“) были только два случая перерыва: один – в семидесятых годах прошлого столетия во время чумы, другой – в двенадцатом году, при нашествии французов; третьему случаю суждено было осуществиться в настоящее время по нашей вине».
Но молчание Каткова продолжалось недолго. Через месяц с небольшим государь посетил Москву. Каткову после долгих усилий удалось наконец испросить себе аудиенцию[7], и ему было разрешено возобновить свою прежнюю деятельность. Через месяц Катков снова выступил с рядом «горячих» статей, которые начал с заявления, что он «преисполнился новой бодрости, пережив минуты, которые бросили радостный отблеск на его прошедшее и в которых он находит благодатное возбуждение для будущего». Но с этого момента Катков перестал уже нападать на представителей центральной администрации. В конце 60-х годов он уже довольствуется резкими нападками на местную администрацию северо-западного края. Мишенью для своих выстрелов он избрал виленского генерал-губернатора Потапова. Но скоро он убедился, что и этого рода нападки на правительственных лиц не остаются для него безнаказанными. Катков снова получил предостережение за «изображение многих сторон правительственной деятельности в превратном виде», и дело кончилось тем, что он признал более благоразумным воздерживаться впредь от крайностей в защите национальной политики. Прежние его покровители, Милютин и князь Горчаков, как мы уже упоминали, не могли да и не хотели оказывать ему поддержку в его очевидных увлечениях, и Катков умолк со своими суждениями о «национальном вопросе» больше чем на десять лет, вплоть до нового царствования, предпочитая довольствоваться прежними лаврами, чем заслужить новые с явным риском для своей публицистической деятельности и связанного с нею выгодного положения.
Глава VI
Мнимая страстность Каткова, – Польская интрига. – Первоначальное отношение Каткова к реформам прошлого царствования. – Оценка им важнейших событий шестидесятых годов.
Таким образом, уже тогда вполне определилась одна из основных черт публицистической деятельности Каткова. Если он с такой решительностью выдвинул «национальный принцип», то это объясняется в значительной степени желанием найти своеобразный и твердый базис для своей деятельности в качестве редактора «Московских ведомостей». Он вспомнил свои первые успешные шаги на литературном поприще и, прислушиваясь к настроению москвичей, пришел к заключению, что новая ссылка на силы, таящиеся в русском народе, может сослужить ему и в данном случае немаловажную службу. Полная непоследовательность, которую он проявлял в этом отношении, его нисколько не смущала. Горячий приверженец западной культуры и западных порядков, каким он выступил в «Русском вестнике», вдруг превратился в ярого сторонника того направления, которое он в своих письмах к Краевскому клеймил кличкою «русопетского». Бывший рьяный антагонист Погодина и Шевырева протягивает им теперь руку и говорит и действует именно в их духе. Достигнутый им успех окончательно определяет характер его последующей деятельности. Если он в начале польского мятежа говорил, что Россия вовсе не заинтересована в том, чтобы подавлять польскую народность, то со времени назначения Муравьева виленским генерал-губернатором он уже довольно решительно начинает высказываться за обрусение не только западных губерний, но и Царства Польского, затем распространяет эту систему на остзейские губернии и вообще выступает страстным ее глашатаем.
Однако несмотря на эту кажущуюся страстность, он, как показывают факты, хорошо владел собою, когда нужно было, или, говоря иначе, когда превышающие его силы обстоятельства того требовали. В этом отношении достаточно сопоставить его с родственным ему публицистом Иваном Сергеевичем Аксаковым, чтобы понять, как расчетливо действовал Катков и как он умел ограничивать себя в оппозиционной своей деятельности. И. С. Аксаков постоянно приводился независящими обстоятельствами к молчанию и к прекращению своей публицистической деятельности. Он не сообразовывался с тем, находятся ли его покровители, или, точнее говоря, лица, сочувствовавшие искренним его убеждениям, во власти или нет; Катков же проявлял смелость, только чувствуя за собою силу. Когда его покровители находились во власти, он говорил громко, уверенно, даже дерзко. Но когда эти покровители сходили со сцены или отрекались от него, он тотчас же сдерживал свои порывы и если не изменял своих убеждений, то благоразумно умалчивал о них. В 1866 году, когда ему еще оказывают поддержку граф Милютин и князь Горчаков, он отвергает данное ему предостережение и продолжает высказываться в прежнем тоне; но в 1870 году, когда вследствие своих чрезмерных «излишеств» он не может уже рассчитывать на сильных покровителей, он смиренно принимает предостережение, публично сознается в своей ошибке и более десяти лет не возбуждает вопроса, вызвавшего неудовольствие в правительственных сферах. Поэтому, в отличие от Аксакова, Каткова можно назвать публицистом, соединявшим в своей деятельности безумную на вид отвагу с предусмотрительною осторожностью.
Отметим, наконец, еще одну характеристическую черту его деятельности, находящуюся в самой тесной связи с его статьями по польскому вопросу. Мы видели, что Катков начал свою публицистическую деятельность полемикою с Герценом и Чернышевским. На этой почве он заслужил первые свои публицистические лавры. Затем наиболее блестящего успеха он достиг во время польской смуты. В его дальнейшей полемике против несимпатичных ему течений русской общественной мысли нигилизм и полонизм сливаются у него почти в одно общее представление. Отрицательное течение русской общественной мысли приписывается им почти исключительно польской интриге. Происходит каракозовское покушение, и Катков торжественно заявляет, что преступник не может быть русским, что он непременно поляк. Когда же он на самом деле оказался русским, Катков начал утверждать, что он – орудие польских рук. Следственная комиссия, однако, выяснила, что польская интрига тут ни при чем. Тогда Катков начинает высказывать неодобрение председателю этой комиссии, то есть Муравьеву, которого он так недавно еще превозносил. Затем следует покушение Березовского. Тут Катков уже прямо заявляет, что «помешанный мальчишка, совершивший покушение 4 апреля, был орудием того же самого дела, которое в Париже нашло себе прямого исполнителя». Студенческие беспорядки также постоянно объяснялись им польской интригою. Появление так называемого «интернационального общества» приписывалось им также польской интриге, и когда для всех стало уже совершенно очевидным, что приписывать все эти явления польской интриге значит противоречить и истине, и здравому смыслу, Катков начинает приискивать новую интригу, находящуюся в связи с польской. Он начинает толковать то об интриге враждебных нам западных правительств, то о всесветной революции, вербующей себе жертвы среди нашей молодежи, и только уже в конце своей публицистической деятельности в 80-х годах направляет свои удары против русской интеллигенции вообще, хотя и тут, вторя князю Бисмарку, сражает своих противников громогласным обвинением в том, что они – поляки или жертвы польской интриги. Правительственные сферы уже со времени каракозовского покушения нисколько не сомневались, что обвинять во всем польскую интригу не имеет смысла, и указывали на необходимость более рационального воспитания юношества, призывая родителей к содействию в этом деле. Последовало увольнение министра народного просвещения Головнина, пересмотр гимназического устава. Изо всех этих мероприятий было видно, что правительство ставит этот вопрос гораздо шире, но Катков продолжал настаивать на польской интриге как на главной причине зла.
Мы отметили основные черты публицистической деятельности Каткова в 60-х годах, находящиеся в связи с успехом его статей по польскому вопросу. Но этот успех отразился еще и в другом отношении на его деятельности. Как уже сказано, Катков в конце 50-х и в начале 60-х годов был горячим приверженцем реформ прошлого царствования. С 1863 года он, правда, не охладевает к этим реформам и относится к ним с прежним сочувствием, но как бы не находит времени заниматься ими обстоятельно. Его отвлекают национальный вопрос и борьба с негативными течениями. Свою задачу стоять на страже русских государственных интересов он как бы не распространяет на предпринятые правительством коренные реформы. Появление судебных уставов в 1864 году, которых он ожидал с большим нетерпением, сопровождается почти безусловным молчанием его в течение трех месяцев. Вообще, его отношение к коренным реформам 60-х годов оказалось более вялым, чем можно было ожидать ввиду той горячности, с какою он относился к этим реформам до польского мятежа. Тем не менее, он остается их сторонником и в многочисленных статьях доказывает их целесообразность и пользу. Особенно сочувственно он отнесся к судебной реформе, когда наконец заговорил о ней. «Суд независимый и самостоятельный, не подлежащий административному контролю, – говорил в то время Катков, – возвысит и облагородит общественную среду, ибо через него этот характер независимости и самостоятельности мало-помалу сообщается и всем проявлениям народной жизни». С особенным усердием он защищал принцип несменяемости судей и восставал против бюрократического духа в судебных учреждениях, полагая, что бюрократия весьма склонна «дружиться с революцией, демократизмом и социализмом». Очевидно, высказываясь в этом смысле, Катков имел в виду Францию и распространенность в ней революционных идей в отличие от консервативного духа английских учреждений, приверженцем которых Катков оставался по-прежнему. Он продолжает очень энергично защищать суд присяжных. «Когда же прекратятся, наконец, – спрашивает он еще в 1868 году, – эти вечные пересуды по поводу того или другого приговора присяжных… Не Сидор, Карп и другие судят и приговаривают на суде присяжных, а великий аноним, взятый по указанию жребия из всех слоев общества». Широкой гласности он придавал громадное значение. Вот что он, например, писал по поводу опубликованного в 1867 году закона о запрещении печатать без разрешения правительства постановления земских, дворянских и других собраний: «Публичность без печати есть мир сплетен и интриг». В следующем году он говорил: «Неблагоприятное для земских учреждений направление правительственных мер и в особенности ограничение гласности, которая есть для них то же самое, что воздух для организма, подействовали на них мертвящим образом и им пришлось влачить свое существование без силы, без одушевления, без сочувствия». Положение о земских учреждениях он приветствовал, однако, не особенно восторженно, заявив, что «обсуждать его теперь было бы и неуместно и бесплодно». Но эта холодность отчасти объяснялась тем, что земские учреждения по сфере своей компетенции не соответствовали идеалам Каткова, почерпнутым из системы английского самоуправления. Как мы уже указывали, его прельщала деятельность английского джентри. Впрочем, перед самым польским мятежом он как будто охладел к дворянству. «Пусть дворянство спросит себя, – писал он в 1862 году, – отчего в течение почти ста лет пользования правом съездов до сих пор не установился надлежащим образом даже внешний порядок на выборах. Когда есть о чем совещаться, можно ли превращать заседания в шумный раут; можно ли терять несколько дней на прогулки по зале и по буфетам? Неужели нужно десять дней на сборы, чтобы усесться по местам и открыть общее совещание? Где причина такой медлительности, такой стыдливости громко сказать свое слово, такой нерешимости приступить к занятиям, как не в равнодушии, и где корень равнодушия, как не в разобщенности с земским делом?» Но 1863 год изменяет отношение Каткова к дворянству. Совпадение его национальной политики с содержанием тех адресов, которые дворянство посылало в Петербург по поводу угрожавшей России внешней опасности, возродило прежнее сочувствие Каткова к нему, и всякий раз, когда Каткову приходилось писать об этом сословии, он указывал на то, что оно «непрерывно стоит на страже общих интересов и что достоинство его состоит в чутком, неослабном, разумном патриотизме». Но, вообще-то, он стоял тогда за тот принцип, что не государство существует для дворянства, а дворянство для государства, не пропускал случая, чтобы высказаться против бюрократии и за широкое приложение общественных сил к уврачеванию наших внутренних недугов. Причина многочисленных злоупотреблений заключается, – говорил он, – не в преизбытке самостоятельных сил жизни, а, напротив, в поглощении и подавлении их… Законная бесспорная власть, сильная всею силою своего народа и единая с ним, не имеет повода бояться никакой свободы. Напротив, свобода есть верная союзница и опора такой власти.
В таком духе высказывался Катков в 60-х годах, и этим принципам, постепенно, однако, ослабляя их, он оставался верен и в первой половине 70-х годов. Но об этом ниже. Теперь же мы остановимся, для полноты картины, еще на суждениях Каткова по вопросам внешней политики в этот период его деятельности.
Надо сказать, что в этих суждениях он проявлял мало самостоятельности. Самым крупным событием 60-х годов была австро-прусская война 1866 года. Тогда уже не могло подлежать сомнению, что в Европе народилась новая грозная сила, с которой придется иметь дело и России. В некоторых статьях Каткова замечается, что он это отчасти понимал. Так, он тогда говорил, что вытеснение Австрии из германского союза заставит ее обратить свои взоры на Балканский полуостров. Вместе с тем Катков начинает усиленно интересоваться австрийскими делами, преимущественно же положением австрийских славян. Вступив в 1863 году на путь осмысления национальной политики, он постепенно приходит к тому выводу, что как Франции принадлежит покровительство над романскими народами, а Пруссии над германскими, так Россия призвана защищать интересы славян. Сообразно с этим Катков горячо вступается за австрийских славян, особенно же за галицких русских. Но он еще мало занимается вопросом о взаимном отношении между главными представительницами романского, германского и славянского миров. К Австрии он относится враждебно, потому что она притесняет славян; но его симпатии к Пруссии и Франции постоянно колеблются. Он никакой самостоятельной политики в этом отношении не придерживается и только как бы ощупью комментирует шаги нашей дипломатии. Так, например, во время польского восстания он решительно высказывается против Франции, находя, что наше сближение с нею «может нас только ронять и ослаблять». Но посещение императором Александром II Парижской выставки 1867 года совершенно изменяет его точку зрения и после свидания двух императоров он уже находит, что «истинные хорошо понятые интересы России и Франции не противоречат друг другу ни в чем, и нет на земном шаре ни одного пункта, где бы они не могли быть согласованы и где бы Россия и Франция не могли оказывать друг другу содействия». Враждебные России демонстрации во время процесса Березовского снова изменяют взгляд Каткова на пользу союза с Францией. Мы указываем на это обстоятельство, потому что уже тут вполне прояснилось основное настроение Каткова, давшее ложное истолкование всей нашей внешней политике, именно: его склонность подчинять внешние интересы России внутренней ее политике, или, точнее говоря, его неуменье различать эти две категории часто совершенно расходящихся интересов. Когда в самом конце 60-х годов последовало назначение генерала Флери французским посланником в Петербурге, Катков снова решительно высказывается за союз с Францией и находит, что «сближение России и Франции неотразимо вызывается силою вещей, что бы ни говорили органы и глашатаи берлинской политики, и что оно не требует дипломатических соглашений и не нуждается в трактатах». Этой точки зрения Катков остается верен и в 1870 году. Но, как мы увидим, два года спустя он снова отрекается от Франции и высказывается за Германию.
Глава VII
Семидесятые годы. – Вечные колебания Каткова в вопросах внешней политики. – Разочарование реформами. – Поход против интеллигенции. – Увлечение Бисмарком.
Семидесятые годы ознаменовались во внутренней жизни реформой городского управления, новым гимназическим уставом, введением общей воинской повинности, наконец, целым рядом политических беспорядков, процессов и покушений; во внешней – франко-прусской войною с ее мировыми последствиями и русско-турецкой войною.
Как же отнесся Катков ко всем этим событиям? Начнем с внешних. Мы только что указывали, что в конце 60-х годов «Московские ведомости» ратовали за союз с Францией. Вспыхнувшая франко-прусская война не изменила настроений Каткова. Вопреки официальной политике, явно сочувственной Пруссии, он высказывался за полный нейтралитет России в надежде, что Австрия вступится за Францию и таким образом шансы окажутся не на стороне Пруссии. В этом отношении Катков шел рука об руку с остальной русской печатью и с общественным мнением, относившимся к Франции с полнейшим сочувствием. Когда война кончилась разгромом Франции, Катков требовал энергичного вмешательства держав.
Но это совпадение взглядов Каткова с настроением русского общества скоро опять прекратилось. В 1872 году Катков является уже сторонником тройственного императорского союза и утверждает, что усиление Германии нисколько для нас не опасно. Как плохо Катков был информирован насчет внешних событий, видно из того факта, что в 1875 году, когда Германия собиралась снова напасть на Францию и отказалась от этого намерения лишь вследствие энергичного протеста России, вызвавшего вражду между князем Бисмарком и покойным государственным канцлером князем Горчаковым, Катков решительно отрицал это намерение и усматривал во всех слухах о нем «только интригу английской печати», стремящейся-де «подорвать доверие к трехимператорскому союзу». Но еще сильнее неподготовленность Каткова к обсуждению вопросов внешней политики проявилась во время русско-турецкой войны. Катков увлекся этой войною. Уже во время предшествовавшей ей сербско-турецкой войны он горячо поддерживал генерала Черняева, поощрял добровольцев, собирал пожертвования. Тут он действовал в духе высказанного им тотчас после польского восстания принципа, что Россия должна оказывать покровительство всем славянским племенам. Затем Катков торопил с объявлением войны. Он утверждал, что «мы и без войны уже воюем более года и что необходимо выйти во что бы то ни стало из этого безотрадного положения». Когда наконец наши войска оказались перед Константинополем, он требовал вступления их в Царьград и даже сообщал, что занятие нами турецкой столицы – вопрос решенный. На самом деле, как известно, никакого решения в этом смысле не могло быть принято, потому что Россия еще до войны обязалась не вступать в Константинополь и только под этим условием и за приличное вознаграждение (Босния и Герцеговина) Австрия согласилась соблюдать нейтралитет. Очевидно, Катков обо всем этом не имел сведений. Он подчинился исключительно своему настроению, то есть желанию увенчать достойным образом тяжелую и кровопролитную войну. На компетентного человека его тогдашние статьи производили очень странное впечатление, так как исполнение его совета могло бы повести к грозному общеевропейскому столкновению: и Англия, и Австрия уже приступили к мобилизации своих вооруженных сил. Наконец, во время Берлинского конгресса Катков вполне разделял точку зрения Аксакова, полагавшего, что главным виновником нашего дипломатического поражения был князь Бисмарк. С тех пор он питал явное несочувствие к германскому канцлеру, и это настроение продолжалось вплоть до конца 1882 года, то есть до того времени, когда для всех проницательных публицистов стал уже совершенно очевидным факт нарождения тройственного союза, направленного в равной мере против Франции и России. Но Катков именно в этот момент, как мы ниже увидим, стал ревностнейшим защитником князя Бисмарка и обрушивался своим гневом на те органы русской печати, которые предостерегали против целей, преследуемых «железным канцлером».
Если при обсуждении вопросов внешней политики Катков в 70-х годах проявил большую неустойчивость, то и по внутренним вопросам статьи его служат наглядным доказательством его постоянных колебаний. В начале 70-х годов он еще видимо сочувствует коренному обновлению нашей государственной и общественной жизни. Так, он горячо высказывается за реформу городского управления. Его, видимо, радует состоявшееся в 1874 году введение общей воинской повинности. Выступая горячим сторонником всевозможного распространения образования, он приводит эту реформу в связь с последним, настойчиво рекомендует установление сокращенных сроков службы для лиц образованных и выражает полное сочувствие всем соответственным мероприятиям. Когда при упразднении института мировых посредников возник вопрос о передаче надзора за крестьянским управлением либо полиции, либо мировым судьям, он решительно высказывается за передачу его последним. Но в то же время в его статьях заметно некоторое разочарование совершенными уже реформами. Так, уже в 1870 году он находит, что деятельность земства представляет во многих отношениях картину безотрадную, хотя и объясняет еще это явление «глухим нерасположением правительственной власти к земским учреждениям». Почти одновременно он начинает заниматься вопросом, поставлен ли у нас институт присяжных вполне правильно. Затем через несколько лет он предлагает заменить приговор присяжных по большинству голосов – единогласным постановлением. Проявляет он и некоторый скептицизм в вопросе о широком участии всех образованных людей в общественном управлении. Симпатии его все более и более склоняются в пользу предоставления дворянству особенно видной роли в этом деле. Как известно, государь в конце 1872 года пригласил дворянство стать на страже народной школы и в следующем году выразил желание более энергичного участия в народной жизни. Катков воспользовался этим поводом, чтобы в энергичных выражениях указать на государственное значение дворянства. Мы уже отметили, почему он отводил дворянству такую видную роль. Ознакомление со строем английской государственной жизни (Катков с этою целью даже специально ездил в Англию) положило основание его симпатиям к сословному началу, а сочувствие, выраженное его статьям по польскому вопросу некоторыми дворянскими собраниями, окончательно упрочило его в этих симпатиях. При таких условиях обращение правительственной власти к дворянству за содействием в решении существенных государственных задач было им встречено с восторгом, тем более что он, как мы видели, постепенно разочаровался в деятельности органов самоуправления, основанных на привлечении всех сословий к этому делу. Но особенно сильно разочарование его реформами проявилось в университетском вопросе. Мысль о пересмотре университетского устава 1863 года возникла уже через одиннадцать лет после его издания, т. е. в 1874 году. Возбуждение этого вопроса совпало с забаллотированием советом Московского университета неразлучного товарища Каткова, Леонтьева. Другой товарищ Каткова, г-н Любимов, высказался при обсуждении этого вопроса в совете за пересмотр устава в духе ограничения прав университетских корпораций. К его мнению, однако, никто не присоединился, и с тех пор между Московским университетом и издателями «Московских ведомостей» установились самые недружелюбные отношения. Все эти признаки совершающегося перелома во взглядах Каткова уже давно бросались в глаза более дальновидным людям. Так, Тургенев еще в 1867 году прервал сношения с Катковым, т. е. перестал печатать свои повести в «Русском вестнике», а в 1872 году он писал Я. П. Полонскому по поводу слухов о болезни Каткова, что московский публицист «давно сделал свое дело и давно уже более ничего не делает, как вредит». Заметим, кстати, что в этой размолвке с Тургеневым наглядно выразилась беспощадность Каткова к своим противникам. В 1879 году Тургенев пишет Л. Н. Толстому: «Когда я отошел от „Русского вестника“, Катков велел меня предуведомить, что я, дескать, не знаю, что значит иметь его врагом». И действительно, Катков с 1867 года был неумолим к Тургеневу и всеми средствами старался вредить ему. Но окончательный поворот во взглядах Каткова произошел лишь на исходе 70-х годов. Во время «процесса девяноста трех» он, согласно со своими прежними взглядами, еще склонен видеть причину подобных явлений в польской или заграничной интриге. Но процесс Веры Засулич ему как бы раскрывает глаза на истинный источник зла. С этого момента он временно забывает о польской интриге и обрушивается своим гневом на русскую интеллигенцию вообще и на «чиновничью» – в особенности. «Есть, очевидно, – пишет он в то время, – какое-то роковое несогласие между нашей интеллигенцией и действительностью. Где в нашей народной жизни выступают ее живые силы, там творятся чудеса, там чувствуется благодать Божия. Но как только заговорит и начнет действовать наша интеллигенция, мы падаем». Вот тема, на которую с тех пор Катков пишет бесчисленное множество статей. Вместе с тем он начинает высказываться самым решительным образом против всего, к чему только прикосновенна интеллигенция. И земские учреждения, и суд, и печать – все подвергается самому решительному осуждению с его стороны. Но во всей силе поход Каткова против интеллигенции проявился только в следующем десятилетии. И тут Катков обнаружил нетерпимость неофита. Очевидно, отрицательные явления в нашей общественной жизни имели более или менее один и тот же источник в 60-х, как и в 70-х годах. Но до второй половины 70-х годов Катков придерживается убеждения, что корень зла заключается в западноевропейских революционных элементах или в интриге враждебных нам держав. С 1878 года он забывает и о польской интриге, и о западноевропейских революционных элементах, и о кознях враждебных нам держав. Все зло заключается, по мнению Каткова, в русской интеллигенции, «партикулярной и чиновной», – и вот он создает себе новый фантом, против которого выступает во всеоружии своих полемических средств. Надо притом заметить, что и в данном вопросе Катков не проявил самостоятельности мысли: нападки на интеллигенцию раздались первоначально в Берлине, как одно из средств, которыми бывший германский канцлер думал победить парламентскую оппозицию, состоявшую из видных представителей интеллигентной Германии. Катков начал теперь увлекаться князем Бисмарком так же сильно, как он прежде увлекался строем английской государственной жизни. Мы указываем на это обстоятельство, потому что оно объяснит нам крупный промах, совершенный Катковым в обсуждении вопросов внешней политики в первой половине 80-х годов, когда он проявлял необыкновенное пристрастие к Германии, несмотря на то, что это государство коренным образом нарушало в то время наши политические и экономические интересы и вообще придерживалось по отношению к России крайне враждебной политики.
Глава VIII
«Диктатура сердца». – Пушкинский праздник. – Самовольное присвоение доходов Московского университета. – Катастрофа 1 марта. – Еврейские погромы. – Новый промах во внешней политике. – Столкновение с министрами финансов и иностранных дел. – Смерть Каткова.
Восьмидесятые годы открываются новым политическим преступлением – взрывом в подвалах Зимнего дворца. Катков немедленно высказывается за установление диктатуры и с большим сочувствием встречает назначение графа Лорис-Меликова начальником Верховной распорядительной комиссии. Сам граф в своих беседах с лечившим его доктором Белоголовым высказывался впоследствии в том смысле, что он тогда стоял за «возможно широкое распространение народного образования, за нестесняемость науки, за расширение и большую самостоятельность самоуправления» и т. д. Это настроение графа Лорис-Меликова проявилось и в его деятельности, и мы видим, что сочувствие к нему Каткова быстро охладело. Пользуясь предоставленной печати более значительною свободой, Катков осмеивал графа и иронически называл его систему «диктатурой сердца». И он имел возможность высказываться с полной свободой: как в 1865—1866 гг. министр народного просвещения А. В. Головнин не стеснял злобных выходок Каткова против него, так и теперь граф Лорис-Меликов относился с большим благодушием и незлобивостью к нападкам «Московских ведомостей». «Далась же им эта диктатура сердца! – говаривал он впоследствии. – И неужели Катков серьезно думал меня уязвить такой лестной кличкой, которой на самом деле я могу лишь гордиться, особенно в такое жесткое и злобствующее время, как наше? Да ведь я почел бы для себя самой величайшею почестью и наградою, если б на моем могильном памятнике вместо всяких эпитафий поместили одну только эту кличку».
Однако чувствуя, что сила не на его стороне, Катков, как всегда с ним бывало в подобных случаях, видимо склонен был пойти на компромисс. Осенью 1880 года он уже пишет: «Истории предстоит доказать, что при данных обстоятельствах, быть может, ничего иного не оставалось делать. Пусть же новые люди войдут в государственное дело и примут на себя долю ответственности в нем; пусть они обновят собою старые порядки. Мы первые порадовались бы, если б опыт удался!» Эти слова были написаны после того, как состоялось увольнение министра народного просвещения графа Толстого. Каткову пришлось из наступательного положения, которое он любил занимать, перейти в оборонительное и доказывать, что классическая система неповинна в постоянно возобновлявшихся политических преступлениях. Насколько он в данном случае плыл по течению, показывает и роль, разыгранная им на Пушкинском празднике. Катков тут вдруг вспомнил о давно минувшем времени, когда он на литературном обеде, устроенном по случаю предстоявшего освобождения крестьян, прославлял Кавелина и восторгался мыслью о примирении и соединении всех литературных партий. И теперь, двадцать четыре года спустя, он произнес на литературном обеде по поводу открытия памятника Пушкину речь, в которой сказал: «Кто бы мы ни были, и откуда бы мы ни пришли, и как бы мы ни разнились во всем прочем, но в этот день на этом торжестве мы все, я надеюсь, единомышленники. И кто знает! Быть может, это минутное сближение послужит для многих залогом более прочного сближения в будущем и поведет к замирению, по крайней мере, к смягчению борьбы между враждующими. Буду еще смелее. На русской почве люди, так же искренно желающие добра, как искренно сошлись мы все на празднике Пушкина, могут сталкиваться и враждовать между собою в общем деле только по недоразумению». Но на этот раз речь Каткова не вызвала уже сочувствия. Напротив, она была встречена с ледяною холодностью, и маститый наш писатель Тургенев даже счел нужным отвернуться от протянутого к нему бокала. Затем на торжество, устроенное Обществом любителей русской словесности по тому же поводу, редактор «Московских ведомостей» не был приглашен, и с этого момента начинается окончательное озлобление Каткова против интеллигенции, против суда, «находящегося как бы в оппозиции к правительству», против земских учреждений, «представляющих собою как бы намек на что-то, как бы начало неизвестно чего, как бы гримасу человека, который хочет чихнуть и не может». Правда, он еще одобряет последовавшее в то время упразднение III отделения, но когда возникают студенческие волнения, уже прямо отвечает на вопрос об истинных виновниках этих печальных событий, что виновна «не молодежь, а люди, возбуждавшие и обольщавшие ее, делавшие ее орудием своих интриг, игравшие ею и губящие ее». Но, несмотря на эти резкие выходки против интеллигенции, в тоне его статей уже не чувствуется прежней самоуверенности: видно большое озлобление, но в то же время замечается и недостаток веры в успех своего дела. В этот именно момент разыгрался всем памятный скандал – обвинение Каткова советом Московского университета в том, что он использовал доходы, причитавшиеся университету. Каткову пришлось оправдываться, и он представил длинную объяснительную записку, в которой ссылается на «личную свою известность государю», на «одобрительный отзыв комитета министров» и доказывает, что он не пользовался благорасположением бывшего министра народного просвещения графа Толстого для присвоения себе доходов университетской корпорации. Скандал этот бросил тень на нравственность Каткова как частного лица и мог бы сильно повредить ему в глазах общества, но почти одновременно разразилась катастрофа 1 марта, и о Каткове забыли под впечатлением этого потрясающего события.
Отношение московского публициста к этому событию было двойственным: с одной стороны, он доказывал, что это дело «польской справы», но с другой – усматривал причину этого глубоко печального события в деятельности лиц, поддерживавших реформы прошлого царствования. Вскоре, однако, выяснилось, что обвинение поляков было, так сказать, только проявлением бессознательного атавизма[8], но что в сущности, по мнению Каткова, причина зла – шатание мысли в среде интеллигенции и либеральные реформы. Манифест 29 апреля 1881 года поддержал Каткова в этой мысли, хотя в нем и подтверждалась решимость управлять Россией в духе учреждений, дарованных императором Александром II. Московский публицист начал доказывать, что «еще несколько месяцев, быть может, недель прежнего режима – и крушение было бы неизбежно», и с небывалым ожесточением обрушился на суды и земские учреждения, уверяя, что они руководствуются в своих действиях оппозицией против администрации и тех воззрений, которые защищал он сам. В таком духе он писал вплоть до своей смерти. Но, как мы сейчас увидим, он не ограничился нападками на суды и земские учреждения. Как и в 1863 году, в дни наибольшей своей славы, он, руководствуясь отмеченною уже выше тактикою, начал и теперь вести ожесточенную кампанию против некоторых министров, против Сената и Государственного совета.
Но не будем отступать от хронологического порядка, которого мы до сих пор придерживались, изучая деятельность Каткова. В 1881 году вспыхнули еврейские погромы. Надо заметить, что еврейский вопрос принадлежит к числу тех весьма немногих вопросов, в которых Катков оставался верен себе с начала своей публицистической деятельности до самой своей смерти. Еще когда у нас очень мало говорили о еврейском вопросе, т. е. в начале 60-х годов, Катков очень решительно высказывался за расширение прав евреев, в особенности за отмену пресловутой черты оседлости, доказывая весь ее вред в экономическом отношении и несостоятельность с точки зрения русских государственных интересов, требующих слияния инородцев с коренным населением, а не искусственного разобщения их. Мы не станем здесь повторять аргументов Каткова в пользу этих основных положений, потому что они всем слишком хорошо известны. Но надо заметить, что Катков, несмотря на свою непоследовательность почти во всех вопросах и на свою склонность подчиняться временным влияниям и настроениям, в данном вопросе в течение всей своей публицистической деятельности не отступил ни на шаг от первоначальной точки зрения. Можно было думать, что, выступив во время польского мятежа горячим сторонником национального принципа, он и в еврейском вопросе перейдет к проповеди узкого национализма. Но это ожидание не оправдалось. Он нападал на поляков, остзейцев, финнов, грузин, армян, но евреев оставлял в покое и ни во время польского восстания, ни впоследствии не обвинял евреев в поощрении разных смут. Напротив, он постоянно высказывался в совершенно том же духе, как и в начале 60-х годов. Правда, еврейский вопрос долгое время не занимал ни правительство, ни общество. Приобрел он характер злобы дня уже значительно позже, когда Катков, как носились слухи, имел личные интересы воздерживаться от возбуждения общественного мнения против евреев. Во всяком случае, в 1881 году, во время так называемых еврейских погромов, он в весьма решительных выражениях осуждал это движение. Приписывал он его революционной агитации, энергично отрицая экономические, религиозные или племенные причины. «Откуда теперь, именно теперь, – спрашивал он, – это странное возбуждение, которое ни к чему доброму привести не может, а выражается только в народных смятениях, в буйствах толпы?» Он указывал, что главная причина разорения нашего народа заключается в кабаке и иронизировал над теми, которые относятся к кабаку равнодушно и негодуют на шинкаря-жида «до готовности избить и сжить со света все еврейское население».
Но если в этом вопросе Катков оставался последовательным, то в возникшем почти одновременно вопросе о наших отношениях к Германии он проявил почти невероятную непоследовательность. Мы видели уже, что во время Берлинского конгресса он горою стоял за князя Горчакова и прямо обвинял князя Бисмарка в том, что вследствие его козней русские требования на Берлинском конгрессе подверглись сильным урезкам. Однако когда князь Горчаков умер и министром иностранных дел был назначен Н. К. Гирc, взгляды Каткова во внешней политике внезапно изменяются. Поездка нашего нового министра за границу, чрезвычайно сочувственный прием, оказанный ему в Берлине и Варцыне, служат Каткову поводом к помещению в «Московских ведомостях» статей, весьма сочувственных Германии. В них Катков до такой степени увлекается германской дружбою, что сравнивает «недавние недоразумения» между Россией и Германией со «ссорою любовников в водевиле», которые, капризничая, избегают объяснений. Во время войны 1877—1878 годов Катков доказывал, что истинным виновником этой войны является князь Бисмарк, и приписывал ему все наши дипломатические неудачи. Теперь же он утверждал, что если князь Бисмарк не оказал нам должного содействия, то только потому, что «наша дипломатия по своей близорукости сама избегала откровенного объяснения с ним». Катков все более и более увлекается мыслью о русско-германской дружбе. Он уже утверждает, что наши неудачи на Берлинском конгрессе были чисто мнимые, что за уступку Боснии и Герцеговины Австрии следует винить не германскую, а нашу дипломатию, и вскоре доходит до торжественного заявления, что «ни с Германией, ни с ее политикой у нас нет никаких счетов» и что нам следует не только не ссориться с князем Бисмарком, а напротив, учиться у него, «ибо он оказывался иногда более русским, чем наша дипломатия, не имевшая под собою национальной почвы».
Все эти «горячие» статьи Каткова в пользу князя Бисмарка, порожденные ошибочной оценкою его деятельности и намерений, могут представляться тем более странными, что во время их появления другие органы русской печати очень решительно высказывались в противоположном смысле и на основании бесспорных фактов выясняли сущность направленного против России союза, во главе которого стояла Германия. Кроме того, и наша дипломатия, как видно из ее тогдашних действий, была далека от заблуждения, будто бы Германия дружественно расположена к России. Но Катков всего этого не замечал. Он как бы обрадовался случаю оправдать князя Бисмарка перед Россией, повторял без умолку, что он – наш преданнейший друг, ставил его в пример нашим государственным людям, восторгался его парламентскими речами, настраивал все свои статьи по берлинскому камертону, доказывал, что никакой опасности со стороны Германии нам не угрожает и, по примеру князя Бисмарка, обвинял несочувствовавших ему русских публицистов в принадлежности к «польской справе». Очевидно, соображения внутриполитического свойства и проявившееся в это время с особенною силою недружелюбие к русской интеллигенции лишали Каткова возможности объективно оценивать международные отношения. Он до такой степени был ослеплен, что в 1885 году, когда произошло столкновение между Россией и Англией из-за афганского вопроса, решительно советовал России начать в Средней Азии войну с Англией, угрожал последней завоеванием Индии – словом, вторил германским официозным газетам, доказывавшим на все лады, что России ничего не стоит справиться с Англией и что война с нею сулит России огромные выгоды. Он, очевидно, и не подозревал, что Россия имеет очень серьезные основания избегать войны в Азии в такой именно момент, когда ее интересы в Европе подвергались большой опасности. Болгарские дела и образ действий Германии в 1887 году и начале 1888 года, вспыхнувший в то время острый кризис, отразившийся так печально и на наших финансах и чуть было не обострившийся до вооруженного столкновения, вполне прояснили всю недальновидность Каткова. Он спохватился только во второй половине 1885 года после болгарского переворота и вдруг из горячего сторонника князя Бисмарка превратился в ярого его антагониста. Вместе с тем он ополчился и против нашей дипломатии, очевидно сваливая вину с больной головы на здоровую, то есть приписывая ей собственное заблуждение. В ее же виды, по понятным причинам, вовсе не входило обострять запальчивой полемикой международный кризис, тем более что она ясно сознавала, какой опасный характер он принял. Появились даже правительственные сообщения, в которых доказывалось, что мы не имеем оснований ссориться с Германией. Но Катков – этот недавний горячий защитник князя Бисмарка – теперь отзывался об этих сообщениях как о «статьях, узурпаторски названных правительственными сообщениями». В то же время Катков, забыв все, что он писал еще вчера, начал плыть в фарватере тех публицистов, которых он так недавно обвинял в принадлежности к «польской справе», повторял буквально все их рассуждения, выступил горячим защитником союза с Францией, но и тут вполне проявил свою политическую недальновидность, держа сторону разных весьма сомнительных личностей среди французских политических деятелей, подкрепляя свои рассуждения выдержками из статей господ Деруледа, Мильвуа и других сторонников генерала Буланже, замышлявшего тогда государственный переворот. Эти господа отблагодарили Каткова тем, что украсили его гроб многочисленными венками.
Ярые нападки Каткова на нашу дипломатию совпали с не менее резкими выходками его против финансового ведомства. И с экономическими воззрениями московского публициста произошла полная метаморфоза. Будучи в 60-х и 70-х годах сторонником начал свободы торговли и восстановления ценности нашей денежной единицы путем сокращения чрезмерного количества бумажных денег, он в 80-х годах превратился в протекциониста á outrance и в сторонника почти неограниченного выпуска бумажных денег. В 60-х и 70-х годах у него сотрудничали такие экономисты, как Молинари, Безобразов и другие. В 80-х годах Катков выбросил экономическую теорию за борт и стал вдохновляться в своих экономических статьях указаниями и советами таких деятелей, как Кокорев и представители московского торгового мира. Он защищал их интересы с необычайным усердием. Хотя наше финансовое ведомство нисколько не придерживалось ни начал свободной торговли, ни стремления сократить излишек бумажных денег и только отказывалось прибегать к новым их выпускам и доводить протекционизм до последней его крайности, но Катков до того дорожил полным осуществлением своей экономической и финансовой программы, что всякое противоречие выводило его из себя. Он чувствовал себя теперь опять сильным, вспомнил 1863 год, доставивший ему успех и известность, и вновь с особенной решительностью пустил в ход те приемы и средства, которыми он пользовался тогда в борьбе с мнимыми или действительными противниками. Мы видели уже, что он отвергал правительственные сообщения, признавая их «статейками неизвестных авторов», точь-в-точь как в 60-х годах он отвергал данное ему предостережение. Кроме того, он всякого своего противника немедленно производил в государственного вора, предателя, изменника, нигилиста. В 60-х годах его гневу подверглись все те, кто рекомендовал примирительные меры по отношению к Польше. Теперь же он признавал неблагонамеренным или даже изменником всякого, кто ему противоречил. Дело дошло до того, что он пустился в самые злобные и несправедливые нападки на финансовое ведомство, обвиняя его в том, что оно состоит из антиправительственных деятелей; в том же он обвинял и министерство юстиции после того, как министр в публичной речи счел нужным опровергнуть нападки и общие нарекания на судебное ведомство. Но не ограничиваясь министерствами, он стал подозревать в неблагонамеренности даже правительствующий Сенат, «чувствующий, – как он выразился, – особую нежность ко всяким прерогативам земского самоуправства и высказывающий свою строгость лишь в наблюдении за тем, чтобы к этой святыне не прикоснулся какой-нибудь первый встречный профан, например губернатор». Но, не довольствуясь и этим, он восставал и против Государственного совета, упрекая его за «игру в парламент», под которой он разумел решение вопросов большинством голосов и формулирование меньшинством отдельных мнений. И тут Катков проявил свойственную ему непоследовательность: защищая сильную центральную власть, он дискредитировал непосредственные органы этой власти. В самый разгар этих нападок, вызвавших сильное неудовольствие в правительственных сферах, Катков после неуспешной поездки в Петербург для представления необходимых объяснений занемог и вскоре умер.
Мы охарактеризовали в главных чертах жизнь и деятельность Каткова. Из сообщенных нами данных (все сомнительное мы тщательно устраняли) нетрудно сделать общий вывод. В отличие от И. С. Аксакова, публицистическая деятельность которого представляется и последовательною, и стройною, Катков постоянно сам себе противоречил, восхваляя сегодня то, что он порицал вчера, или в частностях противореча тому, что в общем признавалось им верным. Только в двух вопросах он остался себе верен: в еврейском и отчасти в вопросе о пользе классицизма. Во всех остальных он до того изменял самому себе на каждом шагу, так часто высказывал взгляды, находившиеся в полном разногласии с началами науки и с опытом всех времен и народов, что его публицистическая деятельность не может представлять никакого интереса ни с научной точки зрения, ни в смысле развития и расширения вынесенного нами государственного опыта. По существу, она не имеет для потомства никакого значения. Ни один серьезный исследователь русской государственной жизни не может искать для себя ни поучения, ни указания в статьях Каткова, тем более что он, восставая против доктринеров, сам был ярый доктринер и отличался от других доктринеров не столько сущностью своего политического учения, сколько тем, что поминутно менял свои доктрины. Практические потребности нашей народной жизни принимались им мало во внимание. Он, за редкими исключениями, касался в своих статьях только вопросов так называемой высшей политики и никогда не интересовался каким-либо частным вопросом в смысле удовлетворения настоятельных народных потребностей, а немедленно приводил его в связь с усвоенной себе общей доктриной, создавал себе на этой почве противников и громил их впредь до приискания новой доктрины, согласной с веяниями минуты и личным настроением. Но и в этих доктринах он не проявил самостоятельности. Он примыкал только к какому-либо из государственных деятелей и, пользуясь его поддержкой, выступал с резкими статьями, в которых он с напускною страстностью боролся будто бы за свои идеи. Это давало ему возможность говорить очень громко и смело, чем он и обращал на себя общее внимание. Но при недостатке самостоятельности, при неподготовленности к публицистической деятельности, при изменчивости его настроения и воззрений, он не мог иметь влияния на законодательную и административную деятельность. Он не указывал новых путей; он только слепо следовал указаниям энергичных и самостоятельных деятелей в среде самой администрации (Милютиных, князя Горчакова, графа Толстого). Примыкая к тому или другому течению в руководящих сферах, он доводил его до абсурда неумеренностью своих требований. Государственная жизнь развивалась сама по себе, подчиняясь более или менее решительным событиям и влиянию объективных и последовательных умов, к числу которых Катков никогда не принадлежал. Было бы столь же несправедливо упрекать Каткова за излишний либерализм в прежнее время, как и за неумеренный консерватизм в конце его публицистической карьеры. И в том и в другом случае он пел только с чужого голоса. Представитель определенного и последовательного учения является цельной личностью, над которою возможен суд с точки зрения науки и государственного опыта. Такая мерка не может быть приложена к крайне изменчивому и противоречивому учению Каткова, вытекавшему из соображений личного свойства или подчинявшемуся посторонним влияниям.
Но благодаря впервые примененной им в нашей печати тактике искать себе, как выражаются американцы, «платформу» в программе тех или других государственных деятелей часто могло казаться, будто Катков влияет на общество и даже правительство. Этим путем он обеспечил себе громкую известность и во многих отношениях очень видный личный успех. Одним из последствий этой тактики было некоторое расширение свободы печатного слова в деле обсуждения государственных вопросов, и в этом отношении деятельность Каткова прошла небесследно. Именно на этой почве он стяжал публицистические лавры, добился громкой известности не только в России, но и в других странах. Все его изменчивые политические доктрины будут скоро забыты, но факт, что его слово в сфере обсуждения важнейших государственных вопросов раздавалось громко и внушительно, что благодаря ему газета стала как бы одним из факторов решения этих вопросов – останется навсегда памятным. Мы имели бы тут дело с несомненной заслугой Каткова, если бы он только проявил больше разборчивости в средствах, направленных к достижению этой цели.
Источники
1. «Московские ведомости» за 1851—1887 гг.
2. «Русские ведомости» за 1857—1887 гг.
3. М. Н. Катков. 1863 г. Москва, 1887. (Сборник его статей по «польскому вопросу», корреспонденции, помещенных в «Моск. вед.» в 1863 г., и официальных документов по тому же вопросу).
4. М. Н. Катков. 1864 г. Москва, 1887. (Собрание главных статей Каткова за 1864 г.).
5. Любимов. М. Н. Катков. («Русск. вест.» 1888 и 1889 гг. Личные воспоминания г-на Любимова, подчас весьма ценные. Кроме того, читатель найдет в статьях г-на Любимова некоторые чрезвычайно интересные официальные документы, касающиеся издательской и редакторской деятельности Каткова).
6. Неведенский. Катков и его время. СПб., 1888. (Весьма добросовестная и довольно беспристрастная биография Каткова. К сожалению, автор не коснулся ни его экономических статей, ни статей по классическому образованию. В книге г-на Неведенского содержатся нигде еще не опубликованные и чрезвычайно ценные письма Каткова к покойному издателю «Голоса» А. А. Краевскому).
7. И. Панаев. Литературные воспоминания.
8. Некрологи, помещенные в разных повременных изданиях.
9. Материалы, разбросанные в разных исторических журналах, преимущественно в «Русской старине».
Примечания
1
граф А. Толстой в известном рукописном стихотворении «Единство»
(обратно)2
сторонников свободной торговли
(обратно)3
По скудным сведениям, сохранившимся о матери Каткова, она имела большое влияние на сына, укрепив в нем религиозное чувство. Сам Катков говорил Любимову, что по линии матери, о которой он сохранил самую благоговейную память, в его жилах есть грузинская кровь.
(обратно)4
1 июля 1835 года попечителем Московского учебного округа был назначен граф Сергей Григорьевич Строганов, и был введен новый университетский устав.
(обратно)5
«Русская старина», май 1887 г.
(обратно)6
О силе впечатления, которое произвел Катков своими статьями по польскому вопросу, можно судить по тому факту, что число подписчиков «Московских ведомостей» в течение 1863 года удвоилось и достигло громадной для того времени цифры в 12 тысяч. Отчасти, конечно, увеличение числа подписчиков объясняется тревожным временем, пережитым тогда Россией. Заметим еще, что, насколько известно, с тех пор число подписчиков «Московских ведомостей» постоянно падало и под конец жизни Каткова было весьма незначительным.
(обратно)7
Чрезвычайно интересное описание этой аудиенции читатель найдет у г-на Любимова (см. «Русский вестник», март 1889 г.).
(обратно)8
По этому поводу возникла очень интересная полемика между Катковым и маркизом Сигизмундом Велепольским. (См.: Р. Сементковский. «Польская библиотека». СПб., 1882. С. 392 и далее).
(обратно)



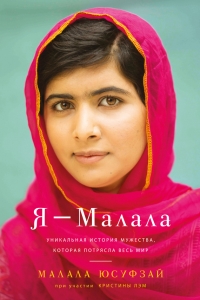

Комментарии к книге «Михаил Катков. Его жизнь и публицистическая деятельность», Ростислав Иванович Сементковский
Всего 0 комментариев