Эрнест Карлович Ватсон Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность
ВВЕДЕНИЕ
Артур Шопенгауэр, один из оригинальнейших и замечательнейших мыслителей девятнадцатого столетия, стал известен и знаменит, собственно говоря, только после своей смерти. При жизни профессиональные ученые и философы преднамеренно замалчивали его, а масса публики, по самому характеру и роду деятельности Шопенгауэра, не могла питать особого интереса к его творениям. Лишь несколько лет спустя после его смерти, с конца шестидесятых годов, интерес к его творениям и к его учению начинает проявляться не только на родине, в Германии, но и во Франции, и у нас в России. Считаем нелишним привести здесь интересную выдержку из появившегося лишь несколько месяцев тому назад в печати письма Л. Н. Толстого к А. А. Фету, от 30 августа 1869 года (напечатано в “Русском обозрении”, май, 1890 года, в статье: “В. П. Боткин, И. С. Тургенев и граф Л. Н. Толстой. Из воспоминаний А. А. Фета”). Вот что писал Л. Н. Толстой:
“Знаете ли, что было для меня настоящее лето? – Непрестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения, и читал, и читаю (прочел и Канта). И, верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь много не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр – гениальнейший из людей. Вы говорите, что он так себе, кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться его имя неизвестным? Объяснение только одно – то самое, которое он так часто повторяет, – что “кроме идиотов, на свете почти никого нет…”
14 февраля 1888 года московское психологическое общество чествовало в торжественном собрании, в актовом зале московского университета, столетнюю годовщину рождения “одного из самых крупных германских мыслителей нынешнего века, Артура Шопенгауэра”, причем товарищ председателя общества, профессор Н. А. Зверев, сообщил важнейшие данные о жизни Шопенгауэра, а три других оратора, члены общества, произнесли речи о значении его философии. Впоследствии эти речи были изданы в одном общем сборнике, с присоединением к ним более подробного биографического этюда о Шопенгауэре, составленного членом означенного общества В. И. Штейном.
С широким распространением в конце семидесятых годов пессимистической философии как в Западной Европе, так и у нас, началось и более близкое ознакомление с Шопенгауэром и с его учением. В 1881 году переведено было на русский язык главное сочинение Шопенгауэра “Мир как воля и представление”, а в 1886 году – его же сочинения: “О четверояком корне закона достаточного основания” и “О воле в природе” (оба перевода принадлежат А. А. Фету, исполнившему, таким образом, совет, данный ему еще в 1869 году графом Л. Н. Толстым; к первому из этих переводов приложено предисловие H. H. Страхова). Переведены также шопенгауэровские “Афоризмы и максимы” и “Основные задачи этики”, по своей сравнительной популярности получившие более широкое распространение в обществе.
О жизни Шопенгауэра до самого последнего времени было известно лишь очень немногое. Все его биографы единогласно признают, что чрезвычайно трудно, даже почти невозможно написать сколько-нибудь обстоятельную биографию его, – во-первых, потому, что он, подобно, например, Декарту, вел жизнь очень замкнутую и уединенную, а во-вторых, – потому, что для его биографии до последнего времени почти вовсе не было сколько-нибудь подходящих источников. Сам Шопенгауэр относился крайне несочувственно к стараниям биографов собрать заблаговременно материалы для будущих жизнеописаний замечательных в каком-либо отношении людей, а к автобиографиям он питал положительную антипатию. Присланная им, по просьбе редакции Мейеровского “Conversations-Lexicon”, автобиографическая заметка, – напечатанная в первом выпуске “Трудов Московского психологического общества” и помеченная 28 мая 1851 года – занимает буквально не более 64 строк разгонистого шрифта.
ГЛАВА I
Предки Шопенгауэра. – Родители его. – Характеристика отца и матери Шопенгауэра. – Детские годы Шопенгауэра. – Воспоминания его. – Многочисленные странствования его в детстве и отрочестве. – Шопенгауэр не желает сделаться купцом. – Смерть Шопенгауэра-отца
Большей частью случается так, что интерес к родителям и прародителям людей, сделавшихся знаменитыми в какой-либо области человеческой деятельности, возникает лишь тогда, когда жизнь этих прародителей успела уже в значительной мере окутаться туманом прошлого. Однако относительно предков и родителей Шопенгауэра этого нельзя сказать.
С отцовской стороны Артур Шопенгауэр является отпрыском довольно знатного данцигского семейства. Уже прадед его, Андрей Шопенгауэр, имел честь, в качестве одного из самых зажиточных и уважаемых граждан Данцига, принимать у себя в доме Петра Великого и супругу его, Екатерину, во время путешествия их по Германии. Сын Андрея Шопенгауэра, дед Артура, Иоанн-Фридрих Шопенгауэр, значительно приумножил благосостояние семейства; проживал же он большею частью не в Данциге, а по соседству с городом, на своей вилле близ местечка Ора. Бабка Артура, Рената, рожденная Сэрманс, также принадлежала к знатному семейству; после смерти мужа над ней и над ее старшим сыном, Андреем-Михаилом Шопенгауэром, была учреждена опека, так как у них обоих обнаружилось расстройство умственных способностей. Младший сын ее Генрих-Флорис Шопенгауэр, отец Артура, в молодости своей много путешествовал, а впоследствии унаследовал большую часть состояния своего отца и деда, и с честью поддерживал репутацию своего семейства.
Генрих-Флорис Шопенгауэр был человеком среднего роста, крепко сложенным, широколицым, как и сын его, ставший впоследствии знаменитым. Несмотря на то, что по происхождению своему он принадлежал к местным патрициям и аристократам, отец Артура был проникнут идеями справедливости и свободы, что стяжало ему расположение и любовь его сограждан. Бесстрашие, прямота и откровенность составляли отличительные черты его характера; но, вместе с тем, это был человек чрезвычайно вспыльчивый и упрямый. Биограф Артура Шопенгауэра приводит следующий интересный эпизод, характеризующий решительность и прямолинейность отца его, стяжавший ему в еще большей мере уважение и расположение сограждан. Данциг, как известно, до конца восемнадцатого столетия составлял одну из ганзейских республик, окруженную со всех сторон владениями Польши. Когда, после первого раздела Польши, Фридрих Великий задумал присоединить и этот город, вместе с отошедшею в его владение частью нынешней западно-прусской провинции, к Прусскому королевству, граждане старинной ганзейской республики отказались признать владычество Пруссии и решили не впускать пруссаков в город, вследствие чего прусские войска обложили Данциг с суши и прекратили подвоз к нему съестных припасов. Командир блокирующего корпуса поселился на вилле Шопенгауэра. В виде награды за оказанное ему здесь, хотя и вынужденное, гостеприимство, он велел предложить владельцу пропуск в город фуража для находившихся там лошадей Генриха-Флориса Шопенгауэра; но тот велел поблагодарить генерала и объявить ему, что у него пока еще достаточно фуража, когда же фураж этот весь выйдет, он велит зарезать своих лошадей. Эту свою горячую любовь к независимости родного города Флорис выражал не только на словах, но и на деле: он отклонил сделанное ему прусским королем предложение поселиться в Пруссии, и когда в 1793 году присоединение Данцига к Пруссии было окончательно решено, он в течение 24 часов ликвидировал все свои дела в Данциге, – что не могло совершиться без чувствительных потерь, – и переселился в ганзейскую республику Гамбург.
Генрих-Флорис Шопенгауэр был не только горячим патриотом и ловким коммерсантом, но и человеком многосторонне образованным. Во время своих частых деловых поездок в Англию и Францию он успел довольно основательно ознакомиться с литературой этих стран; любимым его автором был Вольтер. Государственный и семейный строй Англии до того нравился ему, что он даже некоторое время помышлял о том, чтобы совсем переселиться в эту страну. Хотя этот план ему и не удался, но он устроил свой дом совершенно на английский лад и не только сам ежедневно прочитывал от корки до корки “Times”, но и заставлял сына своего с самых ранних лет читать эту газету.
Тридцати восьми лет от роду Генрих-Флорис Шопенгауэр женился на восемнадцатилетней Анне-Генриетте Трозинер, дочери уважаемого, хотя и небогатого, данцигского ратмана. Это была небольшого роста, грациозная, голубоглазая, светло-русая девушка. Образование она получила довольно поверхностное, как и все тогдашние молодые девушки не только среднего, но и высшего круга; но природный ум и остроумие отчасти дополняли недостаток образования. Домовитой хозяйкой она не сделалась за всю свою жизнь. Она сама откровенно сознавалась, что не питает никакой страстной любви к бывшему в то время более чем вдвое старше ее жениху своему, да тот и не претендовал на такую любовь; она прямо говорила, что выходила замуж за Генриха-Флориса Шопенгауэра в расчете на более блестящую обстановку и жизнь, чем та, какую она находила в родительском доме. Биографы Артура Шопенгауэра подчеркивают то обстоятельство, что автор “Мира как воля и представление” обязан своим происхождением не браку по любви. Недостаточное образование, полученное ею в родительском доме, она отчасти пополнила впоследствии, в течение многих лет сожительства с умным и образованным мужем. В этом отношении большим подспорьем ей служила прекрасная библиотека мужа, изобиловавшая лучшими тогдашними английскими и французскими книгами, причем в этом усиленном чтении она нашла дельного руководителя в лице друга своего детства, англиканского пастора в Данциге, Джемсона. Тотчас же после свадьбы она предприняла большое путешествие со своим мужем, имевшим прирожденную страсть к передвижениям. Они проехали через Берлин, Ганновер и Пирмонт во Франкфурт-на-Майне, который, по ее словам, очень напомнил ей богатый и свободный родной город ее Данциг, а оттуда, через Бельгию и Париж, в Англию. Здесь, по желанию Генриха-Флориса, они предполагали пробыть подольше, для того, чтобы первенец их, появления которого на свет ожидали супруги, родился именно в возлюбленной его Англии и тем как бы приобрел прирожденные права английского гражданства. Однако обстоятельства заставили их отказаться от этого плана, и они, после весьма затруднительного путешествия, прибыли в Данциг, где несколько дней спустя, 22 февраля 1788 года, родился старший их сын, которому, при последовавшем 3 марта того же года крещении, дано было имя Артур. Это имя было избрано Генрихом Шопенгауэром потому, что оно не носит специально немецкого оттенка и произносится почти совершенно одинаково на других языках: французском и английском.
Отец Артура Шопенгауэра, уроженец и гражданин вольного ганзейского города Данцига, как мы видели выше, всегда отличался свободолюбивыми наклонностями и симпатией к Франции. Великая французская революция, вспыхнувшая год с небольшим спустя после рождения будущего знаменитого философа, еще более усилила эти наклонности и симпатии. Когда Артуру было 5 лет от роду, в 1793 году, вольный город Данциг снова подвергся блокаде со стороны королевских прусских войск, и местные патриоты утратили всякую надежду на сохранение своего республиканского строя. Тогда Генрих-Флорис Шопенгауэр решился совершенно выселиться из родного города, и в марте этого года, за несколько часов до вступления в Данциг пруссаков, родители его выехали со всем своим семейством из Данцига и направились через принадлежавшую в то время Швеции Померанию в вольный город Гамбург. Здесь перед образованной зажиточной четой раскрылись двери лучших домов; к этому периоду относится знакомство их с Клопштоком, фельдмаршалом Калькрейтом, Нельсоном, леди Гамильтон и другими. Но с переселением из родного города страсть четы Шопенгауэр к передвижениям, кажется, еще более усилилась, и во время своего двенадцатилетнего пребывания в Гамбурге они предпринимали целый ряд более или менее отдаленных путешествий. Одною из целей этих частых путешествий было также желание Шопенгауэра-отца содействовать всестороннему развитию Артура, и впоследствии философ с благодарностью вспоминал об этом, не без основания сопоставляя свое многостороннее, отчасти благодаря этим путешествиям, развитие с односторонним развитием большинства немецких ученых. Девятилетним мальчиком он сопровождал отца своего во Францию, причем отец оставил его на два года у своего хорошего знакомого, гаврского купца Грегуара, с сыном которого маленький Артур обучался у лучших учителей этого города. Здесь он провел самую счастливую пору своего детства и совершенно офранцузился, чего и желал его отец, от всей души ненавидевший немецкое филистерство. Когда Артур совершенно один возвратился морем из Гавра в Гамбург, то оказалось, что он почти совсем разучился говорить по-немецки. И ему стоило некоторых усилий снова привыкать к родной речи. Одиннадцати лет от роду он поступил в частную гимназию некоего Рунге, в которой воспитывались сыновья самых знатных граждан; но, так как программа этого училища охватывала преимущественно коммерческую сторону, вследствие чего большая часть воспитанников были дети коммерсантов, то первоначальное образование Шопенгауэра оказалось довольно односторонним. Так, например, латинскому языку, которому Артур начал учиться еще в Гавре, он, по его собственным словам, основательно выучился, и притом в течение полугода, лишь в девятнадцать лет.
Мы говорили уже выше, что отец Шопенгауэра желал сделать из него купца; но, к великому огорчению представителя старинной данцигской торговой фирмы, Артур не выказывал к этому ни малейшей наклонности; в нем рано сказалась пламенная любовь к отвлеченной науке. Долгое время Генрих-Флорис противился просьбам сына. Чтобы отвлечь Артура от мысли о поступлении в гимназию, он предложил ему сопровождать его во время нового путешествия, предпринятого им вместе с женой весною 1803 года в Бельгию, Англию, Францию, Швейцарию и Южную Германию. Впоследствии сам Шопенгауэр выражал глубокое сожаление по поводу того, что столько драгоценного для школьного образования времени пропало у него почти даром на интересные, но все же не способные дать солидного образования, скитания по белу свету. Впрочем, со свойственной ему энергией он не преминул наверстать потерянное время усиленными трудами. В Англии они пробыли около полугода. Чтобы не останавливать совсем школьного образования сына, родители, отправившись сами путешествовать в Северную Англию и в Шотландию, поместили его в дом одного пастора в Уимблдоне, близ Лондона. Здесь он положил основание солидному знакомству с языком народа, который, наравне с французами, был ему особенно симпатичен.
В этой школе, наряду с общеобразовательными предметами, обращалось серьезное внимание и на изящные искусства: игру на флейте, пение, рисование, верховую езду, фехтование и танцы. Однако живой и избалованный юноша, впервые разобщенный с семьей, не имея подле себя никого близкого и предоставленный самому себе, жалуется в письмах к родителям на отсутствие развлечений. На это мать отвечала ему: “Рисование, книги, музыка, фехтование и прогулки верхом представляют достаточное развлечение. Твоему возрасту, собственно, и не пристали более шумные развлечения. Для того чтобы пользоваться последними, нужно сначала научиться жить, ты же пока к этому только подготовляешься”… В другом письме она советовала ему меньше заниматься шиллеровскими трагедиями и драмами, а больше читать по-английски. “Я желаю, – писала она, – чтобы ты всех поэтов вообще и каждого из них в отдельности отложил покуда в сторону и остановился на более серьезном чтении… Тебе всего 15 лет, ты уже прочел и изучил лучших немецких, французских и английских поэтов, а между тем, за исключением тех книг, с которыми для тебя обязательно было знакомиться в учебные часы, для удовлетворения требованиям г. Рунге, да за исключением еще нескольких романов, ты совершенно незнаком с прозаическими сочинениями, историей, например… Чувство прекрасного на этом свете, каков он есть, не может служить нам руководящей нитью, и я желала бы видеть в тебе что угодно, только не так называемого “bel esprit” [острослова (фр.)]… С другой стороны, отец Артура, отчасти соглашаясь с тем, что сыну его жизнь в Уимблдоне не могла казаться особенно приятной, и разрешая ему для развлечения ездить каждую неделю в Лондон, скорбел… о дурном почерке своего сына и настойчиво убеждал его постараться исправить почерк. Подобные советы давались, очевидно, ввиду желания старого негоцианта когда-нибудь увидеть своего сына серьезно посвятившим себя торговым занятиям. Шопенгауэр, которому в это время было всего 15 лет от роду, самым решительным и даже резким образом восставал против английского ханжества, которое, как он писал своей матери, “заставляет его по праздникам и воскресеньям слоняться без всякого дела и вселяет желание, чтобы истина, наконец, своим факелом осветила египетскую тьму, царствующую в Англии”. На это мать довольно зло напоминала ему, что прежде ей “приходилось воевать с ним, когда по воскресеньям и праздникам. Артур не хотел приниматься ни за что путное, ссылаясь на то, что это – дни отдыха; теперь же вдруг он оказался пресыщен праздничным отдыхом”. Вообще, у юноши, вернее даже, у отрока проявляется серьезность не по годам. Так, например, он пишет родителям, что “осмотр Вестминстерского аббатства дал ему бесконечный материал для размышлений”. “Видя в этих готических стенах останки и гробницы поэтов, героев и королей так, как их собрали вместе протекшие времена, задаешься вопросом, действительно ли они находятся в общении там, где их не разделяют ни кастовые рамки, ни понятия времени и места, и спрашиваешь, что же именно и по сколько в загробном мире сохранил каждый из блеска и величия, доставшихся им в удел на земле? Короли покинули свои венцы и скипетры, поэты – славу; но из них истинно великие умом, блиставшие внутренними дарованиями, и в загробном мире сохранили все, чем пользовались здесь”.
Из Англии Шопенгауэры через Голландию и Бельгию проехали в Париж, где они оставались более двух месяцев. Здесь они, пользуясь своими связями, имели случай познакомиться со многими из тогдашних выдающихся людей Франции, начиная с первого консула, Наполеона Бонапарта, и изучить все парижские достопримечательности. Игра знаменитого актера Тальмы не произвела особого впечатления на молодого Шопенгауэра, но зато ему очень понравились маленькие комедии и комическая опера. “Французский язык и французские актеры, – писал он, – как будто нарочно созданы для этого рода пьес; но к декламации французских трагиков, жестокой и ненатуральной, я едва ли когда-нибудь привыкну”. Шопенгауэр и впоследствии к французским стихам и декламации относился неодобрительно, но французский прозаический стиль всегда восхвалял, в противоположность немецкой напыщенности слога. Что касается самих французов, с которыми Шопенгауэр, начиная с детства, имел многочисленные случаи ознакомиться, то он признавал их народом живым и веселым, но чувственным и самым легкомысленным из всех европейских народов, и вследствие этого своего темперамента французы не могли быть особенно симпатичны серьезному уму Шопенгауэра. И действительно, в сочинениях его нередко встречаются довольно резкие отзывы о французах. Так, например, в своих “Parerga” он говорит: “Другие части света создали обезьян, Европа же – французов. Одно стоит другого”. Далее он порицает у французов чрезмерную заботу о чужом мнении, способствующую будто бы развитию нелепого честолюбия, смешного национального тщеславия и противного хвастовства. Благодаря этому сами стремления французов получают такую неустойчивость, что служат предметом острот и насмешек для других народов”.
В начале января 1804 года семейство Шопенгауэров направилось через Орлеан, Тур, Ангулем, Бордо и южную Францию в Гиер. Развалины римского амфитеатра в Ниме произвели на молодого Шопенгауэра очень сильное впечатление, граничившее с благоговением. В Тулоне он выходил из себя по поводу судьбы заключенных в нем каторжников. В Лионе он вспоминает о множестве лиц, погибших в этом городе на эшафоте во время господства здесь террора, и удивляется тому, что “лионцы теперь как ни в чем не бывало разгуливают по тем самым местам, где лет десять тому назад друзья их и родственники расставлялись рядами и расстреливались картечью”. “Неужели, – восклицает он, – воображение им не рисует кровавого зрелища родственников, погибающих в муках! Можно ли поверить, что современные лионцы, проезжая через площадь, хладнокровно рассказывают, как здесь, на этом самом месте, были казнены их друзья? Поистине непонятно, как сила времени притупляет живые и ужасные впечатления”.
Из Франции Шопенгауэры отправились в Швейцарию. Вид швейцарских Альп произвел на Артура весьма сильное впечатление, и он умолял отца позволить ему остаться подольше в Шамуни; даже под старость он приходил в волнение, когда ему приходилось говорить о Монблане. Между прочим, он сравнивает пасмурное настроение высокоодаренных умов с Монбланом, вершина которого обыкновенно закрыта бывает облаками; но, “когда порою, особенно ранним утром, облачная завеса разорвется и вершина горы, окрашенная пурпуром солнечного восхода, покажется через облака в Шамуни, тогда всякое сердце заликует. Так и в гении, большею частью меланхоличном, своеобразное веселие, проистекающее от совершенной объективности ума и возможное только для гения, кладет на его высокое чело сияние”. Но если Шопенгауэр пришел в восторг от швейцарской природы, то сами швейцарцы ему очень не понравились, и эта нелюбовь к ним, родившаяся еще в отрочестве, сохранилась в нем на всю жизнь.
Через Швабию и Баварию Шопенгауэры направились в Австрию, где их задержали на границе целую неделю вследствие какой-то неисправности в их паспорте: это путевое приключение с большим юмором описано молодым Шопенгауэром. Осмотрев Вену и Пресбург, путешественники направились через Моравию, Богемию, Силезию и Саксонию в Берлин. Отсюда Шопенгауэр-отец отправился по делам в Гамбург, а Артур с матерью – в Данциг. Здесь осенью 1804 года, шестнадцати с половиной лет от роду, он был конфирмован в той же церкви святой Марии, в которой его в 1788 году крестили. В декабре того же года он вернулся в Гамбург. Хорошо ознакомившись во время своих странствий по Франции и Англии с французским и английским языками и позанимавшись, по желанию отца, каллиграфией, он в январе 1805 года, опять-таки по особому желанию отца, поступил в торговую контору гамбургского коммерсанта и сенатора Иениша. Но уже несколько месяцев спустя – весною 1805 года – скоропостижно умер отец Артура: он упал из окна чердака в глубокий канал и утонул. Ходили слухи, будто, сделавшийся в последние годы своей жизни чрезвычайно раздражительным, особенно вследствие усилившейся с годами глухоты своей, Генрих-Флорис Шопенгауэр преднамеренно бросился в канал; другие утверждали, что Шопенгауэр-отец лишил себя жизни в припадке умопомешательства, наследственного в его семействе (действительно, в нескольких поколениях семьи Шопенгауэр встречается не один случай умопомешательства); третьи же видели в смерти Генриха-Флориса просто несчастный случай. Как бы то ни было, но смерть отца произвела на Артура сильное, удручающее впечатление. Хотя последний по натуре своей был далек от всякой чувствительности и сентиментальности, однако он до глубокой старости в разговоре с друзьями отзывался об отце с величайшей теплотою. После смерти Артура Шопенгауэра между рукописями его было найдено написанное им еще в 1821 году, но в то время не напечатанное, посвящение памяти отца второго издания его знаменитой книги “Мир как воля и представление”. Вот это посвящение:
“Благородный, благодетельный ум, которому я всецело обязан тем, чем я стал. Твоя попечительная предусмотрительность охраняла и лелеяла меня не только в течение всего беспомощного детства и опрометчивой юности моей, но и в зрелом возрасте, по настоящий день. Даровав мне жизнь, ты в то же время позаботился о том, чтобы твой сын в этом мире, каков он есть, имел все способы существовать и развиваться, а без этой твоей заботливости я сотни раз оказался бы на краю гибели. В моем уме стремление к теоретическим исследованиям сущности бытия преобладало слишком решительно для того, чтобы я ради обеспечения своей особы мог, насилуя свой ум, предаться какой-нибудь иной деятельности и поставить себе задачею добывание хлеба насущного. По-видимому, именно в предвидении этого случая ты понял, что твой сын не способен ни пахать землю, ни тратить силы на механическое ремесло. Равным образом ты, гордый республиканец, понял, что сыну твоему чужд талант соперничать с ничтожеством и низостью, или пресмыкаться перед чиновниками, меценатами и их советниками в тех видах, чтобы подло вымаливать себе кусок черного хлеба, или же, наконец, подлаживаясь к надутой посредственности, смиренно присоединяться к славословящей ее толпе писак и шарлатанов. Ты понял, что твоему сыну скорее свойственно, вместе с почитаемым тобою Вольтером, думать: “Так как нам дано лишь два дня жизни, то не стоит труда проводить их в ползании перед презренными плутами”. Поэтому посвящаю тебе мое творение и шлю тебе, за пределы могилы, благодарность, которою обязан лишь тебе одному и никому иному. Тем, что силы, дарованные мне природою, я мог развить и употребить на то, к чему они были предназначены; тем, что последовав прирожденному влечению, я мог без помехи работать в то время, когда мне никто не оказывал содействия, – всем этим я обязан тебе, мой отец: твоей деятельности, твоему уму, твоей бережливости и заботливости о будущем. За это хвала тебе, мой благородный отец! Пусть же всякий, кто в моем творении найдет для себя радость, утешение и поучение, услышит твое имя и узнает, что если бы Генрих-Флорис Шопенгауэр был не тем человеком, каким он был в действительности, то Артур Шопенгауэр успел бы сто раз погибнуть. Итак, да сделает моя благодарность то единственное, что в состоянии сделать для тебя я, которого ты создал: да разнесется имя твое так далеко, как только в состоянии будет разнестись мое имя”.
ГЛАВА II
Артур Шопенгауэр поступает в университет. – Раннее проявление шопенгауэровского пессимизма. – Университетские годы Шопенгауэра. – Его литературные знакомства. – Охлаждение отношений между Шопенгауэром и матерью
После смерти мужа Анна Шопенгауэр переселилась со своей восьмилетней дочерью в Веймар: меркантильный Гамбург был ей антипатичен, ее влекло в тогдашнюю “резиденцию муз”. Она прибыла в этот город за два дня до сражения при Иене, и несколько месяцев спустя, несмотря на тогдашние смутные времена, благодаря своей общительности, любезности и талантливости успела уже познакомиться и сблизиться почти со всеми тогдашними веймарскими знаменитостями. Несмотря на некоторое расстройство дел ее мужа за последнее время его жизни он все же оставил семье настолько значительное состояние, что вдова его могла вести довольно открытый и широкий образ жизни. В ее доме собирались по два раза в неделю такие люди, как Гете, Виланд, Гримм, братья Шлегели, князь Пюклер и другие. Она нашла даже доступ к тогдашнему веймарскому двору, пользовалась дружбой и расположением герцога Карла-Августа и его супруги, герцогов Саксен-Кобург-Готских, наследного принца Мекленбург-Шверинского и других. Несколько лет спустя она выступила, и притом не без успеха, на литературном поприще.
Тем временем Артур Шопенгауэр, глубоко потрясенный смертью отца, из уважения к памяти последнего продолжал еще некоторое время столь ненавистную ему коммерческую карьеру. Правда, делал он это больше для вида: сидя за своей конторкой и разложив конторские книги, он втайне от своего принципала читал френологию Галля или какую-либо другую подобную книгу. Но наконец и для него пробил час избавления: его мать прочла одно из его писем, в котором Артур горько жаловался на свою судьбу одному из своих веймарских друзей, Фернову. Тот убедил мать не противиться влечению сына, не принуждать его к продолжению коммерческой деятельности и позволить ему поступить в университет. Шопенгауэр, чуждый всякой сентиментальности, заплакал от радости, получив письмо матери, в котором та предоставляла полный простор его природным влечениям. По совету того же Фернова, он переехал в Готу, где профессор Деринг взялся подготовить его по латинскому языку для поступления в университет, а профессор Якобс занялся с ним немецкой литературой. Оба они отзывались с величайшей похвалой о замечательных способностях своего ученика. Но он позволил себе кое-какие насмешки над некоторыми из гимназических учителей, и те, узнав об этом, не допустили его к сдаче экзамена на аттестат зрелости. Тогда он решил перебраться в Веймар и там продолжать подготовку к университету; однако, по желанию матери, он не поселился в ее доме. Интересны мотивы, заставившие эту женщину, искренне любившую своего сына, отказаться от совместного с ним жительства. Вот что она пишет по этому поводу Артуру, которому было в то время 19 лет от роду:
“Для моего счастья необходимо знать, что ты счастлив; но мы можем оба быть счастливы и живя врозь. Я не раз говорила тебе, что с тобой очень трудно жить, и чем больше я в тебя всматриваюсь, тем эта трудность становится для меня очевиднее. Не скрою от тебя того, что, пока ты остаешься таким, какой ты есть, я готова решиться скорее на всякую иную жертву, чем на это. Я не отрицаю твоих хороших качеств; меня отдаляют от тебя не твои внутренние качества, а твои внешние манеры, твои привычки, взгляды и суждения; словом, я не могу сойтись с тобой ни в чем, что касается внешнего мира. На меня производят также поистине подавляющее действие твое вечное недовольство, твои вечные жалобы на то, что неизбежно, твой мрачный вид, твои странные суждения, высказываемые тобою, точно изречения оракула; все это гнетет меня, но нимало не убеждает. Твои бесконечные споры, твои вечные жалобы на глупость мира и на ничтожество человека мешают мне спать по ночам и давят меня, точно кошмар”.
Эти слова матери, адресованные девятнадцатилетнему юноше, в высшей степени характерны: они показывают, что задатки пессимизма, проходящего сквозь всю жизнь Шопенгауэра и сказывающегося чуть не в каждой строке его последующих произведений, весьма явственно и рельефно обнаружились в нем, к великому огорчению и неудовольствию его жизнерадостной матери, уже в таком возрасте, в котором мир для других людей обыкновенно представляется еще в самом радужном свете. Девятнадцатилетний пессимист поселился в Веймаре отдельно от жизнерадостной, общительной матери.
Молодой человек энергично стал стремиться к достижению намеченной цели. Уроки нескольких дельных профессоров и прирожденная способность к изучению языков позволили ему довольно быстро пополнить свое одностороннее и далеко не систематическое первоначальное образование. Поселившись в доме известного в свое время филолога Пассова, он под его руководством делал быстрые успехи в знакомстве с классическими языками и с классической древностью; кроме того, Артур занимался латинской грамматикой и латинским синтаксисом у знаменитого латиниста Ленца, директора веймарской гимназии, пополняя в то же время свои исторические и математические познания. С замечательным рвением юноша работал не только целыми днями, но и по ночам, и когда он в 21 год поступил в славный тогда Геттингенский университет, то оказался настолько основательно и многосторонне подготовленным к слушанию университетских лекций, как немногие из его товарищей.
Сначала он записался на медицинский факультет и слушал лекции по естественной истории, но вскоре под влиянием Г. Е. Шульца заинтересовался философией и перешел на философский факультет. Этот Шульц имел самое решительное и благотворное влияние на будущего знаменитого философа. Он посоветовал Артуру прежде всего заняться тщательным изучением Платона и Канта и не брать в руки ни Аристотеля, ни Спинозу, пока он не ознакомится основательно с вышеназванными двумя мыслителями. Так, по крайней мере, Шопенгауэр сам передает это в набросанных им впоследствии автобиографических заметках. В Геттингене Шопенгауэр пробыл с 1809 по 1811 год, и здесь из университетских товарищей своих особенно близко сошелся с знаменитым впоследствии Бунзеном. Будучи нелюдим по природе, он не принимал почти никакого участия в обычной шумной студенческой жизни, и круг его знакомства ограничивался лишь очень немногими товарищами, к числу которых принадлежали поэт Эрнст Шульце, некто Люкке и американец Астор, сделавшийся впоследствии архимиллионером. Во время каникул Артур предпринимал экскурсии в Гарц, в Веймар и в Эрфурт, где ему пришлось побывать во время знаменитого эрфуртского конгресса и быть отчасти очевидцем раболепия германских владетельных князей перед Наполеоном I. Но этот молодой мыслитель, уже носившийся в то время с планом своего будущего капитального труда о “мире как воле”, по-видимому, не слишком-то интересовался этой волей, воплотившейся в человека и называемой Наполеоном. Гораздо более интересовал будущего знаменитого философа другой человек, гений которого представлял собою прямой контраст с гением Наполеона: он еще в доме матери познакомился с Гете, который отнесся в высшей степени благосклонно к молодому человеку, и с этих пор стал питать к нему, вопреки основным свойствам своего характера, восторженное благоговение, называя его самым великим человеком германского народа.
В 1811 году двадцатитрехлетний Шопенгауэр переселился из Веймара в Берлин, куда его влекла громко гремевшая в это время философская репутация Фихте; но уже в это время у молодого философа сложилась слишком самостоятельная манера мышления, для того чтобы всецело идти по стопам этого мыслителя, часто ударявшегося, по мнению Шопенгауэра, в софистику. Он очень прилежно посещал лекции Фихте, неоднократно вступал с последним в диспуты во время коллоквиумов, устраиваемых последним; но уже вскоре априорное преклонение его перед Фихте, по его собственным словам, уступило место пренебрежению и насмешке. Одновременно с философией он усердно продолжал изучать в Берлине и естественные науки: физику, химию, астрономию, геогнозию, физиологию, анатомию, зоологию; он не пренебрегал также классическими языками, слушая лекции Вольфа, Бека, Бернгарди и других; только юриспруденция и богословие не привлекали его, и в этом отношении в его образовании оказался значительный пробел, сказывавшийся во всей его последующей деятельности. Гораздо более лекций Фихте интересовали его лекции Шлейермахера по истории средневековой философии, хотя он находил последние не чуждыми поэтической окраски. Наконец он прослушал также курс по скандинавской поэзии, читал классических писателей Возрождения – Монтеня, Рабле и других.
Тогдашние смутные времена были, однако, не особенно благоприятны для мирных научных занятий. Во время пребывания Шопенгауэра в Берлине стала меркнуть ярко блестевшая до сих пор звезда Наполеона, и всей Германией, не исключая и университетских кружков, овладел пламенный патриотический энтузиазм. Но Шопенгауэр, несмотря на свои 24 года, был настолько чужд этого энтузиазма, что впоследствии даже навлекал на себя упреки в недостатке патриотизма. Он уже собирался держать в Берлине докторский экзамен, когда сомнительный исход сражений при Бауцене и Люцене заставил его покинуть Берлин и искать более покойного для его научных занятий убежища в Саксонии. Во время двенадцатидневного бегства в Дрезден он очутился в самом разгаре военной сутолоки; бургомистр одного городка, узнав случайно, что Шопенгауэр хорошо владеет французским языком, обратился к его услугам, и ему пришлось взять на себя роль переводчика. Лето Артур провел в деревне невдалеке от саксонского городка Рудольштадта, где он, среди окружавшего его военного шума, обдумывал план своего сочинения “О четверояком корне закона достаточного основания”. В начале октября Иенский университет, на основании присланной Шопенгауэром диссертации, заочно провозгласил его доктором философии, а на зиму он переселился к матери, в Веймар. Но здесь различие между характерами матери и сына сказалось сильнее, чем когда-либо. Умная, образованная, даже в известной мере талантливая Анна Шопенгауэр не могла понять и переносить обособленности и мизантропии своего сына. К этому различию в характерах присоединялось еще и то, что Шопенгауэр, бережливый и расчетливый с юных лет, не одобрял слишком широкого, по его мнению, образа жизни матери: он сознавал, и не без основания, что та деятельность, к которой он чувствовал влечение и к которой считал себя призванным, вряд ли в состоянии будет обеспечить его материальное существование, и поэтому особенно дорожил сохранением в возможной неприкосновенности оставленного отцом семейству состояния.
Анна Шопенгауэр, как женщина очень неглупая, понимала, что она и сын ее положительно не сходятся характерами. Вот что она как-то писала ему по этому поводу: “Я полагаю, что ты найдешь для нас обоих полезным, если взаимные отношения наши установятся так, чтобы обоюдная наша независимость не подвергалась ущербу и чтобы я, в частности, сохранила непринужденное, мирное и независимое спокойствие, которое вносит в мою жизнь отраду. Итак, Артур, устраивай свое существование так, как будто бы меня здесь вовсе нет, за исключением того, что ежедневно от часу до трех ты будешь приходить ко мне обедать. Вечера каждый из нас будет проводить как вздумается, кроме двух вечеров в неделю, когда у меня собирается общество: в эти вечера, само собой разумеется, ты будешь приходить, проводить время с гостями и, если захочешь, оставаться хоть целый вечер и ужинать. В остальные дни недели ужинать и чай пить ты будешь у себя дома. Так оно будет лучше, милый Артур, для нас обоих: этим способом мы сохраним теперешние наши взаимоотношения. Да и твоя независимость через это выиграет. Что касается развлечений, то ты будешь располагать тремя вечерами для посещения театра, а два вечера – проводить у меня. Полагаю, развлечений достаточно, хотя боюсь, что мои вечера покажутся тебе менее занимательными, чем для тех гостей, которые, будучи старше возрастом и имея перед тобою преимущество, играют на вечерах более видную роль. Ты окажешься единственным совсем молодым человеком в нашем обществе; но интерес находиться в одной среде с Гете вознаградит тебя, нужно думать, за веселье, которого ты, быть может, у меня не найдешь… Ты будешь для меня желанным гостем и, чтобы скрасить тебе пребывание в Веймаре, я сделаю все, что в состоянии буду сделать, не жертвуя, конечно, собственною свободой и покоем”.
По мнению одного из биографов Шопенгауэра, Зейдлица, это письмо его матери, равно как и приведенное выше, писанное по поводу предполагавшегося переселения Артура в Веймар, вполне обрисовывает Артура Шопенгауэра и точно характеризует его, каким он был не только в юности, но и в зрелом возрасте. “Мать из снисходительности относит к внешнему наслоению то, что составляет неотъемлемую черту внутреннего существа сына, и то, что, вероятно, нередко проявлялось и в покойном муже ее, делая жизнь с ним довольно тяжелой. Привычку молодого человека произносить свысока приговоры можно объяснить унаследованной самоуверенностью. Развитая в Артуре Шопенгауэре вера в свою непогрешимость, его мания величия и угрюмость, бесспорно, возникли на почве прирожденной ненормальности нервной системы, и их, конечно, нельзя поставить в вину юноше, как нечто вытекающее из своеволия; но вместе с тем нельзя не пожалеть о том, что никто не был настолько близок Артуру Шопенгауэру, чтобы ласкою и увещаниями прочно и благотворно повлиять на эти особенности его душевного строя”.
С сестрой своей Аделью, которая была на десять лет моложе и нисколько не походила на него ни наружностью, ни характером, он тоже не ладил, и, таким образом, оставался одиноким, даже находясь в семейной обстановке.
Около этого же времени Шопенгауэр познакомился с известной в то время актрисой Ягеман и серьезно увлекся ею. Он впоследствии сам сознавался, что одно время был даже не прочь жениться на ней; но этот его план расстроился, и Шопенгауэр остался на всю жизнь холостяком.
ГЛАВА III
Появление в свет первых научных трудов Шопенгауэра. – Путешествие его по Италии. – Шопенгауэр добивается университетской кафедры. – Прием, оказанный критикой его сочинениям. – Шопенгауэр как профессор. – Шопенгауэр покидает профессуру и снова отправляется странствовать. – Процесс Шопенгауэра с г-жой Маркет. – Жизнь Шопенгауэра в Дрездене. – Вторичная попытка Шопенгауэра выступить на профессорской кафедре. – Шопенгауэр окончательно отказывается от профессорской деятельности и поселяется во Франкфурте-на-Майне
В 1813 году, когда Шопенгауэру было 25 лет, он издал за свой счет первый свой труд, над которым усердно работал сначала в Берлине, а затем в Рудольштадте – “О четверояком корне закона достаточного основания”. Труд этот сразу обратил на себя внимание, вызвал похвальные отзывы в периодических изданиях и горячие похвалы со стороны учителя Шопенгауэра, геттингенского профессора Шульца. Однако среди большинства публики сочинение это прошло малозамеченным, – что, отчасти, находит себе объяснение в тогдашних смутных военных и политических обстоятельствах, переживаемых Германией. Шопенгауэр не только ничего не выручил от издания этой книги, но ему даже пришлось понести довольно чувствительные убытки. Здесь, кстати, нелишним будет привести очень характерный анекдот, рассказываемый его биографами. Когда он преподнес экземпляр своего сочинения матери, та, прочитав заглавие, воскликнула в шутливо-ироническом тоне: “А, здесь речь идет о корешках! Это, верно, что-нибудь по части фармации”. Сын отпарировал эту насмешку матери замечанием, что его сочинения будут читаться, и усиленно читаться, в такие времена, когда о беллетристических произведениях г-жи Анны Шопенгауэр все уже давным-давно позабудут.
Хотя Шопенгауэр жил в Веймаре не в одном доме с матерью, а отдельно, однако ее общество и ее образ жизни до того ему не нравились, что он, прожив здесь около года, решил совершенно расстаться с матерью и поселиться в другом городе. Молодой философ-нелюдим находил, что жизнь в Веймаре слишком развлекает его и отвлекает от поставленной цели. По этому поводу он следующим образом отзывается о призвании и целях философа в одном из последующих своих писем: “Философия – это альпийская вершина, к которой ведет лишь крутая тропинка, пролегающая по камням и терниям. Чем выше человек взбирается, тем становится пустыннее, и идти по этой тропинке может только человек вполне бесстрашный. Часто человек этот пробирается над пропастью, и он должен обладать здоровой головою, чтобы не подвергнуться головокружению. Но зато мир, на который он взирает сверху, представляется ему гладким и ровным, пустыни и болота исчезают, неровности сглаживаются, диссонансы не доносятся до него, он окружен чистым воздухом и солнечным светом, между тем как у ног его расстилается глубокая мгла”. И вот весной 1814 года Шопенгауэр переселяется из Веймара в Дрезден, знакомый ему еще по путешествиям, совершенным в детстве и отрочестве вместе с родителями. Здесь он задумал и написал капитальное свое сочинение: “Мир как воля и представление”.
Несмотря на свойственную ему замкнутость, несмотря на граничившую с самомнением сдержанность и саркастичность, молодой философ не жил в Дрездене полным анахоретом и пользовался в некоторых кругах исключительной любовью и уважением. Особенно охотно посещал он знаменитую Дрезденскую картинную галерею, основательное знакомство с которой пригодилось ему впоследствии в его трактатах об искусстве, и, с детства страстно любя природу, много странствовал по окрестностям.
Окончив осенью 1818 года свой труд “Мир как воля и представление”, Шопенгауэр заключил договор с издателем Брокгаузом, уплатившим ему по одному червонцу за печатный лист, но, нe дождавшись выхода в свет сочинения, над которым он работал целых четыре года и которое сделало его имя знаменитым, он отправился путешествовать по Италии. Обладая довольно редкой у немцев способностью к языкам, он прекрасно владел итальянским, что ему чрезвычайно пригодилось во время пребывания в Италии. В Риме, где ему пришлось пробыть целых четыре месяца, и в Неаполе большинство его знакомых были англичане; здесь он отчасти сбросил свою нелюдимость и отдался наслаждению искусством, природой и итальянской жизнью вообще. Из итальянских поэтов Шопенгауэр особенно высоко ценил Петрарку, но недолюбливал Данте, находя его чересчур дидактичным; не особенно высоко ставил Ариосто, Боккаччо, Tacco и Альфиери. В области искусства он обращал особое внимание на пластику и архитектуру древнего мира; к живописи же чувствовал меньше влечения, хотя, еще будучи очень молодым человеком, под влиянием бесед с Гете написал очень ценный трактат о цветах и красках. Он охотно посещал оперу в Италии, и Россини был любимым его композитором.
Во время своего пребывания в Италии Шопенгауэр получил от своей сестры Адель письмо, извещавшее о том, что данцигский торговый дом, которому его мать вручила большую часть состояния своего и Адель, обанкротился, причем обе они потеряли все свое состояние; сам Шопенгауэр, по свойственной ему осторожности и подозрительности, поместил в этом торговом доме лишь небольшую часть своего состояния, так что банкротство госпожи матери отозвалось на нем лично лишь потерей 8 тысяч талеров, между тем как большая часть доставшегося ему после отца состояния осталась неприкосновенной. Хотя, как мы видели выше, Шопенгауэр не особенно ладил с матерью, однако он предложил ей разделить с нею и с сестрою оставшуюся неприкосновенной часть своего состояния, но они по неизвестным причинам отвергли это предложение.
Вообще, насколько Шопенгауэр чтил память своего отца, настолько холодно и равнодушно он относился к своей матери. Биограф его, Линднер, по-видимому, не без некоторого основания, полагает, что Шопенгауэр имел в виду именно свою мать в том месте своего труда “Раrerga”, где он говорит о влечении женщин к расточительности и об их неспособности к ведению имущественных дел. Вот, между прочим, что он говорит в этой главе: “Все женщины, за весьма немногими исключениями, склонны к расточительности, поэтому настоятельно необходимо обезопасить всякое наличное состояние, за исключением тех редких случаев, когда они сами приобрели его, от их расточительности. Ввиду этого, я полагаю, что женщин, в каком бы возрасте они ни находились, никогда нельзя считать вполне совершеннолетними и что они постоянно должны находиться под мужской опекой, – все равно, будет ли то опека отца, мужа, сына или правительственных агентов, – подобно тому, как мы видим это в Индии; что им никогда не следует предоставлять самовольно распоряжаться имуществом; а то, что мать назначается даже в силу закона опекуншей и распорядительницей отцовского наследия детей своих, я считаю положительной нелепостью. В большинстве случаев такая женщина способна лишь прожить со своим вторым мужем или любовником то, что с трудом и заботливостью припасено отцом для своих детей, как нас тому учит еще старик Гомер. Родная мать после смерти отца своих детей часто превращается в мачеху им…” и так далее.
Возвратившись из путешествия по Италии, Шопенгауэр, отчасти, может быть, вследствие уменьшения отцовского своего наследия, решил домогаться профессуры. При этом он имел в виду три университета: Гейдельбергский, Геттингенский и Берлинский. Он написал трем своим знакомым профессорам: Эвальду, Блуменбаху и Лихтенштейну, подчеркивая, согласно тогдашним политическим условиям, что он намерен строго придерживаться области спекулятивной философии и далек от всякой мысли влиять на политический склад мыслей своих современников. Он писал, что его всегда занимало и, по складу его ума, будет занимать лишь то, что касается умственной деятельности людей всех эпох и всех стран, и что он считал бы ниже себя вдаваться в интересы данной страны или данной эпохи. По его глубокому убеждению, таковы должны быть взгляды всякого истинного ученого. В своей статье “Об университетской философии”, напечатанной в “Parerga”, он, между прочим, говорит: “Если бы вред, приносимый науке людьми непризванными и неспособными, заключался лишь в том, что они не приносят ей никакой существенной пользы, как мы видим то по отношению к художествам, – то еще куда бы ни шло. Но здесь они приносят положительный вред, прежде всего тем, что ради поддержания дурного они заключают тесный союз против всего хорошего и всячески стараются подавить его. Ничто не в состоянии примирить их с превосходством ума; так оно было, есть и всегда будет. И какое страшное большинство на их стороне! Это – одна из главных помех всякого рода прогрессу человечества”. “Люди, которые, вместо того, чтобы изучать мысли философа, – говорит в другом месте Шопенгауэр, – стараются ознакомиться с его биографией, походят на тех, которые, вместо того, чтобы заниматься картиной, стали бы заниматься рамкой картины, оценивая достоинства резьбы ее и стоимость ее позолоты. Но это еще полбеды; а вот беда, когда биографы начнут копаться в вашей частной жизни и вылавливать в ней разные мелочи, не имеющие ни малейшего отношения к научной деятельности человека”.
От гейдельбергской профессуры Шопенгауэр сам отказался, так как до него дошли слухи о господствовавших среди тамошнего ученого мира личных дрязгах… В Геттингене ему предвещали благосклонный прием, но крайне ограниченное число слушателей, поэтому он в конце концов остановил свой выбор на Берлине, куда и прибыл летом 1820 года. Здесь Шопенгауэр надеялся найти достаточное число и обязательных, и добровольных слушателей, причем рассчитывал также и на то, что, сделавшись на первый раз приват-доцентом, он в скором времени будет приглашен на оказавшуюся вакантной, со смертью Зольгера, кафедру философии.
Шопенгауэр являлся в Берлине не начинающим, мало кому известным философом, но автором большого, во всяком случае, заслуживавшего внимания труда “Мир как воля и представление”, года полтора тому назад появившегося в печати. Нельзя сказать, чтобы этот труд прошел незамеченным. Еще в третьем томе философского сборника “Гермес” профессор Гербарт поместил обстоятельную рецензию на этот труд, в которой он, сам диаметрально расходясь с автором во взглядах, ставил его, однако, на одну линию с Фихте и Шеллингом. Известный Жан Поль Рихтер писал по поводу труда Шопенгауэра: “Это гениально философское, смелое, многостороннее произведение, полное остроумия и глубокомыслия, но часто безнадежно и бездонно-глубокое, напоминающее собою те обрамленные высокими отвесными скалами норвежские озера, в которых никогда не отражается солнце, над которыми никогда не пронесется птица и которые никогда не подернутся игривою рябью”.
Мог ли подобный человек ожидать успеха на философской кафедре тогдашнего немецкого университета, пропитанного духом филистерства, туманного идеализма и погони за абстракцией, долженствующей сгладить неприглядную действительность? Не отрицая в Шопенгауэре преподавательского дарования, которым он сам гордился и на которое единогласно указывают беспристрастные его современники, нельзя, однако же, не признать того, что по самому содержанию своего преподавания он так же мало подходил к общественной деятельности, как, например, Спиноза. Если к этому присоединить еще господствовавшее в то время над молодыми умами влияние Гегеля и Шлейермахера и их менее даровитых последователей, относившихся явно враждебно к исходной точке Шопенгауэровской философии, и упорный, неспособный на компромиссы характер Шопенгауэра, то нельзя не прийти к заключению, что с самого начала представлялось весьма мало шансов на успех его профессорской деятельности. Уже в своей пробной лекции, прочитанной, согласно существовавшим в то время обычаям, на латинском языке, он объявил, что после истинного мыслителя Канта, сумевшего вывести философию на настоящую дорогу, арену философии запрудили софисты, дискредитировавшие философию и отбившие охоту заниматься серьезно ее изучением; но не замедлит явиться мститель, который восстановит эту дискредитированную философию во всех ее правах. В оставшихся после смерти Шопенгауэра бумагах нашлись конспекты его берлинских лекций, из которых видно, как добросовестно он отнесся к принятому на себя делу; но все же не подлежит сомнению, что его философия пришлась не ко двору тогдашней “молодой Германии”, носившейся с довольно своеобразными политическими и научными идеалами. Он сам в этом не замедлил убедиться, и, после довольно неуспешной годовой профессуры, весною 1822 года отряхнул университетскую пыль с ног своих и снова отправился путешествовать в столь любезные ему южноевропейские страны. В Берлине Шопенгауэру ничего не нравилось: ни университетские нравы, ни климат, ни образ жизни. Во время пребывания в Берлине он очень мало вращался в университетской сфере: конкурентов своих в области философии он преднамеренно избегал, так как педантизм ученого мира был ему просто противен. Ближе он сходился с несколькими представителями светского общества, хотя и здесь был крайне разборчив в знакомствах. Особенно опротивел ему Берлин после трагикомического эпизода, случившегося с ним здесь во время его непродолжительной профессуры. Дело это, довольно мелочное, крайне раздражало Шопенгауэра в течение довольно продолжительного времени. Заключалось оно в следующем. В августе 1821 года знакомая его квартирной хозяйки, г-жи Беккер, швея Каролина Маркет, привлекла Артура Шопенгауэра к суду за оскорбление словом и действием. В письменном отзыве ответчика на жалобу обвинительницы мы находим следующее изложение этого вздорного дела:
“Возводимое на меня обвинение, – пишет Шопенгауэр, – представляет чудовищное сплетение лжи с истиной… Я месяцев шестнадцать занимаю у вдовы Беккер меблированную квартиру, состоящую из кабинета и спальни; к спальне примыкает маленькая каморка, которой я сначала пользовался, но потом, за ненадобностью, уступил хозяйке. Последние пять месяцев каморку эту занимала теперешняя моя обвинительница. Передняя же при квартире всегда состояла исключительно в пользовании моем и другого жильца, и, кроме нас двоих и наших случайных гостей, в переднюю никому не следовало показываться… Но недели за две до 12 августа я, вернувшись домой, застал в передней трех незнакомок; по многим причинам это мне не понравилось и я, позвав хозяйку, спросил ее, позволила ли она г-же Маркет сидеть в моей передней? Она ответила мне, что нет, что Маркет вообще из своей каморки в другие комнаты не заходит и что вообще Маркет в моей передней нечего делать… 12 августа, придя домой, я опять застал в передней трех женщин. Узнав, что хозяйки нет дома, я сам приказал им выйти вон. Две из них повиновались беспрекословно, обвинительница же этого не сделала, заявив, что она – приличная особа. Подтвердив г-же Маркет приказание удалиться, я вошел в свои комнаты. Пробыв там некоторое время, я, собираясь снова выходить из дому, опять вышел в переднюю со шляпой на голове и с палкой в руке. Увидев, что г-жа Маркет все еще находится в передней, я повторил ей приглашение удалиться, но она упорно желала оставаться в передней; тогда я пригрозил вышвырнуть ее вон, а так как она стояла на своем, то я и на самом деле вышвырнул ее за дверь. Она подняла крик, грозила мне судом и требовала свои вещи, которые я ей и выбросил; но тут под предлогом, что в передней осталась какая-то не замеченная мною тряпка ее, она снова вторглась в мои комнаты; я опять ее вытолкал, хотя она этому противилась изо всех сил и громко кричала, желая привлечь жильцов. Когда я ее вторично выпроваживал, она упала, по всей вероятности, умышленно; но уверения ее, будто я сорвал с нее чепец и топтал ее ногами – чистейшая ложь: подобная дикая расправа не вяжется ни с моим характером, ни с моим общественным положением и воспитанием; удалив Маркет за дверь, я ее больше не трогал, а только послал ей вдогонку крепкое слово. В этом я, конечно, провинился и подлежу за то наказанию; во всем же остальном – нимало, так как я пользовался лишь неоспоримым правом охраны моего жилища от нахальных посягательств. Если у нее очутились ссадины и синяки, то я позволяю себе усомниться в том, чтобы они были получены при данном столкновении; но даже и в последнем случае она должна винить саму себя: таким незначительным повреждениям рискует подвергнуться всякий, кто держит в осаде чужие двери”… В первой инстанции истице было отказано в иске; но суд второй инстанции отменил оправдательное решение относительно Шопенгауэра, который в то время путешествовал по Швейцарии, и приговорил его к уплате 20 талеров штрафа и к возмещению потерпевшей Маркет убытков, в обеспечение чего на капиталы Шопенгауэра, хранившиеся у банкира Мендельсона, наложен был арест. Дело это тянулось по разным инстанциям до 1826 года и кончилось тем, что Шопенгауэру все же пришлось платить Маркет пожизненно по 60 талеров в год. Он и выплачивал ей эту пенсию в течение целых двадцати лет, до 1846 года, когда старуха, наконец, умерла. На предъявленном Шопенгауэpy свидетельстве о смерти Маркет, освобождавшем его от дальнейшей уплаты пожизненной пенсии, Шопенгауэр сделал следующую надпись: “Obit anus, abit onus” (Отошла старуха, свалилось бремя).
Весною 1822 года, когда еще тянулся процесс Шопенгауэра со старухой Маркет, он, отказавшись от берлинской профессуры, отправился путешествовать, – сначала в Швейцарию, а затем в Италию, где провел осень в Венеции и Милане, а зиму – во Флоренции. Весною 1823 года философ из Италии, через Тироль, проехал в Мюнхен, где прожил около года. В Италии он, как и во время первого путешествия своего, предпочитал общество англичан и тщательно избегал немцев. В Мюнхене Шопенгауэр перенес тяжелую болезнь, вследствие которой почти совсем оглох на одно ухо, и оттуда отправился летом 1824 года лечиться в Гаштейн. Из Гаштейна он снова приехал в Дрезден, который был приятен ему еще по прежним воспоминаниям. Понятно, что ни природа Саксонии, ни строй жизни саксонской столицы не могли сколько-нибудь резко измениться за последние десять лет. Но многих из прежних своих хороших знакомых Шопенгауэр теперь уже не застал здесь, а главное – личное настроение Шопенгауэра теперь уже не было то же, что прежде. Он теперь уже перестал ожидать для себя великой будущности и, не находя полного душевного успокоения, задумал здесь переводить творения замечательных, но малоизвестных мыслителей минувших времен, более или менее близких ему по духу, в надежде подготовить этим путем публику к усвоению его собственных философских взглядов. В таких видах Шопенгауэр принялся было за популярное изложение философских сочинений Давида Юма, написав длинное к нему предисловие. По неизвестным причинам затеянный перевод не состоялся, о чем, как пишет биограф Шопенгауэра Фрауенштедт, “нельзя не пожалеть, так как, при несомненной способности Шопенгауэра к переводам, о которой дают ясное понятие отдельные отрывки английских писателей, введенные в текст его сочинении, и перевод творений Юма оказался бы образцовым, тем более что Юм, подобно Вольтеру, принадлежит к числу писателей, наиболее родственных Шопенгауэру по духу, а потому им особенно часто цитируемых. Я отлично помню из бесед с Шопенгауэром, что он и мне рекомендовал прочесть диалоги Юма”.
Перевод Шопенгауэром сочинений Юма остался недоконченным из-за внезапного отъезда Шопенгауэра в Берлин, который был вызван вышеупомянутым процессом его с г-жой Маркет, проигранным ею в первой инстанции. К этому же времени относится и вторичная попытка его читать лекции в берлинском университете, в качестве уже приват-доцента. Но и эта попытка его оказалась неудачной: в числе записавшихся на его курс слушателей было очень мало действительных студентов, а фигурировали больше разные дилетанты. Раздосадованный Шопенгауэр закрыл свой курс, раз и навсегда отказавшись от профессорской деятельности. Но он продолжал жить в Берлине, усердно занимаясь, между прочим, испанским языком и переводом некоторых своих любимых английских поэтов на немецкий язык. К этому же периоду берлинской жизни относится и знакомство его с Александром Гумбольдтом, в котором Шопенгауэр, впрочем, признавал больше учености, чем ума.
Наконец, в 1831 году свирепствовавшая в Берлине холера заставила Шопенгауэра окончательно покинуть этот город. Он решил поселиться не в Северной Германии, где родился и где провел большую часть своей жизни до зрелого возраста, а в Южной, и избрал резиденцией своей Франкфурт-на-Майне. Отсюда он ненадолго переселился было в Мангейм, но в 1833 году вернулся во Франкфурт и с тех пор прожил в этом городе почти безвыездно двадцать восемь лет.
ГЛАВА IV
Наружность и манеры Шопенгауэра. – Его любимые ответы. – Письмо к наборщику. – Переписка с Брокгаузом. – Шопенгауэр о столоверчении. – Взгляд его на самоубийство. – Образ жизни. – Болезнь и смерть Шопенгауэра. – Похороны его. – Надгробная речь Гвиннера. – Памятник на могиле Шопенгауэра. – Размеры черепа Шопенгауэра
Наружность Шопенгауэра биографы описывают следующим образом. Это был человек несколько ниже среднего роста, крепкого телосложения, стройный и с громадной головой; но особенно замечательны были его светлые, блестящие, голубые глаза, обращавшие на себя, во время многочисленных его странствований, внимание людей, совершенно ему незнакомых. Одни находили в нем некоторое сходство с Бетховеном, другие утверждали, что лицо его, и в особенности очертание рта, напоминало Вольтера. Одевался он всегда чрезвычайно изящно, сохранив, впрочем, вопреки современным модам, покрой платья начала девятнадцатого столетия. Малообщительный и в молодости, он, после своих университетских неудач, стал еще больше чуждаться общества. Поселившись окончательно во Франкфурте-на-Майне, он старался держаться как можно дальше от местных интересов, мало сходясь с окружавшими его людьми. Он терпеть не мог не только светских, но и обыденных разговоров; но когда ему приходилось говорить в обществе, он никогда не говорил отвлеченными фразами: его разговорная речь была так же проста, наглядна, ясна, точна и жива, как и его слог. Сумев избежать мелочных интересов, забот, радостей и огорчений семейной жизни, относясь довольно безучастно к явлениям жизни общественной, он сосредоточивал все силы своего ума на том, что в древности называлось диалектикой, то есть на искусстве вести разговор исключительно в области чистого мышления. Вместе с тем, он исходил из того основания, что глубина мысли не только не исключает красоты изложения, но, напротив, выигрывает от нее. Как бы высказываемые им мысли ни казались порой односторонними, нельзя было не признать манеру его излагать их в высшей степени убедительной.
Шопенгауэр, задумывая полное издание своих сочинений, намеревался поставить в заголовке его эпиграф: “Non multa”. Этот эпиграф действительно как нельзя лучше характеризует его как ученого. Шопенгауэр знал много, но не многое. Ни начитанность, ни познания его не поражали своею обширностью. Он с юности привык ограничивать свои ученые занятия изучением сравнительно немногих, но зато капитальных сочинений. Так, например, он почти вовсе не следил за современной ему литературой во всех ее разветвлениях; но зато если он что читал, то читал это обстоятельно, внимательно и вполне овладевал своим предметом. Уже одно то обстоятельство, что он читал довольно медленно, показывает, что он не в состоянии был прочесть сравнительно много. Он утверждал, что не следует читать плохих книг, потому что подобные книги крадут у человека самое драгоценное его достояние – время. Он предпочитал книги на иностранных языках немецким и особенно охотно читал греческих и латинских классиков. Уже при изучении древних языков Шопенгауэр прочел наиболее замечательных классиков, с другими ознакомился впоследствии; Платона и Аристотеля он перечитал по много раз. Из римлян любимым писателем его был Сенека. Вообще, он тщательно избегал знакомиться с писателями классического мира по чужим словам, из историй литературы; особенно возмущала его манера многих современных ему философов так знакомиться с мыслителями древности – не из первых, а из вторых уст. Так делали, по его убеждению, Фихте, Шеллинг и Гегель. Это нежелание получать свои знания из вторых уст заставляло его также, по возможности, избегать переводов. Он требовал от истинного ученого знакомства, по крайней мере, с важнейшими литературными наречиями, хотя это и не мешало ему самому иногда заниматься переводами. Не знакомого с латинским языком Шопенгауэр просто считал неучем. Из новейших литератур он охотнее всего занимался английской, причем ему особенно пригодилось его основательное знакомство с английским языком. Он чувствовал особое влечение к аскетической и мистической литературе, и одно время даже тщательно изучал германских мистиков. Всякое родственное буддизму явление на европейской почве привлекало к себе его внимание. Биограф его Гвиннер приводит следующий интересный список тех мировых произведений, которые составляли любимое его чтение; это были: Сто пятое письмо Сенеки, начало сочинения Гоббса “О гражданине”, “Principe” Маккиавелли, обращение Полония к Лаэрту в “Гамлете”, “Правила” Грациана, французские моралисты, Шинстон и Клингер. В течение всей своей жизни Шопенгауэр относился с чрезвычайным сочувствием и уважением к великим поэтам всех времен и народов; чаще всего он читал Шекспира и Гете, затем Кальдерона и Байрона; особенно же восхищался байроновским “Каином”, – очевидно, вследствие пессимистического духа, которым проникнуто это произведение. Из лириков он, после Петрарки, ставил особенно высоко Бернса и Бюргера, причем последнему, по непосредственности и силе лиризма, готов был отвести место тотчас же после Гете; впрочем, Шопенгауэр относился с уважением и к Шиллеру, не следуя в этом отношении примеру “ésprits forts” [вольнодумцев (фр.)] его эпохи. Поэтов же второстепенных и третьестепенных он вовсе не читал, находя, что на чтение их не стоит тратить времени. Основательному усвоению им массы прочитанного способствовала его колоссальная память.
Но Шопенгауэр почерпал свое знание далеко не из одних книг. Привыкши с юношеских лет внимательно всматриваться в окружающий его мир, знаменитый философ постоянно расширял умственный кругозор, разыскивая крупицы истины всюду, где была хотя бы малейшая надежда найти ее. Он тщательно следил за всяким небесным или земным явлением, причем большей частью резко расходился с общепринятым мнением: часто то, что привлекает других и что считается ими в высшей степени важным, он оставлял без всякого внимания, и наоборот, то, что игнорировалось другими или над чем другие насмехались, получало в его глазах величайшее значение.
Образ жизни Шопенгауэр вел необыкновенно правильный. Если он признал что-нибудь разумным и ввел в свой домашний обиход, он уже не переставал придерживаться того с педантической строгостью. Бывают такие люди, которые не умеют извлекать пользы из своего опыта; но для Шопенгауэра всякий новый опыт, сделанный в каком бы то ни было направлении, становился руководящим началом в дальнейших его действиях, и он продолжал идти в данном направлении с железной последовательностью. Шопенгауэр вставал летом и зимою между 7 и 8 часами утра, причем пил кофе, который сам себе готовил; его экономке было строго-настрого приказано даже не показываться по утрам в его рабочем кабинете, так как он считал утренние часы, когда мозг достаточно отдохнул, самым лучшим рабочим временем, и не терпел в этом отношении ни малейшей помехи. Он усидчиво работал до половины первого, затем около получаса играл на флейте, и ровно в час отправлялся в ресторан обедать: во всю свою жизнь он не заводил у себя домашнего хозяйства и оставался верен своим ресторанным обедам. Но в общих застольных разговорах он почти никогда не принимал участия. После обеда он возвращался домой, пил кофе, отдыхал с часок, и затем занимался сравнительно более легким чтением. К вечеру он отправлялся гулять за город, выбирая преимущественно самые уединенные дорожки; только в дурную погоду он гулял по городским бульварам. Походка его до самой старости оставалась легкой и эластичной. Он любил гулять один, чтобы быть возможно ближе к природе и возможно дальше от человеческого общества. Он любил природу, понимал ее, и высказал это свое понимание во множестве рассеянных по своим сочинениям замечаний. “Как красива природа! – восклицает Шопенгауэр, например, в одной из заметок. – Всякое невозделанное, запущенное, то есть предоставленное самому себе местечко, к которому человек не прикасается своей неуклюжей лапой, природа тотчас же разукрашивает с величайшим вкусом, одевает его растениями, цветами и кустарником, естественная грация и изящная группировка которых явно свидетельствуют о том, что они выросли не под палкой великого эгоиста, называемого человеком”. Летом он предпринимал более отдаленные прогулки, не продолжавшиеся, однако, никогда долее одного дня. Большие путешествия, которые ему так нравились в молодости, он под старость считал бесполезными и даже неуместными; философ зло насмехался над новейшей, бесцельной страстью к путешествиям, над этим “катанием взад и вперед под предлогом отдохновения”. Дальше Майнца, где он иногда навещал одного старого своего приятеля, и недалеких гор Таунуса в последний период своей жизни он никогда не забирался.
После прогулки Шопенгауэр отправлялся в кабинет для чтения. С юных лет он усвоил себе привычку если не прочитывать, то по крайней мере пробегать ежедневно газету “Times”; кроме того, он просматривал еще кое-какие английские и французские журналы, а из немецких периодических изданий читал обыкновенно “Геттингенские ученые записки”, “Гейдельбергский ежегодник” и “Литературный листок” известного Вольфганга Менцеля, который ему нравился за то, что “умеет писать занимательные и поучительные рецензии наподобие англичан и французов, между тем как немецкие критики и рецензенты только наводят туман на читателя и утомляют его”. Задача рецензента, по его мнению, должна заключаться в возможно более точной передаче содержания книги, которая избавляла бы читателя от труда прочитывать самую книгу. Особенно злила его все более и более распространявшаяся в германской печати порча немецкого языка разными варваризмами. “Немец, – говаривал он, – не в состоянии уберечь даже то единственное богатство свое, которым он вправе гордиться”.
В своей корреспонденции Шопенгауэр, несмотря на серьезность и даже кажущуюся суровость, является человеком в высшей степени остроумным. Собираясь, например, приступить ко второму изданию своего труда “Мира как воля и представление”, он написал следующее остроумное письмо к своему наборщику:
“Любезный г-н наборщик! Мы относимся друг к другу, как душа к телу; поэтому, по примеру последних, мы должны оказывать друг другу взаимную поддержку, в видах создания такого труда, которое заставило бы возликовать сердце господина Брокгауза (издателя). Я с этой целью сделал все, что от меня зависело, и на каждой строчке, при каждом слове, даже при каждой букве, думал о вас, – о том, сумеете ли вы прочесть написанное. Теперь сделайте же и вы то, что от вас зависит. Рукопись моя писана не изящным, но очень четким почерком. Тщательная отделка труда моего вызвала необходимость многих вставок; но при каждой вставке ясно обозначено, куда она относится, так что вы в этом отношении не можете впасть в ошибку, лишь бы вы были достаточно внимательны и прониклись уверенностью, что все в порядке и что нужно только подыскать для каждого значка на полях соответствующее слово. Прошу вас также обратить должное внимание на мое правописание и на мою пунктуацию, и, пожалуйста, не воображайте, будто вы смыслите в этом отношении более моего: повторяю – я душа, а вы тело. Если вам где-либо встретится зачеркнутая строка, то всмотритесь повнимательнее, не найдется ли в этой строке не зачеркнутого слова; отнюдь не допускайте предположения, что здесь мог случиться недосмотр с моей стороны. Если вы не желаете создать для себя лишнего корректурного труда, то избавьте меня от необходимости производить многочисленные поправки на корректурных листах”.
Не лишена также интереса переписка его с книгопродавцом Брокгаузом по поводу предпринятого им в 1843 году второго издания первого тома своего сочинения “Die Welt als Wille…” и издания второго тома того же труда. Он писал по этому поводу:
“Вы, надеюсь, найдете вполне естественным, что я обращаюсь к вам, предлагая вам издать второй том моего “Мира как воля и представление”, только что мною оконченный. Быть может, вас удивит только то, что я закончил его лишь 24 года спустя после первого, хотя я за все это время не переставал трудиться над ним. Но то, что должно существовать долго, создается медленно. Окончательная редакция его – труд последних четырех лет, и я приступил к ней, убедившись в том, что мне пора кончать: мне только что минуло 55 лет, значит я вступаю в такой возраст, когда жизнь становится все более и более проблематичною; даже в том случае, если бы она еще продлилась, то все же умственные силы начинают слабеть. Этот второй том имеет значительные преимущества перед первым и относится к нему, как законченная картина к простому эскизу. Преимущество это заключается в солидности и богатстве мыслей и познаний, которые могут явиться лишь плодом целой жизни, проведенной среди усиленных занятий и размышлений. Во всяком случае, этот том – лучшее из всего когда-либо мною написанного; он даже затмевает значение и первого тома. К тому же я имел возможность выражаться теперь гораздо свободнее и прямее, чем 24 года назад: отчасти вследствие того, что изменилось само время, отчасти вследствие того, что решительный отказ от профессуры и отречение от университетской науки развязали мне руки… Я очень желал бы, чтобы вы решились перепечатать и первый том, – для того, чтобы произведение, значения и достоинств которого до сих пор не признавали, явившись в новом и улучшенном виде, могло бы привлечь на себя заслуженное внимание публики, что особенно желательно в настоящее время, когда упадок религиозного чувства усиливает запрос на философию, а следовательно, увеличивает и интерес к последней, а между тем недостает того, что могло бы удовлетворить этот запрос: труды так называемых философов менее всего способны достигнуть этой цели. Поэтому я нахожу время как нельзя более удобным для того, чтобы снова выступить с моим произведением, и я как нельзя более кстати окончил именно к этому времени второй том его. Но все же ко мне будут относиться с той же несправедливостью, с какою относились доселе. История литературы учит нас именно тому, что все солидные, долговечные произведения находились вначале в пренебрежении, подобно моему, между тем как пользовалась незаслуженным вниманием и почетом посредственность. И мое время должно же когда-нибудь наступить, и наступит… Вопрос об уплате мне какого-нибудь гонорара предоставляю на ваше благоусмотрение: я работал не из-за денег. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, что расходы по печатанию и на бумагу для такого объемистого труда будут весьма значительны и могут быть покрыты лишь в достаточно продолжительное время. Повторяю – я предоставляю вам установить условия этого издания. Кое-какую публику я уже теперь приобрел себе, и со временем эта кое-какая публика превратится в публику очень многочисленную, причем мой труд дождется многих изданий, хотя вряд ли мне придется дожить до них”. Когда же Брокгауз ответил на предложение Шопенгауэра отказом, франкфуртский философ-отшельник написал ему следующее: “Ваш отказ был для меня столь же неожидан, как печален. Я желал сделать публике подарок и притом весьма ценный; но вдобавок еще мне самому платить вам за этот подарок – это уже слишком. Если дело действительно дошло до того, что не находится издателя, который рискнул бы типографскими расходами для издания труда всей моей жизни, между тем как гегелевская белиберда выдерживает по несколько изданий, – ну, так пускай же мой труд появится в посмертном издании, когда народится то поколение, которое радостно встретит каждую мою строку. А время это когда-нибудь да наступит”.
В конце концов Шопенгауэр сговорился с Брокгаузом и тот напечатал оба тома его “Мира как воля и представление” на предлагаемых Шопенгауэром условиях.
Когда в пятидесятых годах пошла мода на столоверчение, Шопенгауэр отнесся к этой странной моде совершенно серьезно, сумев однако, со свойственным ему остроумием, придать и этой нелепости серьезную, философскую подкладку. В апреле 1852 года Шопенгауэр писал Линднеру: “Вошедшее в последнее время в моду столоверчение доставит когда-нибудь полное торжество моей философии. Я глубоко убежден в том, что действующая в данном случае сила – отнюдь не электричество, как полагают иные, а именно воля, которая проявляет здесь свои магические свойства, влияя не только на собственное свое тело, но и на посторонние тела. Стол двигается, повинуясь единодушной воле всех, прикасающихся к нему; это – блистательнейшее подтверждение того, что уже давно высказано мною в моем труде “Воля в природе”, а именно в главе “О животном магнетизме и магии”. Если же в данном случае толкуют об электричестве, то происходит это вследствие нелепой привычки наших quasi-ученых сваливать на силу электричества все то, что представляется им темным и необъяснимым”.
Интересен также взгляд Шопенгауэра на самоубийство, высказанный им в одном из своих писем к Линднеру: “Человек, прибегающий к самоубийству, доказывает только то, что он не понимает шутки, – что он, как плохой игрок, не умеет спокойно проигрывать и, когда к нему придет дурная карта, предпочитает бросить игру и в досаде встать из-за стола”.
Шопенгауэр был в денежных делах чрезвычайно расчетлив, и благодаря своей расчетливости и бережливости сумел почти удвоить состояние, доставшееся от отца и значительно пострадавшее в его молодости. В последние годы его жизни значительный доход доставляли ему сочинения, для которых он в прежние годы с трудом находил даже даровых издателей, и он шутя говорил, что “большая часть людей зарабатывает себе деньги в молодости и в зрелые годы, а он – в таком возрасте, в котором другие люди уже перестают зарабатывать себе деньги”. Жил он чрезвычайно просто, и лишь пятидесяти лет от роду завел себе собственную мебель. В особом комфорте и эстетичности обстановки он, по-видимому, не чувствовал потребности. Самая лучшая и большая комната его квартиры была занята замечательной библиотекой. На мраморной подставке в этой комнате, в которой он и умер, стояла настоящая, позолоченная статуэтка Будды; на письменном столе – бюст Канта: над диваном висел портрет Гете, писанный масляными красками; на других стенах – портреты Канта, Декарта, Шекспира, несколько семейных портретов и его собственные портреты, снятые в различные возрасты.
До последнего года своей жизни Шопенгауэр обладал замечательным здоровьем. Лишь за несколько лет до смерти с ним за столом сделался обморок, не имевший, впрочем, никаких дурных последствий. Но в апреле 1860 года, возвращаясь после обеда домой обычной своей быстрой походкой, он вдруг почувствовал сердцебиение и стеснение в груди. Затем эти же явления повторялись с ним еще несколько раз в течение лета и вынуждали его порой останавливаться на улицах; а так как он не в состоянии был освободиться от привычки ходить очень быстро, то он нашел вынужденным сократить свои прогулки. Однажды, в августе, утром с ним сделался особенно сильный припадок удушья, вследствие которого он едва не задохнулся. Шопенгауэр чувствовал отвращение ко всякого рода лекарствам и называл глупыми тех, которые воображали себе, будто можно купить в аптеках за деньги утраченное здоровье. В первых числах сентября припадок повторился, а призванный к нему 9 сентября утром большой поклонник его Гвиннер, также живший во Франкфурте, сразу же убедился в том, что у Шопенгауэра воспаление легких. Сам Шопенгауэр тут же объявил, что наступает конец его; однако по прошествии нескольких часов после минования кризиса он настолько поправился, что в состоянии был встать с постели и принимать гостей. Но десять дней спустя с ним снова сделался припадок. В этот вечер к нему пришел Гвиннер. Он сидел на диване и жаловался на сердцебиение; впрочем, голос его был силен и звонок. Гвиннер застал больного за чтением “Литературных курьезов” Дизраэли. Раскрыв то место книги, в котором Дизраэли говорит о писателях, разоривших своих издателей, Шопенгауэр шутя заметил: “И меня едва не довели до этого наши милые профессора философии”. Затем он сказал, что его нимало не беспокоит мысль о том, что его тело скоро будут точить черви; но зато он не может без ужаса подумать о том, как будут точить его ум господа профессора философии. Он очень интересовался делами объединявшейся в то время Италии, высказывая, однако, весьма метко и, по-видимому, справедливо опасение, что объединенная, нивелированная Италия будет играть меньшую роль в умственной жизни Европы, чем та, какую играла Италия политически разъединенная. Во время разговора больной выразился, что для него было бы весьма некстати умереть именно теперь, так как он только что задумал серьезно переделать и пополнить свой труд “Parerga und Paralipomena”. “К тому же, – говорил он, – если прежде я желал возможно долгой жизни для энергической борьбы с моими врагами, то теперь я охотно пожил бы еще для того, чтобы хоть под старость насладиться столь долго заставившим ждать себя, но зато доносящимся теперь до меня отовсюду признанием моих научных заслуг”. Шопенгауэр радовался тому, что его начинают понимать и ценить не только профессиональные ученые, но и так называемые дилетанты. Он, между прочим, прочел Гвиннеру выдержки из только что полученных им из разных мест, от совершенно незнакомых людей, сочувственных писем. “Вообще, – говорит Гвиннер, – во время этого нашего последнего разговора Шопенгауэр был таким общительным и мягким, каким я его никогда не видал. уходя от больного из опасения чересчур утомить его, я далек был от предчувствия, что видел его в последний раз, в последний раз пожал его руку. Прощаясь со мною, Шопенгауэр сказал совершенно серьезно, что для него было бы истинным благодеянием обратиться в ничто, но что, к сожалению, пока на это еще мало надежды. “Впрочем, – прибавил он, – будь что будет, а интеллектуальная совесть моя чиста и спокойна”. Два дня спустя, 20 сентября утром, с Шопенгауэром сделались такие сильные спазмы в груди, что он упал на пол и расшиб себе лоб. Днем он несколько оправился и ночь провел относительно спокойно. 21 сентября Шопенгауэр встал в обыкновенное время и уселся на диване пить кофе; но когда, несколько минут спустя, в комнату вошел доктор, он застал его опрокинувшимся на спинку дивана и безжизненным: паралич легких положил конец его жизни. Лицо его дышало спокойствием, и на нем не видно было никаких следов предсмертной агонии. Он всегда рассчитывал на легкую смерть, утверждая, что тот, кто провел всю свою жизнь одиноким, сумеет лучше всякого другого отправиться в вечное одиночество, в радостном сознании, что он возвращается туда, откуда вышел столь богато одаренным, и в уверенности, что он честно и добросовестно выполнил свое призвание.
Согласно письменно выраженному им желанию, его не вскрывали. Чело его было увенчано лавровым венком; 26 сентября смертные останки Шопенгауэра были преданы земле. Ученик и впоследствии биограф его, Гвиннер, произнес на могиле учителя следующую надгробную речь:
“Гроб этого замечательного человека, прожившего около тридцати лет среди нас, но все же остававшегося для нас как бы чужеземцем, вызывает особые размышления. Никто из здесь стоящих не связан с ним узами крови: он жил одиноким и умер одиноким. Но я позволю себе сказать, что усопший нашел некоторую компенсацию за свое одиночество. Это страстное желание познания вечного, которое является у большинства лишь ввиду близкой смерти, было неизменным спутником всей его жизни. Будучи пламенным поклонником правды, в высшей степени серьезно относясь к жизни, он с юных лет привык бесцеремонно отворачиваться ото всякой лжи и притворства, не страшась риска оттолкнуть от себя людей и испортить свои к ним отношения. Этот мыслящий и глубоко чувствующий человек провел всю свою жизнь одиноким, непонятым, оставаясь верным самому себе. Его свободный ум не преклонился под тяготами жизни. Богато одаренный судьбой, он всю свою жизнь стремился к тому, чтоб быть достойным этих даров, и, имея в виду свое высокое призвание, всегда готов был отказаться от всего того, что радует сердца других людей. Много, много лет современники его отказывались отдать ему должную справедливость; лавры, украшающие в настоящее время его чело, достались ему лишь в последний час; но тем не менее вера в свое призвание не переставала корениться в его душе! В течение долгих годов незаслуженного одиночества он не отступил ни на единую пядь от предначертанной им себе дороги и поседел в неукоснительном служении своей возлюбленной – истине, постоянно памятуя слова Ветхого Завета: “Велико могущество истины, и она, в конце концов, победит”. Те из нас, которые имели счастие стоять ближе к “франкфуртскому мудрецу”, никогда не забудут его ясного, светлого взгляда, его живой, убежденной речи. Ручательством тому, что этого человека не забудут, служит нам то, что он в течение всей своей жизни упорно отказывался идти по пути обыденного. Учение его будет стоять незыблемо даже и тогда, когда давным-давно исчезнут всякие следы этой, только что вырытой нами могилы. Многие видели в нем только мизантропа; но какого бы низкого мнения он ни был о человеке, он сочувствовал людям, сострадал им. Ему не суждено было судьбой основать свой дом, обзавестись семьей; но все же им построено здание, двери которого он широко раскрыл перед всем мыслящим человечеством”.
Могилу Шопенгауэра украшает простая надгробная плита, обвитая плющом. На этой плите высечены только два слова: Артур Шопенгауэр и больше ничего: ни года его рождения, ни года смерти, ни какой-либо иной надписи. Это сделано по специально выраженному им перед смертью желанию, так как он исходил из того убеждения, что все остальное, касающееся его личности и деятельности, предоставляется знать потомству. Когда Гвиннер как-то спросил его, где бы он желал быть похороненным, Шопенгауэр отвечал: “Это безразлично; они уже сумеют отыскать меня”. Заметим здесь, впрочем, что в самое последнее время “Frankfurter Zeitung” выступила со статьей, в которой она ратует за открытие подписки на сооружение памятника Шопенгауэру.
Немецкие газеты сообщают также, что, в связи с минованием 21 сентября настоящего года установленного немецкими законами тридцатилетнего срока для права наследников на литературную собственность умершего писателя, предполагается приступить к новому полному изданию сочинений Шопенгауэра.
Заметим здесь еще, в дополнение к кратким биографическим данным о жизни Шопенгауэра, что как показывает снятая с его головы после смерти модель, череп его отличался необыкновенными размерами, превосходя размеры черепов Канта, Шиллера, Наполеона I и Талейрана. Быть может, эти необычайные размеры черепа могут служить некоторым указанием на то, что у автора “Мира как воля и представление” ум стоял на первом плане, а чувство – на втором.
ГЛАВА V
Отличительные свойства философского мировоззрения Шопенгауэра. – Что разумеет Шопенгауэр под словом “воля”? – Воля и разум. – Три основные свойства воли: тождественность, неизменность, свобода. – Воля как представление. – “Воля в природе”. – Опыт как основа философии. – Значение и роль метафизики. – Взгляд Шопенгауэра на психологию
Философия Шопенгауэра находится в резком противоречии с метафизическими воззрениями трех знаменитых его современников: Фихте, Шеллинга и Гегеля. Он различает два мира, две сферы: с одной стороны – мир как явление, как представление; и над ним, отделенный от него целою пропастью – мир реальный, мир-воля. Первый из них подвержен причинности, как и все, находящееся во времени и в пространстве; второй – свободный и находящийся вне всяких стеснений, стоящий вне времени и пространства. Тщательно различить оба эти мира, точно определить их пределы, сделать их доступными зрению и слуху – вот, по мнению Шопенгауэра, первая из задач философа и вот что он поставил себе задачей на первой же странице капитального труда своего – “Мир как воля и представление”. “Мир – это мое представление”,– так он начинает свое сочинение, сосредоточивая в этих четырех словах и идеалистскую философию Индии, и сущность новейших систем Лейбница, Берклея, Юма и Канта. Что может быть проще и бесспорнее этой основной формулы? Глаз видит краски, ухо слышит звуки, рука ощущает поверхности и тела. Но нам неизвестны сами по себе ни формы, ни звуки, ни цвета; нам известны лишь изображающие их органы: “все это лишь представляется” нам. Таким образом мир, как нечто представляемое не есть нечто реальное: в мире явлений – все только кажущееся. Но мир состоит из двух половин, из двух полушарий: одно из них – область видимости, которая не имеет в себе ничего реального; другое, неизведанное и таинственное по существу своему, – это воля.
Во избежание всяких дальнейших недоразумений нужно заметить, что Шопенгауэр придает слову “воля” не обыденное, а совершенно особенное значение. Здесь речь идет не о воле как о чем-то разумном и сознательном, а о воле как о чем-то инстинктивном, аналогичном желанию жить или инстинкту самосохранения, словом – о воле в самом широком смысле этого слова. “Вне воли и разумения, – говорит Шопенгауэр, – не только ничто нам неизвестно, но даже ничто не может быть мыслимо. Невозможно искать в чем-либо другом реальности для применения ее к телесному миру. Эту волю, это хотение нужно строго отличать от сопровождающего его сознания и от определяющего его мотива. Все это – не сущность воли, а лишь проявление ее. Так, например, если я говорю, что сила, заставляющая камень тяготеть к земле, по существу своему, сама по себе и вне всякого представления, есть воля, то это не значит, что камень движется в силу известного ему сознательного мотива, так как в этой последней форме воля проявляется только у человека”.
По мнению Шопенгауэра, воля (хотение) обладает следующими тремя основными свойствами: тождеством, неизменностью, свободой.
Хотя волю можно проследить повсюду, но легче всего она обнаруживается в человеке и в человеческом сознании. Она составляет фундамент психологии, ибо истинная, неразрушимая сущность человека – это воля. Шопенгауэр доказывает преобладание воли над сознанием. Последнее – нечто физическое; воля – нечто метафизическое; сознание – это проявление, воля – это сущность; сознание – нечто случайное, воля – нечто незыблемое; сознание – свет, воля – теплота. Воля – это прототип всякого познавания; она сказывается везде и во всем. Воля – нечто первичное, разум – нечто вторичное; воля неизменна, разум подвержен изменениям; воля может заглушить, парализовать, смутить разум; она же в состоянии поднять и экзальтировать его. Разум – это голова, воля – сердце.
Различение воли и познавания составляет, без сомнения, кульминационную точку шопенгауэровой философии и самую новую сторону его учения; но, вопреки другим мыслителям, он отводит воле – разумея ее в указанном нами смысле, – первое место, а разуму – второе. Разум у человека, – а в известной мере и у животного, – является лишь продуктом воли; даже на высшей точке своего проявления он обнаруживается лишь после воли. Таким образом, он есть не первичное, существенное состояние человека, а лишь вторичное, случайное. Разум погибает вместе с человеком, но воля остается: “Для меня, – говорит Шопенгауэр, – вечным, неразрушимым в человеке является не душа, а, прибегая к химическому термину, основание души, то есть воля”.
Можно сказать, что Шопенгауэр доказывает, что воля не подвергается в мире никаким изменениям. Она всегда остается одна и та же, будучи совершенно тождественной как у человека, так и у клеща; ибо если насекомое чего-либо желает, то оно желает этого столь же решительно, как и человек: вся разница заключается лишь в объекте желания, в мотиве желания и в освещающем это желание разумении. Порядок природы – неизменен, и неизменность эта зависит не от разума. Разум – это нечто подвижное, прихотливое, нечто, влагающее в мир бесконечное разнообразие. Орган же воли, сердце, – это нечто постоянное, не меняющееся сообразно времени и месту. Следовательно, мерилом должна служить воля, то есть тождественное и неизменное, а не разум, нечто подвижное и изменяющееся. Воля – это мерило жизни.
Наконец воля, хотение – свободны, свободны и физически, и морально. От них самих зависит: утверждать или отрицать себя, – и в этом заключается основа самой возвышенной нравственности, той нравственности, которая рождает героев и святых. Но, конечно, эту свободную волю не следует понимать в смысле “произвола”.
Шопенгауэр сам ставит себе в особую заслугу разложение человеческого я на волю и представление. “Лавуазье, – говорит он, – разложил воду на водород и кислород и тем создал новый период в области физики и химии; я же разложил душу или дух на два, весьма различных, составных элемента: волю и представление. Все существовавшие до сих пор метафизические системы исходили или из материи, результатом чего являлся материализм, или из духа, что приводило к спиритуализму; но и то, и другое, в дальнейших своих выводах, приводило к нелепостям и оказывалось несостоятельным. Я же отвожу одному из составных частей души или духа, воле – первое место, тому же, что должно быть познаваемо – второе место; а материя является неизбежным, соотносительным понятием субъекта, познаваемого, так как материя немыслима без представления, но и представление немыслимо без материи: материя как таковая существует лишь в представлении, способность же представления немыслима иначе, как одно из свойств организма.
Начало философии и возможность ее лежат в самом человеке; но не потому, как учили предшественники Шопенгауэра, что он думает (Декартовский: “Je pense, donc je suis” [я мыслю, следовательно, я существую (фр.)]), a потому, что он в то же время хочет. Если бы человек только думал, то для него формы созерцания и прежде всего цепь мотивов и действий, причин и следствий, являлись бы такою же верной руководной нитью, как, например, для животного – наблюдательность и проистекающий отсюда инстинкт. Но он не только думает, но и хочет. Отсюда вытекает капитальный вопрос: каким образом могут существовать вместе и одновременно идеальная и реальная сторона психической деятельности человека, представление и воля? Эту связь – внешнего (представления) с внутренним (волей) он старается достигнуть тем, что всякое движение, по внешнему своему проявлению, он считает простым представлением; то же, что лежит в основе этого явления, как внутренняя причина, хотя бы и в так называемой мертвой природе, он называет волей. Двояким, даваемым двумя совершенно различными способами, познаванием нами нас самих и всего нас окружающего, он пользуется как ключом для объяснения сущности всякого явления природы. Там, где даже самая очевидная причина вызывает известное действие, все же существует нечто таинственное, какой-то X, составляющий самую суть, мотив явления, которое все же доступно нам лишь в виде представления. Этот-то X во всех замечаемых нами явлениях тождествен с тем, что при действиях нашего тела мы разумеем под словом “воля”.
Эти общие тезисы, впервые изложенные Шопенгауэром в его книге “Мир как воля и представление”, он впоследствии подробнее, хотя не столь убедительно и несколько парадоксально, развил в своем сочинении “О воле в природе”, появившемся в 1836 году, и в “Дополнениях”, появившихся в 1844 году. Здесь он исходит из того положения, что человек не может знать всего; всезнайство – это ложь. Философия должна честно примириться с этим основным положением, и, не гоняясь за недостижимым, искренне и просто вступить на путь опыта, для того, чтобы создать такую метафизику, которая основывалась бы на наблюдениях, интуиции, а не на чистых идеях, которая старалась бы охватить совокупность опыта, а не ту или другую часть его. Даже при таком ограничении области философии сфера ее окажется достаточно обширной. Эта философия вообще, философия, так сказать, метафизическая, значительно отличается от специальной философии каждой науки. Специальные науки имеют объектом установление связи между явлениями, согласно закону причинности, господствующему над всей областью явлений. Они ограничиваются констатированием причинной связи между различными явлениями; каждая из них останавливается там, где кончается констатирование и объяснение этой связи, не входя в рассмотрение сути вещей, как чего-то необъяснимого, непознаваемого. Философия же начинается там, где останавливаются науки. Она не предполагает ничего известного. Она хочет и обязана все объяснить – и взаимную связь явлений, и узы причинности, от которых эта связь зависит. То, что другие науки предполагают, то, что они берут за основу для своих объяснений – это составляет самый материал философской проблемы. Каждая наука имеет свою собственную философию, являющуюся лишь обобщением и согласованием главных результатов ее, рассматриваемых в совокупности. Эти главные, общие результаты представляют собою данные для философии в узком смысле слова, избавляя последнюю от необходимости самой доискиваться их в каждой отдельной науке. Таким образом, философии специальных наук являются в некотором смысле посредниками между науками и философией вообще. Последняя находит в них подтверждение и проверку, так как общая истина может быть подтверждена лишь частными истинами. Но как бы значительны ни были выгоды, представляемые разделением эмпирического труда, каковы бы ни были результаты этих специальных наук, необходимо, чтобы они сделались достоянием философии.
Так как критерием истины является опыт, то философия должна начинать с внутреннего опыта или познавания. Это сознавали еще Декарт и Бекон. По мнению последнего, философия опирается на опыт; не на производство того или другого опыта, как другие науки, а на опыт вообще, то есть на сущность его содержания, на его внутренние или внешние элементы, наконец, на форму и материал его. Из этого становится ясным, что прежде всего следует наблюдать среду опыта, форму и природу его. Эта-то среда и есть шопенгауэровское представление, или то, что другие называют “познаванием”. Поэтому всякая философия должна начинать с изучения законов и форм познавания, его ценности и тех пределов, которыми оно ограничено. Это исследование составляет первую ступень философии (philosophia prima), распадающуюся на две части: одна касается первичных представлений, создаваемых путем созерцания; ее можно было бы назвать теорией разумения; другая имеет дело с представлениями вторичными, отвлеченными и с управляющими ими законами; это есть логика или теория разума. Метафизика, по мнению Шопенгауэра, должна объяснять всю область опыта, но только с точки зрения более возвышенной, чем опытная наука, не выходя, однако, из пределов опыта. Наконец она должна объяснять то, чего другие науки не в состоянии объяснить. Для достижения этой цели она комбинирует внутренний опыт с опытом внешним, с концепцией явления, взятого в совокупности в различных его смыслах, в его внутренней связи и в сложности его. По мнению Шопенгауэра, Кант был не прав, объявляя метафизику невозможной: он был не прав в том отношении, что, сделав исходной точкой опыт, утверждал, будто метафизика не имеет ничего общего с опытом, чем открыл широкий доступ скептицизму.
Но восстановляя, в опровержение Канта, возможность метафизики, Шопенгауэр, резко расходясь в этом отношении с Гегелем, желает строго разграничить ее пределы. Он отнюдь не претендует на то, чтобы все объяснить с ее помощью, найти для всего соответствующие “почему” и “как”. Человека окружает глубокий мрак; разумение его весьма несовершенно; рассудок наш часто обманывает нас и вводит нас в заблуждение; но, строго придерживаясь опыта, взяв за исходную точку живое созерцание, а не мертвую отвлеченность, мы можем надеяться несколько разобраться в этой темноте. Мы в состоянии будем понять, конечно, не саму природу, но то, что есть в природе, а это уже что-нибудь да значит. Поступая медленно и осторожно, мы переходим от явления к действительности, от того, что является, к тому, что должно являться, словом, к метафизике, – к метафизике не туманной, отвлеченной и притязательной, а к единственно реальной и истинной метафизике, которая представляет собою совокупность опыта.
Шопенгауэр смотрит на жизнь души не с материалистической точки зрения; он не видит в ней лишь продукт действующих механически и химически атомов материи; с другой стороны, он не смотрит на нее с точки зрения чисто спиритуалистской. Он видит в ней проявление сил природы, в котором самое существенное каждой из сил природы, воля, проявляется в более высокой степени, чем то замечается в других проявлениях сил природы, исключительно механических и химических. Эта высшие силы природы находятся, правда, в связи с низшими, нуждаются в последних, но в то же время возвышаются над ними и употребляют их на свои цели. По мнению Шопенгауэра, в материализме следует считать истинным и непреходящим объяснение всякого рода деятельности, как высшей, так и низшей, при помощи свойственных природе сил, как одно из проявлений деятельности природы; неверно же и несостоятельно желание уничтожить всякое различие между силами природы, сведение крайне разнообразного мира явлений к серенькому однообразию материи, действующей лишь механическим образом. Жизнь, по словам Шопенгауэра, есть одна из функций организма, образованного жизненной силой, или, что одно и то же, желанием жить; внутри органической жизни роль души как одной из функций мозга вступает в свои права лишь тогда, когда организм, вследствие более усложненных потребностей, начинает чувствовать потребность в аппарате, который регулировал бы его отношения к внешнему миру и направлял бы его шаги в нем. Подобно тому, как всему существующему даны известные органы для обороны и для нападения, так и воле жить дан разум в виде средства для сохранения особей и вида. Разум предоставлен в услужение воле. Лишь в исключительных случаях разум превосходит меру, требуемую назначением его, как слуги воли, эмансипируется от этой роли и возвышается до степени гения, созерцающего мир чисто объективным образом.
Это шопенгауэровское объяснение жизни и деятельности души далеко не может считаться материалистическим, хотя его нельзя назвать и спиритуалистическим. Душа, – согласно образному представлению Шопенгауэра, – есть светильник, который зажигает себе проявляющееся в организме желание жить, для того чтобы найти свою дорогу во внешнем мире; это – руководитель и советник воли. Таким образом, Шопенгауэр счастливо избегает спиритуалистического дуализма между телом и душою, человеком и животным. Материю как явление он выводит из представления; само же представление он выводит из реальной стороны материи, из воли в том виде, в каком последняя проявляется на степени животного существования.
В этой набросанной в общих чертах программе нет места так называемой рациональной психологии. Действительно, Шопенгауэр отказывается отвести последней место в ряду метафизических наук, предоставляя это “филистерам и гегельянцам”. Исходя из того, что истинное существо человека не может быть понято иначе, как в совокупности мира, что и микрокосм и макрокосм объясняются один другим и даже тождественны, он не признает необходимости особой науки о душе. Он скорее готов был бы заменить такую науку широкой антропологией как опытной наукой, опирающейся на анатомию и физиологию, основывающейся на наблюдении умственных и нравственных проявлений, на изучении свойств рода человеческого и на проявлении индивидуальных особенностей.
ГЛАВА VI
Характер и смысл шопенгауэрова пессимизма. – Отношение Шопенгауэра к истории. – Его политические и социальные взгляды. – Его равнодушие к национальным интересам
Не только среди массы публики, но и среди профессиональных ученых Шопенгауэр известен преимущественно как один из главных представителей пессимистического направления в философии. Он считается как бы его родоначальником в современной философии. Число последователей этого направления стало особенно сильно возрастать в последнее время, и пессимистическая философия получила особенно широкое распространение в Европе с конца шестидесятых годов, почти одновременно с появлением в свет “Философии бессознательного” Эд. Гартмана, написанной в духе Шопенгауэра. Поэтому мы считаем нелишним несколько подробнее остановиться на характере и смысле шопенгауэровского пессимизма, составляющего если не самую яркую и выдающуюся, то, во всяком случае, наиболее известную массе публики сторону его учения.
Многие задавались вопросом о причинах, происхождении и характере шопенгауэровского пессимистического мировоззрения, сказавшегося у него еще в очень молодых годах. При этом указывалось на то, что он родился, воспитался и прожил среди весьма удовлетворительных внешних условий, что он был человеком вполне обеспеченным, который мог беспрепятственно следовать своим влечениям. Исходным пунктом подобных недоумений является странное предположение, что для того, чтобы быть оптимистом или пессимистом, нужно находиться в счастливых или несчастных обстоятельствах, или же что пессимизм является результатом вынесенных в жизни разочарований и огорчений. Но, во-первых, отнюдь неверно то, чтобы всякий, кому плохо живется или приходится жить в печальные времена, необходимо становился пессимистом, и наоборот, всякий, кому жизнь улыбается или кто живет в хорошее время, делался оптимистом. Правда, у многих людей так и бывает, что оптимизм и пессимизм их проистекают из чисто субъективных источников, что они свою внутреннюю окраску переносят на внешние предметы. Светло и весело человеку на душе – для него светел и весел весь мир; мрачно и грустно в его душе – грустен и мрачен весь мир. Такие люди в состоянии быть сегодня оптимистами, а завтра пессимистами, и наоборот. Но подобный оптимизм и пессимизм не имеют никакого философского значения, так как это – оптимизм и пессимизм чисто субъективные. Но существуют и другого рода оптимизм и пессимизм, так сказать, философского характера, причина которых не имеет ничего общего ни с субъективными условиями, ни с условиями времени. Именно такого рода и был пессимизм Шопенгауэра.
Шопенгауэр считает одной из величайших ошибок почти всех метафизических систем то, что они считают зло чем-то отрицательным; напротив, оно есть нечто положительное, нечто дающее себя чувствовать. Зло, по его мнению, неизбежно, как следствие утверждения желания жить. Существует не только утверждение желания жить, но и отрицание, даже полное упразднение его: в этом последнем случае являются совершенно иной мир, совершенно иное существование, о котором мы, правда, не имеем понятия и которое кажется нам ничем, но ничем не абсолютным, а лишь относительным. Собственно, о пессимизме может быть речь лишь тогда, когда зло считается неисцелимым, а страдающий от него – безвозвратно потерянным. Шопенгауэровский же пессимизм не такого рода: он считает освобождение от мирового зла возможным, хотя, правда, лишь путем радикального лечения, полного возрождения и обновления. Одни находят утешение против существующей в мире массы зла в религии, другие – в искусстве; Шопенгауэр же ищет и находит его в росте познавания. “Единственная хорошая сторона жизни, – писал Шопенгауэр еще в 1814 году, – заключается в том, что рядом с волей существует и познавание; это обеспечивает воле конечное освобождение”. Обыкновенный пессимист, пессимист из эгоистических побуждений, пессимист, которому надоела жизнь, искал бы и находил бы утешение в самоубийстве. К этому утешению, действительно, и прибегали испокон веков безнравственные пессимисты, которым жизнь становилась в тягость. Напротив, Шопенгауэр, этот пессимист по преимуществу, самым решительным образом отвергает самоубийство и притом на основании глубоко нравственных соображений.
Доказательство пессимизма Шопенгауэра, – в общепринятом, а не в исключительно философском значении этого слова, – иные усматривают еще в его учении о неизменности характера, чем он будто бы отнимает у человека надежду на улучшение. Отсюда выводится прямое заключение, что его учение морально безнадежно; что он, объявляя характер неисправимым, тем самым лишает жаждущего исправления грешника нравственного утешения, подобно тому, как врач, объявляющий болезнь неизлечимой, лишает жаждущего исцеления больного утешения физического. Но в опровержение этого можно указать на учение Шопенгауэра о свободе воли, причем, конечно, эта свобода заключается не в отдельных действиях и проявлениях воли, а вообще в сути, во всем направлении ее. Действия всегда соответствуют эмпирическим характерам, и поэтому неизбежно носят их отпечаток. Поэтому, если эмпирический характер эгоистичен, доступен лишь эгоистическим мотивам, то и действия неизбежно окажутся эгоистическими. Но характер вообще может быть и иного рода, так как человек не связан на веки вечные со своим эмпирическим характером. Пока он эгоист, он неизбежно должен поступать, как эгоист; но он может и перестать быть эгоистом, и тогда его действиями будут руководить уже не эгоистические, а моральные мотивы. Неизменность характера, о которой говорит Шопенгауэр, касается лишь характера эмпирического, а не характера умственного, невещественного (intelligibler Character); таким образом, неизменность эта имеет значение лишь относительное, а не безусловное. Поэтому едва ли есть основание считать его учение о неизменности характера учением безнадежным. Вряд ли можно было бы также усмотреть безнадежность его в том, что, согласно этому учению, нравственного блага можно достигнуть лишь при том условии, что весь человек сделается другим. В таком случае следовало бы считать безнадежным, неутешительным и христианство, так как и оно ставит спасение человека в зависимость от возрождения или обновления его. Считать его безнадежным значило бы считать безнадежным и слова врача, обещающего больному излечение лишь под тем условием, что тот изменит весь свой образ жизни, перестанет насиловать свою природу.
Подобно тому, как философу Фихте неоднократно ставилось в упрек не надлежащее понимание им природы, Шопенгауэру ставилось в упрек то, что он в своей системе не отводит надлежащего места истории в области человеческих знаний. Действительно, то пренебрежение, с которым он относится к истории, принадлежит к числу наиболее слабых мест в его системе, хотя, с другой стороны, нельзя отрицать того, что оно является вполне логическим выводом из его основной идеи.
Сущность взгляда Шопенгауэра на историю, в том виде, в каком она изложена в его “Мире как воля и представление”, заключается приблизительно в следующем.
История не есть наука, так как ей недостает основного характера науки – взаимных причинностей трактуемых его явлений, – вместо которой она представляет одно только соотношение; поэтому и не может существовать никакой системы истории, между тем как существуют системы всякой иной науки. История – знание, а не наука: ибо нигде она не приходит к познанию единичного при помощи общего, но вынуждена непосредственно усваивать себе единичное и, так сказать, подвигаться на ощупь в области опыта, между тем как истинные науки, усвоив себе более широкие понятия, стоят выше единичных фактов. Науки, представляя собой системы понятий, постоянно трактуют о родах, история – лишь об индивидах; науки трактуют о том, что существует постоянно, история – только о том, что существовало и перестало существовать. К тому же, так как истории приходится иметь дело только с личным и индивидуальным, – что по самой природе своей бесконечно разнообразно, – то она обо всем имеет лишь неполное, несовершенное понятие; и наконец, ей приходится с каждым днем, с каждым новым фактом приобретать все новые и новые данные и знания, что лишает ее всякого характера законченности. История, имея постоянно в виду лишь единичные, индивидуальные факты, считая только факты чем-то исключительно реальным, представляет собой, по мнению Шопенгауэра, прямую противоположность философии, смотрящей на все существующее с самой общей точки зрения, и имеет объектом своим лишь общее, то, что остается тождественным и в частном. Между тем как история учит нас тому, что в каждое данное время существовало что-либо новое, философия старается убедить нас в том, что во все времена было, есть и будет одно и то же. В действительности, сущность человеческой жизни, подобно сущности природы, всюду и всегда вся налицо, и поэтому для того, чтобы надлежащим образом понять ее, нужна только известная глубина концепции. История же надеется на возможность заменить глубину шириной и длиной; для нее настоящее является лишь каким-то обломком, который должен быть пополнен прошлым и длина которого бесконечна, ибо теряется в бесконечном будущем. Разница между философами и историками, по мнению Шопенгауэра, заключается в том, что первые желают постигнуть, а последние желают перечислить.
Шопенгауэр утверждает, что история споит неизмеримо ниже не только науки и философии, но и искусства. Содержание искусства – идея, содержание науки – понятие, и поэтому и искусство, и наука занимаются тем, что существует вечно, и притом одинаковым образом, а не тем, что теперь есть, а прежде не было и после не будет, что теперь существует так, прежде существовало иначе, а после будет существовать опять иначе. Другими словами, и искусство, и философия имеют дело с тем, в чем еще Платон видел объект истинного знания. Содержание же истории, напротив, это – единичное, это – мимолетные сцепления и переплетения зыбучего рода людского, на которые могут влиять самые ничтожные обстоятельства. С этой точки зрения область истории едва ли может считаться чем-либо достойным серьезного изучения ума человеческого. Вполне соглашаясь с Аристотелем в том, что поэзия, так сказать, философичнее истории, Шопенгауэр отводит первой гораздо более важное место чем последней. Поэзия сделала и делает для познания сущности человечества больше, чем история. Правда, и опыт, и история научают нас познавать человека, или вернее, людей, то есть они скорее дают нам эмпирические сведения о взаимных отношениях людей между собою, но не позволяют нам заглянуть в глубь внутреннего существа человека. История относится к поэзии так же, как, например, портретная живопись к исторической: первая передает сходство единичное, последняя – сходство более общее, первая имеет в виду истину явления, последняя – истину идеи; поэт преднамеренно и по выбору ставит выдающиеся личности в выдающиеся положения; историк берет и те, и другие в том виде, в каком они попадаются ему под руку; ему приходится смотреть на события не с точки зрения их внутреннего, истинного, выражающего идею значения, а с точки зрения значения их внешнего, кажущегося, относительного, в связи с последствиями и усложнениями их, ибо его созерцания исходят из принципа причины и он в данном явлении видит лишь внешнюю форму последней. Поэт же, напротив, схватывает идеи, суть человечества, вне всякого отношения ко времени и к обстоятельствам.
Исходя из этой точки зрения, Шопенгауэр придает даже более важное значение, чем истории, простым биографиям, отчасти потому, что последние дают более точные и полные положительные данные, чем первая, отчасти же ввиду того, что в истории играют видную роль не столько отдельные люди, сколько народы и войска, и очень трудно в крупных размерах исторических событий проследить деятельность единичных личностей. Напротив, верно переданная жизнь отдельной личности изображает собою, в более суженной сфере, деятельность людей во всех ее оттенках и образах; к тому же, в смысле внутреннего значения случившегося, – что одно и имеет важность – совершенно безразлично, мелки или крупны события, происходят ли они в крестьянских избах или в королевских дворцах: все это, само по себе, не имеет значения, а получает таковое лишь благодаря отношению своему к воле. Подобно тому, как круг диаметром в дюйм и круг диаметром в 40 миллионов миль обладают одинаковыми геометрическими свойствами, так и события и дела какого-нибудь селения и обширного государства в сущности одинаковы, и человечество можно изучить и познать, как на первом, так и на последнем.
К этим двум причинам пренебрежительного отношения Шопенгауэра к истории, – к тому, что она, собственно, не наука, так как имеет дело лишь с единичным, временным, случайным, и что она гораздо менее дает для познания сути человечества чем искусство, поэзия и биография, – у него присоединяется еще и третья, а именно та, что истории недостает единства, целостности, логической связи. Он энергически полемизирует с попытками послегегелевской философии представить историю “чем-то, построенным по определенному плану, создать из нее “органическое целое”. Так как только индивид, а не род людской, обладает действительным, непосредственным единством сознания, то и единство течения жизни рода людского – чистейшая фикция. К тому же, подобно тому, как в природе вообще лишь вид – реален, а род – простая абстракция, так и в роде людском лишь индивид и его жизнь – реальны, народы же и жизнь их – нечто отвлеченное. Лишь то, что происходит внутри человека как проявление его воли действительно, так как только воля может считаться чем-то реально существующим, чем-то “an und für sich” [сам по себе (нем.)].
Шопенгауэр видит задачу широко и философски понятой истории в том, чтоб указать на постоянно остающееся одинаковым и тождественным ядро среди разнообразных постоянно меняющихся оболочек. Лишена значения не история сама по себе, а поверхностное, неразумное понимание ее сущности и ее задач, останавливающееся на рассмотрении скорлупы и не старающееся ближе ознакомиться с ядром. Нисколько не умаляя значения истории, Шопенгауэр хвалит древних историков именно за то, что они изображают частности так, что “выступает наружу высказывающаяся в них идеальная сторона человечества”. Само предпочтение, отдаваемое Шопенгауэром биографиям перед историей, становится понятным лишь постольку, поскольку эти биографии отвечают вышенамеченным, им самим поставленным условиям. И не только биографии, но и эпические и драматические произведения становятся тем более цельными, чем прочнее они стоят на исторической почве; исключительно вымышленные характеры и деяния отнюдь не способны внушить нам такого же интереса, как исторические, знакомящие нас с действительными судьбами, с реальной борьбою человечества. Поэтому-то все действительно великие поэты черпают материал для своих произведений из истории. Трагедии, по мнению Шопенгауэра, удовлетворяют в нас не чувство прекрасного, а чувство возвышенного; возвышенные же характеры и действия мы можем встретить преимущественно в истории. История для рода людского – это то же, что рассудок для отдельного индивида. Благодаря рассудку человек получает возможность не ограничиваться, подобно животному, узким наглядным настоящим, но обретает способность постигнуть и гораздо более широкое прошлое, с которым связано это настоящее и из которого оно вышло, а также, на основании настоящего и прошлого, делать выводы и относительно будущего. Народу, не знающему своей собственной истории, по необходимости приходится ограничиваться знакомством с современным ему поколением; отсюда следует, что он вовсе не знаком с самим собою и со своим настоящим, так как он не в состоянии связать последнее с прошлым и объяснить настоящее при помощи прошедшего; еще менее в состоянии он предвидеть будущее. Одна только история придает народу полное самосознание. Поэтому на историю следует смотреть, как на разумное самосознание рода людского; для последнего она является тем же, чем является для отдельного индивида обусловленное разумом связное самосознание, благодаря отсутствию которого животное замкнуто в тесную область осязательного настоящего. Поэтому же всякий пробел в истории является пробелом в самосознании человечества. Таким образом, история есть разумное самосознание рода людского; она является непосредственно присущим целому роду самосознанием, так что лишь благодаря ей последний действительно становится одним целым, одним человечеством”.
Из этих слов Шопенгауэра видно, что в последующих своих произведениях он несколько разошелся сам с собою относительно роли, отведенной им истории в первых своих произведениях, что он перестал относиться к ней с прежним пренебрежением, видеть в ней лишь продолжительный, тяжелый и смутный сон и что наконец он решился отвести истории более почетное место в ряду наук, в области человеческого знания.
В связи со взглядами Шопенгауэра на историю, на ее роль и значение, находятся и взгляды его на современные ему политические и социальные порядки. Из изучения истории он пришел к тому убеждению, что в очень редких случаях торжество остается на стороне правого дела, что правое дело чаще всего само себя компрометирует и гибнет вследствие избытка принципиальности: так, например, избыток монархического принципа вызвал республику; избыток республиканского рвения повел к террору 93-го года и к цинизму директории. Он исходит из того начала, что государство мыслимо лишь под условием двойного ограничения воли единичной личности, а именно: ограничения не только физического, но и нравственного. Отдельная личность, налагая сама на себя ограничения, делает это ради разумно понятых собственных интересов своих. Государство не только не направлено против эгоизма как такового, но напротив, само проистекает именно из эгоизма разумно понятого, методически поступающего, возвышающегося с односторонней точки зрения на более общую и являющегося результатом суммирования целой массы отдельных эгоизмов. Поэтому государство создано отнюдь не для противодействия эгоизму, будто бы противному началам нравственности, а лишь для противодействия вредным последствиям столкновения множества личных эгоизмов, что могло бы вредно отозваться на благосостоянии отдельных личностей. Однако этим первым ограничением личного эгоизма или своеволия дело еще не кончается: неизбежно нужно иметь в виду интеллектуальное несовершенство и моральную слабость отдельных индивидов, образующих государство, что вызывает необходимость дальнейшего ограничения воли отдельного лица и тем самым дальнейшее отклонение от чисто этического направления. Первое ограничение заключалось в подчинении всех одному общему правилу – закону, и могло считаться нравственно целесообразным; второе же ограничение совершается на счет отвлеченного права, так как власть государства, для того чтобы последнее могло существовать, должна опираться не только на силу, но даже отчасти и на неправду.
Таким образом, по мнению Шопенгауэра, правовое государство есть не что иное, как фикция: политика, чем яснее она сознает свою задачу, тем скорее становится наукой, имеющей в виду прежде всего ближайшие потребности. Что касается самого принципа власти, то Шопенгауэр, с одной стороны, отрицает за каким-либо смертным право властвовать над народом против воли последнего, но, с другой стороны, называет этот самый народ “вечно несовершеннолетним державцем”, который постоянно должен находиться под опекой и которому нельзя предоставить права самому управлять собою, не подвергая его величайшим опасностям, так как он, подобно всем несовершеннолетним, легко становится игрушкой в руках ловких плутов, называемых демагогами. Правом же, которым я не в состоянии пользоваться, я в действительности не обладаю. Поэтому Шопенгауэр сводит всю государственную власть к установлению ее законом природы, проповедует, согласно со всеми истинными философами, начиная с Аристотеля и кончая Шлейермахером, государственную связь не этическую, а чисто физическую. Республики он считает чем-то “противоестественным, искусственно созданным, порожденным рефлексией”; поэтому он оправдывает монархический принцип, не отрицая, однако, и системы представительства; он остроумно замечает, что право — химически аналогично алкоголю, синильной кислоте, фтору и так далее, которые никогда не встречаются в чистом и изолированном виде, а лишь в известных соединениях, придающих им необходимую плотность; поэтому право, чтобы иметь возможность существовать и действовать в нашем реальном и материальном мире при своих идеальных эфирных свойствах, неизбежно нуждается в примеси произвола и насилия, без которой оно улетучилось бы без остатка. Произвольно и искусственно созданная Линнеем классификация растений не может быть заменена никакой естественной классификацией, как бы рациональна ни была последняя, так как таковая будет лишена той прочности и ясности определений, которые присущи классификации искусственной; точно так же искусственная и произвольная основа государственного устройства не может быть заменена основой чисто естественной. Справедливость подобного взгляда доказывается, по мнению Шопенгауэра, неудачными опытами южноамериканских республик создать свое государственное устройство на принципе отвлеченного права: там идут рука об руку самый низменный утилитаризм, грубость, всякого рода политическое пройдошество, возмутительное рабство, отречение от своих долгов, грабеж и все более и более усиливающаяся охлократия – с одной стороны, и самые громкие политические фразы, самые усовершенствованные формы якобы политической свободы – с другой стороны.
“Всюду и во всякие времена, – говорит Шопенгауэр, – существовало сильное недовольство правительствами, законами и общественными учреждениями, но происходило это большей частью вследствие того, что люди всегда готовы свалить на правительства, законы и учреждения ответственность за зло, неразлучно присущее человеческому существованию, послушать некоторых велеречивых демагогов. Мир сам по себе, по своему, устройству, прекрасен, создан для всеобщего счастья и благополучия; все же, что встречается дурного в этом прекраснейшем из миров, они приписывают правительствам: если бы последние делали то, что им следует делать, то на земле было бы царствие небесное, то есть все люди могли бы без всякого труда и усилий есть, пить, множиться и умирать, сколько душе угодно”.
Хотя политические убеждения Шопенгауэра коренились в признании необходимости решительного преобладания в государстве принципа авторитета, хотя он настойчиво требовал “уважения к монархам”, так как уже простое существование их является выгодным, потому что они, по его убеждению, являлись защитой против охлократии и анархии, – однако отсюда еще отнюдь не следует, чтоб он являлся поборником деспотизма. По поводу случившихся в последние годы его жизни событий в Италии он выражался, что легитимность не дает еще права на успех. Для того чтобы обеспечить себе успех, правительство должно стоять в интеллектуальном отношении выше управляемой им массы; в моральном же отношении оно не должно быть слишком благородно, как, например, Тит, но, с другой стороны, оно не должно также стоять и ниже общераспространенного правового сознания.
Шопенгауэр был совершенно чужд национального самомнения; он даже сам утверждал, что весь его патриотизм сводится к пользованию немецким языком. Он даже не любил, чтобы его считали немцем, и не упускал случая указывать на свое голландское происхождение. Для этого энергического человека были до того противны хвастливость и подражательность немецкой политики, что он беспощадно порицал у немцев то самое, что оставлял незамеченным или даже извинял у других народов. Для широты взгляда философа это абсолютное отсутствие узкогерманского патриотизма пришлось даже кстати. Он никогда не касался частных политических, а тем менее местных вопросов; он стоял выше их и относился с олимпийским величием к крупным политическим событиям. Только когда они слишком близко подходили к нему и угрожали нарушить его умственный и душевный покой, он начинал волноваться. Во время сентябрьских дней 1848 года его опасение перед наступлением господства охлократии достигло, высшей степени и он серьезно подумывал о том, чтобы бежать из Франкфурта. Но в более спокойные времена он находил, что журналисты уходят гораздо дальше него в своем пессимизме, хотя это делается большею частью не из убеждения, но ради личной выгоды. Он любил повторять, что в политическом отношении людям менее всего известно, что для них полезно и что бесполезно, и послужит ли данное событие к пользе или ко вреду их.
ГЛАВА VII
Взгляды на женщин и на любовь. – Манера творить. – Парадоксальность Шопенгауэра
Шопенгауэр по убеждениям своим являлся не только мизантропом, – впрочем, только условным, как то было объяснено нами выше, – но и мизогином (ненавистником женщин) и мизогамом (ненавистником брака). Он утверждал, что сама природа обделила женщину в отношении духовном, рассудочном. Она отличается умственной близорукостью, склонна принимать видимость вещей за сущность дела и отдавать мелочам предпочтение перед серьезным делом. Умственный взор женщины, по преимуществу непосредственной, способен различать находящиеся вблизи предметы, но не в состоянии выйти из ограниченного кругозора; все прошедшее, отдаленное, отсутствующее производит на женщину лишь слабое впечатление. Вследствие этой же прирожденной ей недальновидности женщина склонна к расточительности. С другой стороны, именно потому, что женщина более мужчины отдается настоящему и более него способна наслаждаться сколько-нибудь сносной жизнью, ей присуща большая веселость и ясность духа. Кроме того, воспринимая вещи иначе, чем мужчина, и намечая всегда кратчайший путь к цели, женщина отличается большей трезвостью взглядов, чем мужчина, и видит в вещах лишь то, что в них действительно заключается. Таким образом, именно вследствие слабости женского разума все видимое, непосредственное, реальное имеет над женщиной гораздо большую власть, чем отвлеченные идеи; поэтому женщина легче поддается чувству сострадания, участливости, но зато уступает мужчине в отношении правосудия, справедливости, добросовестности. Как существо более слабое, женщина находит орудие самозащиты в хитрости. “Она, – говорит Шопенгауэр, – инстинктивно лукава, но вместе с тем, по неразумию и малой сообразительности, вздорна, капризна, тщеславна, падка на блеск, пышность и мишуру; в отношениях друг к другу она проявляет большую принужденность, скрытность, и враждебность, чем мужчины в отношениях между собою. Женщинам чуждо истинное призвание к музыке, поэзии и вообще к искусству; даже наиболее блестящие представительницы женского пола никогда не создавали чего-либо действительно великого и самобытного в художественной области; еще менее способны они удивить мир ученым творением с непреходящими достоинствами. Объясняется это тем, что женщина всегда и во всем обречена только на посредственное господство через того мужчину, которым одним она владеет непосредственно… Женщины во всех отношениях – второй, ниже мужчин стоящий слабый пол… По самой природе своей женщины, несомненно, обречены на повиновение; видно это уже из того, что любая из них, – раз она попадет в независимое положение, – добровольно отдается под опеку любовника или духовника, лишь бы только какой-нибудь мужчина властвовал над нею”.
При подобном взгляде на женщин становится понятным и скептицизм Шопенгауэра относительно любовного чувства, – скептицизм, доходящий иногда чуть не до цинизма. По его мнению, любовь, как бы она ни казалась платонична, везде и всегда была, есть и будет не что иное, как более определенное и строго индивидуализированное половое стремление, конечная бессознательная цель которого – рождение будущего человека. В этом смысле любовь как половое влечение есть “воля к жизни сама в себе”; человек, чувствуя любовь и влечение к женщине, в сущности только повинуется инстинкту, направленному к пользе и выгоде рода. Истинною целью любого житейского романа является произведение на свет новой особи. Конечно, любовь имеет многочисленные градации: она бывает тем страстнее, чем более любимая особа своими качествами удовлетворяет нуждам и потребностям любящего; но что любовь в сущности есть не что иное, как инстинкт, направленный к сохранению родового типа и к возможно сильному размножению его, это видно из тех мотивов, которыми руководствуется индивид при самом выборе объекта страсти. Эти мотивы, по мнению Шопенгауэра, троякого свойства: мотивы, способствующие сохранению родового типа в физическом отношении; мотивы, имеющие в виду поддержание духовных родовых свойств, и, наконец, в-третьих – мотивы, имеющие целью исправление недостатков обоих производителей.
Тем обстоятельством, что в основе любви лежат, по мнению Шопенгауэра, инстинкты, направленные исключительно ко благу рода, он объясняет и то, что самое чувство, связывающее влюбленных, оказывается скоропреходящим: с того момента, как любовь удовлетворена, мужчина начинает охладевать к предмету своих влечений. “Итак, – говорит Шопенгауэр, – благо целого рода – вот объект любви. В сравнении с этой задачей ничтожны личные стремления; гений рода охотно поступается всеми индивидуальными интересами, неукоснительно преследуя главную и единственную свою цель – поддержание рода, и среди смятений войны и неурядиц гражданской жизни, и во время чумы, и в тиши монастырей”. Это приводит Шопенгауэра к рассмотрению вопроса о моногамии и полигамии, причем он самым решительным образом – опять-таки в интересах рода – склоняется в пользу полигамии или, вернее сказать, тетрагамии (четверобрачия).
Высказывая свои, отчасти парадоксальные, отчасти даже расходящиеся с общепринятыми понятиями о нравственности, взгляды на брак, двоебрачие, многобрачие, Шопенгауэр выказывает, однако, решительное предпочтение безбрачию. Как бы для будущего посрамления тех, которые упрекали его учение в безнравственности, он выставляет добровольное девство единственным средством освобождения из мира греховности и бедствий. Останавливаясь на вопросе о том, где скорее – в брачной жизни или в безбрачии – достижимо то безмятежное существование, которое необходимо для людей умственного труда, для ученых, Шопенгауэр охотно ссылался на Картезия, Мальбранша, Спинозу, Лейбница и Канта, всю жизнь остававшихся холостяками. Он любил также повторять вместе с Петраркой: “Тот, кто ищет спокойствия, должен избегать женщин, – этого вечного источника споров и треволнений”. Он полагал, что мыслитель, по рассудочности своей натуры, мало доступен радостям и наслаждениям домашнего очага и что он рискует из-за несущественных и безразличных с его точки зрения мелочей поступиться своею независимостью, замкнутостью и мирными умственными самонаслаждениями.
Шопенгауэр по характеру своему не принадлежал к числу рассудочных людей, к числу тех спокойных, ровных характеров, которые живут преимущественно понятиями. Его скорее следует отнести к категории людей живых, порывистых, находящихся под влиянием настоящего, живущих преимущественно личными взглядами своими, все равно, относятся ли последние к области действительности или фантазии. При этом невольно напрашивается вопрос: годится ли такой характер для философа? Не следует ли именно философу быть самым хладнокровным существом в мире? Ведь говорят же о людях, сохраняющих хладнокровие там, где другие горячатся: это – философ. На это Линднер объясняет, что, если смотреть на дело с точки зрения того общепринятого понятия, которое соединяется со словом “философия”, то для последней способен лишь холодный, рассудочный человек, которого ничто не может сильно потрясти, вывести из себя. Но именно этот-то взгляд Шопенгауэр и считал неверным, поверхностным. По его мнению, философия исходит из того же источника, что и искусство: она есть в сущности искусство, мышление в словах, то есть в понятиях, другими словами – деятельность разума имеет такое же значение, как и техника в искусстве: для мыслителя отвлеченные понятия то же, что для живописца полотно и краски. “Философия, – говорит он, – далеко не то, что алгебраическая задача, и Вовенарг, безусловно, прав, утверждая, что великие мысли исходят из сердца”. Если признать подобную точку зрения справедливой, то само собою отпадает замечание, что Шопенгауэр не мог быть хорошим мыслителем только потому, что ему недоставало хладнокровия. Если философия – искусство, то необходимость хладнокровия является лишь тогда, когда приходится виденное, глубоко прочувствованное изобразить наглядным образом; но для того, чтобы видеть и чувствовать, не нужно быть хладнокровным. Это одинаково применимо как к поэту, так и к мыслителю. Подобно тому, как поэту необходимо пережить те стремления и состояния, которые он изображает или, по крайней мере, глубоко сочувствовать тем, которые их пережили, – так и мыслитель должен в общем испытать на самом себе сущность той жизни, картину которой он нам представляет; он должен, так сказать, расширить свою душу до размеров мировой души. Как у поэта, так и у мыслителя необходимость хладнокровия является лишь тогда, когда требуется пережитое и перечувствованное внутри представить объективно, как нечто имеющее всеобщее значение. А таким хладнокровием, необходимым для изображения пережитого и перечувствованного, Шопенгауэр обладал в высшей мере; он обладал ею в области философии в такой же степени, в какой Гете и Шекспир обладали ею в области поэзии. Этим и объясняются объективность изображения им мира как воли, жизненная правда этого изображения. В том же смысле, как о Гете говорили, что он был поэт на случай, можно сказать и о Шопенгауэре, что он был мыслитель на случай: его философские положения написаны большею частью по поводу чего-либо пережитого и испытанного и затем уже систематизированы; это доказывает, между прочим, и сама форма его рукописей, состоящая преимущественно из афоризмов. Поэтому относительно Шопенгауэра скорее, чем относительно какого-либо другого мыслителя, на основании его произведений можно составить себе заключение о его личности.
Эта манера творить объясняет также и то, что умственный труд был для него вовсе не таким легким делом, как бы о том можно было заключить, судя по его слогу. При виде того, как легко и ясно он выражает самые глубокие мысли, можно было бы заключить, что ему приходилось только записывать то, что диктовал ему его гений. Но, хотя мышление было для Шопенгауэра так же легко, как, например, хождение, хотя ход его мыслей был так же быстр и эластичен, как и его физическая походка, но из этого было бы ошибочно заключать, что мысли рождались готовыми в его голове и что ему не приходилось думать, и притом много, усиленно думать. По этому поводу он сам выразился следующим образом: “Глаз притупляется вследствие долгого смотрения на один и тот же предмет, и кончается тем, что он перестает различать предметы; так и ум, вследствие продолжительного размышления об одном и том же предмете, притупляется и перестает схватывать отличительные свойства этого предмета; тогда нужно бросить это дело с тем, чтобы возвратиться к нему впоследствии со свежими силами. В мозгу тоже бывают своего рода приливы и отливы”. В одном из своих писем, писанных в 1813 году, когда ему было всего 25 лет, он выражается следующим образом: “Когда какая-нибудь мысль возникает в мозгу моем в неясной форме и рисуется передо мной в туманных очертаниях, то мною овладевает непреодолимое желание схватить ее; я бросаю все и преследую эту мысль, как охотник дичь, по всем извилинам, стараюсь заступить ей дорогу, пока не схвачу ее, не одолею и не изложу на бумаге. Но иногда случается, что мысль все же ускользнет от меня; тогда мне приходится терпеливо ждать, пока какой-нибудь другой случай снова не подымет ее с места. Если при подобной погоне за мыслью мне помешает какой-нибудь внешний шум, то я испытываю чисто физическое страдание”. Этим в значительной мере объясняется чувствительность Шопенгауэра ко всякому шуму и желание его водворить вокруг себя по возможности идеальную тишину. Как в своем “Мире как воля и представление”, так и в своих “Parerga”, он посвятил особые главы вопросу “О шуме”.
Помимо того труда, которого стоила Шопенгауэру мыслительная работа, а в особенности – при внешнем шуме, работа эта шла в мозгу его с какой-то естественной неизбежностью. Он сам говорил, что всегда работал и писал, точно повинуясь какому-то бессознательному инстинкту. “Ручательством за верность, а потому и за прочность моей философии, – писал он в 1824 году, – для меня служит то, что я вовсе не создал ее, а что она сама себя создала. Мои философские положения возникли во мне без всякого моего содействия, в такие моменты, когда всякое хотение во мне точно засыпало, и разум, без всякого преднамеренного направления его в ту или другую сторону, схватывал впечатления действительного мира и заставлял их идти параллельно с мышлением, опять-таки без всякого содействия моей воли. Но вместе с волей исчезает и всякая индивидуализация. Поэтому личность моя была здесь ни при чем: здесь слагалось в понятие созерцание, чисто объективное созерцание или, другими словами, сам объективный мир, избравший ареной мою голову, так как он находил ее подходящей для этой цели. А то, что не исходит от индивида, не может составлять достояние одного индивида: оно принадлежит лишь разуму и тождественно (по своему характеру, а не по степени) у всех индивидов, поэтому со временем на этом должны сойтись все индивиды. Я просто в качестве зрителя и очевидца записал то, что в подобные моменты представлялось мне пониманием, чуждым всякого участия воли, и затем воспользовался записанным для моих творений. Это-то и служит гарантией их истины, и это сознание не даст мне возможности сбиться с пути, как бы мои творения ни оставались непризнанными” (1824 г.).
Сам Шопенгауэр, при таком взгляде на умственную работу, без всякой ложной скромности был очень высокого мнения о своем уме. “Мерилом моего ума, – писал он, – могут служить те случаи, в которых я, при объяснении совершенно специальных явлений, конкурировал с выдающимися людьми: с Ньютоном и Гете – в теории красок, с Винкельманом, Лессингом, Гете – в толковании статуи Лаокоона, с Кантом и Жан-Полем – в объяснении смешного”. С другой стороны, будучи высокого мнения о своем уме, Шопенгауэр признавал в то же время, что ум и вообще интеллект как нечто физическое, как мозговая деятельность органического тела, может цвести лишь сравнительно непродолжительное время, что, достигнув кульминационного пункта, ум идет на уклон, – и это сознание Шопенгауэр переносит и на свой ум. Когда ему минуло 38 лет, он считал свой ум уже идущим на ущерб. “В то время, – писал он в 1826 году, – когда ум мой стоял на своей кульминационной точке, когда при благоприятных обстоятельствах мозг мой в состоянии был достигнуть высшей степени напряжения, – тогда на какой бы предмет ни упал мой взор, я имел дело с откровениями и в голове моей появлялся целый ряд мыслей, заслуживавших того, чтобы быть записанными, и потому записывавшихся. Теперь же, когда мне стукнуло 38 лет, когда я старею, когда идет на убыль небесное вдохновение, может случиться так, что я буду стоять перед рафаэлевой Мадонной, и она ничего не будет говорить мне”. Вообще, Шопенгауэр придавал расцвету мужского ума такую же продолжительность, как и расцвету женской красоты, то есть приблизительно около 15 лет, от 20-летнего до 35-летнего возраста. “Двадцатые и первая половина тридцатых годов, – писал он, – для разума человеческого то же, что май месяц для деревьев, которые только в это время цветут и дают завязи плодов”. Действительно, если сравнить старческие произведения Шопенгауэра– он сам озаглавил их “Senilia” – с более ранними его произведениями, то нельзя не прийти к тому заключению, что он в известной мере был прав, что и на его уме сказался общий закон природы. Вообще, наиболее оригинальных, основных взглядов Шопенгауэра следует искать в более ранних его произведениях, между тем, как позднейшие представляют собой лишь дальнейшее развитие и подтверждение этих взглядов.
Одно только проходит красной нитью через все его произведения: и ранние, и более поздние, – это парадоксальность его мировоззрения. Эту парадоксальность он сам сознавал; но он не только не считал ее недостатком, а напротив, усматривал в ней благоприятный признак. Так, например, он писал в 1815 году: “Если кто с предубеждением относится к парадоксальности какого-либо труда, то это происходит, очевидно, вследствие убеждения, что в обращении находится уже достаточное количество истины, что человечество вообще достигло уже очень многого и что ему разве только остается исправлять и дополнять частности. Но тот, кто, подобно Платону и Гете, убежден в том, что мир преисполнен нелепостей, всегда увидит в парадоксальности какого-либо произведения симптом благоприятный, хотя, впрочем, и не решающий. Мир, конечно, был бы прекрасен, если бы истина в нем могла быть не парадоксальна, если бы добродетели в нем не приходилось страдать, если бы все прекрасное заслуживало всеобщее одобрение. Но где его возьмешь – такой мир?” В том же 1815 году он писал: “Того, кто написал великое, бессмертное произведение, прием, оказанный этому произведению публикой, и суждения о нем критики так же мало способны огорчить или взволновать, как, например, брань и оскорбления сумасшедших способны оскорбить психически здорового человека, расхаживающего по больнице для умалишенных, предполагая, конечно, что человек этот имеет надлежащее понятие о том, где именно он находится”. Нужно, впрочем, заметить, что Шопенгауэр, очень чувствительно относясь к нападкам своих ученых противников, сам несколько расходился с теоретически высказанными им в вышеприведенных словах взглядами.
ИСТОЧНИКИ
1. Wilhelm Gwinner. Arthur Schopenhauer, aus persönlichem Umgange dargestellt. Ein Blick auf sein Leben, seinen Charakter und seine Lehre. Лейпциг, 1862.
2. Ernst Otto Lindner. Arthur Schopenhauer. Von ihm. Über ihn. Ein Wort der Vertheidigung und Memorabilien, Briefe und Nachlasstücke von Julius Frauenstädt. Берлин, 1863.
3. Οttο Busch. Arthur Schopenhauer. Мюнхен, 1878.
4. Julius Frauenstädt. Neue Briefe über die Schopenhauer'sche Philosophie. Лейпциг, 1876.
5. Foucher-de-Careil. Hegel et Schopenhauer. Etudes sur la philosophie allemande moderne, depuis Kant jusque'à nos jours. Париж, 1862.
6. Th. Ribot. La Philosophie de Schopenhauer (Bibliothéque de Philosophie contemporaine). Paris, 1888.
7. Rudolph Seydel. Schopenhauer's philosophisches System (Gekrönte Preisschrift). Лейпциг, 1857.
8. Вл. Штейн. Шопенгауэр как человек и мыслитель (1788–1860). Опыт биографии. Т.1. С.-Петербург, 1887.
9. Труды Московского психологического общества. Выпуск I. 1888. – Артур Шопенгауэр. Очерки его жизни и учения (По поводу столетней годовщины его рождения). Статьи: В. И. Штейн. Биографический очерк. – Н. Я. Грот. О значении философии Шопенгауэра. – Л. М. Лопатин. Нравственное учение Шопенгауэра. – В. П. Преображенский. Очерк теории знания Шопенгауэра.




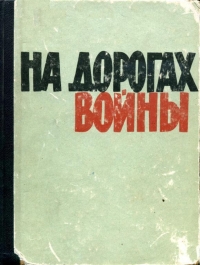
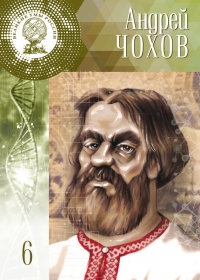
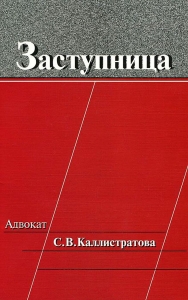
Комментарии к книге «Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность», Эрнест Карлович Ватсон
Всего 0 комментариев