Валентин Яковенко Томас Мор (1478—1535). Его жизнь и общественная деятельность
Биографический очерк В. И. Яковенко
С портретом Томаса Мора, гравированным в Лейпциге Геданом
Глава I. Шестнадцатый век и нарождение капитализма
Реформация. – Общественный переворот. – Нарождение капитализма. – Появление «Утопии». – Экономическое положение Англии в XV и XVI веках и условия капиталистического производства. – Реформация и экономический индивидуализм.
Жестокий XVI век, этот вовсе не гуманный век гуманизма, имеет в высшей степени важное значение в истории развития современной цивилизации. В ту именно пору совершились события, наложившие печать на весь последующий ход общечеловеческой истории, события, все значение и содержание которых до сих пор не исчерпано еще жизнью народов, выступивших на путь прогрессивного развития. И кто знает, сколько еще веков человечеству предстоит двигаться по направлению, впервые наметившемуся в многознаменательный XVI век! Всякому школьнику известно, что это – век Реформации, возвещенной Лютером; но не всякий понимает, что Реформация Лютера была всего лишь первым актом великой общечеловеческой драмы, первым актом в деле отрешения от авторитетов и признания прав личности на самостоятельное, независимое существование. Карлейль совершенно справедливо говорит, что вторым актом той же драмы была английская Реформация, даровавшая английскому народу «Habeas corpus» [1], третьим – Великая французская революция, а остальные акты еще впереди. Но не только школьникам, а быть может, и многим жрецам рутинной науки неизвестно, что тому же XVI веку суждено было узреть первые ростки современного экономического строя, пробившиеся на свет и простор из неведомых недр человеческой жизни. Как бы мы ни смотрели на историю, с экономической или идеологической точки зрения, все равно мы неизбежно должны будем признать, что Реформация представляет поворотный момент в развитии западноевропейских народов. Несколькими столетиями раньше начали формироваться уже общественные силы, которые должны были на своих плечах вынести великое освободительное движение, ниспровергшее суеверное и беспроглядное рабство Средних веков. Впереди шла Италия: здесь развернулась мировая, по тогдашнему времени, торговля; здесь образовались самодеятельные и полные жизненной энергии городские центры; здесь независимое городское сословие, богатея, становилось все более и более могущественным фактором социальной жизни; здесь же, наконец, обратились впервые к античному миру, знакомство с которым произвело полную революцию в господствовавшем тогда миросозерцании. Но, в сущности, тот же процесс совершался и на всей западной половине европейского материка: повсюду феодализм приходил в упадок и центр жизни переносился в города; складывались, правда еще спорадически, новые экономические организации – мануфактуры. Крушение феодализма идет рука об руку с прогрессивным ростом единоличной королевской власти, начинающей выступать также и противницей папского всемирного единовластия. Великие открытия: водного пути в Индию, Америки – действуют в высшей степени возбуждающе на указанные общественные процессы. Таким образом, на сцене всемирной истории после многовековой спячки завязывается, можно сказать, титаническая борьба различных общественных сил, борьба, последнее слово в которой еще до сих пор не сказано. Авторитетное начало рутины, в лице папства и католицизма, противостоит свободе совести и свободному исследованию, воплощенным в Реформации и гуманизме; феодальный замок, эта несколько романтическая эмблема средневековой жизни, – прозаически буржуазному городу; домашнее производство и внутреннее потребление – мануфактуре и всемирному рынку. Эта борьба отживающего старого с нарастающим новым сопровождалась страшной жестокостью, чем, между прочим, и объясняется странное при поверхностном взгляде явление, которое заключается в том, что век гуманистов вовсе не был веком гуманизма. В настоящем случае для нас представляет особенный интерес экономическая подкладка указанной борьбы, а в частности, экономические условия жизни в Англии.
Бесспорные авторитеты в политической экономии утверждают, что «начало переворота, создавшего основание для капиталистического способа производства, произошло в последней трети XV и в первые десятилетия XVI столетия». В это же время была написана Томасом Мором знаменитая «Утопия». Таким образом, нарождение капиталистического строя производства, со всеми его беспощадными гекатомбами и низведением рабочего человека на степень бездушной машины, совпадает с появлением если не первой, то во всяком случае совершенно своеобразной мечты о благополучном устройстве человеческой жизни здесь, на земле. Правда, человечество искони веков мечтает о счастье, но в разные эпохи оно подходит к этому вопросу с различных точек зрения. Так, Магомет сулит счастье правоверным в загробной жизни: там их ожидают райские рощи, мраморные дворцы, фонтаны, шелковые одеяния, бриллианты, роскошные вина, изысканные лакомства; но все это еще пустяки по сравнению с гуриями, черноокими девами: даже самому последнему правоверному будет полагаться не меньше семидесяти двух дев, и притом не каких-нибудь, а одаренных ослепительной красотой, прелестью юности, девственной чистотой и самонежнейшею чувствительностью… Другие, как, например, Платон, проектировали земное благополучие, но они думали о благополучии только кучки избранников, оставляя массу народа в рабском состоянии. Наконец, как во времена Томаса Мора, так и раньше являлось немало реформаторов, проповедовавших общее братство и убеждавших людей, что только в таком братстве они могут найти счастье, но все они стояли обыкновенно на религиозной почве и искали разрешения вопроса об общечеловеческом счастье не в полноте человеческой жизни, а в отрешении от земных благ и самоограничении. Томас Мор резко выделяется из всей этой группы мечтателей: он, как мы увидим в своем месте, допускает возможность счастья здесь, на земле, и надеется обеспечить это счастье всем людям. Вообще «Утопия» построена на земной, экономической основе; поэтому-то появление ее именно в тот момент, когда в экономическом складе общества совершался переворот и нарождался в высшей степени прозаический век капитализма, представляет крайне любопытное явление. Остановимся же несколько на положении рабочих классов Англии в XV и XVI столетиях.
Как ни странно, а приходится признать, что золотой век английского рабочего – это преддверие капитализма; даже более того – что первые капиталистические «бактерии» обнаруживают свою деятельность именно в эту счастливую эпоху. Роджерс, написавший классическое историческое исследование о труде и заработной плате, говорит, что в XV и даже в начале XVI столетия заработная плата по своей покупательной силе стояла выше чем когда-либо. Уже во второй половине XIV века парламент издал и затем постоянно возобновлял так называемые рабочие статуты, направленные против рабочих и в пользу землевладельцев. Закон открыто защищал лендлордов от «притязаний» земледельцев. Так, запрещалось давать рабочим выше известной платы под угрозой штрафа; затем, всякому рабочему, оставившему своевольно работу, угрожало тюремное заключение; всякий рабочий, не достигший шестидесятилетнего возраста и не занятый известными указанными в статутах производствами, уклоняясь от работы, по требованию землевладельца также попадал в тюрьму. Однако рабочие были действительными господами своего положения, и все эти меры оставались на бумаге; сами землевладельцы постоянно нарушали закон и платили больше, чем полагалось по статутам. Но в XVI веке картина резко меняется, и рабочие, как замечает Торнтон, без всякого перехода низвергаются из золотого века в железный.
Капиталистическое производство может развиться только при условии отделения производителя от средств производства, отделения, благодаря которому, с одной стороны, общественные средства существования и производства обращаются в капитал, а с другой – непосредственный производитель превращается в наемного рабочего. «С первого же взгляда видно, – говорит автор известного исследования о капитале, – что этот процесс отделения заключает в себе целый ряд исторических процессов, притом двойной ряд: с одной стороны, уничтожение отношений, делающих самого работника собственностью третьего лица и средством производства, которое можно присваивать, с другой стороны, уничтожение права собственности непосредственных производителей на их средства производства». И затем несколько ниже: «В процессе отделения историческое значение имеют те моменты, когда громадные массы людей вдруг и насильственно отторгались от своих средств производства и существования и бросались на рабочий рынок как свободные пролетарии».
В XIV и XV столетиях главную массу трудящегося люда в Англии составляли свободные крестьяне, имевшие собственные хозяйства; даже наемные земледельческие рабочие получали коттедж с четырьмя и более акрами земли и, кроме того, пользовались наравне с прочими крестьянами разными общинными угодьями. При таких условиях могло процветать народное, но не капиталистическое богатство. Так оно и было в действительности: это был своего рода золотой век английского земледельца-труженика. Но в конце того же XV столетия и в начале XVI благодаря уничтожению феодальных дворовых на рынок труда было выброшено «громадное число пролетариев, свободных, подобно птицам», то есть начался именно тот процесс, следствием которого должно было стать развитие капиталистических отношений. Настала эпоха насильственных изгнаний крестьян с насиженных ими мест, и началась узурпация крестьянских общинных земель. Собственники старались привести по возможности большее количество культурных земель в некультурное состояние, чтобы использовать их как пастбища для овец. Крестьяне должны были уступать свои места овцам: того требовал спрос на шерсть; и они уступали, и жилища их разорялись, и сами они безжалостно выбрасывались на все четыре стороны.
Так властно заявила о себе на первых же порах капиталистическая тенденция. Мы не станем следить за ее дальнейшими успехами; заметим только, что последовавшие вскоре закрытие монастырей, колоссальное расхищение церковных имений, конфискация цеховых имуществ содействовали все тому же процессу отделения производителя от средств производства. На первых порах правительство было как бы озадачено таким резким переворотом; оно не могло еще сознательно проникнуться новой капиталистической тенденцией, так как последняя еще не оформилась в какое-нибудь определенное учение, и приняло некоторые меры против расхищения общинных земель и вытеснения людей овцами. Так, при Генрихе VII (1489 год) был издан закон, которым запрещалось разрушать крестьянские хозяйства, имевшие больше 20 акров земли. При Генрихе VIII было определено соотношение между размерами хлебопашества и пастбищами, повелено восстановить дома фермеров, пришедшие в упадок, и так далее. Подобные акты издавались и возобновлялись в течение довольно продолжительного времени, но они, конечно, не могли затормозить пагубного для населения процесса, так как процесс этот был в интересах класса, начинавшего уже играть выдающуюся роль в общественной жизни Англии. Таким-то образом создались свободные рабочие руки. На первых порах их оказалось слишком много: народившаяся мануфактурная промышленность не могла занять всех. Отсюда – бродяжничество, нищенство и разбой, охватившие Англию с конца XV века. Правительство отвечало на них суровым и жестоким законодательством, надеясь таким путем возвратить рабочие руки к труду и заставить их, как замечает иронически цитированный нами ранее автор, работать при не существовавших уже условиях.
Такова в самых общих чертах картина экономического положения Англии в то время, когда Томас Мор написал «Утопию», в которой читатель найдет между прочим указания на те же обстоятельства. Я не имею возможности остановиться на ней более подробно, но и изложенного, полагаю, достаточно для подтверждения высказанной мною мысли, что появление Морова проекта общечеловеческого благополучия, построенного на экономической основе, совпадает с нарождением капиталистических отношений.
Итак, XVI век, восставший против лживых церковных авторитетов и провозгласивший свободу совести, был вместе с тем и веком нарождения капитализма, по крайней мере в классической стране капиталистического производства. Но ведь капитализм представляет собой также известного рода освободительное движение, и мы знаем из истории, что принципы свободы и отрицания авторитетов, выставленные Реформацией, в последующее затем время были перенесены из религиозной в иные сферы общественной жизни и повсюду произвели перевороты. Поэтому сопоставление нарождающегося капитализма и нового протестантского верования, вероятно, на самом деле не так произвольно, как может казаться на первый взгляд. Конечно, нельзя сказать, что Реформацию породил капитализм или что этот последний был порожден Реформацией; подобные шаблоны в действительности оказываются никуда не годными. Но что Реформация обусловливается, по крайней мере отчасти, теми же экономическими условиями, которые породили на свет божий и капитализм, в этом не может быть сомнения. Стоит только вспомнить всю массу народных волнений и возмущений, предшествовавших Реформации и последовавших за нею, носивших несомненно экономический характер, чтобы убедиться, насколько сама Реформация была результатом совершившегося в то время общественно-экономического переворота. Так как ниже нам придется иметь дело с гуманистом, то, быть может, небезынтересно будет привести здесь мнение гуманиста Гуттена, который совершенно ясно высказывает экономическую точку зрения на папство, а следовательно, выдвигает и экономические причины борьбы с ним. В диалоге «Вадиск», появившемся в 1520 году, Гуттен говорит: «Взгляните на это громадное складочное место земного шара, куда стаскивают все, что удастся награбить во всех странах: в центре его сидит ненавистный червь, истребляющий множество плодов; он окружен бесчисленной толпой прожор, которые сперва высосали из нас кровь, затем принялись терзать наше тело, теперь они добрались до мозга наших костей, чтобы уничтожить все, что еще осталось. Неужели немцы не возьмутся за оружие, неужели они не бросятся на них с огнем и мечом? Эти расхитители нашего отечества, которые раньше грабили лишь с жадностью, теперь же грабят еще и с наглостью нации, повелевающей миром, откармливаются потом и кровью немецкого народа, набивают себе чрево и питают свои похоти внутренностями бедных. Мы им даем золото; они на наш счет держат лошадей, собак, мулов, содержат женщин и мальчиков для удовлетворения позорных страстей! На наши деньги воспитывают свою злобу, весело проводят жизнь, украшают золотом своих мулов и лошадей, строят дворцы из чистого мрамора».
Можно сказать, что Лютер со своею Реформацией завершил развитие известного цикла идей, порожденных данными общественно-экономическими отношениями, и, установив известный принцип, явился точкой опоры для дальнейшего движения; тогда как Томас Мор, присутствуя при зарождении нового капиталистического порядка, схватывает его кульминационный пункт и рисует нам его антитезу, рисует то, что тогда представлялось утопией, но что со временем, в силу естественного хода вещей, должно стать, в том или ином виде, насущной злобой дня.
Глава II. Гуманисты и характеристика Томаса Мора, сделанная Эразмом Роттердамским
Развитие гуманизма. – Отношения гуманистов к властям и религии. – Различие между гуманистами и религиозными реформаторами. – Эразм Роттердамский. – Характеристика Томаса Мора.
Гуманизм возник в Италии; первыми провозвестниками его были Данте, Петрарка, Боккаччо. В XV и XVI столетиях он разлился уже по всем центрам западноевропейской цивилизации, проник во Францию, Германию, Англию и подготовил более решительный натиск на отжившие в ту пору учреждения – Реформацию. Первые гуманисты, увлеченные духом античной цивилизации, мечтали перенести ее на новую почву; но они не становились в резкую, непримиримую оппозицию с существовавшим строем общественной жизни; они нападали на монахов и разврат, царивший среди католического духовенства, но оставались сами католиками; они уживались как с папами, так и с государями; многие из них даже получили доходные церковные должности. Они писали по-латыни, и потому их вольнодумства были доступны лишь небольшому, избранному кругу людей. В сфере мысли гуманисты проповедовали отрешение от мертвящей схоластики Средних веков; в сфере религии, в то же время оставаясь верными основам католической церкви, – отрешение от всякого пустосвятства и нетерпимости, жестокости и самодовлеющего аскетизма; в сфере нравственности – свободу, непринужденность, простоту; в сфере политической они стояли обыкновенно на стороне просвещенной авторитетной власти. Но чем шире разливался гуманизм и чем глубже проникал в общественную жизнь, тем он принимал все более и более боевой характер. В лице Гуттена гуманизм, подобно Реформации, становится уже прямо в боевое положение. Так, Гуттен в одном из своих памфлетов восклицает: «Подымитесь же, благочестивые немцы; у нас много копий и оружия; мирные требования не помогают; возьмемся за мечи, истребим ложь, чтобы сияла правда». Но подобные речи говорились, когда Реформация уже зажгла сердца людские и двинула целые толпы народа на борьбу за свое духовное освобождение. Весьма поучительно и многознаменательно это различие между гуманистами и реформаторами. Первые напоминают скорее современный тип просвещенных и свободомыслящих поссибилистов, а вторые – тип людей революционного склада. И любопытно, в то время как Реформация провела навеки неизгладимую черту в социальной жизни народов, гуманизм прошел, точно какая-то прелестная мечта. Я не хочу этим сказать, что гуманизм не имел влияния на ход развития западноевропейской цивилизации; я говорю лишь, что он не наложил на нее своей своеобразной печати; он вскормил, так сказать, Реформацию, но сам в себе не заключал достаточно боевых жизненных элементов, чтобы ниспровергнуть средневековый строй жизни. Веселым, любезным, приветливым и вообще жизнерадостным гуманистам недоставало суровой энергии, непреклонной последовательности, отваги, черпающей силы обыкновенно в религиозном настроении человека, недоставало именно того, что вообще необходимо, а в особенности было необходимо в жестокие Средние века для всякого общественного преобразователя. Весьма типична в этом отношении личность главы всех гуманистов Эразма Роттердамского (1469—1536). Его нелюбовь к решительным действиям и смелым поступкам обнаруживается даже в его отношении к единомышленникам. Так, он отказался принять и приютить у себя Гуттена, бежавшего из Германии после одного вооруженного восстания, и последнего укрыл Цвингли. Затем, узнав о казни Мора и Фишера, он пишет: «Если бы погибшие спросили моего мнения, я им посоветовал бы не кидаться в открытую борьбу с грозой. Гнев королей – жестокий гнев. Он обрушивается со страшной силой на тех, кто дерзает вызывать его. Бешеных лошадей укрощают не противодействием, а ласковым обхождением. Благоразумный кормчий не станет бороться с бурей; напротив, он поспешит уйти от нее, лавируя и становясь на якорь в ожидании более благоприятной погоды… Кто служит королю, должен скрывать многое, и если он не в силах склонить короля на свою сторону, то должен, во всяком случае, овладеть своими страстями… Но, скажут, человек должен также уметь умереть за истину. Нет, отвечаю я, не за всякую…»
В Англии среди гуманистов выделялись особенно Джон Колет и Томас Мор. Последний приобрел мировую известность. На чем она держится, мы узнаем подробно ниже. Но здесь мы считаем уместным дать общий абрис этого поистине великого человека и еще более, быть может, великого характера и воспользуемся для этой цели прелестным портретом Томаса Мора, нарисованным другом его Эразмом в письме к Гуттену, написанном в ответ на просьбу последнего описать личность Мора. По недостатку места мы не можем привести этого письма целиком, но передадим все существенное, сохраняя по возможности простой, неподдельный тон дружеского описания, в котором личность Томаса Мора выступает весьма рельефно.
«Мор не велик ростом, но и не слишком мал, – пишет Эразм. – Он сложен вполне пропорционально и не страдает никакими физическими недостатками. Кожа на лице у него белая, с нежно-розоватым оттенком; волосы черные, переходящие в шатеновый; борода редкая; глаза – синевато-серые с пятнышками; такие глаза указывают обыкновенно на выдающийся ум и считаются у англичан особенно красивыми. Его лицо часто озаряется улыбкой, и вообще оно служит верным зеркалом его внутренних качеств, его веселого и любезного нрава. Действительно, Мор скорее веселый человек, чем серьезный, степенно-важный муж. В его фигуре обращает на себя внимание правое плечо, которое кажется несколько приподнятым, что в особенности заметно, когда он ходит; но это не врожденный недостаток, а дело привычки. Вообще в его внешности нет ничего неприятного, кроме разве непропорциональных грубых рук; но Мор мало заботился о внешности даже в дни своей юности. Он пользуется хорошим здоровьем, хотя нельзя сказать, чтобы отличался особенно крепким сложением; но во всяком случае у него хватает сил для выполнения трудов, приличествующих честному гражданину. Мы можем надеяться на его долговечность, так как отец его, несмотря на преклонный возраст, до сих пор еще весьма бодрый старик.
Я не видал человека, который был бы так нетребователен в пище, как Мор. Он усвоил от отца привычку пить только чистую воду, а чтобы не нарушать веселой компании, он обыкновенно обманывал своих гостей и пил заодно с ними из своего металлического кубка, но не вино, а легкое пиво или чистую воду. Он предпочитал мясо, соленую рыбу, простой хлеб самым изысканным блюдам, хотя и не налагал на себя при этом никаких обетов и не отказывал себе в том, что приходилось ему особенно по вкусу; так, он очень любил молочные кушанья, фруктовое варенье, яйца и так далее.
Голос у него не сильный и не слабый; он говорит отчетливо, ясно. Он, по-видимому, не чувствует особенной любви к пению, но музыка доставляет ему большое наслаждение.
Он любит простоту, не носит ни шелка, ни пурпура, ни золотых цепей. Просто изумляешься, как мало он заботится о разных формальностях, которые толпа считает вежливостью и приличием, и не потому, чтобы он не знал их; нет, он смотрит на них просто как на бабье дело и находит недостойным мужчины тратить время на подобные пустяки. Он долго держался вдали от двора и государей, так как деспотизм был ему издавна ненавистен и он всегда любил больше всего равенство. Вот почему только после больших стараний и усилий Мор позволил Генриху VIII привлечь себя ко двору.
Мор как бы создан для дружбы. Он крайне отзывчив на дружеские чувства, обнаруживаемые к нему, не слишком педантичен в выборе друзей, снисходителен к ним и весьма постоянен в своих отношениях. Он никогда не порывает с друзьями резко, а предоставляет дружбе умирать медленно, естественной смертью. Он считает величайшим благом, мыслимым для человека, дружбу с людьми одинакового с ним образа мыслей.
Мор питает отвращение к игре в карты, кости и тому подобным играм. К собственным интересам он относится беспечно, но зато весьма заботливо охраняет интересы своих друзей».
Но что сказать еще, спрашивает Эразм и продолжает:
«В обыденных сношениях с людьми Мор всегда весел и держит себя непринужденно: как бы велика ни была грусть человека, он забывает о ней, беседуя с Мором. Еще ребенком он находил большое удовольствие в шутках и играх, но его шутки никогда не выходили вульгарными или оскорбительными. Юношей он писал комедии и сам принимал участие в игре; тщательно отделывал свои эпиграммы и находил особенное удовольствие в чтении Лукиана. Он и меня подбил написать „Похвалу глупости“ (сатиру), то есть заставил меня плясать по-верблюжьему. Даже в самых серьезных делах он находил поводы для своей веселой шутки. Глупейший человек и тот нисколько не шокирует его; он умеет входить в настроение каждого. С женщинами и даже со своей супругой он вечно шутит. Ты бы легко мог принять его за второго Демокрита или, еще скорее, за того пифагорейца-философа, который беззаботно и праздно расхаживает по рынку и, улыбаясь, поглядывает на всеобщую суету. Мнение толпы над ним не имеет никакой силы, но вместе с тем нет человека более доступного и добродушного, чем он.
Одно из любимых занятий Мора – наблюдение над животными; он следит с большим интересом за их умственной деятельностью и душевными движениями. Его дом переполнен животными всяких пород, и он бывает очень доволен, когда видит, что его животные доставляют удовольствие гостям.
В юности Мор далеко не был женоненавистником; однако он охотнее пользовался расположением тех женщин, которые шли ему навстречу, чем тех, сердца которых надо было еще завоевывать; и вообще он своими поступками не подал ни малейшего повода к злословию и клевете. Но половые отношения не представляли для него прелести, если они не сопровождались общностью высших, умственных интересов.
Он рано обратился к изучению классической литературы; греческих авторов и философию он изучал еще юношей, против воли своего отца, в других отношениях порядочного и разумного, но желавшего, чтобы сын пошел непременно по его стопам и сделался ученым юристом. Мор же был рожден для лучшего и потому совершенно естественно питал отвращение к правоведению; однако, позанявшись немного, он достиг и в этой области такого совершенства, что тяжущиеся обращались к нему охотнее, чем к кому бы то ни было другому из адвокатов, и никто из его коллег, посвятивших себя исключительно адвокатской деятельности, не зарабатывал более его. Так велики были его способности и проницательность. Но не удовлетворяясь этим, он посвящал немало времени изучению отцов церкви и всей душой предался набожным делам. Он старался посредством ночных бдений, постов, молитв и всякого рода подобных упражнений подготовить себя к священническому сану. Лишь одно препятствие стояло на избранном им пути: он никак не мог побороть в себе желание иметь жену и в конце концов предпочел лучше быть добродетельным мужем, чем развратным священником. Он женился на неопытной и необразованной девушке, почти ребенке, из благородной семьи и дал ей научное и музыкальное образование по своему вкусу. Он мог бы прожить с нею всю свою жизнь вполне счастливо, если бы ранняя смерть не похитила ее после того, как она родила ему нескольких детей. Мор недолго оставался вдовым, и, быть может, в этом случае на него имели влияние советы друзей. Через несколько месяцев он женился на вдове, скорее из-за хозяйственных соображений, чем ради ее прелестей, так как она не была ни молода, ни хороша собою, как о ней обыкновенно отзывался сам Мор. Но он живет с нею так хорошо, как если бы она была невесть какая красавица. Едва ли найдется еще другой муж, который пользовался бы со стороны своей жены таким же вниманием и послушанием, а между тем он достиг всего этого не строгостью, а добротой и шутками. С такой же добротой он руководит своими детьми и домочадцами. В его доме нет места семейным драмам и дрязгам: он умеет подавлять их в самом зародыше. Немного найдется сыновей, которые с родной матерью уживались бы так хорошо, как он со своей мачехой. Недавно его отец женился в третий раз, и Мор всех уверяет, что он никогда еще не видел женщины лучше этой, третьей жены его отца.
Мору совершенно чужды всякие стремления к грязной наживе; из своих доходов он откладывает часть для детей, а остальное раздает щедрой рукой. Во время своей адвокатской практики он охотно давал бесплатные советы лицам, обращавшимся к нему, и в своих дружеских и всегда дельных указаниях обнаруживал больше заботливости об их выгоде, чем о своих собственных интересах.
В течение нескольких лет Мор был в Лондоне судьей по гражданским делам; эта служба не тяжелая, но весьма почетная. Никто не рассмотрел столько жалоб, сколько он, и никто не был бескорыстнее его. Совершенно естественно поэтому, что он сделался скоро всеобщим любимцем в городе. Мор думал удовольствоваться таким положением; но его дважды заставили принять участие в посольстве, и он так успешно выполнил возложенные на него поручения, что его государь, Генрих VIII, до тех пор не успокоился, пока не перетянул его к себе. Да, именно „перетянул“, так как никто, быть может, не употреблял таких усилий, чтобы добиться доступа ко двору, как Мор, чтобы избежать его. Генрих задумал окружить себя целою толпою ученых, солидных, бескорыстных людей и прежде всего обратил внимание на Мора, причем так сблизился с ним, что не хотел потом расставаться. Идет ли речь о серьезных целях, не оказывается человека более опытного, чем Мор; пожелает ли король развлечь свой ум легкой болтовней, не находится более веселого собеседника, чем Мор. Но пребывание при дворе не сделало его гордым. Несмотря на массу дел, лежащих на нем, он не забывает старых друзей и не оставляет своих любимых научных занятий. Всю свою власть, все свое высокое положение, влияние на государя он употребляет лишь на пользу государства и на благо ближних. Одним он оказывает денежную помощь, других защищает своим влиянием, третьим помогает своими рекомендациями, а тех, кому он не может непосредственно помочь, он поддерживает по крайней мере советом. Никто не уходит от него огорченным. Можно сказать, что Мор – главный покровитель всех бедняков в государстве. Он радуется, как будто заключил невесть какую выгодную сделку, когда ему удается помочь угнетенному или стесненному человеку и дать ему возможность выйти из затруднительного положения.
Теперь я перейду к его научным занятиям, которые сделали меня для него, а его для меня столь дорогим человеком. В юности он занимался поэзией, но скоро перешел к прозе, стараясь продолжительными и усиленными занятиями улучшить свой слог. Особенно охотно он писал рассуждения на необычные темы, чтобы таким образом изощрить свой ум. „Утопию“ он написал с целью показать, в чем следует искать причину дурного состояния государства, имея, впрочем, в виду главным образом Англию, которую он хорошо исследовал и изучил. Вторую книгу он написал в часы досуга; скоро присоединил к ней и первую, написанную, так сказать, за один присест. В диспутах он первый человек, и ему нередко случалось приводить в затруднительное положение даже выдающихся богословов. Джон Колет, человек проницательный и с выдающимися способностями, обыкновенно говорил, что в Англии есть один только гений, это – Мор, хотя в ней процветает и немало выдающихся умов.
Мор – искренно набожный человек, но он крайне далек от всякого суеверия. У него есть часы, когда он молится, но он молится не по одной привычке, а от полного сердца. С друзьями он говорит о будущей жизни, и слова его проникнуты действительным убеждением и возвышенными надеждами. Таким же является он и при дворе».
Таков Томас Мор, таковы его внутренний мир и внешний облик. Этот прекрасный портрет делает для нас излишним синтез его жизни, разные стороны которой мы рассмотрим в последующих главах.
Глава III. Томас Мор в частной жизни
Учение. – Юность. – Борьба со страстями. – Увлечение Пико делла Мирандола. – Мысль о монашестве. – Первые литературные произведения. – Знакомство с Эразмом. – Сближение с гуманистами. – Женитьба. – Семейная жизнь. – Воспитание детей. – Дочь Маргарита. – Мор о женском образовании.
Томас Мор родился в 1478 году в Лондоне. Отец его, Джон Мор, занимал разные должности и под конец жизни был судьею королевской скамьи. Мать умерла во время родов, и Томас остался на попечении своего сурового и непреклонного отца. Первоначальное образование он получил в лондонском колледже Св. Антония, где обнаружил замечательные успехи и трудолюбие. Слухи о выдающихся способностях мальчика достигли кардинала Мортона, кентерберийского архиепископа и канцлера Англии; он взял его к себе в дом и занялся его образованием. Мор в течение всей жизни сохранял наилучшую память о кардинале и увековечил его имя в своей «Утопии». Кардинал радовался успехам подопечного и предсказывал ему блестящее будущее. Пятнадцати лет Томас поступил в Оксфордский университет, где изучал последовательно риторику, логику, философию и обнаружил замечательные успехи; он с пылом отдался наукам и удалялся от обычных забав своих сверстников. Даровитый юноша делал это не из любви к уединению; напротив, он любил общество, любил веселую, остроумную беседу, но ему приходилось поневоле держаться в стороне, так как забавы оксфордских студентов обходились обыкновенно недешево, а его честный отец не успел нажить богатства да и был несколько скуповат. Таким образом, первая юность Томаса протекла в атмосфере неравенства и бедности, что несомненно оказало значительное влияние на формирование его характера и ума. Желания были и у него, но ему приходилось дисциплинировать себя, и способность к дисциплине играет огромную роль во всей жизни Мора. Затем Мор по настоятельному желанию отца должен был заняться юридическими науками и, окончив высшую школу Линкольна, вышел ученым юристом.
Юность – это пора, когда пробуждаются все силы и стремления человека, как физиологические, так и нравственные, это момент как бы нового рождения, когда впервые обнаруживается определенно человек, обнаруживается его внутреннее существо. Обыкновенно говорят: увлечения свойственны юношам; но увлечения бывают разные не только по своей интенсивности, но и по своей сущности. Одни увлекаются разгулом и распутством, другие – идеалами правды и человеколюбия. И у тех, и у других жизнь бьет полной струей; но доброкачественность этих струй весьма различна. Томасу Мору, как и всякому живому юноше, пришлось выдержать сильный натиск вполне естественных страстей. И он боролся. Он облек свою борьбу, по обстоятельствам того времени, в религиозную и даже аскетическую форму, но это не должно маскировать от нас существа дела. В тяжелой борьбе еще недостаточно определившихся стремлений Томас Мор выбрал себе в руководители итальянского гуманиста Пико делла Мирандола. Ему было тогда 18 лет. Он написал стихами биографию этого своеобразного мистика-гуманиста и изложил стихами же его двенадцать правил для руководства в жизни. Любопытны в особенности двенадцать мечей, которыми можно защищаться от всякой скверны. Вот они: 1) поменьше наслаждений; 2) труд и грусть; 3) утрата того, что дороже всего; 4) земная жизнь – одна только мечта и призрак; 5) постоянная близость смерти и неизбежность ее; 6) страх умереть не раскаявшись; 7) вечная радость, вечная скорбь; 8) природа и достоинство человека; 9) мир доброй души; 10) великие благодеяния Бога; 11) скорбный крест Спасителя; 12) поведение мучеников и примеры святых. Но тело бунтовало против духа. Тогда Мор стал укрощать свою плоть разными лишениями. Он надел власяницу; над ним смеялись, но он стоически переносил все насмешки. Он постился, проводил ночи без сна или спал всего четыре– пять часов в сутки; вообще он напрягал все силы, чтобы не дать чувственности взять верх над разумом. Эти сообщения биографов противоречат утверждению Эразма о том, что Мор не избегал женщин. Однако достоверность их подтверждается тем фактом, что в эту пору Мор носился с мыслью о пострижении в монахи и прожил даже несколько лет при одном из лондонских картезианских монастырей; правда, он не давал обета, но принимал участие в службах и религиозных бдениях монахов. Кто прав в данном случае, решить мы, по недостатку вполне беспристрастных данных, не можем; но во всяком случае не правы те биографы из клерикального лагеря, которые видят в Томасе Море правоверного католика, бичующего свою плоть во имя аскетического идеала жизни и мистических внушений разума.
Дело было гораздо проще. Если Мор чуждался в юности женщин, то вовсе не потому, чтобы он считал их «нечистыми тварями», прикосновение к которым губит человека. Мор был чист душой, и не только в юности, но и в продолжение всей своей жизни; это – великий образец человека, живущего по совести; в своем месте мы увидим, что та же совесть привела его даже на плаху. А между тем жизнь, в особенности жизнь того времени, отличалась крайней разнузданностью и рисовала полные соблазна картины в ответ на волнения и требования горячей молодой крови. Мор ударился в противоположную сторону: он стал укрощать свою плоть и думал о монастыре. Кто читал «Утопию», тот знает, как чист и наивен взгляд Томаса Мора на половые отношения и как он в этом случае далек был собственно от аскетизма. Относительно же монашества он скоро разочаровался: монахи поразили его своею беспутной жизнью. Он перестал посещать их. Но тем не менее мучивший его вопрос оставался неразрешенным; он стал искать человека, перед которым мог бы изливать свою душу и который мог бы служить ему опорой, и сошелся с Джоном Колетом, деканом при церкви Св. Павла, проповедовавшим тогда с большим успехом в Лондоне. В одном из писем к нему Томас Мор между прочим пишет: «Я снова, точно подталкиваемый какой-то непреоборимой силой и потребностью, погрузился во мрак, из которого вы извлекли меня. Ибо скажите, пожалуйста, что есть в этом городе такого, что помогало бы человеку вести добрую жизнь, а не заставляло бы его, как раз наоборот, постоянно падать и не толкало бы человека в пучину всевозможных пороков, человека, не жалеющего никаких сил, чтобы карабкаться по отвесным скалам добродетели? Что встречает он на своем пути: лицемерную любовь и сладкую, как мед, отраву лести; там жестокая ненависть, здесь вечные раздоры и таскания по судам; и там и здесь – мясники, повара, торговцы рыбой, живностью, пирожники, заботящиеся лишь о том, чтобы наполнить наши желудки!.. Самые дома и те как бы воздвигнуты для того, чтобы лишить нас неба; они своими кровлями ограничивают наш горизонт…» Борения эти для такого человека, как Мор, неизбежно должны были кончиться или женитьбой, или монашеством, и Мор предпочел, как прекрасно замечает Эразм, жизнь честного семьянина распутной жизни развратного монаха.
Мор стал рано писать: первые его стихи и эпиграммы на латинском и английском языках относятся ко времени студенчества. Стихи эти весьма посредственны. Они имеют значение лишь в биографическом отношении: в них отражается религиозное настроение, в каком находился Мор в ту пору под влиянием жестоких борений страстей, хотя, особенно в эпиграммах, прорывалась уже и тогда его веселая и остроумная насмешка. По окончании курса наук он прочел, между прочим, публичную лекцию о «De civitate Dei» Августина, на которой присутствовали многие выдающиеся умы того времени, и произвел эффект. Обширные познания и сильный логический ум сделали Мора скоро известным в кругу тогдашних ученых, а знакомство с Эразмом (1498 год) сблизило его с гуманистами других стран. Чуть ли не восемнадцати лет Мор имел уже литературных врагов. О нем говорили в Лондоне, Лувене, Париже; он был признан членом республики избранных, гуманистов, и вступил в переписку с ними. Но вся его литературная слава была еще, собственно, впереди. Как человеку бедному, Мору не приходилось долго совершенствоваться в науках: нужно было думать о средствах к существованию. Он занялся адвокатурой. Насколько успешно шли его дела, мы знаем уже из письма Эразма. Благодаря своей доброй репутации среди лондонских граждан он попал в 1503 году в члены парламента. Это был его первый шаг на поприще политической деятельности; о нем мы расскажем ниже в особой главе, а теперь возвратимся к его домашней жизни.
Около этого же времени внутренняя борьба Мора закончилась женитьбой, и он стал семьянином. Мор был женат два раза. О первой его жене и жизни с нею мы знаем немного. К словам Эразма по этому поводу мне остается прибавить лишь, что, познакомившись с шотландской семьей Кольтов (Colte), Mop почувствовал симпатию ко второй дочери, но, не желая оскорбить и опечалить старшей, перенес свои чувства на последнюю и женился на ней (1505 год). Он прожил с нею около семи лет и имел четырех детей; роды четвертого ребенка, мальчика, свели ее в могилу. Во второй раз Мор женился в 1515 году на вдове Алисе Мидльтон, женщине уже немолодой и не особенно привлекательной, судя по характеристике Эразма и шутливым замечаниям самого Мора. «Она, – говорит Мор, – жалела огарка свечи, и вместе с тем ей достаточно было один раз надеть прекрасное бархатное платье, чтобы испортить его». При многочисленных занятиях, сначала в качестве адвоката, затем судьи и, наконец, приближенного Генриха VIII и канцлера, Мор не мог уделять много времени не только своей семье, но даже и своим литературным работам. Возвращаясь домой, он всегда старался поддерживать веселый тон: болтал с женой, с детьми, разговаривал с прислугой. «Все это необходимо делать, – говорит он, – если вы не хотите оказаться человеком чуждым в своем собственном доме. Старайтесь быть любезным с теми, кто сделался спутником вашей жизни благодаря выбору или случаю, или кровным связям; но при этом не следует переходить известной границы, не следует допускать, чтобы домашние сделались вашими господами».
Когда у Мора завязалась его роковая дружба с Генрихом VIII, он переселился в деревушку Челси, лежащую вверх по течению Темзы на расстоянии двух миль от Лондона. Здесь он приобрел себе прекрасный домик с садом, выходившим на Темзу. Семья Мора жила в деревне круглый год, а он сам наезжал, насколько позволяли его положение при дворе и капризы Генриха, требовавшего к себе Мора то как веселого собеседника, то как необходимого советника в государственных делах. Вначале он посещал свою семью несколько раз в неделю, но по мере того как росло расположение короля, ему приходилось все более и более ограничивать себя. В это время он почти совсем забросил свои занятия, библиотеку, зверинец; он не смел отлучаться из Лондона, ожидая ежеминутно посланца с приказанием явиться немедленно ко двору. При таких условиях Мору трудно было принимать непосредственно большое участие в воспитании своих детей. Но он руководил всем делом, принимая и личное участие, насколько позволяли обстоятельства. Если ему невозможно было приехать из Лондона, он писал письма и в них давал наставления. Вообще воспитанию и образованию детей в семейной жизни Мора было отведено громадное место, можно сказать, что оно играло преобладающую роль. Среди всех своих государственных и общественных забот он никогда не забывал, что на нем лежат обязанности отца.
В какие частности входит Мор, покажут нам несколько выдержек из его писем и предписаний. Нужно заметить, что письма эти относятся к тому времени, когда две старшие дочери были уже замужем, но жили также в Челси. Из этого, между прочим, мы можем уже заключить, как широко понимал Мор образование; оно далеко не прекращалось еще с выходом девушки замуж. В одном из писем он советует дочерям внимательно перечитывать то, что они пишут, каждую фразу в отдельности, каждое слово в отдельности, исправлять ошибки, снова перечитывать, снова переписывать. Такой совет теперь показался бы слишком скучным и педантичным; но не следует упускать из виду, что в то время английский литературный язык еще только вырабатывался, что тогда писали фразы длиной в целую страницу. В другом письме Мор хвалит своих дочерей за их письма, исполненные красноречия; но он сожалеет, что они мало пишут ему о занятиях с младшим братом, о том, что они читают, как проводят время и так далее. В третьем письме он пишет, что его очень порадовал сын Джон (самый младший ребенок) своим веселым шуточным письмом, в котором на остроумие отца отвечает также остроумным словом, не забывая, однако, с кем он говорит.
В своих наставительных письмах Мор нередко дает разные указания по части житейского обихода и христианской кротости, объявляет войну мелочному тщеславию, все равно, проявляется ли оно у его зятьев, дочерей, у мадам Алисы или у сына Джона. Он осмеивает слишком старательную шнуровку, узкую талию, малую ножку и так далее и шутя замечает, что Бог поступит несправедливо, если не отправит в преисподнюю тех, кто больше заботится о том, чтобы нравиться миру и дьяволу, чем истинно благочестивые люди о том, чтобы угодить Богу. Ввиду своего высокого положения он особенно старается предохранить детей от честолюбивых помыслов, жажды богатства и так далее.
Любимым ребенком Мора была его старшая дочь Маргарита; в это время она являлась уже женой Ропера и матерью нескольких детей. О ней Мор, очевидно, заботился больше всего, и на ее примере мы можем судить о том, как широко смотрел он на женское образование. Маргарита являла собою настоящего ученого. Она в совершенстве владела латинским языком и переводила вполне свободно с английского на латинский и обратно собственные работы. Она перевела с греческого на латинский Евсевия, объяснила в Киприане одно место, над которым ломали головы все ученые того времени. Она любила также астрономию и ревностно занималась ею. И несмотря на всю свою ученость, несмотря на всю эту схоластическую ученость, как сказали бы мы в настоящее время, она не переставала быть заботливой матерью и женщиной.
Чем выше подымается Мор, тем чаще и чаще, как бы предчувствуя свой роковой конец, он обращается к религии, в ней пытаясь найти точку опоры. Его дом начинает мало-помалу походить на монастырь. Все получает религиозную окраску, как занятия, так и развлечения. День был строго распределен, и всякий занимался своим делом. Мужчины проводили время отдельно от женщин; все сходились только в часы общей еды, на молитву или во время чтений, под наблюдением главы семьи. За ужином читалась обыкновенно какая-либо назидательная книга, затем наступал черед беседы на душеспасительные темы и наконец – музыки. Все это сильно напоминает семейный строй утопийцев, как в том убедится ниже читатель.
Вообще нас не раз поразит еще замечательное совпадение разных, часто незначительных, сторон жизни Томаса Мора с идеалом общественной жизни, начертанным им в «Утопии». Биография Мора на первых же порах сделалась злополучной жертвой клерикального усердия не по разуму, и биографы старались в особенности подчеркнуть его преданность католичеству, поэтому можно было бы привести еще немало разных указаний на строгую религиозность, царившую в семье Мора. Но мы не пойдем за ними. Даже если согласиться, что Мор из своего дома устроил нечто вроде монастыря, где он священнодействовал и занимался душеспасительными проповедями, то все же придется признать, что это был монастырь, куда глава его считал себя обязанным являться с улыбкой на устах и шутливым приветствием на языке; это был монастырь, глава которого заставил свою подругу жизни, прозаическую Алису, научиться играть на флейте и монохорде, чтобы развлекать и утешать его; это был монастырь, где все стремились не к умерщвлению плоти (тут немало было детей), a к самосовершенствованию; это был монастырь, в стенах которого было признано и даже осуществлено равное право женщин на образование. Да, равное право. Послушайте, что Мор пишет по этому поводу в одном из своих писем. Ученость, говорит он, хороша лишь в соединении с добродетелью. В таком виде она представляется ему дороже всех сокровищ мира; но без добродетели она не имеет никакой прелести, даже более – она противна. Это в особенности надо сказать об ученых женщинах, которые вообще встречаются так редко. «Если женщина, – продолжает он, – совмещает некоторые знания с добродетелью, то я считаю ее ученость благом высшим, чем богатство Креза и красота Елены. Различие пола не значит в данном случае ничего: когда собирают жатву, не спрашивают, какая рука обсеменила поле. Разум отличает человека от животного. У кого есть разум, тот должен развивать его, то есть должен сеять семя мудрости на своем поле и выращивать добрые плоды. Если же у женщины, как говорят многие, эта почва неплодородна и производит одни только плевелы, то, по моему мнению, это служит только лишним поводом, чтобы исправить ошибку природы посредством усидчивого труда и настойчивых научных занятий».
Так Мор думал о женском образовании в XVI веке; различие организации не смущает его, оно служит для него лишь новым доводом в пользу женщин. А сколько еще в настоящее время ломается копий именно по этому поводу!
Итак, если дом Мора был монастырем, то одним из тех монастырей, где зарождалась не инквизиция с ее душеспасительным «предать смерти без пролития капли крови», а пуританизм с его свободолюбием и независимостью.
Глава IV. Литературные произведения Томаса Мора. «Утопия»
Литературные произведения. – Появление и успех «Утопии». – Сатира ли это? – Содержание «Утопии»
Вековая литературная слава Томаса Мора держится исключительно на его «Утопии». Из других его произведений мы лишь укажем на «Историю Ричарда III», биографию Пико делла Мирандола, полемику с Бриксиусом в защиту Эразма и затем на некоторые сочинения религиозного характера, но о них речь ниже. В настоящей главе мы будем говорить лишь об «Утопии», или, вернее, просто изложим содержание ее, так как мы не можем по разным обстоятельствам подвергнуть ее здесь критическому разбору.
«Утопия» появилась в 1516 году на латинском языке в Лувене; ее восприемником был Эразм Роттердамский, написавший предисловие, переполненное похвалами автору и сочинению. Успех «Утопии» на первых же порах был громадный; одних латинских изданий она выдержала в XVI и XVII веках десять и затем, само собой разумеется, была переведена на все главнейшие европейские языки. Мор занял первенствующее положение среди гуманистов, что, конечно, не могло не радовать его; но он был далек от всякого тщеславия, и если этот необычайный успех и имел на него лично влияние, то разве только то, что подвинул на решение служить королю Генриху VIII.
«Утопия» распадается на две части: критическую и положительную; но нельзя сказать, чтобы каждая из них была строго выдержана в своем роде: в критической вы встречаете положительные указания, например на общность имущества, а в положительной – критику современного строя, например заключительные слова. Написаны части «Утопии» были в обратном порядке: сначала вторая, урывками, между делом, а потом первая – сразу. Изложение положительной части во всяком учении дается, конечно, гораздо труднее, требует больших умственных ресурсов, большего напряжения умственных способностей, больше времени. Отрывочность работы имела свои неблагоприятные последствия для «Утопии»: некоторые вопросы разработаны недостаточно ясно и изложены сбивчиво, как, например, вопрос о власти и в частности о государе.
Затем необходимо еще сказать хотя бы несколько слов о том, что такое «Утопия» по существу, в своем целом, – картина ли идеального общественного устройства, как его понимал Мор, или сатира на общественную и государственную жизнь того времени. Многие писатели склоняются к последнему мнению: их шокирует идеальное общежитие, обрисованное Мором. Но на этом не стоит останавливаться: мало ли что может людей шокировать. Вопрос: кого шокирует? Человека, привыкшего потакать своим «вкусам», каковы бы ни были эти вкусы, шокируют всякие ограничения, налагаемые во имя идеальных требований. Человек, проникнутый буржуазными принципами, как бы тонко и возвышенно он ни понимал их, не может, конечно, сочувствовать моровскому общежитию, и если он при этом по своей буржуазной деликатности не решается назвать «Утопию» в ее существенной части белибердой и фантасмагорией (я не говорю о частностях), то он начинает толковать о сатире. Удивительная сатира, в которой нет ничего сатирического, кроме некоторых второстепенных эпизодов! Сатира исходит из существующего порядка вещей: она берет факт или принцип, подлежащий осмеянию, и, делая над ним всякого рода постройки, поражая неожиданными выводами, доводя до абсурда или углубляясь внутрь и анализируя, ниспровергает его с пьедестала. Так ли поступает Мор? Нет, он делает нечто совершенно противоположное: он действительно выдвигает единый всеобъемлющий принцип, но принцип, попираемый и осуждаемый всеми в ту пору, когда он писал. Пусть же нам разъяснят, зачем Мору понадобилось отстаивать принцип, который не имел в жизни никакого приложения? Ведь это бессмысленнее, чем бороться с ветряными мельницами! Если же Мор рисует утопийскую жизнь, чтобы оттенить окружавшие его общественные безобразия, и таким образом хочет навести мысль читателя на критическое отношение к последним, то он сам должен стоять на прочной почве, опираться на принципы, искренно признаваемые, одним словом, верить в то, о чем он говорит; иначе вся его постройка разлетится при малейшем движении критической мысли, как карточный домик от дуновения ветерка. И Мор действительно верит…
Мы показали логическую несообразность утверждения, что Мор писал сатиру. Знакомясь с жизнью Мора, мы убеждаемся, что вместе с тем здесь налицо и полная внутренняя несообразность. «Утопия» вполне гармонирует с действительными убеждениями Томаса Мора, по крайней мере в ту пору, когда он писал ее; это не значит, что все описанное в «Утопии» Мор осуществил в своей жизни, но что он осуществил бы все это (я не говорю, конечно, о частностях), если бы условия были сколько-нибудь подходящими. Общественный идеал, как бы вы горячо ни верили в него, невозможно осуществить, раз общество не разделяет вашей веры. Другое дело весь личный обиход жизни человека, зависящий в значительной степени от него самого; и если вы сравните частную жизнь Мора с жизнью его утопийцев, то убедитесь, что Мор нисколько не фантазировал: автор описывал не только то, во что он верил, но что он, в сущности, делал сам. Укажу несколько примеров. Сравните семейную жизнь Мора с жизнью утопийцев: еда и питье, любовь к музыке, осуждение всякого рода игр, времяпровождение в чтении и беседах, даже такая частность, как любовь к Лукиану, и так далее. На что же, выходит, Мор устремлял стрелы своей сатиры? На свою собственную жизнь, в которую он вносил столько продуманности и столько убежденности? Нет, «Утопия» не была для Мора сатирой; она – искреннее выражение его положительных убеждений. Так мы и должны принимать ее, а разделяете ли вы эти убеждения или нет – это уж другой вопрос. Но буржуазные критики, подобно католической церкви, желают причислить утописта Мора к «своим», а потому и превращают его «Утопию» отчасти в сатиру, а отчасти – в пустую забаву, игру ума…
«Утопия» открывается рассказом о том, как Томас Мор в качестве посланника отправляется во Фландрию и здесь в Антверпене встречается с неким Петром Эгидием, который знакомит его с Рафаэлем Гитлодеем, человеком необычайной учености и много видевшим на своем веку. Он путешествовал вместе с Америго Веспуччи, но, покинув его, в сопровождении нескольких сотоварищей углубился внутрь материка и после довольно продолжительных странствований достиг наконец Утопии.
Прежде чем описывать общественный быт и государственный строй утопийцев, Рафаэль, отвечая на вопросы своих собеседников, подвергает критике разные стороны общественной жизни европейских государств того времени. Эта критика и составляет первую часть «Утопии». В ней целиком отразилось миросозерцание самого Мора; в дальнейшем нам не раз придется обращаться к этой части «Утопии», выясняя те или другие убеждения его. Поэтому здесь я ограничусь лишь кратким указанием на то, что осталось не использованным в последующих главах.
Нужно заметить, что воровство и грабежи во времена Мора представляли страшную общественную язву. С ворами обращались жестоко; их вешали целыми десятками. Рафаэль находит, что такая жестокость несправедлива и бесполезна. Никакое наказание, как бы оно ни было сурово, не в состоянии удержать от воровства людей, для которых не остается никакого другого средства добыть себе кусок хлеба. Вместо казней следует создать людям надлежащие условия, следует позаботиться, чтобы они не испытывали фатальной необходимости воровать, рискуя даже своей головой. Затем Рафаэль переходит к анализу причин, порождающих такую массу воров, бродяг, нищих и тому подобного люда, и указывает: во-первых, на громадную дворню, состоящую из людей праздных и ленивых, содержащуюся не менее праздным и ленивым поместным дворянством; во-вторых, на постоянные армии и развитие солдатчины; в-третьих, на превращение пахотных полей в пастбища для овец и массовые изгнания и разорения крестьян; в-четвертых, на непомерную роскошь, развивающуюся рука об руку с обеднением народа, на массу всякого рода непристойных домов, кабаков, пивных, на всевозможные азартные игры и т. п. И кто раз попадает в этот водоворот, тот силою самих обстоятельств выталкивается в конце концов на большую дорогу и становится вором и грабителем. Уничтожьте эти язвы, заставьте лордов, согнавших людей с таких громадных пространств земли, или снова выстроить деревни, или передать свои земли тем, кто может сделать это, прекратите непомерное накопление богатств в руках немногих, столь же позорное, как и монополия всякого другого рода, подымите земледелие на должную высоту, урегулируйте производство шерсти… Сделайте все это, изыщите, одним словом, положительные средства против указанных зол и не думайте, что всему можно пособить строгостью наказаний, при настоящем порядке вещей и несправедливых, и недействительных. При этом Гитлодей восстает против смертной казни, налагаемой за воровство и грабеж; человек теряет свою жизнь из-за нескольких украденных монет, а между тем нет в мире блага более ценного, чем жизнь; говорят, что наказание налагается за нарушение законов, но при данных обстоятельствах высшая справедливость обращается в вопиющую неправду. В заключение Мор и в этой критической половине своей книги, имеющей дело с реальной жизнью того времени, высказывает общие положительные принципы, на которых, по его мнению, должна быть построена общественная жизнь. Я должен откровенно сказать, говорит Гитлодей, что пока существует собственность, пока деньги составляют все, до тех пор никакое правительство не может обеспечить своему народу ни справедливости, ни счастья; справедливости, потому что все самое лучшее всегда будет доставаться самым последним людям; счастья, потому что все блага будут распределены между немногими и вся масса народа будет пребывать в крайней нищете… Единственный путь сделать народ счастливым – всеобщее уравнение… Несколько ниже он снова говорит: я убежден, что пока собственность не будет упразднена, до тех пор не может быть ни равномерного, ни справедливого распределения богатства и не может быть такого правительства, которое сделало бы людей счастливыми, так как, пока существует собственность, самая большая и притом самая достойная часть человеческого рода будет вечно стонать под бременем забот и лишений…
Вторая часть – описание утопийских распорядков – страдает отсутствием систематичности, и потому при изложении ее я несколько нарушаю порядок.
Общая картина. На острове Утопия 54 города; они выстроены просторно и хорошо, все – по одному и тому же плану. Повсюду вы встречаете одни и те же законы, обычаи, нравы. Главный город Амаурот находится почти в центре острова и представляет, таким образом, самый подходящий пункт для собрания народных представителей. Юрисдикция каждого города простирается на определенный округ; жители считают себя скорее временными арендаторами, чем вечными собственниками, и потому им совершенно чужды всякие стремления к расширению границ родного города. Кроме городов по всему острову рассеяны фермы, имеющие все необходимое для земледелия; городские жители по очереди выселяются на эти фермы и занимаются земледельческими работами.
Утопийцы живут семьями; каждая семья состоит не менее чем из 40 человек мужчин и женщин, не считая двух рабов. Во главе семьи стоят старейший мужчина и старейшая женщина, а во главе каждых 30 семей – особый правитель. Ежегодно 20 человек из каждой семьи переходят из города на фермы и столько же возвращаются обратно в город; благодаря этому тяжелый земледельческий труд распределяется равномерно между всеми и протекает вполне правильно. Земледельцы обрабатывают почву, выкармливают скот, заготавливают строевой материал и доставляют свою продукцию в город, а взамен получают из города все, что им нужно, причем обмен совершается по простым заявлениям правителей. Во время же жатвы из города присылается столько рабочих рук, сколько нужно, и все поля убираются обыкновенно в один день.
Города на Утопии вполне походят один на другой, и потому Гитлодей ограничивается описанием одной столицы – Амаурота. Она представляет собой четырехугольник, расположенный на берегу реки и окруженный высокой толстой стеной и рвом. Улицы просторны – в 20 футов шириной. Дома застраиваются сплошной стеной и выходят фасадами на улицу, а сзади к ним примыкают дворы и сады. Двери в домах никогда не запираются на замок, и всякий свободно может входить и выходить. В садах растут виноград, фруктовые деревья, цветы и т. п.; они содержатся в образцовом порядке благодаря соревнованию.
Через каждые десять лет кидается жребий, кому жить в каком доме. Население города не может превышать шести тысяч семей, не считая проживающих на фермах; избыток людей переселяется в другие, менее многолюдные города, в случае же общего переполнения выселяется на континент и образует колонию.
Правители. Каждые 30 семей ежегодно выбирают своего правителя, который назывался прежде сифогрантом, а теперь называется филархом; над 10 сифогрантами стоит по-старинному – транибор, а по-новейшему – протофиларх. Всех сифогрантов – 200; они выбирают государя из числа четырех кандидатов, указываемых непосредственно народом, причем дают предварительно клятву, что выберут достойнейшего; подача голосов – закрытая. Государь избирается пожизненно, хотя он может быть смещен, если возникает подозрение, что он злоумышляет против народа. Траниборы избираются ежегодно, но в большинстве случаев они просто переизбираются на новые сроки. Все прочие общественные должности занимаются также на годичный срок. Траниборы собираются для обсуждения дел через каждые два дня, а в случае надобности – и чаще. В их совещаниях принимают участие два сифогранта, постоянно меняющиеся. По основному правилу, всякое решение, касающееся общественного дела, может быть принято лишь после трехдневного предварительного обсуждения. Под страхом смертной казни запрещено утопийцам совещаться и обсуждать государственные дела вне заседаний совета или всенародного собрания. Такая строгая мера принята, дабы государь и траниборы не могли злоумышлять против народной свободы. В случаях же особой важности вопрос передается через сифогрантов на рассмотрение отдельных семейств и решается всем народом сообща. При обсуждении вопросов соблюдается еще правило, чтобы подлежащий решению вопрос никогда не дебатировался в тот же день, когда он был внесен на рассмотрение совета. Главный совет заседает в Амауроте; он состоит из депутатов, опытных и сведущих старцев по три от каждого города. Утопийские правители не отличаются ни наглостью, ни жестокостью; их можно назвать скорее отцами, и все граждане относятся к ним с большим почтением. Они не носят никаких внешних знаков отличия и облекаются в такие же одежды, как и все прочие жители. Вместо короны и тому подобных знаков царского достоинства король располагает лишь пучком колосьев, который носят перед ним, а верховный жрец – восковой свечой, которую также носят перед ним. Законы утопийцев крайне просты и немногочисленны; их знает каждый гражданин, и потому там вовсе нет адвокатов. Утопийцы поддерживают дружественные отношения с окружающими народами, но не заключают никаких союзов, считая их бесполезными; никакие союзы, говорят они, не помогут, если людей не может объединить то, что все они люди.
Экономическая организация. Земледелие, о котором выше было сказано, составляет основное занятие жителей; к нему приучают всех с детства. Но кроме земледелия всякий занимается еще каким-нибудь другим делом; причем утопийцы относятся одинаково любовно ко всякого рода занятиям. Сын обыкновенно идет по стопам отца. Если же у ребенка обнаруживаются особенные наклонности к чему-либо, то его помещают в семью, занимающуюся тем делом, к которому лежит его сердце, и эта семья усыновляет его. Так же поступают, когда человек, изучив одно ремесло, желает изучить еще и другое. Главная обязанность сифогрантов – следить за тем, чтобы всякий был занят своим делом и не проводил время в праздности. Но утопийцам вовсе не приходится работать с утра до ночи, подобно вьючной скотине, не зная отдыха. Нет, они работают всего лишь шесть часов в сутки: три часа до обеда и три часа после обеда; спят они восемь часов, а всем остальным временем распоряжаются по своему личному усмотрению и посвящают его разным занятиям, смотря по наклонностям, главным же образом чтению; кроме того, они посещают публичные лекции и так далее. После ужина один час уделяется обыкновенно забавам и увеселениям, летом – в садах, а зимой – в обеденных залах, где утопийцы слушают музыку и ведут беседы. На Утопии работают все, и потому шестичасового труда там вполне достаточно, чтобы произвести необходимые предметы потребления; предметов же роскоши и всяких пустяков, на которые у нас затрачивают столько труда, они вовсе не производят.
Там едва ли можно было бы насчитать на всем острове более 500 человек, способных к физическому труду и не занятых им. От обязательной работы освобождаются сифогранты, а также лица, всецело посвящающие себя научным занятиям. Если же человек, посвятивший себя науке, не оправдывает возлагаемых на него надежд, то он должен возвратиться назад, в рядовую рабочую массу. И наоборот, простой труженик, отдававший свободные часы научным занятиям и обнаруживший недюжинные способности, переводится в разряд ученых. Таким образом, в распоряжении утопийцев находится много рабочих рук, пропадающих совершенно даром для труда при ином общественном строе. Но кроме того, они выигрывают много времени благодаря организации и простоте своей трудовой жизни. Они не могут перестраивать по простому капризу и прихоти домов, в которых живут, носят крайне простую одежду: одного покроя – все мужчины, другого – все женщины, как находящиеся в браке, так и свободные. Во время работы они надевают грубое платье из кожи, долго служащее им, а в праздники и вообще в нерабочее время – верхнее платье из шерсти или льна. Итак, благодаря тому, что утопийцы все трудятся и довольствуются очень немногим, они располагают в изобилии всем необходимым, и нередко случается, что, за отсутствием надобности в рабочих руках для производства тех или других предметов потребления, они отправляются большими компаниями чинить дороги. Впрочем, утопийцы полагают, что счастье человека заключается в удовлетворении и утончении его умственных и нравственных потребностей и потому физическому труду уделяют лишь столько времени, сколько действительно нужно для изготовления предметов необходимости. Что же касается тяжелых и неприятных работ, то, во-первых, их исполняют всегда мужчины, предоставляя женщинам более легкие занятия, во-вторых, на такие работы находятся обыкновенно добровольцы, побуждаемые к тому религиозной ревностью.
На утопии нет торговли; все товары складываются в особых магазинах на городских рынках; сюда приходит глава семьи и берет все нужное; при этом он не платит денег и не дает ничего в обмен на взятое. Всякий берет сколько нужно, и так как утопийские магазины полны товаров, то никому не приходится отказывать. Трапеза на Утопии общая, и потому заборы из съестных магазинов делают особые экономы. Все лучшее из провизии идет больным и слабым, а остающееся делится пропорционально числу обедающих, причем предпочтение отдается государю, главному жрецу, траниборам, посланникам и, наконец, иностранцам, убивают скот на мясо и режут птицу рабы, и вся эта процедура совершается за городом близ речки, дабы у граждан не притуплялось чувство жалости и кровь и всякие отбросы не разлагались и не заражали воздух. Вообще грязная и тяжелая работа около кухни возлагается на рабов; но стряпают женщины, причем соблюдается очередь. Конечно, всякий желающий обедать в одиночку может отправиться на рынок, взять провизии и изготовить себе обед; но нужно быть безумцем, замечает Рафаэль, чтобы тратить на все это время и труд и в конце концов получить обед гораздо хуже общего. Женщины и мужчины обедают сообща, в одной и той же зале, при которой имеется особая родильная комната, куда удаляются женщины, почувствовавшие внезапно приближение родов. Дети моложе пяти лет остаются при своих нянюшках, а старшие (до брачного возраста) или прислуживают за столом, или стоят позади обедающих и едят только то, что дают им. На самом почетном месте за столом сидят сифогрант и его жена, а рядом с ними – два старца, убеленных сединами; все четверо едят из одной чашки; затем за столом сидят вперемежку старики и молодые. Обед и ужин начинаются всегда назидательным чтением, за которым следует общая беседа. За ужином играет обыкновенно музыка, подают десерт, воздух насыщается всякими благоуханиями; вообще утопийцы не отказывают себе ни в чем, что может веселить их душу.
Между городами предметы потребления распределяются генеральным советом, заседающим в Амауроте; это делается без учета соображений о равноценном обмене, а просто туда, где есть нужда, направляют часть продуктов оттуда, где они в избытке. Затем часть продуктов оставляется в виде запаса из расчета на два года, а все остальное вывозится за пределы Утопии и обменивается на те немногие предметы, в которых утопийцы нуждаются, например на железо или же на золото и серебро; благодаря последнему обстоятельству на острове накопилась громадная масса драгоценных металлов, и утопийцы отчасти раздают их в качестве ссуд своим соседям, а отчасти сохраняют на случай войны. Но к самому металлу они очень равнодушны, не употребляют его даже на украшения, а делают из него разные побрякушки для детей, ночные вазы и стольчаки, куют цепи для рабов и так далее.
Рабы. Рабов как сословия у утопийцев нет: рабами становятся военнопленные, взятые в битве; сограждане, осужденные за особые преступления; затем, чужеземцы, приговоренные к смертной казни и выкупленные утопийскими торговцами; наконец, вообще бедняки из сопредельных стран, которые сами пожелали лучше быть рабами в Утопии, чем терпеть нищету в родной стране. С рабами последнего рода утопийцы обращаются как с равноправными гражданами. Рабы осуждены на вечный труд, ходят в цепях; с утопийцами, опустившимися до рабского состояния, обращаются много хуже, чем с прочими. В случае восстания к рабам относятся, как к диким зверям: их беспощадно убивают. Но хорошим поведением можно заслужить себе вновь свободу.
Науками специально на Утопии занимаются лишь лица, выбранные народом из кандидатов, указываемых жрецами, и притом выбранные посредством закрытой баллотировки. Ученые пользуются большим почетом: из их среды утопийцы избирают своих послов, жрецов, траниборов, даже самого государя. Господствующим языком как в науке, так и в литературе является местный национальный язык.
По части музыки, логики, арифметики и геометрии утопийцы не уступают грекам; но они не набивают юные головы бессмысленной схоластикой, не занимаются логическими отвлеченностями и вообще умеют отличать химеры и фантастические вымыслы от действительности. Они знакомы с астрономией; в совершенстве понимают движения небесных светил, изобрели разные инструменты, посредством которых могут наблюдать Солнце, Луну и звезды; могут предсказывать погоду: дождь, ветер и другие атмосферные изменения. Относительно же отвлеченных вопросов о сущностях и тому подобном они придерживаются разных мнений, отчасти напоминающих теории наших древних философов, а отчасти вполне своеобразных.
В области нравственной философии у них обнаруживается такое же разногласие, как и у нас, и ведутся такие же горячие диспуты. Они исследуют вопрос о том, что такое добро, как в материальном, так и в духовном смысле. Затем, их занимает также вопрос о природе наслаждения и добродетели. Но главный предмет спора составляет вопрос о человеческом счастье, в чем состоит оно; и они, по-видимому, склоняются к мысли, что счастье заключается главным образом в наслаждении. Любопытнее же всего, что в подтверждение своего мнения они не только приводят доводы, вытекающие из здравого смысла, но черпают аргументы также и из области религиозной. Добродетель, по их мнению, состоит в том, чтобы следовать внушениям природы, для чего надлежит только повиноваться предписаниям разума. Разум же предписывает нам любить высшее существо, создавшее нас, быть выше страстей, поддерживать в себе жизнерадостность и всеми силами содействовать счастью других. Если же, говорят утопийцы, добродетельным человеком считается тот, кто заботится о счастье других, то тем обязательнее для него заботиться о своем собственном счастье. Ибо нужно признать одно из двух: или счастье-наслаждение есть нечто низменное, и тогда, конечно, добродетельный человек не станет заботиться о счастье других, или оно есть действительно добро, в таком случае почему же не заботиться о добре по отношению к самому себе? Природа не может подвигать нас на добродетельные поступки относительно других и в то же время внушать нам относиться к самим себе жестоко и безжалостно. Таким образом, раз быть добродетельным – значит жить согласно указаниям природы, то всякий человек должен стремиться к наслаждениям как к конечной цели всей своей жизни. Затем, утопийцы допускают также обычные ограничения интересов одного лица интересами других лиц и полагают, что действительно добродетельный человек в счастье, доставляемом другим людям, видит достаточное вознаграждение за разные уступки, которые ему приходится делать в интересах этих последних. Наконец, они указывают на загробную жизнь, где маленькие лишения, принятые в сей жизни ради блага других, будут вознаграждены бесконечными радостями.
Брак и семья. Семья у утопийцев состоит из 40 человек, в том числе от 10 до 16 взрослых; все члены беспрекословно подчиняются главе, старейшему; в случае его смерти или крайней дряхлости это место занимает следующий по возрасту член семьи. Жены служат своим мужьям, а дети – родителям, и вообще младший служит старшему. Детей кормят матери; в случае же болезненного состояния матери ребенок отдается кормилице. Всякая женщина, могущая быть кормилицей, охотно соглашается взять чужого ребенка, так как она становится вместе с тем и матерью ему. Девушки выходят замуж не раньше 18 лет, а юноши женятся не раньше 22; всякие добрачные половые отношения строго запрещены, и молодые люди, провинившиеся в этом, строго наказываются и даже лишаются права вступать в брак; ответственность за подобного рода проступки падает также и на тех, кто стоит во главе семьи, так как их дело и обязанность – блюсти нравственность своих подопечных.
Брачный вопрос имеет для утопийцев первостепенную важность, так как они не допускают ни полигамии, ни разводов, исключая только случаи адюльтера и исключительного несходства характеров.
Развод дается сенатом, причем невинная сторона имеет право вновь вступить в брак, а виновная считается обесчещенной и лишается навсегда права на семейную жизнь. Никто не имеет права, под страхом жестокого наказания, отказаться от своей жены; но по взаимному соглашению супруги могут разойтись, и каждая сторона имеет право искать счастья в супружестве с новым лицом. Но и это допускается лишь с разрешения сената, который бывает обыкновенно не скор на подобного рода дела и, прежде чем дать разрешение, производит обстоятельное расследование. Супружеская неверность, как было уже замечено, наказывается крайне строго. Если оба виновных лица связаны брачными узами, то их браки расторгаются; невиновным сторонам предоставляют вступить в брак между собой или с кем угодно, а повинные в адюльтере осуждаются на рабство. В случае же, если кто-либо из первых продолжает любить своего опозоренного друга или подругу и желает сохранить семью, то он или она должны также разделить и рабский труд, выпавший на долю последнего. После известного испытания король может простить осужденного на рабство; но в случае вторичного прегрешения он подвергается смертной казни.
Мужья имеют власть над женами и родители – над детьми; они наказывают их во всех тех случаях, когда преступление не настолько велико, чтобы требовалось для устрашения других общественное наказание. Самые тяжкие преступления караются чаще всего рабством, так как утопийцы считают, что рабство – более производительное употребление преступников в интересах общественной пользы, чем смерть, и что оно производит не менее устрашающее впечатление, чем эта последняя.
Войны. Утопийцы не любят войн; в противоположность всем другим народам они считают, что слава, добытая оружием, – самая позорная слава. Несмотря на это, они не боятся войны и не уклоняются от нее, когда считают ее необходимой и справедливой. Посредством ежедневных военных упражнений они дисциплинируют юношей и совершенствуются в военном искусстве; даже женщин приучают у них к военному делу, дабы, в случае надобности, и они могли быть полезны. Утопийцы считают себя вправе отражать врага, нападающего на них, вооруженной рукой, а также защищать своих друзей от подобных нападений; затем, они считают делом справедливым оказание помощи всякому народу в его борьбе с тираном.
Они считают также справедливым поводом к наступательной войне насилия и несправедливость, причиняемые их торговым людям или торговым людям их друзей. Но при этом они восстанавливают только свои права или права своих друзей и не преследуют никаких завоевательных грабительских целей. Впрочем, если обиды, причиненные их торговым людям, не сопровождались насилием, то они ограничиваются всего лишь прекращением всех дальнейших торговых сношений; но когда в подобном деле замешиваются интересы дружественных им народов, то они действуют решительнее, так как всякие денежные потери для утопийцев, благодаря их общественному устройству, имеют гораздо меньшее значение, чем для других народов.
Кровопролитную войну они считают позором и несчастьем; та победа, по их мнению, хороша и славна, которая досталась без кровопролития, и за такие победы они воздают своим победителям почести и ставят монументы. Цель, преследуемая утопийцами во всякой войне, состоит в том, чтобы добыть силой то, что, сделанное вовремя, устранило бы самый повод к войне; или, если этого сделать уже невозможно, устрашить причинивших им обиду, дабы им неповадно было делать то же впредь. Таким образом, в их войнах нет места честолюбию; они ведутся исключительно ради общественной безопасности. Если война стала неизбежной и объявлена, утопийцы первым делом распространяют секретным образом по всем главным пунктам вражеской земли особые прокламации, в которых обещают большое вознаграждение тому, кто убьет короля и вообще важных сановников, действительных виновников войны; вдвое большее вознаграждение обещают тому, кто представит живыми в их руки лиц, поименованных в прокламации; затем, они обещают не только всепрощение, но и вознаграждение тому из провинившихся перед ними, кто перейдет на их сторону и станет действовать против своих соотечественников. Таким образом, они заботятся прежде всего о том, чтобы посеять в рядах врагов раздоры и взаимные подозрения. Подобное поведение с точки зрения других народов считается позорным и презренным; но утопийцы полагают, что они вправе поступать таким образом…
Если такая политика не приводит к желанным результатам, то утопийцы стараются устроить заговор и вызвать внутренние раздоры в среде своего неприятеля, например подговаривают брата короля низвергнуть последнего с престола и так далее. Если и это не удается, тогда они стараются настроить враждебно соседние народы, напоминают разные обиды и несправедливости, вынесенные ими, и так далее, оказывают громадную поддержку деньгами и крайне незначительную – людьми, так как утопийцы не променяют добровольно последнего из своих граждан даже на короля враждебной страны. Солдат они вербуют себе среди чужеземцев, что очень легко благодаря их несметным богатствам (следует весьма яркая характеристика наемников-«заполетов», то есть, по всей вероятности, швейцарцев); им помогают также дружественные народы, так что собственно утопийцы составляют незначительную часть в действующей армии. Но во главе войска они ставят обыкновенно кого-либо из своих выдающихся людей.
Утопийцы не препятствуют женам, желающим разделить участь своих мужей, становиться в ряды солдат; напротив, они хвалят и поощряют такое поведение и нередко ставят жен вместе с мужьями в первых рядах армии. Собственно утопийский отряд выдвигается только в крайних случаях, но если ему приходится действовать, он сражается весьма храбро и держится стойко.
В случае победы утопийцы стараются убивать как можно меньше неприятелей и предпочитают брать их в плен; они не бросаются безрассудно в погоню и, таким образом, не подвергают себя риску превратиться вследствие каких-нибудь непредвиденных обстоятельств из победителей в побежденных. В случае благоприятного исхода войны утопийцы возмещают свои расходы из средств побежденного народа; они или берут чистыми деньгами, или завладевают землями, доходами с которых и восполняют свою общественную казну. Если неприятель намеревается высадиться на их острове, то они стараются предупредить его и перенести войну на территорию последнего; если же сделать этого им не удается, то они защищаются собственными силами и в таком случае уже не прибегают к помощи чужеземных войск.
Глава V. Томас Мор как общественный и государственный деятель
Политические убеждения Мора. – Отношение к придворной жизни и службе в королевских советах. – Английские короли Генрих VII и Генрих VIII. – Дебют Мора в парламенте. – Отход от парламентской деятельности. – Популярность в среде лондонского торгового мира. – Заигрывания Генриха VIII. – Упорство Мора. – Знакомство и дружба с королем. – Мор снова в парламенте. – Дружба растет. – Вопрос о королевском разводе. – Падение канцлера Уолси. – Мор – канцлер Англии. – Его отношение к злобе дня и общий характер деятельности. – Падение.
Томас Мор был убежденным монархистом, как и большинство реформаторов и гуманистов того времени. Однако такое голое утверждение, собственно, еще не определяет его политических воззрений. В не меньшей мере он был ненавистником тирании и деспотизма. Каутский находит, что внутреннее содержание монархизма Томаса Мора можно выразить посредством известной формулы: «Все для народа, но не через народ», и это действительно так. Все вообще гуманисты, как мы видели, относились крайне несочувственно к массовым народным движениям; они просто боялись их; они боялись этой стихийной силы, которая, разорвавши путы, может смести прочь все плоды просвещения, столь дорогие их сердцу. Относясь отрицательно к народным движениям и считая их общественным бедствием, они тем не менее ставили себе целью народное благо и полагали, что роль просвещенного монарха может и должна состоять в стремлении к последнему.
Но не все монархи являются таковыми; отсюда беспощадная критика Мора. В «Утопии» он устами Рафаэля говорит, что не только слава короля, но и его безопасность зависят от того, предпочитает ли он благо народа своему личному благу, что народ избирает себе короля не ради удовольствия этого последнего, а для того, чтобы заботами и стараниями его обеспечить себе безопасную и удобную жизнь, и что поэтому король должен заботиться о счастье своего народа больше, чем о своем личном счастье, как пастух заботится больше о стаде, чем о самом себе. Если же король может держать в повиновении своих подданных только насилием и гнетом, делая их несчастными и бедными, то пусть он лучше, в своих собственных интересах, покинет царство, так как, сохраняя авторитет лишь по видимости, он в корне подрывает свое царское достоинство. Не приличествует также королю царствовать над нищими, и Фабриций прав, говоря, «что он желал бы скорее управлять богатыми людьми, чем быть самому богатым, ибо государь, располагающий богатствами и проводящий жизнь в удовольствиях, в то время как его народ стонет и страдает, – это не государь, а тюремщик». Кто не находит иного средства исправлять заблуждения своего народа, кроме как лишая его разных жизненных удобств, тот тем самым обнаруживает свое полное неведение относительно того, что значит управлять свободным народом.
Такой же взгляд на короля и его обязанности Мор высказывает и в своих эпиграммах. Так, в эпиграмме, озаглавленной «О добром и злом государе», он спрашивает: «Что такое добрый государь?» – и отвечает: «Это овчар, отгоняющий волков». А дурной государь? «Это – сам волк». Чем отличается, спрашивает он в другой эпиграмме, законный король от гнусного тирана? – «Тиран относится к своим подданным, как к рабам, а законный король – как к детям».
Не следует забывать, что Томас Мор был англичанин и говорил об английских королях. Он не признает за ними никакого божественного права и не считает их помазанниками Божьими. Так, в одной из эпиграмм он говорит: «Кто бы ни стоял во главе народа, он своим положением обязан тем, кто поставил его. Он не должен оставаться дольше, чем хотят того поставившие его. Чем же гордятся эти бессильные властелины? Они остаются на своем посту лишь до первой смены!»
Наконец, в идеальном общежитии, нарисованном Мором, мы также видим своего короля. Правда, функции его обрисованы очень смутно, и это, по всей видимости, король, который царствует, но не управляет. Но, с другой стороны, все утопийское благополучие есть результат мудрых мероприятий царя Утопа.
Подводя итог всему сказанному, мы должны признать, что Томас Мор был действительно монархистом и вместе с тем непримиримым врагом всякого деспотизма и тирании. Согласно английским взглядам об избирательном происхождении королевской власти он оправдывает сопротивление, оказываемое дурному королю, так как такой король забывает свою главную функцию и становится деспотом. И трудно сказать, к чему Мор питал большее отвращение: к анархии ли, которой угрожали современные ему народные движения, или к деспотизму, проявления которого со стороны разных королей того времени он, конечно, не мог не замечать. Любопытно, что существовавшие уже в то время в Англии представительные учреждения и предстоявшая им громадная роль в жизни западноевропейских народов мало привлекали к себе внимание Мора. Он говорит о разных привилегиях, принадлежащих тому или другому классу, тому или другому лицу, о прерогативах короля и так далее, но мы не встречаем у него рассуждений о политических вольностях народа. Мор сам был членом парламента; но в те времена не существовал еще знаменитый «Habeas corpus» и внутренняя политическая жизнь была развита, собственно, еще очень слабо. Это было время торжества монархического начала над феодализмом, и лучшие умы видели тогда в монархизме самые надежные гарантии общественного преуспеяния. Мор в этом отношении является сыном своего времени.
Но королю идеальному совершенно не соответствовал король реальный. Мор расточал Генриху VIII при его вступлении на престол похвалы, кажущиеся иным даже грубой лестью, и в письмах его мы также можем встретить рассуждения о необычайных добродетелях этого короля. Однако, если Мор думал на самом деле таким образом, почему же он так упорно отказывался идти на службу к Генриху VIII? Казалось бы, что, лелея в себе мечты о всеобщем человеческом благополучии, Мор должен был поспешить, не дожидаясь даже зова, навстречу такому добродетельному королю и предложить всего себя к его услугам. Я думаю, что в данном случае не следует «всякое лыко ставить в строку». Хвалебное приветствие Мора говорит больше о его пожеланиях, о его ожиданиях, чем о том, что он в действительности видел: Генрих еще только вступил на престол, и будущее было еще для всех загадкой. Затем, в более позднее время, когда Мор познакомился с Генрихом лично, последний мог его очаровать своим обхождением, и Мор, под влиянием минуты и по своему глубокому чувству лояльности, мог писать о его необычайных добродетелях. Но я полагаю, мы составим себе более верное мнение о том, как Мор смотрел на действительное положение и на короля, если обратимся к «Утопии», написанной шесть лет спустя после воцарения Генриха VIII. Чуть ниже мы приведем несколько выдержек из нее, из которых станет совершенно ясно, что Мор понимал прекрасно всю разницу между своим идеальным королем и королем в образе Генриха VIII. Очевидно, он очень тщательно обсуждал вопрос о том, возможно ли служить такому королю, взвешивал всякие аргументы за и против и пришел к вполне отрицательному выводу. Но он не устоял, позволил себя увлечь, поступил на службу к добродетельному королю и за свою ошибку поплатился головой.
Петр Эгидий, а затем как бы и сам Томас Мор удивляются, каким образом могло случиться, что Рафаэль Гитлодей при его огромных познаниях и опытности до сих пор не состоит на службе у короля, где он мог бы принести огромную пользу стране. На это Гитлодей отвечает весьма пространными рассуждениями. Никто не может требовать, говорит он, чтобы я закрепостил себя в пользу какого бы то ни было короля. Как – «закрепостил себя», возражают ему, речь идет лишь о том, чтобы помогать королям, быть полезным им в делах управления. Вы изменяете слова, а сущность дела остается та же, отвечает Рафаэль. Общественная польза здесь ни при чем. Большинство королей заботится более о делах войны, чем о делах мира, они стремятся всеми правдами и неправдами к новым завоеваниям и мало думают о хорошем управлении. Королевские министры вообще достаточно мудры, чтобы нуждаться в чьих бы то ни было советах, или по крайней мере считают себя достаточно мудрыми; если они и заискивают перед кем, то лишь перед людьми, пользующимися личным благорасположением короля; перед ними они раболепствуют и низкопоклонничают, желая привлечь их на свою сторону. И если бы теперь при таком дворе, где все завидуют друг другу и удивляются только самим себе, появился вдруг человек, который стал бы предлагать лишь то, что он вынес из изучения истории или из наблюдений во время своих путешествий, то все вооружились бы против него, опасаясь, как бы не был подорван их авторитет или нанесен ущерб их интересам. Они начали бы, конечно, возражать и противодействовать истощив все аргументы, стали бы указывать в конце концов на пример предков и их заветы…
После довольно продолжительной беседы Мор снова говорит Гитлодею: «Однако я все же не могу изменить своего мнения; я по-прежнему думаю, что если бы вы могли пересилить отвращение, питаемое вами к придворной жизни, то могли бы своими советами принести огромную пользу человечеству, а стремление к последней и должно составлять цель жизни всякого добропорядочного человека. Ваш друг Платон думает, что народы будут счастливыми только тогда, когда или философы станут королями, или короли станут философами. И ничего нет удивительного в том, что мы находимся все еще так далеко от счастья, так как философы не считают своей обязанностью помогать королям советами». На это Рафаэль отвечает: «Философы вовсе не так низки, как вы думаете; они охотно делали бы то, на что вы указываете; многие из них даже и пытались делать это своими книгами, но вопрос – прислушиваются ли к их добрым советам люди, власть имущие?.. Допустим, например, что я нахожусь при французском короле и участвую в тайном заседании его кабинета; несколько мудрых мужей под председательством самого короля обсуждают разные средства, которые следует пустить в ход, чтобы возвратить назад Милан и Неаполь, постоянно ускользающие из их рук; обдумывают, каким образом подчинить Венецию, а затем и всю Италию; как бы присоединить к владениям его величества Фландрию, Брабант, всю Бургундию и некоторые другие королевства, облюбованные раньше… (Затем следуют разные советы, которые мы пропускаем. – Авт.) Наконец встану я и скажу: предоставьте Италию самой себе, так как Франция и без того слишком обширное королевство, чтобы ею мог хорошо управлять один человек, и потому не следует думать о новых завоеваниях… Или я пойду еще дальше и предложу последовать примеру ахэреян, соседей утопийцев. Завоевав одно царство, они скоро убедились, что крайне трудно держать завоеванный народ в повиновении; постоянные мятежи, страх иноземных нашествий вынуждали их всегда быть наготове и держать под ружьем армию; налоги были крайне тяжелы, а между тем деньги уходили за пределы государства; кровь лилась, но это не приносило ни малейшей пользы народу даже во время мира; мало того, из-за продолжительной войны их добрые нравы исказились, разбой и смертоубийства стали заурядным явлением и законы потеряли свой престиж; интересы обоих королевств страдали, так как король, разрываясь между двумя, не в состоянии был заботиться настоящим образом ни об одном. Тогда оба народа, убедившись в безвыходности своего положения, обратились к королю с просьбой выбрать себе одно из двух королевств, так как очевидно, что он не может управлять обоими: ахэреяне – слишком великий народ, чтобы довольствоваться половинным королем. Король принужден был покинуть свое новое королевство и ограничиться одним старым… Скажите, как бы, по вашему мнению, была встречена такая речь?» Мор отвечает: не особенно-то одобрительно. Затем Рафаэль переходит к финансам и разным советам, какие подаются по этому важному вопросу государственной жизни. Все речи мудрых советников французского короля сводятся приблизительно к следующим положениям: казна королевская никогда не может быть достаточно полна, так как король должен постоянно содержать войско; король, если бы даже он и хотел, не может сделать ничего несправедливого, все принадлежит ему, даже жизнь его подданных; последние же располагают только тем имуществом, которое королю заблагорассудится предоставить им; богатство и свобода – вредны, так как они делают народ более независимым, и тогда с ним труднее бывает справиться жестокому и несправедливому правительству, а бедность и нищета делают его покорным и долготерпеливым. «Что, если бы после изложения подобных истин, – говорит Рафаэль, – поднялся я и стал бы развивать как раз противоположные мысли? Разве не остались бы все присутствующие глухи к моим словам?» Без всякого сомнения, совершенно глухи, отвечает Мор, но дело в том, что подобные философские рассуждения уместны в дружеской беседе, а не в заседании королевского кабинета. На это Рафаэль замечает: «Это-то именно я и говорил, утверждая, что при королевских дворах нет места философии». Мор, возражая, говорит, что нельзя сразу переделать всего, а нужно принять в соображение господствующие понятия и удовлетворяться возможным. «По вашему мнению, выходит, – отвечает ему Рафаэль, – что, взявшись за лечение безумия других, я должен превратиться в такого же безумца, как они: ибо если я стану говорить истину, то я должен буду сказать то, что я говорю вам; что же касается лжи, то, оставляя открытым вопрос о том, может ли вообще лгать философ, я о себе скажу, что я не могу лгать. Таков был бы мой успех при дворе: пока я буду говорить иное, чем все остальные советники, я не буду иметь никакого значения; если же я соглашусь с ними, то я буду, следовательно, только содействовать их безумию. Мало того, при дворе не любят даже простого молчания: человек должен открытым образом одобрять самые пагубные мысли и сочувствовать самым черным умыслам, а если он молчит, то его сочтут за шпиона или даже за изменника…»
Читая все это в «Утопии», поражаешься, каким образом Мор, понимавший так прекрасно придворную жизнь того времени и вообще деятельность всей государственной машины, мог пойти на службу к Генриху VIII. Он прекрасно знал, что не станет говорить и действовать против своих убеждений, что он не станет льстить и содействовать безумию. Оставалось молчать; но молчать – значило быть в конце концов заподозренным в измене. Пророческие слова Рафаэля сбылись буквально: Томас Мор был обвинен в измене и погиб на плахе!..
Ознакомившись с отношением Мора к королю и к королевской службе, перейдем теперь к его общественной и государственной деятельности.
Генрих VII и Генрих VIII, короли, ко времени царствования которых относится политическая деятельность Томаса Мора, в сущности, оба были грубыми деспотами. Оба требовали безусловного повиновения со стороны своих подданных; оба преследовали суровыми казнями даже простое несогласие и недовольство; оба ничем не стеснялись для достижения своих целей. Генриху VII приходилось больше собирать и созидать, а Генрих VIII мог уже в пышном блеске проявить свою монархическую власть. Поэтому первый действует с большой осторожностью, опутывает всю Англию сетью шпионов, без жалости конфискует имущество провинившихся и заподозренных подданных и, отличаясь скупостью и скопидомством, накапливает таким образом в своей казне огромные богатства. Генрих VIII был также жаден, что он доказал своими конфискациями, но вместе с тем отличался и крайней расточительностью. Он любил роскошь и действительно поражал ею иностранцев. Когда богатства, скопленные отцом, уплыли из его рук, он принялся за конфискации монастырских имений и т. п.
Генрих VIII был вторым сыном и предназначался к духовному званию. Поэтому он получил «ученое» воспитание, чем объясняются некоторые его симпатии к гуманистам. Но образованность, говорит Вебер, «не проникла в его душу; наука служила для него только средством блистать; она была для него то же самое, что турниры, карусели, балы, всяческие придворные праздники, пышность которых он страстно любил; по тщеславию он хотел не уступать никакому другому государю ни в чем, потому-то он был, как и многие из них, покровителем искусств и наук». Гуманисты возлагали на него большие надежды; его восшествие на престол они приветствовали чуть ли не как наступление новой эры, августовского века. Мор повинен также в подобных восхвалениях; но он на себе испытал, что такое был в действительности этот английский Август. Деспотизм всегда останется деспотизмом, будет ли он просвещенным или нет, все равно: сегодня он дарит вам все блага, какие только находятся в его власти, а завтра снимает голову по своему минутному капризу. Мор, казалось, предчувствовал это, но не устоял перед заискиваниями и домогательствами капризного короля. Величайший гуманист стал жертвой презренного деспота.
Генрих обращался со своими советниками так же, как и с женщинами: потеряв к ним вкус, он освобождался от них, пуская в ход всякие средства, до кровавой казни включительно: Анна Болейн, из-за которой погиб Мор, сложила свою голову на плахе так же, как и он…
Для нас важны, собственно, два факта из жизни Генриха VIII: его развод с Екатериной и женитьба на Анне Болейн и последующий разрыв с римской церковью. Эти именно два обстоятельства привели Мора к крушению и гибели. О них мы расскажем в связи с деятельностью Мора, а теперь обратимся к его первому появлению на политической арене.
Мы знаем, что Томас Мор был адвокатом и что дела его шли очень хорошо. Он пользовался прекрасной репутацией. Когда Генрих VII, нуждаясь в деньгах, созвал парламент, Мор был выбран членом палаты общин. Деньги королю потребовались для приданого дочери и ввиду посвящения сына в рыцарское звание. Король проектировал новый налог «в три пятнадцатых», что приблизительно равнялось 38 тысячам фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей). Во время предыдущей сессии парламенту пришлось уже принять новый налог «в две пятнадцатых», потребованный под предлогом ожидаемой войны с Шотландией. Торговые люди были недовольны все возраставшими требованиями скупого короля и на этот раз готовы были ему отказать. Мор произнес речь, в которой привел весьма сильные аргументы против налога, и требование провалилось. Королю поспешили доложить, что какой-то «безбородый юноша» разрушил все его планы. Король, конечно, воспылал гневом к этому «безбородому юноше» и не успокоился до тех пор, пока не нашел средства отомстить ему. Но так как «юноша» ничего еще, собственно, не имел и ему нечего было, следовательно, терять, то королевский гнев обратился на его отца, бывшего в то время комиссаром по сбору податей в одном из графств. Его обвинили в воображаемых поборах и бросили в Тауэр (лондонская тюрьма), пока он не уплатил ста фунтов пени. Затем, как рассказывает Ропер[2], Мор чуть было не попался в расставленную ему ловушку. Приближенные короля советовали ему признаться в своем проступке и таким образом возвратить себе милость короля; на самом же деле они желали получить от самого Мора признание, которое погубило бы его. Но один добрый приятель предостерег его вовремя. Опасаясь за свою жизнь, Мор готов был покинуть Англию. Кресакр Мор, тоже один из первых биографов нашего героя, рассказывает даже, что Томас Мор на самом деле бежал во Францию и прожил там до восшествия на престол Генриха VIII. Так или иначе, но Мор оставил на время арену общественной деятельности. В 1509 году мы снова встречаемся с ним; он занимает уже место подшерифа в Лондоне, имеет большие связи и пользуется громадным авторитетом среди лондонского купечества. Еще до поступления своего на королевскую службу он был дважды, по выбору английских торговцев и с согласия короля, посылаем для переговоров с ганзейскими купцами и так успешно исполнил возложенные на него поручения, что молва о его необычайных познаниях и способностях дошла до короля. Кроме того, Мор в качестве представителя лондонских купцов принимал участие и в парламентских заседаниях. Такими близкими связями с торговым миром и объясняются его обширные познания по части коммерческих дел; им же, быть может, Мор обязан и тем, что в эпоху религиозных брожений он обратил преимущественное внимание на экономические основы общественной жизни и выдвинул их на первый план. Насколько Мор дорожил своим положением в торговом мире, видно, между прочим, из следующего письма к Эразму, написанного по возвращении из Фландрии, куда он ездил по поручению короля. «Место посланника никогда мне особенно не улыбалось, – пишет Мор. – Оно более соответствует вкусам людей духовного звания, у которых нет ни жены, ни детей. Что же касается нас, людей светских, то несколько дней, проведенных вне семьи, вселяют в нас беспокойство и желание повидать наших жен и детей… По моем возвращении король очень хотел вознаградить меня ежегодным пенсионом, что я не считаю вообще для себя оскорбительным и что было бы для меня выгодно; но я до настоящего времени отказываюсь от него и впредь думаю поступать так же. Приняв пенсион, мне придется или отказаться от моего теперешнего положения, которое я предпочитаю всякому другому, даже лучшему, или же, чего я ни под каким видом не желаю, рисковать восстановить против себя моих сограждан. В самом деле, если только между ними и королем возникнут какие-нибудь недоразумения относительно привилегий, они, видя, что я получаю от короля награды, станут считать меня менее искренним и преданным их интересам». Следовательно, Мор в эту пору дорожил службой торговому классу больше, чем службой королю. Но возвратимся несколько назад и посмотрим, как состоялось самое знакомство Мора с королем.
Биографы, недоброжелательно настроенные к Мору, объясняют все дело похвальным словом, написанным им по поводу вступления Генриха VIII на царство. Мор польстил, мол, а Генрих в ту пору не прочь был разыгрывать роль просвещенного мецената. Но не слишком ли уж простым будет такое объяснение? И зачем польстивший человек так долго упорствовал, когда лесть достигла своей цели и король обратил на него внимание, – упорствовал, рискуя вызвать даже гнев короля? Человек, льстящий и вместе с тем принимающий дружбу того лица, которому он льстит, только после больших усилий и стараний последнего, во всяком случае представляет собой слишком оригинальную фигуру, чтобы от нее можно было отделаться таким банальным объяснением. Генрих VIII вступил на престол в 1509 году, а Мор начинает принимать участие в придворной жизни лишь в 1518-м, – промежуток достаточный, чтобы забыть лесть какого-нибудь ничтожного человека. Нет, дело вовсе не в том. Томас Мор слишком выделялся среди своих современников, и его нельзя было не заметить. Он – умнейший человек своего времени, прекрасный делец, весьма большой авторитет среди торговых людей, а королю в ту пору приходилось заискивать именно перед этими людьми; он – человек, написавший книгу, слава о которой разнеслась далеко за пределами Англии. Вот что заставило Генриха обратить внимание на Мора и стараться привлечь его к себе. Что жестокая посредственность, в какое бы платье она ни рядилась, домогается дружбы истинного величия – это в порядке вещей; гораздо более интересен, в сущности, другой вопрос: каким образом это истинное величие уступило домогательствам посредственности и пошло к ней на службу. Конечно, все дело в том, что посредственность была облечена в королевскую мантию. Как ни был Мор предубежден против королей и дворов, но в то время для политической деятельности не была еще расчищена надлежащая почва, и человек, желавший принять активное участие в политической жизни, принужден был волей-неволей примкнуть ко двору. Правда, был еще один исход: действовать, стоя на почве религиозной; но в таком случае приходилось или стать членом римско-католической иерархии, от чего Мор уже отказался, или же присоединиться к новому религиозному движению, которому Мор, по указанной выше причине, вовсе не симпатизировал. Таким образом, для него не было выбора: ему приходилось либо отказаться вовсе от всякой широкой политической деятельности, либо сдаться в конце концов на предложение короля. Необычайный успех «Утопии» также оказал, по-видимому, свое влияние на колеблющегося философа, и он решился.
Мор был представлен королю кардиналом Уолси, занимавшим тогда пост лорда-канцлера. В письме Мора к другу Фишеру, епископу рочестерскому, сохранились любопытные строки, написанные под свежим впечатлением первой аудиенции. «Я прибыл во дворец, – писал Мор, – совершенно против своего желания, что знают все и в чем сам король шутливо упрекнул меня. Я чувствовал там себя так же неловко, как начинающий ездок, сидя в седле. Но наш король так любезен и приветлив к каждому, что всякий может считать себя предметом его особенной благосклонности, какого бы скромного мнения он ни был сам о себе… Что же касается меня, то я не настолько счастлив, чтобы воображать, что заслужил чем-либо его благосклонность к себе или что я ее имею уже действительно. Но во всяком случае его добродетели столь велики, что я начинаю считать все менее и менее скучной жизнь придворного».
Знакомство повело очень скоро к тесному сближению. Король не мог ступить ни шагу без Мора. Это была задушевная дружба, сказали бы мы, если бы дело шло не о короле вообще и Генрихе VIII в частности; для последнего же Мор представлял приятного собеседника, который своими остроумными речами сглаживал унылое tête-à-tête за обеденным столом с надоевшей уже ему Екатериной, а своими познаниями удовлетворял его пустое любопытство. Редко проходил день, чтобы король не требовал во дворец своего нового любимца. Наука, теология, литература, даже административная деятельность Уолси – все это перебирали они; а в хорошие лунные ночи нередко прогуливались по аллеям парка, и Мор объяснял своему царственному собеседнику движения небесных светил и вообще знакомил его с астрономией. Питал ли Генрих искреннее уважение к выдающемуся уму Мора или нет, но во всяком случае серьезному и честному автору «Утопии» приходилось разыгрывать роль, в которой он не мог чувствовать себя особенно хорошо. Быть остроумным балагуром, хотя бы и за королевским столом, – этого ли хотел Мор? Подвинуть же Генриха на что-либо значительное вряд ли было возможно. И Мор пускается на хитрости: его остроумие теряет свою обычную соль, он прикидывается серьезным и молчаливым, когда следовало бы быть веселым и смеющимся.
План удался. Король стал охладевать к нему и реже беспокоил его своими требованиями. Мор был чрезвычайно рад этому; он мог снова уделять свое свободное время семье и воспитанию детей. Когда же король совсем разошелся с Екатериной и во дворце стала жить Анна Болейн, то для их tête-à-tête'a Мор стал уже совершенно лишним человеком. Дружба как будто потухла; но временами она вспыхивала, и король снова звал к себе любимца…
На первых же порах знакомства с королем Мор получил, за неимением других свободных вакансий, место докладчика прошений, а затем и члена тайного совета. Вскоре, однако, он был поставлен в необходимость пойти открыто вразрез с планами могущественного в то время лорда-канцлера Уолси и желаниями самого короля. Уолси отличался крайней расточительностью. Генрих VIII возвысил его из неизвестности и бедности, и ревностный королевский слуга потакал расточительным склонностям короля. Впрочем, он не забывал и о себе: за время своего премьерства он успел нажить огромное состояние и своею безумною роскошью старался перещеголять даже короля. Благодаря его хозяйствованию финансы Англии были доведены до крайне жалкого состояния. Чтобы сколько-нибудь поправить дело, он убедил Генриха VIII под предлогом неизбежной войны с Францией потребовать от парламента новых кредитов, а чтобы обеспечить благоприятное решение вопроса, предложил сделать спикером Мора, рассчитывая, что тот не дерзнет пойти против желания короля. Как Мор ни отказывался от такой чести, но в конце концов принужден был принять на себя спикерство и как бы взять ответственность за решения палаты. Желая гарантировать себя, он обратился предварительно к королю с просьбой быть милостивым к нему и к палате и простить великодушно естественную с их стороны при обсуждении столь важного вопроса горячность и резкость. Заседания открылись. Уолси был очень недоволен тем, что парламентские дебаты становились тотчас же известными в пивных и вызывали там горячие толки. Он решил самолично присутствовать при обсуждении вопроса о требуемых кредитах и таким образом оказать некоторое давление на туго раскошеливавшихся буржуа. В палате возник вопрос, желательно ли, чтобы лорд-канцлер явился на заседание окруженный королевским величием, в сопровождении всей свиты, или же попроще, в сопровождении только нескольких лордов. Любопытен совет, поданный Мором. «Милостивые государи, – сказал он, – так как господин кардинал недавно, как вы это, конечно, знаете, обвинил нас в том, что у нас слишком длинные языки, то не худо было бы, по моему мнению, чтобы он пришел к нам во всем блеске своего величия, со своими жезлами, посохами, бердышами, крестами, в своей шляпе и со своей государственной печатью, дабы мы могли, в случае новых укоров, брошенных нам, свалить всю вину на тех лиц, которых его милость приведет с собою». С этим остроумным предложением все единогласно согласились. В торжественной речи Уолси доказывал крайнюю необходимость нового налога, и именно в указываемом им размере, так как меньшей суммой король не может удовлетвориться. Палата прослушала в глубоком молчании его речь; никто не обнаружил ни малейшего желания говорить. Тогда Уолси сказал: «Милостивые государи, среди вас есть люди просвещенные и опытные, и я надеюсь, вы дадите мне надлежащий ответ». Но собрание продолжало хранить молчание. Напрасно канцлер обращался со своим вопросом то к одному, то к другому члену палаты, – никто ему не отвечал, так как они условились предварительно, что за всех будет говорить спикер. Тогда Уолси обратился к последнему. Мор упал на колени, просил простить собранию его молчание, так как оно было приведено в смущение присутствием столь важной особы, и доказывал многочисленными доводами, что заставлять их отвечать было бы несогласно с древними правами палаты общин; затем, переходя к вопросу, он сказал, что хотя все члены палаты доверили ему свои голоса, но он один в столь важном деле не может дать его милости желаемого ответа.
Уолси увидел, что он ошибся в своих расчетах на Мора, и стал приискивать первый удобный случай, чтобы отделаться от него. Скоро представилась необходимость отправить посольство в Испанию, и он предложил королю послать туда Мора. Но последний под разными предлогами отказался от этой поездки и просил короля не засылать его в страну, которая для него все равно что могила. На это, по словам Ропера, король отвечал: «Не в наших намерениях, Мор, делать вам неприятное; напротив, мы рады, если можем сделать для вас что-либо хорошее; мы подыщем для этой поездки другого человека, а вашими услугами воспользуемся в каком-либо ином деле». Таким образом, парламентский инцидент не ослабил, по-видимому, расположения Генриха к Мору; напротив, он вскоре после этого назначил его на освободившееся место канцлера Ланкастерского герцогства. Капризный король снова почувствовал необычайное влечение к своему любимцу: он невзначай приезжает в его загородный дом, обедает вместе с ним и даже ходит по саду, обнявши его за плечи. Но Мор не гордился таким неслыханным расположением короля; к тому же он хорошо понимал, что это нежности тирана, и сам говорил своему зятю, что король не задумался бы снять ему голову, если бы такой ценой можно было взять какой-нибудь ничтожный замок во Франции, с которой он тогда воевал. Будучи ланкастерским канцлером, Мор дважды принимал участие в посольствах: один раз вместе с Уолси во Фландрию к Карлу V, а другой – к французскому королю.
Полемика с Лютером, разгоревшаяся около этого времени, еще теснее сблизила короля с философом. Как известно, Генрих до поры до времени был не только покорным сыном папы, но даже выступил на защиту авторитета и прав святого отца. Вопрос о разводе тогда еще не стоял так остро, и король надеялся склонить папу на свою сторону. Как ревностный католик, он строго преследовал лоллардов, запрещал сочинения и брошюры, проникнутые новым религиозным духом, и, наконец, выступил против Лютера. Лютер отвечал ему в обычном своем резком и грубом тоне. Тогда встал на защиту короля Мор и написал, под псевдонимом Вильям Росс, пространный ответ, в котором поносил главу Реформации самым площадным образом. Ниже, в главе о религиозности Мора, мы приведем отрывок из этого памфлета; теперь же заметим лишь, что король был, конечно, очень рад такому памфлету и почувствовал новый прилив нежности к его автору. Вскоре вопрос о разводе поглотил всецело короля, но дело медленно подвигалось вперед. Суть его заключается в следующем. Генрих был женат на Екатерине, оставшейся девственной вдовой после смерти в очень раннем возрасте (16 лет) своего мужа, наследного принца, брата Генриха. Брак этот был заключен по настоянию Генриха VII, которым руководили материальные интересы, и разрешен папой. Генрих VIII тогда был еще, собственно, ребенком; но выросши, он сблизился со своей женой и имел от нее нескольких детей; из них осталась в живых одна только Мария. Раздумья ли о законности своего брака и опасения разных смут, какие могли наступить после его смерти из-за вопроса о престолонаследии, или, что гораздо вероятнее, непреодолимая страсть к молодой и красивой Анне Болейн, тогда только что появившейся при дворе и согласившейся отдаться королю лишь под условием законного брака, побудили Генриха настойчиво добиваться развода. Мы не станем описывать здесь всех подробностей этой комедии. Совершенно естественно, что король искал поддержки повсюду и первым делом в людях, ближе всего соприкасавшихся с ним. Во главе государственных, а также и церковных дел стоял тогда Уолси, лорд-канцлер и папский легат, принявший это звание вопреки старинному закону, воспрещавшему английским сановникам принимать должности от папы, что и было ему поставлено вскоре в вину. Уолси сначала содействовал видам короля и убеждал папу признать брак Генриха с Екатериной недействительным; но вместе с тем он не сочувствовал женитьбе короля на Анне Болейн, связанной узами родства с весьма влиятельными людьми, стремившимися ниспровергнуть его, Уолси. Святому отцу также, в сущности, не было дела до законности или незаконности брака с религиозной точки зрения; он руководствовался соображениями исключительно политическими и сначала благоприятствовал разводу, а затем, когда ему пришлось заискивать не перед Генрихом, а перед Карлом V, теткою которому приходилась Екатерина, отозвал своего легата из Лондона и перенес все дело о разводе в Рим. Такой неблагоприятный исход переговоров приписан был тайным интригам Уолси, и король решил расстаться со своим полновластным министром. На глазах Мора едва не разыгралась та же трагедия, которая ожидала в будущем его самого. Уолси сначала лишен был только своего поста и званий; затем значительной доли богатства; однако и это не удовлетворило короля: он велел схватить его и судить как мятежника; но на пути в лондонский Тауэр бывший канцлер скоропостижно скончался.
Возвращаемся к Мору. Читатель сообразил уже, конечно, что он наследовал Уолси. Падение последнего случилось в разгар самой нежной дружбы между Генрихом и Мором. Естественно, что король остановил на нем свой выбор. Мор был также противником развода и открыто высказывал свое мнение королю, который употреблял всякие усилия, чтобы склонить его на свою сторону. Но Мор не был причастен к различным дворцовым интригам, пользовался громадным авторитетом в парламенте и широкой известностью во всей стране; он, наконец, был всем обязан ему, королю, возвысившему его из ничтожества до высочайших почестей. Так думал Генрих и, быть может, рассчитывал последним актом – актом, как он считал, величайшей милости – покорить неподкупное сердце философа-утописта. Однако он ошибся. Но что заставило Мора принять такой ответственный пост в то время, когда королевскую злобу дня составлял именно вопрос о разводе, которому он не сочувствовал, прекрасно понимая при этом, чего от него потребует король, и даже предчувствуя, как он поступит с ним при первой вспышке гнева, – об этом можно только гадать. Биографы Мора не дают удовлетворительного ответа на этот важный вопрос. Мы знаем, что Мор не был ни честолюбив, ни властолюбив, что никакие алчные интересы не омрачали его чистой души, что, словом, никаких личных польз и выгод он не искал в своей общественной службе. Очень возможно, что разрешение вопроса следует искать в желании Мора послужить на общую пользу именно в такой трудный момент, когда всякий человек, заняв канцлерский пост, мог легко использовать прихоти короля, приходившего уже в раздражение. Отвращение его ко двору значительно поубавилось в силу простой привычки. Затем, успех «Утопии» также, по всей вероятности, поддерживал в нем решимость испытать себя на поприще широкой государственной деятельности. Как бы там ни было, но автор «Утопии» становится лордом-канцлером Англии. Свою политическую программу в это время он сам как-то передает зятю Роперу в следующих трех положениях: 1) всеобщий мир вместо всеобщих войн; 2) единение и благополучие христианской церкви, раздираемой ересями; 3) благополучное окончание вопроса о разводе. Последний пункт выражен не совсем ясно, но мы знаем, как Мор смотрел на развод и что он разумел под добрым концом.
По принятому обычаю вступление Мора в должность канцлера приветствовалось торжественной речью. Мор отвечал на нее. Воздав должное королю, он сказал: «Но когда я гляжу на это кресло и передо мной встают образы великих людей, восседавших на нем, в особенности когда я вспоминаю о последнем человеке, занимавшем его, о его необычайной мудрости и опытности, о том, как судьба высоко подняла его и как затем печально он кончил, умерев обесчещенным и обезглавленным, – то мне начинает казаться, что я имею некоторое основание считать всякие человеческие отличия не особенно прочными и место канцлера гораздо менее желательным, чем то думают чествующие теперь меня. Поэтому-то я и гляжу на него как на пост, преисполненный трудов и опасностей, лишенный истинного и прочного почета, откуда тем больше следует опасаться пасть, что приходится падать со слишком большой высоты… Если бы не доброта короля и не видимые знаки одобрения, которые я встречаю среди вас, это место улыбалось бы мне не больше, чем Домоклу меч, повешенный над его головой… Впрочем, есть два момента, о которых я всегда буду помнить: во-первых, это место будет для меня почетным и славным, если я буду исполнять ревностно, старательно и беспристрастно свои обязанности; а во-вторых, может случиться, что мое положение будет непрочно и деятельность коротка; или иначе: мой труд и мое непосредственное желание должны поддерживать во мне первую мысль, а пример моего предшественника будет служить мне уроком по отношению ко второй…» Король не замедлил, однако, дать почувствовать своему новому канцлеру, чего он ожидает от него, и снова обратился к нему с вопросом о разводе. Мор упал перед Генрихом на колени и умолял не насиловать его совести; он сказал, что совершенно бессилен чем-либо помочь ему в этом случае, и напомнил королю слова, сказанные им же самим при назначении его на высокий пост канцлера, именно, что всякий слуга короля должен сначала служить Богу, а затем королю; далее Мор прибавил, что он именно так поступает и что в противном случае король мог бы счесть его за самого недостойного своего слугу. На этот раз Генрих обошелся милостиво со своим канцлером; он сказал, что вовсе не желает насиловать его совести, что обратится за советами и мнениями к другим людям, но что во всяком случае он не лишает его своей милости и никогда более не будет смущать его совести этим вопросом. Действительно, на некоторое время Мор мог вполне отдаться своим служебным обязанностям. В противоположность Уолси, бившему во всем на эффект и внешность, он занялся негромкими, малозаметными делами; он всецело погрузился в обыденные дела сложной государственной системы управления. Бок о бок с Мором работал и его престарелый отец, бывший президентом королевской скамьи. Ежедневно, перед тем как приступать к рассмотрению дел, канцлер заходил к своему отцу и почтительнейше, с преклонением колена, испрашивал его благословения. Судьба пощадила старика; он умер прежде, чем счастливая звезда изменила его сыну и последний приблизился к своему роковому концу. Из деятельности Томаса Мора в области правосудия сохранилось несколько курьезных эпизодов, показывающих, насколько он был далек от рутинного отношения к своему делу. Вот один из них.
Жена Мора купила как-то хорошенькую собачонку, которая оказалась краденной. Вскоре отыскалась настоящая хозяйка, одна бедная женщина, и предъявила иск леди Мор, требуя возвращения своей собачонки. Канцлер, принявшись за разбор этого дела, тотчас же послал за своей женой. Взяв к себе на руки собачонку, он поместил жену в одном углу залы, а бедную женщину в другом и затем велел им обеим звать к себе собачонку.
Животное, услышав голос своей прежней хозяйки, тотчас же бросилось к ней. «Собака не принадлежит вам, – сказал Мор жене, – вы должны с этим примириться». Но г-жа канцлерша запротестовала против такого решения, и Мор купил у бедной женщины собачонку, заплатив ей в три раза больше, чем она хотела.
Вообще деятельность Мора в качестве канцлера ничем выдающимся не ознаменовалась. Он обнаружил замечательную деловитость, полную неподкупность, большую энергию; привел в порядок крайне запущенные дела своих предшественников. Но все это, конечно, не то, чего можно было ожидать от великого гуманиста, державшего в своих руках государственную печать Англии, и тем более от гуманиста, написавшего «Утопию». Мор не только не добыл себе славы своим канцлерством, но, напротив, дал возможность злой клевете запятнать его честное имя тяжкими обвинениями. Из книги в книгу переходит рассказ о том, что он будто бы пытал и казнил еретиков! Ниже мы возвратимся к этому вопросу; теперь же скажем, что для подобного утверждения нет никаких фактических оснований и его поддерживать может только тот, кто совершенно не понимает характера Мора.
Мы думаем, что канцлерство Мора было тихое и не ознаменовалось никакими крупными внутренними реформами именно в силу тех обстоятельств, при которых ему приходилось действовать. На очереди тогда стоял вопрос о разводе короля и последовавшем затем отпадении Англии от папского престола. Но в разрешение именно этих вопросов Мор и не хотел впутываться, так как видел, что король, как говорится, закусил удила. Он предпочитал или, вернее сказать, был даже вынужден стушеваться на время, предоставляя другим наполнять историю шумом, а сам ушел целиком в мелкие обыденные дела.
Однако он не мог долго придерживаться такой позиции. Король действительно оставил его в покое и обратился к университетам и знаменитым богословам, предлагая им высказаться по поводу законности или незаконности требуемого им развода. Генрих уже тогда решил разрубить гордиев узел, обойтись без папы. Когда ответы были получены и большинство их оказалось в пользу Генриха (он не гнушался действовать подкупом), когда епископы и лорды высказались также за развод и брак короля с Анной Болейн, тогда он приказал прочесть все эти мнения с подобающей торжественностью в палате общин, что в качестве канцлера должен был сделать Мор. Сохраняя полное беспристрастие и удерживаясь от всяких комментариев, он прочел эту декларацию короля; но вместе с тем для него стало совершенно ясно, что совесть не позволяет ему больше оставаться на службе, что, будучи канцлером, он не может более молчать и таить про себя свое мнение, когда тысячи глаз устремлены именно на него и ждут его слова, и он решил добровольно сложить с себя канцлерские обязанности. Он испросил позволения лично явиться к королю и передать ему государственную печать. Король и на этот раз обошелся с ним милостиво, хвалил и благодарил его за честную службу и обещал не забывать его и впредь, сохраняя к нему свое царское расположение.
Стряхнув с себя тяжелую ношу, Мор со спокойной совестью возвратился в Челси и на первых порах ничего не сказал своим домашним. Это произошло накануне какого-то праздника. На следующий день он по обыкновению отправился в церковь, где была также и вся его семья. В дни его канцлерства по окончании службы к г-же Мор подходил обыкновенно кто-либо из его подчиненных и докладывал ей, что господин канцлер выходит из церкви. На этот раз к ней подошел сам Мор и, подавая руку, сказал, что канцлера уже нет, он вышел. Г-жа Алиса приняла это за шутку. Но затем он заявил всем своим семейным, что он действительно покинул службу. Г-жа Алиса, женщина вообще тщеславная, стала жестоко нападать на мужа и порицать его; она укоряла Мора в том, что он нисколько не думает о семье и детях, что он заботится только о своем покое и так далее. «И на что же вы рассчитываете, – кричала расходившаяся женщина, – не думаете ли вы успокоиться около вашего камина и спокойно вырисовывать по пеплу фигуры! Поверьте мне, гораздо лучше управлять, чем быть управляемым!» Видя, что ее раздражение и негодование не уменьшаются, Мор вдруг спросил жену, почему это она так мало заботится о своей внешности? Г-жа Алиса, пораженная таким необычным замечанием, моментально забыла о предмете своего гнева и, обращаясь к детям, стала укорять их за то, что они ничего не сказали ей о беспорядке в ее костюме. Но те ей отвечали, что они не видят никакого беспорядка. Тогда она с недоумением посмотрела на мужа, а тот, обращаясь к детям, шутя сказал: «Как, дети, разве вы не замечаете, что у вашей матери нос несколько искривлен набок…» Грубая шутка, но она достигла своей цели: негодование и ярость пустой женщины, превратившейся так внезапно из канцлерши в простую смертную, как рукой сняло… Таким фарсом завершилось недолговременное канцлерство Томаса Мора. Занавес пал. Он снова подымется, но тогда нашим глазам откроются иные картины: Тауэр, судбище, плаха!..
Глава VI. Томас Мор как католик
Религиозность Мора. – Ее характер. – Поворот к ортодоксальному католичеству. – Полемика с Лютером. – Ответ на «Челобитную бедняков». – Полемика с Тиндаллем. – Казнил ли Мор протестантов?
Мор был в высшей степени религиозным человеком от начала до конца своей жизни. Это не подлежит никакому сомнению, и он резко выделяется в этом отношении среди северных гуманистов, вообще равнодушно относившихся к религиозным вопросам. Религиозность его, в особенности под конец жизни, сильно окрасилась в тона ортодоксального католичества. Католическая церковь воспользовалась этим и превратила его в одного из своих мучеников. Биографы постарались нагромоздить кучу фактов, показывающих якобы, что в душе гуманиста Мора пылала настоящая инквизиторская ревность. Старались тут и католики, и протестанты; одни из ревности, другие из ненависти. В конце концов истинная суть дела настолько затемнилась, что в настоящее время крайне трудно разобраться в массе разноречивых показаний и, главным образом, понять, как могло случиться, что Мор, проповедовавший в «Утопии» чуть ли не религиозную свободу, в действительности оказывался нетерпимым католиком. Впрочем, это противоречие мало кого поражает, так как большинство смотрит на «Утопию» или как на простое упражнение в подражании классикам, или как на сатиру. Но нам кажется такое мнение совершенно ошибочным; тот, кто не поленится проследить за частностями жизни утопийцев, и сопоставить их с частностями жизни Мора, приняв, конечно, во внимание то обстоятельство, что Мор жил не на Утопии, а в Англии XVI века, тот согласится, что в «Утопии» отразились искреннейшие убеждения ее творца. Я не говорю уже об общем духе, который пронизывает жизнь Мора и его «Утопию». Мор был слишком цельным человеком, чтобы двоиться и обнаруживать вопиющее противоречие по капитальнейшим вопросам жизни. Если же так случилось в действительности, то тому должны быть серьезные причины.
Прежде всего постараемся вникнуть поглубже в религиозность Мора. Обыкновенно, говоря о религиозности человека, под нею понимают приверженность какому-нибудь из существующих догматических учений. Мор стоял на стороне католицизма; поэтому его религиозность превращают в католическую ревность. Не предрешая пока вопроса, так ли это было в действительности или нет, мы должны заметить, что такое понимание религиозности слишком узко. Всякий человек религиозен, независимо от догматической стороны, если он относится к своей жизни как к выражению своего верования, своих убеждений. Всякий человек религиозен, если у него есть святыня, которой он служит, если он сообразует свои поступки с предписаниями, вытекающими из служения этой святыне, отодвигая на второй план вопросы о пользе и наслаждении. Вглядываясь в Мора, я и нахожу, что он, безотносительно к своему католичеству, был в высшей степени религиозным человеком. В основе всех поступков Мора лежит совесть, и я бы сказал, что он есть само воплощение религиозной совести. Совлеките с Мора эти его традиционные одежды, этот его католицизм, в который он так старательно облекался в особенности под конец жизни, – и вы все-таки найдете, что он по существу остается все тем же человеком. На всех его поступках лежит печать внутренней правды. Конечно, вы можете указать на ошибки, погрешности и в особенности на колебания и борьбу, но тем не менее общий тон его жизни от этого нисколько не изменяется.
Возьмем важнейшие моменты жизни Мора. В юности это была борьба со страстями. Мы еще ничего не знаем о его необычайной католической ревности; напротив, он даже зло шутит над монахами, и тем не менее он объявляет решительную войну естественным инстинктам молодости. Так подсказывает ему его совесть, которая не могла указать другого чистого выхода при наличии данных обстоятельств. В своей борьбе он пользуется, конечно, средствами, какие могла предложить ему окружающая жизнь, опыт других. Он впадает в аскетизм, он приходит к мысли о монашестве. Здесь он действительно пытается встать на почву существовавшего тогда католицизма. И что же получилось? С глубоким отвращением он покинул монастырь и расстался с монахами, чтобы над ними же зло посмеяться. Если правильному развитию, так сказать, совестливости Мора в эту пору и угрожала опасность, то скорее со стороны мистицизма, чем католицизма, мистицизма, в который его увлекал Пико делла Мирандола, чья книга по велению папы была сожжена. Но эта трудная пора в развитии Мора миновала благополучно; он не стал ни мистиком, ни аскетом-католиком, он вырос в цельного, благородного гуманиста. Вместе с тем характерная особенность Мора, которую я называю религиозностью, побуждала его придерживаться догматов и обрядов католической церкви во всем, что не противоречило его совести, и он делал это вполне искренно.
Затем остановимся на поре полного развития его сил и способностей. Перечтите характеристику Мора, сделанную Эразмом. Тут весь Мор перед вами; но едва ли кто скажет, что это портрет католического мученика или даже правоверного, ревностного католика. И Эразм не отрицает, что Мор был набожен, или, иначе, проявлял свою религиозность в тех формах, какие установила католическая церковь; но всякий видит, что не в этом вовсе он усматривал основные черты внутреннего облика Мора. Эразм, можно сказать, даже пересаливает, особенно выпукло изображая непринужденную и непосредственную веселость и жизнерадостность Мора и недостаточно сильно подчеркивая его строгое, серьезное, даже суровое отношение к своим поступкам в жизни. Но обратимся к еще более достоверному источнику – к самому Мору. Что он сам говорит о своей религиозности в эту пору? В положительной части «Утопии» он проповедует полную веротерпимость. Я не говорю уже об обрядовой стороне: всякий истинно верующий католик обязательно придет в ужас от тех служб, какие совершаются в утопийских храмах. Но возьмем даже догматическую сторону. От честного утопийца, по-видимому, требовались лишь две вещи: во-первых, вера в единого Бога, и во-вторых, вера в бессмертие души. Смешно, скажут, думать, что Мор сам разделял эти мысли: ведь все это – одна фантазия. Фантазия или не фантазия, но всякий должен будет согласиться, что правоверный католик не станет и даже не может писать подобных фантазий. Мор же не только писал, но и преисполнился величайшей радости, когда узнал, что его «Утопия» имела большой успех; он гордился бы, если бы только он вообще умел гордиться. Крайне любопытно в данном случае также то место, где говорится о впечатлении, произведенном на утопийцев рассказами о жизни и учении Христа; казуист-католик имеет полное право прийти от него в негодование. Учение Христа, рассказывается там, пришлось по сердцу утопийцам, ибо они увидели, что Христос и его ближайшие последователи признавали общность имущества и жили, следуя такому своему убеждению.
В критической части «утопии» Мор открыто поднимает на смех католических монахов и казуистику католических богословов. Действие происходит за столом у кардинала Мортона. Когда речь заходит о нищих, поднимается шут и говорит: «А о нищих вы уж позвольте позаботиться мне; никому они, наверно, не внушают такого отвращения, как мне, и они сами хорошо знают, что от меня могут поживиться не больше, чем от священника. Я предложил бы издать закон, чтобы всех нищих отправляли в монастыри, мужчин – к бенедиктинцам, и делали бы их бельцами, а женщин – монахинями». Такой проект понравился кардиналу, и даже находившийся в комнате серьезный, мрачный богослов нимало не оскорбился, а, напротив, шутливо заметил: «Но это не избавит Англию от нищих, если вы не позаботитесь о нас, чернецах». – «О них позаботился уже кардинал, – отвечал шут, – когда он предложил свои меры против бродяг, так как я не знаю бродяг хуже вас».
Эта шутка также понравилась кардиналу; но чернец был глубоко уязвлен; он стал всячески бранить бедного шута и громить его цитатами из Священного Писания. Этого только и нужно было шуту. «Не давайте гневу овладеть вами, добрый инок, – сказал он, – ибо сказано: „В терпении обретешь душу свою“». Монах отвечал, что он вовсе не гневится и во всяком случае не совершает никакого греха, так как псалмопевец говорит: «Воспылайте гневом – и в том нет греха». Тут вмешался в спор кардинал и вежливо просил монаха не давать страстям взять верх над собою. «Нет, ваше святейшество, – отвечал тот, – во мне говорит искреннее рвение, которое я должен иметь, так как святые отцы также чувствовали в своем сердце такое рвение, ибо сказано: „И рвение к дому твоему снедает сердце мое“, а в церкви мы поем, что насмехавшиеся над Елисеем, когда он шел в дом Господа своего, скоро почувствовали на себе силу гнева его, который, быть может, восчувствует также и этот негодяй, мошенник, зубоскал!..» На замечание кардинала, что во всяком случае для него было бы благоразумнее не впутываться в препирательство с шутом, монах продолжает свое и говорит, что мудрейший из людей, Соломон, сказал: «Отвечай глупцу сообразно его безрассудству»; он и делает именно это, указывая глупцу ту яму, в которую тот неминуемо упадет, если не предостеречь его; «ибо если многочисленные поносители плешивого Елисея, то есть одного человека, восчувствовали на себе, что значит гнев его, то что же станется с поносителем всех вообще монахов, среди которых так много лысых людей? Наконец, мы имеем буллу, которая карает отлучением от церкви всякого дерзающего глумиться над нами…»
Так-то мученик за католичество позволяет себе издеваться над монашеством, являющимся одним из оплотов католицизма, и вообще над способом аргументации католического духовенства. Нелишне будет также указать здесь, что известная сатира, направленная против папства и духовенства, «Похвала глупости», была задумана Эразмом по внушению Мора; Эразм даже писал ее в доме этого последнего. В эпиграммах Мора можно также найти немало насмешек над епископами и духовенством. Даже в полемике с Тиндаллем он высказывает, например, такую некатолическую мысль, что собор выше папы, и т. п.
Итак, в пору полного развития своих сил Мор не был поглощен еще ортодоксальным католицизмом. Он был религиозен, но то была религиозность чистой гуманитарной совести; он принимал догматическую и обрядовую стороны католицизма, поскольку та и другая не противоречили этой совести. В эту пору он, несомненно, стоял выше католичества; но он признавал его, так как, во-первых, находил и в нем истину, во-вторых, будучи просвещенным гуманистом, боялся религиозных народных движений, и в-третьих, считал за лучшее иметь во главе религиозных дел какого-нибудь руководителя, хотя бы и дурного, чем не иметь никакого.
Теперь мы переходим к третьему периоду жизни Мора, когда он действительно подвизается в качестве католического борца. Быть может, он остался бы до конца своей жизни тем, чем был на самом деле: человеком религиозным, но не отуманенным предрассудками и суевериями, – если бы внешние обстоятельства не стали круто изменяться, не обстоятельства его личной жизни, а общественные, как в Англии, так и на материке. Реформация была в разгаре. Все интересы общественной жизни сосредоточивались вокруг нее. Даже в деревенской глуши начиналось глухое брожение. Поднимался народ. Наступил решительный момент освобождения от господства порочного и суеверного Рима. Это было уже не случайное спорадическое проявление возмущенной совести, а массовое движение. Вопрос о дальнейшем существовании католицизма ставился ребром. «Науки процветают, умы пробуждаются, – патетически восклицает Гуттен, – счастье жить в такое время!» В такую эпоху человек, религиозно относящийся к своей жизни, не может спокойно предаваться созерцанию и тем более сидеть на двух стульях сразу. Он видит, что вся жизнь, все интересы группируются около двух пунктов: нового и старого. Вся подготовительная работа, приведшая к такой именно группировке общественных сил, отошла уже в прошлое. Теперь не время копаться в нем; теперь не время оставаться при особом мнении. Старое и новое стоят друг против друга с оружием в руках. Становитесь на ту или на другую сторону или вы останетесь вне главной арены борьбы. Если вы не любите борьбы, если вы боитесь «шума мирского» и, как улитка, захотели бы спрятаться в своей раковине, то и это не поможет. Такие моменты и отличаются именно тем, что «шум мирской» проникает в самые темные закоулки, затрагивает самые отсталые умы. Что же говорить о передовых?..
И Мору предстояло решительно встать на одну или на другую сторону. Быть может, он хотел бы, чтоб борьба между новым и старым вылилась в иных формах; но об этом следовало думать раньше, а теперь необходимо было считаться с тем, к чему привел общий ход развития. Мор не хотел или не мог уклониться от резкой постановки вопроса, как это сделал Эразм. Мор был ведь по существу религиозный человек, и, следовательно, всякая двойственность в вопросе первостепенной важности была для него немыслима. К тому же он занимал слишком выдающийся пост; ему нельзя было стушеваться. И Мор решился: он выступил ярым защитником католичества, то есть старого порядка. Конечно, мы можем сожалеть об этом; мы можем думать, что ему следовало бы быть как раз в противоположном лагере, что он дал бы могучий толчок протестантскому движению в Англии и, кто знает, может быть сделал бы излишним появление Нокса и так далее, но все подобные сожаления и предположения не бросают ни малейшей тени на собственно нравственную сторону поступка Мора: он так думал и так поступил. Если принять во внимание, что Мор всегда, даже в своей «Утопии», выступал сторонником авторитарного образа действий, то есть сверху вниз, а не обратно, то становится совершенно понятно, что он оказался на стороне католицизма, а не Реформации, так как эта последняя была провозглашением именно противоположных принципов.
Решительный поворот Мора к католицизму отразился и на переписке его с Эразмом. Прежняя горячая дружба как бы охладела, в их письмах не видно уже прежней задушевности и искренности. Мор начинает подозревать Эразма в тайных симпатиях к Реформации и этим объясняет его уклончивый образ действий; а Эразм находит, что в Море говорит вовсе не религиозное чувство, а простое суеверие. Мор обвиняет Эразма в недостатке решимости и смелости, а Эразм находит, что Мору недостает широты мысли, и так далее.
Мы уже говорили, что незадолго до своего канцлерства Мор принял горячее участие в полемике с Лютером, затеянной Генрихом VIII. Лютер на послание короля ответил в своем обычном резком тоне, третируя его как невежу, богохульника, болтуна, коронованного осла. Генрих сильно оскорбился; он просил курфюрста, покровительствовавшего Лютеру, зажать ему рот и даже сжечь его. Мор также вмешался в полемику и написал весьма пространный и весьма грубый ответ Лютеру. Вот отрывок из него, озаглавленный «Собор собутыльников» («Senatus combiborum»); он весьма характерен как образец полемики того времени:
«Когда Лютер получил книгу короля и отведал ее, это спасительное блюдо показалось горьким его испорченному вкусу. Он не мог переварить его и, желая запить горечь, созвал сенат из своих собутыльников. И хотя он больше хотел, чтобы книга оставалась навеки погребенной во мраке неизвестности, однако, подогревши свой дух изрядными возлияниями, принужден был представить ее взорам собрания. Чтение первых же страниц стало кусать все эти ослиные уши. Они закрывают ее и снова открывают; они перелистывают ее, чтобы найти хоть что-нибудь, что можно было бы осудить; но ничего такого, что дало бы пищу злословию, не подвертывается им. Тогда они, как это всегда делается в затруднительных случаях, стали отбирать отдельные мнения. Сенат становился уже мрачен, и Лютер хотел уже идти повеситься, как вдруг Бриксиус (литературный враг Мора. – Авт.) обратился к нему с ловкой речью. Какая важность, что пишет король Англии и что следует думать о религии, для тех, у кого одна цель – возбуждать мятежи и волнения и таким образом прославлять свои имена? Чего хотят они, как не тянуть деньги у простаков и потешаться, читая писания людей более образованных, чем они, и которых они втянули в спор? Чем могут повредить им истинные слова короля и опровержения их собственной ереси? Только бы Лютер ответил в своем обычном тоне, то есть ругательствами и насмешками!.. Пусть он не унывает, в особенности пусть не воображает, что он должен сражаться разумными доводами. Оскорбления и ругань, сыплющаяся, как снег на голову, – вот что должно составлять его доводы; а Лютер не сплохует в этом отношении, так как у него неисчерпаемый запас того и другого. Вот орудие, которым он, без всякого сомнения, поразит своего противника, и так, что тот не встанет больше с места. И кто же может действительно бороться с Лютером, который не уступит десятку самых болтливых и наглых сплетниц? К тому же у него нет недостатка в друзьях. Пусть же он берется за перо, – победа останется за ним. Это мнение воодушевило Лютера, который собрался было уже ускользнуть в заднюю дверь. Но так как он видел, что его обычный запас ругательств окажется недостаточным, то он убедил своих сотоварищей разбрестись в разные стороны и, собрав повсюду грубые слова и плоские шутки, доставить все это ему. Из такой-то трухи он задумал составить свой ответ. Сделав это распоряжение, он распустил собрание. Все собутыльники его разбрелись в разные стороны, кто куда, следуя влечению своего вкуса. Повсюду они глядят во все глаза, слушают, навострив уши, и записывают в свои книжки все, оцененное ими: грубости кучеров, наглости лакеев, злословие привратников, шутки паразитов, пакости распутных женщин, непристойности банщиков и так далее. По прошествии нескольких месяцев неутомимого рысканья они все собранное – все эти ругательства, извороты, гаерство, бесстыдство, цинизм, грязь, навоз – сваливают в помойную яму, называемую головой Лютера. И весь этот грязный пот, весь пожранный им кал он извергает затем своим нечистым ртом в эту ругательную книгу…»
Грубость, без сомнения, велика, но не в ней дело: она была данью своему времени. Дело в том, что в этой грубости слышится уже страсть, затемняющая страсть, та роковая страсть суеверия, пламя которой вырвалось несколько времени спустя из груди правоверных католиков и разлилось громадным общественным пожарищем по Европе…
Религиозно-католическое настроение Мора росло все более и более. Он тщательно изучал разные религиозные сочинения и вступал в горячую полемику с ненавистными ему еретиками. Сделавшись канцлером, он не только не покидает этих занятий, не перестает полемизировать, но еще с большей энергией продолжает заниматься религиозными вопросами, как бы желая целиком уйти в них от надвигавшейся на него беды в виде вопроса о расторжении королевского брака.
Среди многочисленных памфлетов и брошюр протестантского характера, наводнивших в то время Англию, одна, именно «Челобитная бедняков», обратила на себя особое внимание Мора. В ней бедные жаловались, что тунеядцы-монахи присваивают себе милостыню, предназначенную, собственно, для них; они противопоставляли нужды истинно бедных нуждам этих нищенствующих; в своих нападках они затрагивали даже папу и осуждали его за то, что он допускает в чистилище лишь души тех, кто дает за себя выкуп, и так далее. Мор отвечал, так сказать, встречной челобитной, – челобитной душ, находящихся в чистилище; он описывает страдания их и облегчение, какое получают они благодаря молитвам монахов; затем защищает чистилище в целом от скептических нападок бедняков, не могущих попасть туда; защищает также и монахов, являющихся посредниками между душами и Богом. Бедняки защищались. Мор снова возражал им. За этой полемикой последовала более серьезная, с Тиндаллем, наделавшим много шума сочинением, в котором он подкапывался с разных сторон под католичество. В своем ответе, занимающем несколько томов, Мор между прочим говорит: «Из этого вы можете видеть, что Тиндалль распространяет не только свою гнусную ересь, но и усвоил еще учение анабаптистов. Он объявляет, что лишь его церковь есть истинная церковь и что лишь те понимают надлежащим образом слова Божий и Священное Писание, кто отвергает крещение детей, не признает ни светских, ни духовных государей, не признает собственности, так как земля и всякое имущество, по слову Божьему, должны принадлежать всем сообща, не признает брака, а считает всех женщин принадлежащими всем мужчинам, как ближайшим родственникам, так и посторонним. Он объявляет, что всякий мужчина может сделаться мужем всякой женщины и наоборот и, в заключение всего, что наш Спаситель Иисус Христос был простым человеком, а не Богом!..» Анабаптисты действительно приводили Мора в ужас; так, в одном из писем он между прочим пишет: «Германия каждый день производит все новых и новых чудовищ, более ужасных, чем когда-либо производила Африка. Что может быть ужаснее анабаптистов? А между тем как широко распространилась эта чума в последние годы!» Что Мор был религиозен, это мы знаем; мы можем также понять, каким образом его религиозность все более и более смещалась в сторону ортодоксального католичества; но мы не станем напрасно терять время, пытаясь примирить непримиримые противоречия: Мор как католический эрудит и памфлетист и Мор как автор «Утопии» по многим, и притом капитальным, пунктам расходятся. Да иначе и быть не может. Католичество могло создать парагвайскую коммуну, но оно всегда будет враждебно «Утопии».
В разгар своей полемики с еретиками Мор был канцлером Англии, то есть располагал громадною властью. Возникает вопрос: как он ею пользовался? Что он преследовал вообще еретиков, в этом не может быть никакого сомнения. Он сам в своей надгробной эпитафии говорит о себе: «Он был грозен для воров, убийц и еретиков». Существует мнение, что он применял к еретикам такие же меры наказания, какие практиковались тогда относительно воров и убийц, то есть что он казнил их. Такое обвинение также противоречит «Утопии», в которой Мор выступает не только человеком вполне веротерпимым, но и противником смертной казни. Но дело не в том. Подобное обвинение, во-первых, само по себе крайне тяжело; оно ложится кровавым пятном на имя государственного деятеля, независимо от времени и обстоятельств; а во-вторых, оно находится в полном противоречии со всем складом характера Мора. Итак, казнил ли действительно этот великий гуманист и утопист еретиков? Конечно, если Мор действительно был гуманистом, то он не мог даже в необычайно жестокий XVI век казнить своих религиозных противников. Но обратимся к фактам. На чем держится подобное утверждение? На авторитетах Вольтера, Юма, Мэкинтоша. Но где факты? Их никто определенно не указывает. Говорят: во время канцлерства Мора были казни еретиков. Положим, что так, но какая прикосновенность к ним Мора? Не следует забывать, что в то время кроме светской власти существовала могущественная духовная власть, имевшая право карать смертью еретиков; так, епископы были наделены властью рассматривать всякие преступления против религии, произносить приговоры в форме булл и затем предавать обвиненных в руки светских властей, которые должны были приводить приговоры в исполнение. Итак, если во время канцлерства Мора и были казни, то это еще вовсе не значит, что Мор повинен в них. Затем, указывают еще на рассказы людей сомнительной репутации, в которых обвиняется уже прямо Мор. Но почему мы должны давать веру этим рассказам и не верить самому Мору, опровергающему их в своей «апологии». Правда, Мор в этом деле, так сказать, подсудимый; но показаниям честного подсудимого следует верить гораздо больше, чем облыжным показаниям сомнительных свидетелей. Мор был человеком чистой и даже бесстрашной совести. Свои религиозные мнения он не боялся открыто доводить до крайностей, которые нам могут казаться даже чудовищными; он не устрашился и голову сложить за дело своей совести. Неужели слово такого человека, ни в чем не лгавшего во всю свою жизнь, не заслуживает нашего доверия? Я думаю, что заслуживает, и несравненно большего, чем слово всякого другого из говоривших по этому поводу людей.
Прежде чем привести оправдательные выдержки из «апологии», я сошлюсь еще на Эразма, голос которого в такого рода деле также что-нибудь да значит. В одном из писем общепризнанный глава гуманистов пишет: «…доказательством его (Мора) замечательной мягкости служит, однако, то, что во время его канцлерства никто не был лишен жизни за новые верования, тогда как в двух Германиях и во Франции немало было случаев наказания смертной казнью за деяния подобного рода». Как видим, Эразм считает Мора не только неприкосновенным к смертным казням последователей новых учений, но прямо говорит, что казней в канцлерство Мора вовсе не было.
В «апологии», написанной незадолго до смерти, Мор говорит: «Мне приходилось немало сталкиваться с реформаторами, и некоторые из них распускали и распускают про меня всякую клевету. Они рассказывают, что когда я был канцлером, то подвергал в собственном доме мучениям и истязаниям еретиков, а некоторых из них привязывал к дереву в своем саду и безжалостно бил… Но хотя я отношусь к еретикам – заявляю это еще раз – хуже, чем к убийцам и святотатцам, однако в течение всей своей жизни никогда не подвергал их тем наказаниям, на которые указывают мои клеветники; я приказывал только держать их под крепкими замками». Затем Мор рассказывает о двух случаях, когда он действительно прибегнул к телесному наказанию. Оба провинившиеся находились в личном услужении у него. В одном случае это был ребенок, воспитанный отцом в ереси и пытавшийся совратить другого ребенка; Мор велел высечь его в присутствии всех членов семьи и всех слуг; в другом – человек помешавшийся; он шатался по церквам и устраивал всякие бесчинства: подымал шум во время всеобщего молчания, подкрадывался сзади к молящимся женщинам и, когда те с глубоким религиозным чувством повергались ниц, заворачивал им юбки на голову, и так далее. Мор приказал схватить его и, привязав к дереву на улице, бить до тех пор, пока он не восчувствует, но во всяком случае не слишком уж сильно. И эта мера, прибавляет Мор, оказалась действительной: помешанный излечился. «А все, – говорит он дальше, – попадавшие ко мне по обвинению в ереси, не встречали с моей стороны – беру в свидетели самого Бога – дурного обращения; я приказывал лишь запирать их в надежных местах, не настолько, однако, надежных, чтобы одному из них, именно Джоржу Константину, не удалось бежать. Затем, я никого не бил, никто не получил от меня удара, даже щелчка по лбу». Протестанты распустили слух, что бегство означенного Константина привело канцлера в бешенство. По этому поводу Мор говорит, что он, конечно, не мог поощрять побегов и принимал свои меры предосторожности; но когда бегство Константина стало совершившимся фактом, он не только не воспылал жестоким гневом, а напротив, шутливо заметил тюремщику, чтобы тот хорошенько исправил кандалы и запирал замки на два оборота, дабы узник не возвратился бы и не надел бы их так же легко, как скинул. «Что же касается самого Константина, – прибавляет Мор, – то я мог только поздравить его с успехом, так как я никогда не был настолько безрассуден, чтобы возмущаться против человека, который, утомившись сидеть в одном положении, подымется и уйдет, если только, конечно, он может это сделать». Затем Мор опровергает другие нелепые обвинения в том, что он будто бы присваивал жалкие гроши своих несчастных жертв и т. п., и в конце концов говорит: «Что касается еретиков, то я ненавижу их ересь, но не их самих, и я желал бы всеми силами своей души, чтобы первая была уничтожена, а вторые – спасены».
Это заявление такого искреннего и неподкупного человека, как Мор, свидетельство Эразма и, наконец, отсутствие несомненных фактов противоположного рода могут служить, мне кажется, достаточным основанием, чтобы отвергнуть тяжкие обвинения, взведенные на Мора, – обвинения, с одной стороны, раздутые протестантами, а с другой – молчаливо поддержанные католиками.
Глава VII. Роковой конец
Настроение Мора после падения. – Возвращение к частной жизни. – Приготовление к смерти. – Начало преследований. – Воображаемые преступления Мора. – Требование присяги. – Уклончивое поведение Мора. – Осуждение на вечное заключение. – Мор в тюрьме. – Послабления и искушения. – Лишения и запугивания. – Новые допросы. – Королевские ищейки. – Снова суд. – Приговор. – Последние дни в тюрьме. – Казнь.
Теперь, с выходом Мора в отставку, перед нами разворачивается поразительная картина геройского поведения человека, ясно предвидевшего всю неизбежность кровавой развязки. Правда, в первый момент небо было, по-видимому, безоблачно: король был милостив. Но это – затишье перед бурей. Мор прекрасно понимал, что ему придется умереть за свою совесть, и у него было достаточно отваги, чтобы не питать несбыточных иллюзий. Сегодня король милостив, а завтра он велит снять ему голову. Период колебаний для Мора прошел. Теперь он неуклонно пойдет к своей цели и, дабы сохранить свою совесть, пожертвует жизнью. Конечно, он не будет стремиться поскорее попасть в расставленные ему силки; он для этого слишком умен. Напротив, он будет старательно обходить разные капканы, расставленные верными слугами короля; но он не изменит себе ни в чем ни на йоту.
Мор умер за свою идею. История знает немало подобных смертей. Но мученики за идею погибают чаще всего в пылу борьбы, в горячий миг воодушевления, в состоянии экстаза. Не то мы видим в случае Мора. Он рано сдружился с мыслью о неизбежности своей насильственной смерти, он подготавливал и укреплял себя в течение длинного, длинного ряда лет. В момент наибольшего внешнего благополучия, сделавшись первым человеком после короля в Англии, он не забывал о возможности роковой развязки. А затем эти три года от отставки до казни, эти бездеятельные годы уже начавшего стареть человека – человека, стоявшего на значительной высоте и вдруг очутившегося не у дел… О каком же экстазе и воодушевлении в обычном смысле слова можно говорить при таких обстоятельствах? Гораздо легче погибнуть в пылу горячей битвы, чем идти неуклонным, медленным шагом к верной смерти, без всякой надежды на какое-либо случайное спасение, и идти не недели и месяцы, а целые годы. В этом отношении жизнь Мора представляет весьма поучительную картину. Такое поведение свидетельствует, конечно, о необычайной силе характера. Но этого мало; сильный, могучий характер может быть расшатан и разбит житейскими испытаниями, в особенности когда жизнь дарит человека такими крайностями, как канцлерство и плаха. Характер должен чувствовать под собой твердую почву убеждений, и чем затруднительнее внешние обстоятельства, тем более надежными должны быть эти убеждения. Всякие условные утверждения в такие эпохи оказываются недостаточными: против абсолютного зла приходится искать опору в абсолютных утверждениях. Мор же боролся против посягательства на совесть человека, что составляет, конечно, абсолютное зло. По обстоятельствам того времени, воспитанию и некоторым личным особенностям такие абсолютные утверждения приняли у Мора католическую окраску; но окраска не должна скрыть от нас сущности двигавшей Мором силы: это была, как я сказал, религиозная совесть.
Остановимся же подольше на этом медленном похоронном шествии, длившемся целых три года. Это не бездыханный труп человека провожают к последнему месту упокоения, это живой человек, некогда веселый и остроумный Мор идет к эшафоту, чтобы сложить на плахе свою голову. Картина в высшей степени трогательная и поучительная!..
Когда со службой было покончено, Мор призвал детей, живших до сих пор со своими семьями вместе с ним, и сказал им, что при всем желании жить и дальше вместе он не может уже более выносить на себе одном бремя общих расходов и потому хотел бы посоветоваться с ними, как им устроить свою дальнейшую жизнь. Дети молчали, не зная, что ответить. Тогда Мор продолжал, говоря, что ему приходилось бывать в разных положениях и жить в разных условиях, начиная от жизни при дворе и кончая школьной обстановкой в Оксфорде и других подобных заведениях; теперь он будет располагать ежегодным доходом, несколько превышающим сто фунтов; и он предлагает им оставаться по-прежнему вместе, довольствуясь такой же пищей, какая существует в школе Линкольна; если же это окажется им не по средствам, то следует спуститься еще ниже и перейти, в случае надобности, на Оксфордскую диету, а если и это окажется не по средствам, то всегда возможно отправиться просить милостыню, распевая у дверей обывателей «Salve Regina», и все-таки оставаться вместе и поддерживать сообща веселую компанию. Так шутливо Мор относился к своему положению опального канцлера. Средства к существованию были у него теперь действительно крайне незначительны; многолюдный дом в Челси мало-помалу опустел; дети разбрелись, и Мор остался в одиночестве. Распустив свою челядь и устроив свои денежные и домашние дела, он стал глубже и глубже уходить в религиозное созерцание: он готовился к смерти и исподволь подготавливал к этой катастрофе своих семейных. Заблаговременно он приготовил себе могилу и составил надгробную эпитафию.
И действительно, Мора не оставили в покое. Вскоре после выхода его в отставку под него стали подкапываться, не брезгая при этом никакими средствами. К нему подсылали шпионов, расставляли ловушки, надеясь, что он по неосторожности и прямоте своей попадет в них, или, наконец, взводили на него нелепые обвинения. Так, в придворных сферах возникла идея написать книгу в защиту поведения короля и его министров в связи с делом о разводе. И вот однажды к родственнику Мора Вильяму Крусталю приходит тайный агент правительства и заявляет, что у него якобы находится ответ, написанный Мором на эту предполагаемую книгу. Конечно, это была обычная шпионская уловка, чтобы вызвать Мора на поступок, к которому можно было бы затем придраться. Узнав обо всем этом, Мор написал письмо Кромвелю, государственному секретарю, и при этом так ловко сумел обойти все подводные скалы и мели, что придраться к нему решительно не было никакой возможности. Попытка королевских клевретов окончилась ничем. Тогда обратились к старым делам и начали там выискивать, нельзя ли воспользоваться каким-нибудь промахом или оплошностью бывшего канцлера. И вот против Мора выдвигается ряд крайне нелепых обвинений. То объявляют, что он получил от какой-то дамы в виде подарка перчатки и деньги; Мор отвечает, что действительно дама ему презентовала перчатки и деньги, но денег он не взял, а перчатки принял, так как считал неприличным отказываться от подобного подарка, предлагаемого дамой. То его обвиняют в том, что он получил в дар от какого-то клиента золотую чашу дорогой чеканной работы. Да, отвечает Мор, чашу я действительно получил, но я отдарил лицо, презентовавшее ее мне, еще более дорогой чашей, так как мне не хотелось принимать ее как дар, а вместе с тем я не мог отказать себе в удовольствии обладать чашей с такой прекрасной резьбой. Но вот, по-видимому, напали на обвинение, которое прижмет Мора к стенке: он принял в дар великолепный кубок из позолоченного серебра и решил дело в пользу принесшего дар лица. И опять здесь фигурирует какая-то дама. Мор не отрицал самого факта, хотя заявил, что кубок был подарен ему много времени спустя после означенного процесса, в виде новогоднего подарка. Судьи, получившие внушение свыше, рады были воспользоваться и таким случаем и готовы были уже вынести обвинительный приговор, когда встал Мор и попросил слова, говоря, что если судьи выслушали одну половину истории, то им следует выслушать и другую; и затем он рассказал, как, получив кубок, велел своему слуге наполнить его вином и выпил за здоровье дамы; потом дама выпила за его здоровье, после чего Мор уговорил ее принять этот кубок в подарок от него. Слова Мора были подтверждены свидетельскими показаниями. Дело кончилось, конечно, ничем.
Подобные нелепые обвинения, лопавшиеся, как мыльные пузыри, лишь увеличивали популярность Мора и скандализировали королевских приспешников. Расчеты же на то, что Мор не выдержит и чем-нибудь выдаст себя, не оправдывались. Тогда решили впутать его в старое дело о помешанной Елизавете Бартон, считавшейся в народе святой девой. Еще во время канцлерства Мора она занималась разными пророчествами и предсказывала, между прочим, гибель Англии и скорую смерть Генриха, если тот женится на Анне Болейн. Мор, докладывавший это дело королю, не придал ему никакого значения, а «святой деве» посоветовал бросить свои предсказания и полечиться. Но теперь времена изменились: выискивая разные поводы для конфискации монастырских имений, правительство по обвинению в государственной измене предало суду монахов, эксплуатировавших деву, соумышленником их объявлен был также и экс-канцлер, не давший в свое время надлежащего хода этому делу. Мор возмутился: он потребовал, чтобы его имя было вычеркнуто из списка обвиняемых, и настаивал, чтобы его лично допустили в парламент, когда будет обсуждаться билль о предании суду обвиняемых по означенному делу. Ему отказали. Тогда он написал в крайне смиренном тоне письмо королю, напоминая ему все обстоятельства дела и прося исключить свое имя из списка. Король оставил просьбу без последствий. Но еще до обсуждения билля в парламенте Мора потребовали в особую комиссию, состоящую из высших сановников. Ничего не говоря о деле, его стали укорять в том, что он позабыл все милости, оказанные ему королем, и так далее. Мор не растерялся; он спокойно и обстоятельно опровергал попреки и наконец напомнил, что ему было обещано не говорить более ничего по этому поводу. Тогда лорды яростно обрушились на него за то, что он подстрекал его величество написать книгу в защиту папы, что он автор этой книги и что он, следовательно, виновник нелепого положения, в котором очутился теперь король. Но угрозы не действовали на Мора. Они могут напугать, сказал он, только ребенка – и перешел к вопросу о книге. Он не писал ее и не подстрекал короля писать. Ему было предложено только отредактировать эту книгу; он нашел, что в ней слишком сильно выдвигается на первый план авторитет папы, и заявил об этом королю, указывая на то, что папа такой же государь, как и король, что он находится в союзе с другими королями и что, следовательно, может прийти в столкновение с ним, Генрихом, а потому благоразумнее было бы изменить это место и вообще ослабить защиту папского престола. Нет, ответил тогда король, если верить Мору, мы на это не согласны; мы слишком многим обязаны римскому престолу и не знаем, чем отплатить ему за все сделанное для нас; мы хотим возможно усилить авторитет папы, так как мы получили от него наш королевский венец, – чего я, прибавляет Мор, не слышал никогда раньше. Противники Мора были разбиты и не знали, что отвечать. Король, узнав обо всем этом, пришел в ярость и настаивал на том, чтобы Мор был предан суду. Тогда ему указали на то, что Мор пользуется большим авторитетом в палате общин и что билль с обвинениями в его адрес там не пройдет. Королю пришлось уступить, и имя Мора было вычеркнуто из списка обвиняемых. Вскоре после этого Мор встретился с герцогом Норфолкским, и тот уговаривал его прекратить сопротивление королю: негодование короля – смерть для подданных, говорил герцог. «Это и все? – спросил Мор. – В таком случае между вами и мною всего лишь та разница, что я умру сегодня, а вы – завтра».
Для Мора действительно все сводилось к смерти, и слова, звучащие обыкновенно пустой фразой, в его устах были полны глубокой искренности.
Между тем совершились события первостепенной государственной важности: Генрих, отторгнув английскую церковь от папского престола, провозгласил свое супрематство и вступил в брак с Анной Болейн. Мы знаем, как Мор относился к проектам короля на этот счет; отношение его не изменилось и тогда, когда проект осуществился на деле. Мор стоял исключительно на почве совести; по крайней мере биографы не указывают никаких других мотивов. При этом он вел себя крайне скромно; он молчал: молчал тогда, когда был у власти, молчал и тогда, когда стал экс-канцлером. Но это-то молчание и было невыносимо для Генриха. Мор пользовался в разных слоях общества самой прекрасной репутацией, и его упорное молчание косвенным образом бросало тень на поведение короля. Все знали, что Мор не одобряет ни супрематства, ни нового брака, что он руководствуется при этом самыми чистыми побуждениями и стойко держится своих мнений. Такая оппозиция раздражала короля более, чем открытое будирование, и он старался или обесчестить Мора, или погубить во что бы то ни стало. Обесчестить ему не удалось; он. решил погубить его.
В силу парламентского акта, признавшего как супрематство короля в церковных делах, так и законность брака с Анной Болейн, все подданные его величества должны были принести двойную присягу; лондонскому духовенству приказано было собраться для этой цели во дворце Кромвеля; туда же потребовали и Мора; среди собравшегося духовенства он был единственный мирянин. Ему предложили подписаться под присягой. После некоторого размышления он заявил, что не может этого сделать, что он не порицает ни тех, кто составил формулу присяги, ни тех, кто соглашается присягать, но что ему совесть не позволяет сделать этого.
Мору показали лист, подписанный громкими именами; он прочел, но остался при своем. Тогда его выслали на некоторое время из залы, как бы давая время на размышление; затем, собрав подписи всех присутствовавших, позвали снова и показали лист. Он упорствовал; его стали укорять, говоря, что он совершает двойное преступление: не хочет подписываться и не высказывает мотивов, побуждающих его поступать таким образом. Мор отвечал, что его простой отказ уже сам по себе вызовет гнев короля и что он не желает усиливать этот гнев, высказывая мотивы; если же кто-либо может поручиться, что изложение всех причин не раздражит короля еще более, то он согласен высказать их, предоставляя всем собравшимся возражать, и если они опровергнут его, то он обязывается принять присягу. Его хотели поймать в ловушку и указали на долг всякого верноподданного беспрекословно подчиняться королю. Мор сначала как бы смутился, но после минутного молчания и размышления ответил, что «если авторитет короля имеет решающее значение, то всякие споры между учеными должны по его повелению прекращаться». Когда его затем спросили, согласен ли он, в частности, присягнуть на верность королеве Анне, он отвечал: «Охотно, но при одном лишь условии: присяга должна быть составлена в таких выражениях, чтобы, подписав ее, я не становился вместе с тем клятвопреступником». Такой ответ был равносилен отказу.
Мора арестовали и отправили в Вестминстерское аббатство, где он просидел четыре дня, пока король совещался со своими министрами, какие принять меры. Предлагалось, между прочим, не настаивать на форме присяги и удовлетвориться той, какую может, не насилуя своей совести, принести Мор. Но против такого предложения восстала решительно королева Анна. В конце концов Мора осудили на вечное тюремное заключение и отправили в Тауэр, позволив взять с собою одного слугу, которому было строго предписано следить за узником и доносить обо всем, что он будет говорить или писать о короле.
Спустя месяц к Мору была допущена на свидание дочь Маргарита; но еще раньше ему удалось переслать ей написанное углем письмо, в котором он успокаивает своих семейных и говорит, что он здоров, пользуется полным душевным спокойствием и вполне доволен своей обстановкой. Первая встреча с любимой дочерью в тюрьме сопровождалась глубоким религиозным возбуждением: оба упали на колени и пропели несколько псалмов и благодарственных молитв.
Затем узник заговорил о своей тюрьме; он не жаловался, а, напротив, уверял, что заключение свое считает знамением особенной милости к нему Бога, что чувствует себя как бы на коленях у Всевышнего и так далее. Когда же религиозная экзальтация прошла, разговор перешел на обыденные темы и велся в веселом тоне. То же повторялось и при всех последующих свиданиях. На первых же порах Маргарита заговорила о фатальной присяге и необходимости подчиниться, но Мор назвал ее искусительницей Евой и отверг безусловно всякую попытку склонить его на компромисс со своей совестью.
При дворе решили сделать для Мора сначала всякие послабления: ему разрешалось видеться не только с Маргаритой, но и с другими членами семьи; он мог слушать обедню в капелле, прогуливаться в тюремном саду, писать, иметь книги и так далее. Вместе с тем двор оказывал разными косвенными путями давление на посещавших Мора лиц, побуждая их просить и убеждать его отказаться от своего упорства. Маргарита еще раз попыталась поколебать отца.
Среди разных религиозных разговоров, от которых так веяло мыслью о смерти, она спросила, почему же столько великих светил и выдающихся умов приняли присягу, не считая, что они таким образом поступают против своей совести и подвергают свою душу большим опасностям, и почему он не поступает так же.
– Моя маленькая Маргарита, – отвечал узник, – поудержитесь от вашей скверной роли искусительницы Евы и выслушайте меня ради Бога.
Затем Мор изложил дочери все свои доводы со ссылками и цитатами и в заключение сказал:
– Что же касается ученых, то я знаю многих, которые прежде порицали развод и брак, а теперь объявили себя защитниками того и другого. Что их побуждает к тому? Не желание ли понравиться королю или страх раздражить его, потерять свое имущество и навлечь бедствия на свои семьи и своих друзей?.. Но я не хочу им подражать; я так же уверен в том, что хорошо поступаю, отвергая присягу, как и в том, что существует Бог.
Маргарита убедилась в безуспешности всех своих попыток и залилась слезами.
Навещала Мора также и жена его и также пыталась подействовать на мужа; делала она это отчасти, конечно, по собственному почину, отчасти под влиянием людей, желавших сломить энергию узника.
– Что же это такое, – говорила ему мадам Алиса, – человек, считающийся мудрецом, обрекает себя на затворническую жизнь и проводит время в компании с крысами, тогда как он мог бы получить свободу и снова увидеть свой родной дом, библиотеку, галерею, сад, свою жену и детей, лишь бы только он сделал то, что сделали все ученые люди в Англии.
Маленькая пауза.
– Скажите мне, Алиса, – говорит затем узник, – скажите мне одно только.
– Что?
– А эта моя обитель, не так же ли она близка к небу, как и тот мой родной дом в Челси?
– Все это пустые слова и вздор, – вскричала раздосадованная Алиса.
– Я не знаю, – отвечал спокойно Мор, – почему бы мне так дорожить своим домом и всем, что там находится. Если бы я через шесть лет встал из своего гроба и пришел бы в Челси, то привратник заявил бы, что этот дом не принадлежит уже мне. Почему, еще раз, я должен питать такие нежные чувства к дому, который так скоро забудет своего господина?.. Скажите, Алиса, сколько лет вы даете мне жить и наслаждаться в Челси?
– Двадцать, – отвечала Алиса.
– Так. Если бы тысячу, то, быть может, стоило бы подумать об этом. Но и тогда лишь неправильный расчет может побудить человека променять вечность на тысячу лет жизни. Во что же обращается этот расчет, если мы не уверены даже в завтрашнем дне?
Слезы, упреки, жалобы, мольбы семейных, по-видимому, не действовали на Мора. Когда при дворе убедились в этом, то решили тотчас же изменить тактику, а именно запугать и сломить узника лишениями, свирепым обхождением и всякими ужасами. Его лишили свиданий и всяких удобств, которые в тюремной жизни имеют такое большое значение. Чтобы уронить его в общественном мнении, высоко ставившем честную и открытую борьбу одного человека против целого государства, распустили слух, что Мор уступил и принял присягу. Королевские агенты врывались в его дом и шарили, как бы отыскивая что-то; какие страдания это причиняло Мору, нетрудно понять; в одном письме он между прочим высказывает надежду, что король не возьмет золотого пояса и ожерелья, принадлежащих его жене, и не будет шарить в ее платяном шкапе. Наконец решили подействовать на него картиной ужаса. В это время были повешены и затем заживо четвертованы пять монахов. Мора вновь призвали к ответу под свежим впечатлением этих казней и зрелища дымившейся еще крови несчастных жертв. Его попросили сесть; он отказался. Затем его спросили, что он думает о новых статутах парламента?
– Я их читал не особенно внимательно, – отвечал Мор.
– Разве вы не читали о том, что король признан главой англиканской церкви?..
– Читал, – отвечал узник.
– Что же вы думаете на этот счет?
– В настоящее время, – сказал Мор, – меня не занимают эти вопросы, и я не имею теперь никакого желания обсуждать права королей и пап. Но я хочу быть и действительно остаюсь верным подданным короля: я молюсь за него, за весь его дом, за советников его и за все королевство; а затем я не вмешиваюсь ни во что.
– Это не удовлетворяет короля, – отвечали ему, – он желает иметь более определенный ответ; он желает, чтобы вы снова возвратились в свет.
– В свет! – подхватил живо Мор, играя словами. – Я не желаю туда возвращаться, если бы даже он был весь к моим услугам.
Затем он заявил, что хочет остаться в стороне от всего и провести остаток дней своих в размышлениях о будущей жизни. После маленького перерыва его снова стали допрашивать и указали между прочим на влияние, которое он оказывает на других своим поведением.
– Чего же хотят от меня, – отвечал Мор, – я не делаю ничего преступного, я не говорю ничего скверного или предосудительного; и если это не может сохранить мне жизнь, в таком случае я не желаю более жить. Да разве вы не видите, что я и так уже полумертвый человек; отправляясь сюда, я должен был подумать о том, что, быть может, мне остается уже жить не более часу. Мое бедное тело находится во власти короля. Богу угодно, чтобы моя смерть послужила ему на пользу!
Эти слова произвели сильное впечатление на лордов; Мора поспешно попросили возвратиться к существу вопроса. Он отказался давать дальнейшие ответы. Тогда его увели обратно в тюрьму.
Но король хотел во что бы то ни стало добиться от своего бывшего любимца определенного ответа. И вот та же комиссия отправляется к нему в Тауэр и снова допрашивает его. После продолжительного разговора его снова спросили:
– Читали ли вы статут?
– Читал, – отвечал Мор.
– Признаете ли вы его законным или нет?
Мор молчит. Такое поведение выводит из себя королевских ищеек, и кто-то из них пытается затронуть самую чувствительную для Мора струну:
– Если вам действительно так страстно хочется покинуть этот мир, то почему же вы не выскажитесь откровенно против законности статута? Ваше молчание, напротив, красноречиво свидетельствует о том, что вы не так уж расположены к смерти, как заявляете о том.
– Моя жизнь не была настолько святой, – ответил Мор на эту вызывающую выходку, – чтобы я имел смелость самому вызываться на смерть. Господь мог бы наказать меня за чрезмерную самонадеянность, и я не был бы предан смерти; вот почему, вместо того чтобы кидаться вперед, я считаю своей обязанностью сдерживаться.
Поистине поразительную картину представляет эта упорная борьба одного против всемогущего короля и его приспешников, и притом борьба крайне оригинальная, так как она велась оружием молчания. Быть может, оно-то более всего и раздражало Генриха. Его сановники и на этот раз принуждены были оставить Мора, не добившись ничего. Тогда король под предлогом обыска подсылает в камеру к узнику ловкого пройдоху, шпиона Рича, который между делом снова заводит речь о статутах. Мор не уклоняется от разговора, но ведет его в том же тоне, что и прежде. Рич отобрал у узника все книги, бумагу и письменные принадлежности, которые у него оставались. По уходе этих нечистоплотных гостей Мор стал затворять свое окно.
– Зачем вы делаете это? – спросил его тюремщик.
– Когда все товары взяты, – отвечал Мор, – пора и лавочку запирать.
Истощив все средства, король решил наконец предать Мора суду по обвинению в государственной измене и казнить. Судбище назначено было на 7 мая 1535 года; следовательно, Мор просидел в Тауэре немногим более года.
Несмотря на довольно значительное расстояние, отделяющее тюрьму от Вестминстерского дворца, места судбища, Мор прошел всю дорогу пешком, опираясь на палку. Началось чтение огромного обвинительного акта; в нем была собрана масса воображаемых преступлений, в которых надеялись запутать непреклонного борца за дело совести. Но Мор во время чтения успел наметить главные пункты обвинения и приготовился возражать. Акт прочитан. Отвечая на увещания лорда-канцлера и герцога Норфолкского, обещавших от имени короля помилование, Мор сказал:
– Молю Бога, да укрепит Он меня и поможет устоять до самой смерти! Но акт слишком длинен и обвинения слишком тяжелы; я боюсь, что мой ум и память, ослабевшие благодаря болезням не менее тела, не в состоянии будут представить с требуемой быстротой все доказательства, которые я мог бы привести при других обстоятельствах.
Тогда только ему предложили сесть, и он сел в первый раз по выходе из Тауэра.
Первый пункт заключал обвинение его в оппозиции второму браку Генриха. Он не отпирался, но сказал, что довольно уже наказан за эту свою вину годичным пребыванием в тюрьме, потерей всего имущества и осуждением на вечное заключение. Второй пункт содержал обвинение в неповиновении парламентскому статуту относительно супрематства короля, выразившемся в том, что он не желал высказать своего мнения.
– Но нет в мире такого закона, – возражал Мор, – который карал бы человека за то, что он не высказывается ни за, ни против известных мер; наказанию подлежат поступки и слова; тайные же мысли ведает один Бог.
Третий пункт – он пытался составить целый заговор против статута, что якобы доказывается письмами его к Фишеру. Но эти письма были сожжены Фишером, поэтому-то обвинитель и мог вычитать из них все, что только он считал подходящим для обвинения. Затем Мор простодушно рассказал действительное содержание писем, не имевшее ничего общего с предметом обвинения. Четвертый пункт – как он, Мор, так и Фишер (тоже казненный несколько времени спустя) сравнивали парламентский статут с обоюдоострым мечом: согласишься с ним, значит, погубишь душу; будешь противостоять ему, значит, погубишь тело. Дав объяснение этому сравнению, Мор в заключение сказал, что он не говорил никогда и никому ни одного слова против парламентского статута. Тогда был допрошен Рич, шпион, подосланный, как мы знаем, к Мору в тюрьму. Он утверждал, что обвиняемый отрицал в разговоре с ним право парламента издавать подобный статут. Подлая проделка взбесила Мора; он жестоко напал на наглого обличителя, указал на продажность и развратность его жалкой души, смешал его, одним словом, с грязью и затем, обращаясь к судьям, сказал:
– Для всякого беспристрастного человека покажется совершенно невероятным, чтоб я раскрыл свои мысли по столь важному вопросу такому негодяю, я, который не хотел ничего отвечать ни королю, ни допрашивавшим меня в тюрьме лордам.
Позвали еще двух свидетелей, производивших вместе с Ричем обыск в камере Мора. Один из них показал, что он был послан лишь для того, чтоб отобрать книги у заключенного и потому не прислушивался к разговору; а другой – что он был сильно занят упаковкой книг и не мог следить за разговором. Итак, даже у этих жалких людей не хватило дерзости поддержать своего наглого сотоварища.
Однако это не спасло Мора: он был осужден, а шпион Рич сделался впоследствии лордом Ричем… Присяжные совещались недолго; через четверть часа они вынесли свое заранее уже внушенное им решение: виновен. Канцлер поднялся, чтобы прочесть приговор, но Мор прервал его словами:
– Милорд, в мое время, прежде чем читать приговор, спрашивали подсудимого, не желает ли он сказать еще что-либо?
– Говорите, – ответил тот.
Тут Мор сразу как бы преобразился; теперь смерть пришла к нему сама, он не домогался ее и счел себя свободным. Он в первый и последний раз с жаром напал на статут, попиравший законы церкви, прерогативы святого престола, даже самые законы Англии, по которым церковь признавалась свободной и независимой; указывал на блага, которыми Англия обязана католичеству, и вообще ответил на все роковые вопросы с поразительной силой, горячностью и откровенностью. Желал или не желал Мор смерти, но настала минута, когда она оказалась неизбежной, и он дал полный простор своему чувству негодования. Его речь произвела ошеломляющее впечатление на судей. Канцлер, не зная, что ответить, или, быть может, желая сложить с себя ответственность за приговор, обратился к министру юстиции с вопросом, считает ли он обвинение доказанным?
– Милорд, – отвечал тот, – я полагаю, что если парламентский акт законен, то, беру во свидетели святого Юлиана, обвинение нельзя считать недостаточно доказанным.
Так тонко выражается казенная юстиция перед лицом негодующей совести.
– Лорды, вы слышали мнение господина министра, – сказал тогда канцлер и прочел приговор.
Он гласил: «Шерифу Вильяму Бингстону предписывается отвести преступника обратно в Тауэр, а оттуда провести через Сити до Тиберна, где и повесить; когда это будет сделано, снять его полумертвого, разорвать на части, благородные члены отрезать, живот распороть, внутренности сжечь; конечности выставить на четырех воротах Сити, а голову – на Лондонском мосту».
«Милостивый» король нашел, однако, возможным смягчить этот зверский приговор и заменил его отсечением головы на плахе. Узнав о том, Мор воскликнул:
– Да избавит Бог моих друзей от сострадания короля и все мое потомство от его милостей!
Судбище кончилось, Мор отправился пешком из Вестминстера в Тауэр; перед ним несли топор, обращенный острой стороной к нему. У выхода ожидал его сын Джон; он бросился к отцу, упал на колени и просил благословить его. Мор обнял сына и благословил. На тюремном дворе ожидала его дочь Маргарита; она прорвалась через цепь алебард и топоров, окружавших приговоренного к смерти, бросилась стремительно к нему на грудь и повисла в изнеможении с криком: «О мой отец! О мой отец!» Мор благословил и ее, сказав, что он должен умереть за преступление, которого не совершал: такова воля Господня, и он должен подчиниться ей. Маргарита отошла, но, сделав несколько шагов, снова бросилась назад, прорвалась через толпу и, обняв руками шею отца, стала покрывать поцелуями лицо его, громко рыдая. Мор не мог долее сохранять свое хладнокровие; слова замерли на его устах; он плакал. Вся толпа, наполнявшая двор, даже тюремная стража, была потрясена этой душераздирающей сценой, и все вокруг Мора слилось в протяжный рыдающий вопль… Наконец солдаты вырвали Маргариту из рук онемевшего отца; к нему подошли остальные дети и внуки, и он всех благословил.
Семь дней и семь ночей Мор провел в ожидании смерти; он роздал все остававшиеся еще при нем вещи на память своим детям, написал два последних письма, из них одно к Маргарите, поддерживал в себе бодрость молитвами и размышлениями и смирял бичеванием тело свое, которое все еще страшилось «ничтожного щелчка»… Наконец рано утром ему приказали приготовиться, сообщив, что в девять часов утра его поведут на казнь.
– Король желает, – сказали ему при этом, – чтобы вы не произносили никаких речей.
– Вы хорошо сделали, что предуведомили меня, – отвечал Мор, – так как я намерен был сказать несколько слов, во всяком случае не оскорбительных ни для его величества, ни для кого другого. Но каково бы ни было мое желание, я готов повиноваться приказанию его величества. Я прошу вас только, испросите у короля разрешение присутствовать на моих похоронах дочери Маргарите.
– Король уже разрешил это, – ответили ему, – вашей жене, вашим детям и вашим друзьям.
– Как я ему благодарен, – сказал Мор, – за то, что он отнесся с таким вниманием к моим бедным похоронам!..
Когда Мор остался один, он тотчас же сбросил с себя рубашку смерти, в которой ходил до тех пор, и нарядился в свое лучшее шелковое платье. Но смотритель тюрьмы запротестовал, находя, что Мор поступает безрассудно, жертвуя такое прекрасное платье тому, кто отрубит ему голову.
– Как, – возразил Мор, – этот человек оказывает мне громадную услугу, и я не пожалел бы для него даже золотого платья!
Но смотритель имел в виду собственные интересы, и Мору пришлось уступить. Он переоделся в более простое шерстяное платье, а для палача захватил золотую монету.
В девять часов смотритель тюрьмы передал его шерифу, и они отправились к месту казни. Мор шел с красным крестом в руках, часто подымая взоры к небу; он имел изнуренный вид, лицо его было бледно, борода запущенна. Рассказывают, что правительство, желая парализовать глубокое впечатление, которое эта благородная смерть должна была произвести на народ, подослало двух жалких негодяев, обратившихся к Мору с упреками во время печального шествия. Один из них требовал каких-то книг, взятых у него будто бы Мором, когда последний был канцлером; а другой укорял его в несправедливом решении дела. Первому Мор ответил, что королю угодно было освободить его от всяких забот о книгах, бумагах и т. п., а второму, что он припоминает его дело и если бы ему пришлось вновь решать его, то он не изменил бы своего приговора. Затем к ногам его бросился еще один несчастный, но этот уже руководствовался мотивами глубокой благодарности.
Наконец печальный кортеж достиг цели своего шествия. Непрочные подмостки эшафота зашатались, когда Мор всходил по ним…
– Позаботьтесь, пожалуйста, – сказал он, обращаясь к смотрителю тюрьмы, – чтобы я мог безопасно взойти наверх, а о том, чтобы сойти, я уже позабочусь сам, как смогу…
Взойдя, Мор хотел обратиться к народу с речью, но шериф не дал ему говорить, и он ограничился только просьбой помолиться за него и быть свидетелями, что он умер как истинный католик и верный подданный своего государя. Затем, опустившись на колени, он с глубокой сосредоточенностью прочел псалом «Помилуй мя Боже». Палач попросил у него прощения. Мор, обнявши его, сказал:
– Ты оказываешь мне самую большую услугу, какую только я могу пожелать от человека. Исполняй же без страха свою обязанность. Моя шея коротка; направь верно свой удар, не осрамись…
Палач хотел завязать ему глаза.
– Я сам завяжу, – сказал Мор, с этими словами вынул заранее приготовленный платок и, завязав глаза, положил голову на плаху. – Погоди немного, – сказал он вдруг, – дай мне убрать бороду: она нисколько не повинна в государственной измене…
Затем один взмах – и благородная голова отделилась от туловища…
Генрих VIII играл в шахматы с Анной Болейн, когда ему доложили, что казнь исполнена; столь жестоко пролитая кровь великого человека тронула даже этого бессердечного монарха.
– Это – ваша вина! – сказал он раздраженно своей партнерше и вышел вон из комнаты…
За казнью последовала конфискация имущества; жена Мора была изгнана из Челси, но ей все-таки назначили пенсион в 20 фунтов (около 200 рублей). Джон Мор был арестован и брошен в Тауэр исключительно за то, что являлся сыном казненного отца. Впрочем, его скоро выпустили; он представлял собой слишком незначительную величину, чтобы его стоило преследовать…
Так погиб этот великий человек, отстаивая до последнего момента дело своей совести. Ни малейшей аффектации, деланности, нервозности вы не замечаете в его отношении к своему положению и к людям. Правда, глубокое религиозное чувство всецело овладело им; но это – дело его личной внутренней жизни; во всем же внешнем он проявляет необычайное спокойствие, полную готовность встретить смерть, уготовленную руками бесчеловечных людей, удивительное душевное равновесие. И в этом отношении Томаса Мора можно по всей справедливости поставить подле Сократа. Оба они своим примером учат, как должен умирать человек за свои убеждения…
Источники
1. The Life of sir Thomas More. Written by his son in law, William Roper.
2. Th. More. Utopia. В переводе на английский язык Gilbert Burnet.
3. D. Nisard. Etudes sur la Renaissance (Erasme, Thomas Morus, Maclunchton).
4. Kautsky. Thomas More und seine Utopia.
5. Woolsey. Communism and socialism in their history and theory.
На русском языке имеется перевод «Утопии», изданный еще в конце прошлого века с дозволения Управы Благочиния и озаглавленный так: «Утопия Томаса Мора, или Картина всевозможного лучшего правления»; но этот перевод представляет такую библиографическую редкость, что его нет даже в С. – Петербургской Публичной библиотеке.
Затем из известных мне в русской литературе сочинений и статей, касающихся Томаса Мора или его «Утопии», я могу указать на следующие:
1 Щеглов. История социальных систем.
2. Ю. Жуковский. Политические и общественные теории XVI века.
3. Янжул. Новая фантазия на старую тему. – «Вестник Европы», 1890, № 4, 5.
4. Авсеенко. Томас Мор. – «Русское слово» за 1860 год.
Примечания
1
Закон о неприкосновенности личности, принятый английским парламентом в 1679 году.
(обратно)2
Зять Томаса Мора, написавший его биографию.
(обратно)

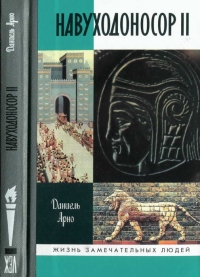

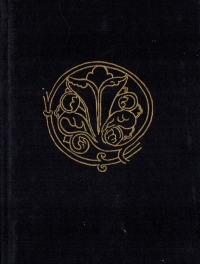

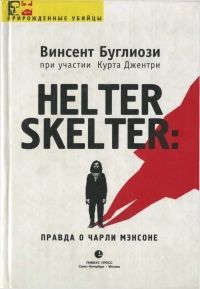
Комментарии к книге «Томас Мор (1478-1535). Его жизнь и общественная деятельность», Валентин Иванович Яковенко
Всего 0 комментариев