Михаил Иванович Туган-Барановский Джон Стюарт Милль. Его жизнь и научно – литературная деятельность
Биографический очерк М. Туган-Барановского
С портретом Милля, гравированным по рисунку И. Панова
Глава I
Отец Милля и его характеристика.
Когда изучаешь жизнь какого-нибудь замечательного человека, то всегда бывает интересно знать, что за люди были его родители и при каких условиях ему приходилось расти и развиваться. Мы до сих пор мало знакомы с законами наследственности; однако, как известно, духовные качества родителей, точно так же, как и их физические свойства, в большей или меньшей степени передаются потомству. Воспитание является другим могучим орудием влияния родителей на детей; впечатления детства имеют, быть может, больше значения в выработке нравственного и умственного склада человека, чем все последующие впечатления его жизни. В характере многих выдающихся людей можно проследить влияние наследственности и воспитания, но вряд ли можно найти в этом отношении более поразительный пример, чем пример Джона Стюарта Милля.
Личность Джеймса Милля, отца знаменитого мыслителя и экономиста, настолько своеобразна и оригинальна, что изучение его характера представляло бы глубокий психологический интерес даже в том случае, если бы Джеймс Милль не играл никакой роли в истории духовного развития своего сына. Он происходил из бедной шотландской семьи и первоначально хотел посвятить себя духовному званию. Но обстоятельства сложились так, что вместо этого он сделался литератором. Главная причина, побудившая его изменить своему первоначальному плану и вместо легкой и привольной жизни пастора обречь себя на необеспеченное существование литературного пролетария, заключалась в его религиозных убеждениях. Джеймс Милль был воспитан в строго религиозной пресвитерианской семье и в дни своей юности сам был глубоко верующим человеком. Но мало-помалу, под влиянием чтения и размышлений о прочитанном, взгляды его на религиозные вопросы изменились. Одно время он был деистом, затем для него наступил период сомнений, из которого он вышел с убеждением, что человек не может знать ничего определенного относительно происхождения мира. Вместе с тем он не был положительным атеистом и даже презирал догматический атеизм как одну из тщетных попыток человеческого ума познать сокровенную сущность вещей, которая всегда останется непознаваемой. Крайне любопытно, что возражения Джеймса Милля против христианства основывались не только на доводах рассудка, но и вытекали из его нравственных воззрений. Он полагал, что наш мир так полон зла и несчастия, что нельзя приписывать его происхождение одному доброму началу; по его мнению, всемогущий и всеблагой Творец не мог бы осудить человечество на ту жалкую участь, какой ему представлялась наша жизнь. Миллю больше нравилось древнее учение Зороастра о двух верховных началах – добра и зла, – совместно управляющих миром. Он надеялся, что окончательная победа останется на стороне доброго начала, но не мог согласиться, что эта победа теперь уже одержана добром.
Внешняя история жизни Милля может быть разделена на два периода, гранью между которыми является его поступление в 1819 году на службу в Ост-Индскую компанию. Он получил это место, доставившее ему верный и хороший заработок (достигавший в конце его жизни двадцати тысяч) после многих лет тяжелой борьбы с нуждой. Тридцати двух лет Джеймс Милль женился, не имея никаких средств к жизни, на очень красивой девушке, Гарриете Берро. Этот брак был единственной непоследовательностью в его жизни, так как теоретически он строго осуждал людей, которые женятся в молодом возрасте, не имея достаточного материального обеспечения.
Уже будучи женатым человеком и отцом многочисленного семейства, он зарабатывал деньги только литературным трудом; литература, конечно, не могла приносить особенных доходов такому писателю, как Джеймс Милль, который коренным образом расходился по всем своим убеждениям со взглядами, господствующими в обществе.
У Джеймса Милля было 9 человек детей. Старший сын был назван Джоном Стюартом – в честь одного из друзей отца; второй сын получил имя Джеймс Бентам – в честь знаменитого писателя и юриста Иеремии Бентама; третий – Джордж Грот – в честь известного историка Греции. Семейная жизнь Джеймса Милля не была счастлива: у него было мало общих интересов с женой, а к страстной любви он совсем не был способен. Главным содержанием его жизни была работа. Он был одним из самых влиятельных писателей своего времени и до конца жизни вел ожесточенную борьбу со всякого рода политическими и философскими предрассудками, которые казались ему главным тормозом человеческого прогресса. Самым крупным трудом Джеймса Милля была многотомная «История Индии», над которой он работал в течение 10 лет, в период самых тяжелых материальных затруднений. Это сочинение доставило уже немолодому писателю доступ в Ост-Индскую компанию, несмотря на то, что он очень строго критиковал образ действий компании по отношению к туземцам.
В 1821 году им были обнародованы «Элементы политической экономии», а в 1829 году – «Анализ человеческого ума». Вместе с тем Джеймс Милль был деятельным сотрудником нескольких радикальных журналов, успех которых зависел главным образом от его участия. Последняя статья его, написанная незадолго до смерти (в 1836 году), была посвящена доказательству практической полезности политической экономии.
Все эти внешние факты не дают представления о своеобразном умственном и нравственном складе Джеймса Милля, который своим суровым, непреклонным характером, железной волею и стоическими добродетелями несколько напоминает философов древнего мира. Как мыслитель Джеймс Милль был мало оригинален. Он последовательно и логично развивал свои мысли, умел мастерски проследить все самые отдаленные выводы из принятых им основных посылок, но сами посылки он заимствовал у других. Его литературные работы были посвящены исследованию вопросов психологии, этики, политики и политической экономии. Главное сочинение Джеймса Милля по психологии, «Анализ человеческого ума», представляет собою глубоко продуманный трактат о законах, управляющих мыслительными процессами человека; следуя Гартли, он объясняет все психические явления при помощи одного основного принципа – принципа ассоциации. В области этики и политики Джеймс Милль был верным последователем Бентама: высшим критерием нравственности он признает человеческое счастье. Мы должны порицать те действия, которые уменьшают сумму счастья на земле, и только те поступки заслуживают нашего одобрения, от которых сумма человеческого счастья увеличивается. Развивая дальше свою теорию, Милль утверждает, что мотивы человеческих поступков не заслуживают сами по себе ни порицания, ни похвалы. Высокое значение, которое в наше время придают чувству, он считал признаком нравственной отсталости своих современников сравнительно с людьми древнего мира. Для него лично фанатик, искренне преданный делу, вредному для общества, был не менее антипатичен, чем человек, сознательно, из корыстных мотивов делающий зло.
По своим политическим убеждениям Милль принадлежал к крайним радикалам своего времени.
Как экономист Джеймс Милль не представлял ничего выдающегося и развивал учения Адама Смита и своего близкого друга Рикардо.
Во всех сочинениях Джеймса Милля нас поражает одно коренное противоречие: он был глубоко убежден, что все наше знание имеет опытное происхождение, и, между тем, сам никогда не пользовался опытом и наблюдением для своих выводов. Его излюбленный метод исследования – дедукция. При разрешении таких сложных социальных вопросов, как вопросы о наиболее пригодной для страны формы правления, он исходил из немногих основных посылок и, как математик при доказательстве теоремы, нанизывал целую цепь умозаключений, логически вытекающих одно из другого, для того, чтобы доказать преимущество демократического строя перед монархией и аристократией. Человеческая жизнь во всем ее бесконечном разнообразии казалась ему простой и несложною вещью; он не чувствовал и не понимал значения национальных и культурных особенностей народов и глубоко верил, что различие их прошлой истории зависело только от того, что народные массы недостаточно понимали свои интересы. Абстракция, шаблон заменяли для него живого человека. Все эмоциональные движения человеческой души сводились им к ощущениям удовольствия и страдания, мыслительные процессы – к ассоциации представлений. Таким образом, психология делалась такой же точной, априорной наукой, как геометрия, и задачи ее чрезвычайно упрощались. Но дедукция может иметь научное значение только тогда, когда нам известны все факторы исследуемого явления. Если же это условие не было соблюдено, то какую цену может иметь самая строгая логическая дедукция? Она уподобляется зданию, построенному на песке. Таким зданием были этика, политическая экономия и психология Милля.
Стюарт Милль, всегда относившийся к своему отцу с глубоким уважением, видит в нем типичного представителя XVIII века. Та же прямолинейность и последовательность, та же бедность чувства и сухость ума, тот же недостаток фантазии, которые мы встречаем у большинства мыслителей и общественных деятелей прошлого столетия, поражают нас и в Джеймсе Милле. Это был сильный критический, но не творческий ум. Он был совершенно лишен чувства поэзии и красоты. Преклонение английского общества перед Шекспиром он считал временной модой и отрицал поэтичность и жизненность шекспировских типов. Из поэтов он предпочитал Мильтона, который своим суровым, пуританским мировоззрением более соответствовал его собственному взгляду на жизнь. После смерти в его бумагах нашли записную книжку, куда он вносил всевозможные заметки в течение своей жизни. В этой книжке есть масса цитат из всевозможных исторических, экономических и философских сочинений, но цитаты из поэтических произведений почти совершенно отсутствуют. Поэзия, точно так же, как и искусство вообще, не играла никакой роли в его жизни.
Джеймс Милль был из тех мыслителей, которые не могут оставаться в стороне от общественной жизни и ограничиваться одними научными трудами. Он стоял во главе небольшого, но избранного кружка лиц, связанных между собой единством философских и политических убеждений. В то время в Англии еще не было условий для образования радикальной партии, и вследствие этого кружок Милля не представлял из себя крупной общественной силы. Членами кружка среди прочих были: Давид Рикардо, Иеремия Бентам, Грот. Несмотря на то, что Бентам и Рикардо могут считаться учителями Милля, последний, вследствие своих личных качеств, играл среди них первенствующую роль. Только под влиянием советов и убеждений Милля Рикардо решил выпустить в свет свои «Начала политической экономии», составившие эпоху в науке.
Самым близким другом Милля был Бентам. Они часто живали вместе по нескольку месяцев, и когда в 1812 году Джеймс Милль опасно заболел, единственным утешением его была мысль, что в случае его смерти его сын останется на попечении Бентама.
Влияние Джеймса Милля как общественного деятеля и публициста проявилось особенно сильно в конце двадцатых годов, когда в Англии началось движение в пользу парламентской реформы, увенчавшееся успехом в 1832 году. Если можно какому-либо отдельному лицу приписывать честь этого успеха, то ее, скорее всего, следовало бы приписать Джеймсу Миллю. Его статьи в «Encyclopedia Britannica» и «Westminster Review», написанные с необыкновенной силой и убедительностью, дали теоретическое обоснование требованиям демократии и произвели громадное впечатление на общественное мнение. Джеймс Милль не мог быть членом парламента вследствие своей службы в Ост-Индской компании, но многие его друзья были выдающимися парламентскими деятелями. Одно время радикальная партия пыталась организоваться и захватить власть в парламенте в свои руки. Попытка эта, по мнению Стюарта Милля, не удалась потому, что парламентским радикалам не хватало такого вождя, каким мог быть только его отец.
Устная беседа еще больше, чем литература, служила Джеймсу Миллю могучим орудием пропаганды. Он в редкой степени владел искусством разговора. Его сын так описывает впечатление, производимое его отцом на собеседников: «Мой отец пользовался несравненно большим личным влиянием, чем Бентам. Я никогда не встречал человека, который лучше его умел проводить в разговоре свои мысли. Его полное самообладание, точность и выразительность языка, строгая серьезность и сила аргументации делали его одним из самых неотразимых диалектиков своего времени. Его сила заключалась не только в умении чисто логическим путем убеждать слушателя: он умел воодушевлять своих собеседников тем же горячим стремлением к истине и к общему благу, каким был проникнут он сам».
Грот, один из его друзей, говорит, что беседа с Джеймсом Миллем была даже более поучительна, чем чтение его сочинений; по его словам, Джеймс Милль своим необыкновенным умением ставить вопросы и давать на них ясные и точные ответы является живым воплощением идеала древнего философа, каким он нам рисуется по сочинениям Платона и Ксенофонта.
Сила и твердость характера, точно так же, как и громадное преобладание рассудочного элемента над эмоциональным, были отличительными свойствами Джеймса Милля. Стюарт Милль говорит, что отец его по своим взглядам на жизнь «был одновременно стоиком, эпикурейцем и циником, хотя, разумеется, не в современном значении этих слов. По складу своего характера он был стоиком. Его взгляды на нравственность были эпикурейскими, так как он считал пользу и вред человеческих поступков единственным основанием для их одобрения или порицания. На циников же он походил в том отношении, что совсем не верил в наслаждение. Он не был нечувствительным к удовольствиям, но находил, что большинство из них далеко не стоит той цены, которою приходится за них расплачиваться. По его мнению, жизненные неудачи по большей части зависят от чрезмерного значения, придаваемого нами наслаждениям. Поэтому основным правилом воспитания для него была умеренность в широком смысле этого слова, как понимали ее греческие философы. Человеческая жизнь, утратившая первое обаяние молодости, казалась ему довольно жалкой вещью. Он неохотно говорил на эту тему, особенно в присутствии молодежи; но когда ему случалось затрагивать эти вопросы, он высказывался с глубоким и непоколебимым убеждением. Он иногда соглашался, что жизнь могла бы иметь некоторую цену, если бы люди сделались другими под влиянием хорошего воспитания и разумного правительства; но даже о лучшем социальном строе он никогда не говорил с энтузиазмом. Умственные наслаждения он ставил выше всех других, не только по их результатам для человеческого прогресса, но и ради их самих. Симпатию и привязанность он также высоко ценил и часто говаривал, что старый человек может быть счастлив только живя радостями молодежи. Ко всяким страстным чувствам, как и ко всему, что пишется и делается под влиянием страсти, он относился с самым глубоким пренебрежением. Он считал страсть одной из форм помешательства. Эпитет „чрезмерное“ (intense) был для него одним из самых сильных выражений порицания».
Мы говорили выше, что Джеймс Милль не был монотеистом и охотнее допускал существование двух верховных начал – добра и зла, совместно управляющих миром. Сколько глубокого пессимизма, сколько разочарования в жизни обнаруживается в этом воззрении! Только человек, совершенно лишенный поэтического чувства, утративший веру в человечество, мог нарисовать себе такую мрачную картину устройства вселенной. Пессимизм Джеймса Милля особенно интересен потому, что с внешней стороны ему нечего было желать от жизни. Он был совершенно обеспечен в материальном отношении, занимал почетное и влиятельное общественное положение, мог с полным правом гордиться своими детьми, пользовался общим уважением со стороны своих многочисленных друзей и знакомых, и, наконец, у него было дело, в которое он верил и которому отдавался всей душой. Его работа не пропадала даром и доставляла ему громадное нравственное удовлетворение. Его сочинения имели успех среди читателей, они волновали общественное мнение, и иные из них имели даже такие крупные практические последствия, как, например, реформа 1832 года. И все-таки Джеймс Милль не любил жизнь и не тяготился ею только потому, что был слишком занят. Жизнь потеряла для него все свои краски: поэзия, любовь, красота, всё, что волнует и радует большинство человечества, казалось ему мимолетным и обманчивым сном юности, который исчезает бесследно, когда человек начинает глубже понимать истинную сущность жизни. Как большинство своих соотечественников, Джеймс Милль по самой своей натуре был более склонен к меланхолии, к сплину, чем к радостному и веселому настроению духа. Вся его жизненная обстановка клонилась к чрезмерному развитию умственных способностей в ущерб чувству, которое должно было увядать от недостатка впечатлений. Каждый день один и тот же неустанный умственный труд, без передышки и без отдыха, никаких развлечений, ничего того, что может взволновать человека и заставить хоть на время забыть будничную действительность. Немудрено, что при таких условиях Джеймс Милль зачерствел и потерял всякий вкус к радостям и горестям бытия. И то и другое заменилось скукой, душевной пустотой, от которой он находил спасение только в работе, неутомимой и упорной.
Он с необыкновенной добросовестностью относился ко всякому делу, за которое принимался: был образцовым чиновником, что доказывается его блестящей карьерой, писал толстые книги и журнальные статьи, вел ожесточенную полемику с противниками, не поступаясь никогда своими убеждениями и неуклонно стремясь к одной цели – благу человечества, которому в глубине души он не мог верить.
Нас невольно поражает противоречие между теоретическими воззрениями Джеймса Милля и его частной жизнью. В теории он признавал приятные ощущения единственным благом жизни, а сам не был способен испытывать какие бы то ни было удовольствия, кроме удовольствий умственного труда. По своим вкусам и привычкам он был в полном смысле слова аскетом, и в то же время ничто не возбуждало в нем такого негодования, как проповедь аскетизма. В области умозрения он доверялся только доводам рассудка и, хотя сам мог бы служить лучшим опровержением крайностей эпикурейской теории нравственности, до конца жизни оставался верен своим доктринам, потому что не находил никаких логических погрешностей в их конструкции. Он может быть назван доктринером в лучшем смысле этого слова – человеком, мало обращающим внимания на жизненный опыт и находящимся во власти отвлеченных теорий.
Нечего и говорить, что такой человек не мог быть нежным отцом семейства. Бэн говорит, что постороннему человеку тяжело было видеть отношение Джеймса Милля к своим домашним. Его появление вносило в семью струю холода: непринужденная, веселая детская болтовня тотчас же умолкала и заменялась томительным молчанием, если отец был не в духе, или оживленным теоретическим разговором со старшим сыном, если отцу хотелось поговорить. Даже в отношениях со своими друзьями, которым он был искренно и глубоко предан, Джеймс Милль оставался тем же тяжелым, неуживчивым человеком, и ладить с ним было трудно. Бентам отзывался о нем в следующих выражениях: «Он никогда охотно не спорил со мной. Если мы не сходились во мнениях, он молчал. У него поразительная сила воли. Он стремится всех покорить своим повелительным тоном, всех убедить силой своих аргументов. Его манера говорить имеет в себе что-то подавляющее. Он ходит всегда точно с маской на лице». Этот отзыв, очевидно, не вполне беспристрастен, так как известно из многих источников, что Джеймс Милль не избегал споров и умел блистательно вести их. Но все-таки он имеет для нас значение, потому что показывает, как относился к Миллю его лучший друг. Заметим кстати, что, несмотря на взаимное уважение, друзья несколько раз ссорились. Сохранилось одно характерное письмо Джеймса Милля, где он высказывает уверенность, что для их дружбы необходимо, чтобы они встречались как можно реже.
Джеймс Милль умер в 1826 году, шестидесяти трех лет от роду, когда как писатель достиг своего апогея.
Его сын говорит, что до последнего момента нельзя было заметить никакого ослабления умственных способностей умирающего; он по-прежнему интересовался теми же вещами, которые интересовали его обыкновенно, и страх смерти не заставил его изменить своих взглядов на религию. Он находил успокоение в мысли, что работал по мере сил для счастья и прогресса человечества, и выражал сожаление только о том, что его работа обрывается смертью.
Глава II
Детство Джона Стюарта Милля.
Джон Стюарт Милль говорит в предисловии к своей автобиографии, что история его умственного развития особенно поучительна потому, что она показывает, каких громадных результатов может достигнуть умелое воспитание, направляемое исключительно на развитие мыслительных способностей ребенка.
Мы описали в предыдущей главе личность Джеймса Милля: можно себе представить, каким суровым и непреклонным воспитателем должен был быть этот человек, насквозь проникнутый отвлеченными теориями. Его система воспитания была вполне последовательна, глубоко продумана им самим и вытекала из самого искреннего желания добра своему ребенку; она составляла естественный логический вывод из его общего философского миросозерцания и взгляда на жизнь. В воспитании детей Джеймс Милль имел возможность проверить на опыте свои теоретические воззрения и с увлечением взялся за это дело.
Мы почти ничего не знаем о матери Стюарта. Судя по всему, можно думать, что это была слабая и добрая женщина, любившая своих детей, но имевшая на них мало влияния. Она была совершенно подавлена личностью своего мужа, авторитет которого в семье был безграничен. На ее руках лежало все хозяйство, с которым справиться было нелегко, так как доходов было мало, а семья увеличивалась с каждым годом. Старший сын ее, Стюарт, очень походил лицом на мать; он был слабым, тихим ребенком, не любившим бегать и шалить с другими мальчиками. Да ему и некогда было шалить. Вся обстановка дома наводила на другие мысли: мать, всецело погруженная в заботы о хозяйстве и трепетавшая перед мужем, безличная и безгласная; нетерпеливый, раздражительный отец, постоянно занятый своими книгами, не допускавший и мысли о каких-либо развлечениях, – все это не располагало к шалостям. Детская возня и их шумные игры были бы таким диссонансом в правильной, размеренной жизни отца, что он не потерпел бы этого ни в коем случае.
Товарищей у маленького Стюарта не было; отец боялся вредного влияния сверстников на своего сына, предназначаемого им для великой цели в будущем: он должен был продолжать дело своего отца, должен был сделаться смелым и независимым мыслителем, общественным деятелем, преданным интересам народа, неутомимым борцом против невежества и предрассудков, быть может, даже социальным реформатором. Для того, чтобы Стюарт мог во всеоружии выступить на жизненную арену, отец решил сам вести воспитание сына. Он по собственному опыту знал, как много времени уходит в молодости даром, без всякой пользы для умственного развития благодаря отсутствию системы в накоплении и усвоении знаний, и хотел избавить своего сына от тех ошибок и заблуждений, которые пережил сам. Поэтому всякое постороннее влияние тщательно устранялось от маленького Стюарта.
Но он рос не один: около него всегда был серьезный и строгий наставник, неотступно следивший за каждым его шагом. Первые детские воспоминания Милля рисуют ему невысокую комнату, уставленную книгами, большой письменный стол, заваленный бумагами, и у стола – отца, погруженного в свою работу. Трехлетний мальчик (родился 20 мая 1806 года) сидит против отца и тоже занят: он учит греческие слова, значение которых написано отцом на особых табличках. Когда он начал читать по-английски – этого бедный мальчик совсем не помнит; можно думать, что он начал читать уже в том возрасте, когда другие дети едва начинают разговаривать. Зато Стюарт прекрасно помнит, что он никогда не имел игрушек, не играл со своими сверстниками, не слушал сказок от матери, не жил в фантастическом мире карликов, эльфов, добрых и злых волшебниц.
Отец позаботился о том, чтобы любознательность ребенка не получила ложного направления: сказки могли развить в мальчике воображение, заинтересовать его такими вещами, которые не имеют ничего общего с греческими вокабулами.
Ему нельзя было увлекаться произведениями народной фантазии, полными всяких предрассудков и суеверий.
Старик Милль признавал умственный труд единственным ценным и прочным наслаждением в жизни; по его мнению, главной задачей воспитания должно быть приучение ребенка к умственному труду. И вот мы видим трехлетнего Стюарта, заучивающего наизусть греческие слова.
Джон Стюарт Милль с грустью говорил впоследствии, что у него не было детства. Но этого мало – у него не только не было детства, у него не было даже юности. Мальчик шести-семи лет производит впечатление совершенно взрослого человека. К этому возрасту он уже получил довольно солидное классическое образование: он свободно читает и пишет по-гречески, прочел басни Эзопа, «Анабазис», «Воспоминания о Сократе» и «Киропедию» Ксенофонта, несколько глав из Диогена Лаертского, Лукиана и Сократа; наконец, пять первых диалогов Платона. По-английски он тоже прочел много книг, по большей части исторического содержания, среди них – сочинения Юма, Гиббона, Робертсона и других авторов.
Занятия его происходили по следующему плану. Утром он приходил в кабинет отца и вместе с ним принимался за работу. Отец писал, а сын в его присутствии переводил с греческого и учил греческую грамматику. Лексиконов у него не было, и с каждым неизвестным словом он должен был обращаться к отцу, который подчинялся этому неудобству, несмотря на то, что вообще не мог выносить, когда его отвлекали от работы. Вечером отец давал сыну уроки арифметики, и Стюарт Милль рассказывает в своей автобиографии, какой мукой были для него эти уроки с раздражительным, требовательным отцом. Но уроки составляли только небольшую часть его ежедневных занятий. Гораздо больше времени уходило у него на самостоятельное чтение и беседы о прочитанном. Стюарт делал заметки относительно каждой книги, которую он читал, и на другой день, во время прогулки с отцом, должен был передавать ему ее содержание. В течение нескольких лет семья Милля жила в небольшом городке, почти в деревне. Мальчик очень любил природу, но первые воспоминания о зеленых полях и деревенском просторе смешивались в его уме с воспоминаниями об этих полуобязательных серьезных беседах.
Из прочитанных книг маленькому Миллю больше всего нравилась «История Филиппа II и Филиппа III» Ватсона. Он приходил в восторг от описания битв и героических подвигов мальтийских рыцарей в борьбе с турками и восставших жителей нидерландских провинций в борьбе с испанцами. Уже в этом раннем возрасте симпатии его настолько определились, что он всегда стоял на стороне угнетаемых против угнетателей. Только когда ему пришлось читать об основании Североамериканских Соединенных Штатов, он, вследствие понятного детского патриотизма, не мог сочувствовать американцам.
Отец поспешил указать сыну на эту непоследовательность, и мальчик изменил свой взгляд.
Таким образом отец Стюарта старался расширить его детский кругозор и пользовался всяким случаем, чтобы внушить ему свои взгляды на нравственность и политику.
Чтобы развить в мальчике энергию и предприимчивость, отец давал ему читать такие книги, в которых описывались мужественные, непоколебимые люди, умевшие бороться и побеждать всевозможные затруднения, – истории разных путешественников, завоевателей и так далее. Но книги для легкого чтения были совершенно исключены из библиотеки маленького Милля. Случайно ему попался в руки «Робинзон Крузо», и он с наслаждением читал и перечитывал бесчисленное число раз это вечно юное описание борьбы человека с природой.
Когда Стюарту было пять лет, в кружке знакомых его отца о нем уже говорили как о феноменальном ребенке, поражающем своими способностями и познаниями.
Одна знатная дама, леди Спенсер, заинтересованная этими рассказами, просила Бентама привести к ней маленького Милля. Последний охотно принял приглашение и, не стесняясь новой для него обстановкой незнакомого дома, вступил с хозяйкой в горячий спор о сравнительных достоинствах Мальборо и Веллингтона как полководцев.
Неизвестно, кто остался победителем в этом оригинальном споре.
Не ограничиваясь чтением исторических сочинений, шестилетний Милль и сам пробовал свои силы на поприще сочинительства. Так, он написал историю Рима, Голландии и даже «Краткие начала всемирной истории». Отец поощрял эти попытки, но был настолько благоразумен, что никогда не заглядывал в его бумаги и не запугивал юного автора критическими замечаниями. Впоследствии Стюарт уничтожил все свои детские произведения, но у одной его знакомой дамы сохранилась копия с одного из них – «Истории Рима». Приведем начало этого любопытного исторического опыта, который мог бы занять около четырех страниц обыкновенной печати.
Первая глава озаглавлена «Альбанское царство. Римские завоевания в Италии» и начинается следующим образом:
«По словам Дионисия Галикарнасского, мы ничего не знаем об истории Рима до сицилийского нашествия. До этого времени страна не подвергалась чужеземным нашествиям. После изгнания сицилийцев иберийские цари правили страной несколько лет; но в царствование Латина Эней, сын Венеры и Анхиза, прибыл в Италию и основал царство, названное Альбалонгой. Он наследовал Латину и начал войну с итальянскими народами. Рутулы – народ, живший у моря, – восстали против него. Но Турн, их царь, был разбит и убит Энеем. Эней был убит вскоре после этого. Война с рутулами продолжалась до времени Ромула, первого царя Рима. Им был основан Рим».
Далее история продолжается в том же роде. Юный историк не хочет отстать от известных ему авторов и старается придать своему труду ученый вид, помещая время от времени ссылки и критические замечания по поводу цитируемых им писателей древнего мира.
Восьми лет Стюарт начал изучать латинский язык и в течение первого года прочел Корнелия Непота и комментарии Цезаря. Отец считал его уже настолько зрелым, что поручил ему обучение младших братьев и сестер. Эти обязательные уроки очень не нравились Стюарту: они отнимали у него много времени, и, кроме того, на нем лежала ответственность за успехи учеников, которые не были особенно понятливы и прилежны. Милль говорил впоследствии, что он на собственном опыте убедился, как нехорошо влияет такая система и на учителя, и на ученика.
В этом году вся семья Милля проводила лето в великолепном поместье Бентама, на юге Англии. Старинное средневековое аббатство в готическом стиле, служившее резиденцией Бентаму, произвело очень сильное впечатление на Стюарта. Он с восторгом описывал одному своему знакомому внутреннее убранство аббатства, высокие просторные комнаты со сводами, расписные позолоченные потолки, богатую живопись на стенах и окнах. Аббатство было окружено тенистым парком, через который протекала река. В парке было много ручьев и водопадов, много живописных лужаек, поросших травой и полевыми цветами. Стюарт Милль с раннего детства любил собирать и засушивать цветы; в этом сказывалось природное поэтическое чувство мальчика, не вполне заглушенное даже той непосильной умственной работой, которую взвалил на него отец. Несколько недель, проведенных в аббатстве, были единственным светлым воспоминанием детства для маленького Милля. Он говорит в своей автобиографии, что контраст между прозаической, мещанской обстановкой квартиры его родителей и великолепием аббатства научил его ценить и понимать красоту.
К 12 годам Милль получил уже такое основательное образование, которое сделало бы честь многим взрослым юношам. Он прочел по-гречески Гомера, Софокла, Еврипида, Аристофана, Ксенофонта, Фукидида, Демосфена, Платона, Аристотеля и многих других; по-латыни – Овидия, Горация, Вергилия, Саллюстия, Тита Ливия, Цицерона и Лукреция.
Он основательно изучил элементарную алгебру и геометрию, прочел несколько сочинений по высшей математике; так как его отец был довольно мало знаком с математикой, то ему приходилось самому справляться со всеми трудностями высшего математического анализа.
Одним из самых больших удовольствий Милля было чтение сочинений по естествознанию. Он с жадностью поглощал трактаты по физике и химии, хотя сам не только никогда не проделывал опытов, но даже никогда не присутствовал при них. История Греции и Рима по-прежнему была любимым предметом чтения Милля. Он продолжал пробовать свои силы в самостоятельных исторических опытах и 12-ти лет написал «Историю государственного устройства Рима» – несравненно более зрелое произведение, чем его прежние исторические опыты, отрывок из которых был приведен выше.
В печати оно составило бы довольно объемистый томик и было написано на основании первоисточников – Тита Ливия и Дионисия.
Прежний детский интерес к войнам заменился более осмысленным отношением к историческим событиям; теперь уже Милля интересует исключительно внутренняя история римского народа, борьба патрициев и плебеев. Нечего и говорить, что все его симпатии были на стороне плебеев, требования которых он защищал по мере сил и умения.
Авторская деятельность юного Милля не ограничивалась этими добровольными сочинениями; отец требовал от него стихотворных упражнений на английском языке. Он был избавлен от писания греческих и латинских стихов – на это решительно не хватало времени, – но отец хотел, чтобы Стюарт умел выражать свои мысли в стихотворной форме, и для этого задавал ему темы, по большей части взятые из древнегреческой жизни, которые он должен был перелагать в стихи. Таким образом Стюарт написал несколько песен в подражание Илиаде Гомера, переводил Горация, воспевал в стихах красоты природы и так далее. Как и следовало ожидать, стихи выходили деревянными, в них не было и тени поэзии.
Но отец Милля вовсе и не стремился сделать из своего сына поэта; Стюарт должен был только выработать в себе умение легко и свободно излагать свои мысли, не стесняясь формой выражения, и в этом отношении стихотворные упражнения могли быть действительно полезны.
В 12 лет Стюарт начал изучать логику. Он прочел под руководством отца «Органон» Аристотеля, несколько схоластических трактатов о логике и «Computatio sive Logica» Гоббса. Отец его считал необходимым всегда разъяснять мальчику, для какой цели ему сообщаются те или другие сведения. Это было особенно важно относительно логики силлогизма, полезность которой подвергается сомнению столькими образованными людьми.
Рядом искусно поставленных вопросов Джеймс Милль старался убедить своего сына, что для точности и ясности мышления следует ознакомиться с теорией силлогизма; он приводил примеры логических погрешностей, изобиловавших в суждениях большинства людей, и предлагал сыну самому решить, в чем заключается источник этих ошибок. По мнению Стюарта Милля, ничто не содействовало в такой мере развитию его мыслительных способностей, как это раннее знакомство с формальной логикой. Он говорит, что первая умственная операция, в которой он достиг известного совершенства, заключалась в умении анализировать неправильную аргументацию и находить источник ее неправильности, – этим он обязан прежде всего практике в решении логических проблем под руководством своего отца, который всегда требовал от него точности и последовательности мысли и не допускал никаких смутных, противоречивых ответов.
Чтение греческих авторов давало обильную пищу для конкретной иллюстрации логических законов, выраженных в отвлеченной форме в теории силлогизма. В этом отношении особенно незаменимы были диалоги Платона, в которых сократический метод является в полном своем блеске. По словам Милля, все логические приемы Платона: «точные, недвусмысленные вопросы, посредством которых он заставляет человека, привыкшего к неясным обобщениям, выразить свою мысль в определенной форме или признать свое невежество; постоянное подтверждение общих положений отдельными примерами; разъяснение отвлеченных истин путем строгого различения исследуемого понятия от всех других, сходных с ним в некоторых отношениях и составляющих одну высшую группу, – все это служит лучшей школой точного мышления и имеет глубокое воспитательное значение». Разбирая и комментируя речи Демосфена, отец обращал внимание Стюарта на то, как искусно великий оратор умел выбирать наиболее подходящий момент для сообщения слушателям какой-нибудь новой мысли; как Демосфен постепенно, шаг за шагом, овладевал вниманием слушателей и подготавливал их к восприятию неприятных для них истин, которые возбудили бы их негодование, если бы были сообщены сразу.
Таким образом, чтение греческих классиков приобретало высокое образовательное значение, и, если некоторые объяснения отца не могли быть вполне усвоены Стюартом, то все-таки они заронили в его ум такие семена, которые в свое время дали обильные плоды. Но, несмотря на все успехи Стюарта, отец редко оставался им доволен. По большей части Стюарту приходилось выслушивать выговоры за свою непонятливость и небрежность. Так, однажды во время прогулки мальчик употребил в разговоре с отцом слово «идея». Отец немедленно потребовал объяснения этого слова и был крайне недоволен, когда Стюарт стал путаться и сбиваться в своих ответах. В другой раз Стюарт повторил избитое выражение, что справедливое в теории может быть неприложимо на практике. Это привело отца в сильнейшее негодование, и он предложил Стюарту самому определить, что он разумеет под теорией и практикой; когда Стюарт убедился в своей полной неспособности дать требуемые определения, отец подробно объяснил ему эти два понятия и выразил свое изумление перед поразительным невежеством сына.
В 13 лет Стюарт начал изучать политическую экономию. Не находя ни одного подходящего руководства (главное сочинение Рикардо еще не было напечатано), Джеймс Милль в устных беседах сам излагал сыну политическую экономию. Мальчик записывал по памяти содержание каждой лекции и на другой день прочитывал ее отцу. Так составился систематический курс политической экономии, который впоследствии был напечатан Джеймсом Миллем под заглавием «Элементы политической экономии».
Как только Рикардо выпустил в свет свои «Начала политической экономии», Стюарт поспешил прочесть эту книгу. Отец дал ему для сравнения книгу Адама Смита «О богатстве народов» и обратил его внимание на большую точность и ясность воззрений Рикардо сравнительно со взглядами Адама Смита.
К этому времени заканчивается первый период умственного развития Милля. Отец и позднее продолжал оказывать на него сильное влияние, но уже не в качестве наставника и учителя, а в качестве опытного друга, к авторитету которого сын всегда относился с величайшим уважением. В 14 лет Стюарт прошел всю школу воспитания и был признан отцом достаточно зрелым, чтобы обходиться без дальнейшего руководительства с чьей бы то ни было стороны.
Каковы же были результаты этого беспримерного в истории педагогики воспитательного опыта? Мы знаем, чему в каком возрасте учился Джон Стюарт Милль, но весь интерес вопроса заключается в том, чему он в действительности научился и как подействовали на него столь рано приобретенные знания.
Отец Милля считает себя компетентным во всех областях знания, но в действительности он был хорошо знаком только с логикой, психологией и политической экономией. Естественные науки были ему известны очень поверхностно, математика и того меньше. Что касается изящной словесности и искусства вообще, то в этой области Джеймс Милль сам признавал себя круглым невеждою. Таким образом, образование, которое он мог дать своему сыну, должно было быть в высшей степени односторонним. И действительно, несмотря на громадные затраты времени и сил, Стюарт Милль, по словам Бэна, в зрелых годах часто жаловался на разные пробелы в своем образовании и в особенности на то, что он слишком мало знаком с точными науками. Работая над «Системой логики», он затруднялся подыскивать примеры из истории науки и должен был обратиться за помощью к Бэну. Мы уже говорили, что Милль никогда не проделывал опытов и не наблюдал в действительности тех явлений, о которых знал по книжкам. Между тем его анализ методов опытного исследования можно считать одной из его самых крупных научных заслуг. Без всякого сомнения, для его работы было бы гораздо полезнее, если бы для экспериментирования на практике он употребил хоть немного того времени, которое он потратил на чтение греческих и римских классиков.
Точно так же историческое образование Милля не может быть названо особенно обширным. В юности он читает без разбора всевозможные исторические сочинения, увлекается изучением одной эпохи, в то время как предшествующие эпохи остаются ему совершенно неизвестными, перечитывает в разное время по нескольку раз одни и те же сочинения, возвращается к древней истории после того, как уже долгое время занимался новой, вообще изучает историю так, как будто у него не было никакого руководителя и он был предоставлен собственной любознательности. Насколько отрывочны были его исторические сведения, можно видеть из того, что, несмотря на весь свой радикализм, он до поездки во Францию был совершенно незнаком с историей французской революции. Эти крупные пробелы в его историческом образовании объясняются тем, что история не была для него предметом обязательного изучения, как классическая литература и математика. Он занимался историей добровольно, в свободное от остальных занятий время: исторические книги заменяли для него изящную литературу и служили отдыхом от обычной напряженной умственной работы. Это не могло не отразиться на характере его исторических познаний. Несмотря на усиленное чтение, Стюарт Милль не вынес из прочитанных книг основательного и полного знания истории.
В воспитании Милля более всего поражает наблюдателя то, что ребенка начали так рано обучать классическим языкам. Шести-семи лет он уже прочел целый ряд греческих книг, среди которых мы находим такие серьезные произведения, как диалоги Платона. Без всякого сомнения, далеко не все прочитанное было действительно усвоено мальчиком. Мы привели выше отрывок из «Истории Рима», написанный Миллем шести лет. Хотя этот отрывок и доказывает, что Милль был удивительно развит для своих лет, но мы не видим в нем следов того обильного чтения, которое, по-видимому, предшествовало его написанию. Сохранилось одно любопытное письмо Стюарта Милля к своим сестрам, написанное на латинском языке; оно доказывает, что Милль неважно владел латинским языком и мало чем превосходит в этом отношении многих своих сверстников. Точно так же он не вполне свободно понимал по-гречески, о чем можно заключить из того, что оригинал «Илиады» не произвел на него никакого впечатления, между тем как перевод Попа привел его в совершенный восторг и открыл ему глаза на поэтические красоты Гомера. Стюарт Милль был слишком завален работой, слишком много учился и читал; ему некогда было основательно знакомиться с изучаемыми предметами; он должен был на лету схватывать разные сведения и спешить дальше. Так, он говорит в своей «Автобиографии», что при изучении дифференциалов ему часто приходилось приниматься за высшие разделы математики, в то время как низшие разделы были усвоены им очень плохо. Понятное дело, что при такой системе работы масса труда должна была пропадать совершенно даром.
Итак, положительные сведения, вынесенные Миллем из школы его отца, были не так обширны, как того можно было ожидать по количеству затраченных усилий. Но результаты умственного воспитания нельзя мерить одним количеством приобретенных знаний; гораздо важнее развитие самих мыслительных способностей и умения трудиться. В этом заключается главная задача воспитания. Отец Милля никогда не заботился о полноте образования сына, но зато он делал все возможное, чтобы приучить Стюарта к самостоятельному мышлению. Когда встречались какие-нибудь затруднения, когда Стюарт чего-либо не понимал, отец не приходил к нему на помощь до тех пор, пока мальчик не исчерпывал всех сил, чтобы самому добиться успеха. Стюарту случалось по нескольку лет мучиться над решением какой-нибудь особенно трудной задачи. Это, конечно, очень замедляло его успехи в науке, но зато было в высшей степени полезно в смысле воспитания ума. Он с раннего детства привык логично и последовательно мыслить и разрешать разные сложные и запутанные вопросы. При сравнении Стюарта Милля с его сверстниками особенно поражает совершенно неестественное в столь юных годах развитие логических способностей мальчика. В 10—12 лет он ничего не принимает на веру, умеет блистательно аргументировать и защищать свои мнения, имеет законченное, выработанное мировоззрение и относится вполне сознательно ко всем явлениям окружающей жизни.
В 12 лет он самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи, изучает такую трудную науку, как высшая математика, и собственными силами справляется с задачами на дифференциальное исчисление. Уже в это время его интересуют также вопросы, разрешение которых впоследствии составило его славу. Так, например, при чтении «Трактата о геометрии» Лежандра он делает остроумную и меткую характеристику метода Лежандра; ему особенно нравится, что Лежандр выводит аксиомы из определений геометрических понятий. В этом он видит подтверждение учения Гоббса, что всякая наука основана на определениях. Такое самостоятельное и критическое отношение к изучаемому предмету свидетельствует о большой силе ума, которой трудно было ожидать у мальчика его лет.
Разумеется, Стюарт был обязан своими успехами прежде всего своим природным блестящим способностям, но без той умственной дрессировки, которой подвергал его отец, он не мог бы развиться так рано. Какою же ценою были достигнуты эти ранние успехи? Мы до сих пор говорили только об умственном развитии Милля, перейдем теперь к влиянию воспитания на характер и нравственный склад мальчика.
Мы говорили выше, что Джеймс Милль не был верующим христианином и даже отрицал нравственное величие христианского учения. Неудивительно, что он постарался внушить сыну такое же отношение к религии. Стюарт Миль был одним из редких в Англии людей, которые не могли в зрелом возрасте отказаться от религии, потому что никогда ее не имели. Он вырос без всяких религиозных убеждений.
Ему не казалось странным, что его соотечественники верят в то, чему он сам не верил, точно так же, как его не удивляли верования тех народов, о которых он читал у Геродота. История приучила его к тому, что люди могут иметь различные взгляды на самые основные вопросы, и совершенное разногласие мнений служило ему дальнейшим подтверждением того же. Таким образом, Милль с раннего детства привык скептически относиться к верованиям большинства и доверять только своему рассудку. Но такая система воспитания имела одно существенное неудобство: отец не считал благоразумным, чтобы Стюарт открыто высказывал свои антирелигиозные убеждения, и советовал ему держать их при себе. Это могло бы приучить мальчика к лицемерию, но, так как ему редко приходилось сталкиваться с чужими, то он и был избавлен от альтернативы – солгать или ослушаться приказания отца. Только дважды в детстве ему пришлось разговаривать о религии со своими сверстниками, и оба раза он не побоялся открыто высказать свои истинные мнения.
Сократ был для маленького Стюарта идеалом нравственного человека. «Меморабилии» Ксенофонта были одной из первых книг, которые он прочел по-гречески, и образ мужественного, благородного философа, осужденного на смерть невежественной толпой, произвел глубокое впечатление на мальчика. Отец любил рассказывать ему в поучение известную басню о выборе Геркулеса и пользовался всяким случаем, чтобы внушить Стюарту уважение к добродетелям древнего мира. Нравственный идеал молодого Стюарта был целиком заимствован у стоиков; выше всего он ставил такие добродетели, как справедливость, умеренность, настойчивость и стремление к общественному благу.
Но условия жизни имеют несравненно большее значение при выработке нравственного склада человека, чем всевозможные поучения. Характер Милля сложился так же рано, как рано наступила для него умственная зрелость. Напряженная умственная работа была главным фактором его жизни, и она наложила неизгладимый отпечаток на весь его нравственный облик. Он работал круглый год по 8—9 часов в день, без всяких праздников, которых отец не допускал ни в коем случае, из опасения приучить сына к безделью. Только исключительно сильная натура могла вынести подобный труд без вреда для здоровья. Он никогда не занимался физическими упражнениями, играющими такую большую роль в системе английского воспитания, – не ездил верхом, не катался на лодке, не играл в крокет; вел в десять лет такой же образ жизни, как его отец – в пятьдесят. Мы уже несколько раз упоминали о том, что у Милля не было в детстве никаких товарищей. Он жил в обществе знакомых отца – Бентама, Грота, Рикардо, людей пожилых и серьезных, занятых исключительно умственными интересами. Подобная обстановка не по годам состарила Милля, убила в корне его детскую жизнерадостность и чрезвычайно ослабила его способность к наслаждению. Она подготовила тот душевный кризис, который в 20 лет чуть не привел Милля к самоубийству.
Привыкнув постоянно жить в книгах, Милль чувствовал себя очень неловко в обыденной жизни, был непрактичен, рассеян, не умел справляться с простыми вещами, которые легко давались всем другим, и часто выслушивал за это выговоры от отца. Ко всему, что не касалось учения, он проявлял мало интереса и казался даже вялым. Он сам пишет по этому поводу:
«Дети энергичных родителей обыкновенно бывают неэнергичными, потому что они подавляются личностью своих родителей. Воспитание, которое мне дал отец, более развило во мне способность познавать, чем действовать. Он прекрасно это сознавал и сурово упрекал меня за недостаток энергии. Но, оберегая меня от деморализующего влияния школьной жизни, он ничего не делал, чтобы заменить для меня ее светлые стороны. Ему казалось, что я легко приобрету те качества, которые ему самому давались без всяких усилий. На эту сторону воспитания он не обратил такого тщательного внимания, как на все остальные, и в данном случае, как и в некоторых других, рассчитывал на действие без причины».
Отец Милля не признавал в теории, что чувство любви должно быть основанием нравственности, и сам мало был к нему способен. Но сын имел другую натуру; последующие события его жизни показывают, что он мог любить сильно и горячо. В детстве он страдал от холодности отца.
«В отношении отца к нам, – пишет он в своей автобиографии, – более всего не хватало нежности. Я не думаю, чтобы этот недостаток лежал в самой натуре отца. Как и большинство англичан, он стыдился выражать нежные чувства, и этим самым заглушал их в себе! Если мы подумаем о том, что он был единственным наставником своих детей и что он от природы был раздражительным, то нельзя будет не пожалеть этого бедного отца, который так много делал для своих детей, так заслуживал их привязанности и в то же время сам постоянно сознавал, что страх перед ним убивает в детях любовь к нему… Я не думаю, чтобы в деле воспитания можно было совершенно обойтись без помощи страха; но я уверен, что не на этом чувстве оно должно быть основано; и когда страх преобладает в такой мере, что мешает детям относиться к родителям с любовью и доверием и делает их неоткровенными и необщительными, то тогда он является большим злом, которое нужно принимать в расчет, как бы ни было воспитание благодетельно в других отношениях».
Когда Миллю в зрелых годах приходилось говорить с близкими людьми о своем воспитании, то он вспоминал о нем без всякого удовольствия; по его словам, подобное форсирование умственных способностей ребенка в большинстве случаев прямо вредно, а когда оно приводит к желательным результатам, то успех покупается слишком дорогой ценой.
Глава III
Поездка Милля на юг Франции. – Увлечение Бентамом. – Кружки молодежи и влияние их на Милля.
В 1820 году обычное однообразие жизни Милля было нарушено событием, имевшим чрезвычайно большое значение в его жизни: он получил от Сэмюэла Бентама, брата знаменитого юриста, приглашение провести несколько месяцев в его поместье, на юге Франции. В то время Миллю было уже 14 лет, и отец по примеру римских патрициев, посылавших своих детей путешествовать после того, как теоретическое образование их закончилось, охотно отпустил сына из родительского дома. Перед отъездом он позвал сына к себе и долго говорил с ним. Вот как сам Милль описывает этот разговор:
«Я помню то место в Гайд-парке, где накануне моего отъезда из дома на долгое время отец сказал мне, что, познакомившись с новыми людьми, я увижу, что имею много таких сведений, которых лишено большинство моих сверстников; мне будут говорить об этом и хвалить меня. Но если я знаю больше, чем другие, то этим я обязан не своим собственным силам, а тому обстоятельству, что на мою долю выпало редкое счастье иметь отца, который умел и хотел обучать меня сам. Как и всему тому, что мне говорил отец, я поверил и неожиданному открытию, что я знаю больше, чем другие хорошо воспитанные юноши, но это нисколько не взволновало меня. Я не чувствовал гордости вследствие того, что другие знают меньше меня, и мое самолюбие нимало не было этим польщено. Но я был убежден, что все, сказанное отцом о моих преимуществах, есть несомненная истина, и это убеждение сохранилось у меня на протяжении моей юности».
Милль вел обстоятельный дневник своего путешествия, которое внесло в его жизнь множество новых впечатлений и избавило его на время от неусыпного контроля отца.
В Париже он познакомился с семейством известного экономиста Жана Батиста Сэя, бывшего близким другом его отца. Младший сын Сэя, Альфред, взялся быть гидом юного путешественника и показывал ему Париж. Описывая отцу достопримечательности столицы Франции, Милль с негодованием говорит о «расточительном герцоге Орлеанском, который, разорившись от безрассудной жизни и кутежей, решился отдать внаймы под магазины нижний этаж своего колоссального дворца».
У Сэя Милль встречал многих выдающихся французских ученых и писателей; но, несмотря на то, что по своему умственному развитию он казался взрослым человеком и бывал на правах равного в таком избранном обществе, юные годы брали свое: так, одно воскресенье он провел довольно необыкновенным для себя образом – целый день играл с Альфредом в мяч.
Несмотря на свои радикальные убеждения, юный Милль не был свободен от английской чопорности. Он подробно описывает отцу злоключения своего дальнейшего путешествия из Парижа. По ошибке он сел на наружное место дилижанса, который должен был доставить его из Парижа в Тулузу. Он очутился в самой низменной компании: около него сидел толстый мясник и все время курил трубку; потом мясника сменила растрепанная, грязная и очень некрасивая крестьянка. Юный радикал очень страдал от такого соседства, не мог любоваться прекрасными видами, которые перед ним открывались, и отдыхал душой только тогда, когда дилижанс приезжал на станцию. Тогда он сходил вниз и присоединялся к джентльменскому обществу, помещавшемуся внутри дилижанса. Наконец освободилось место внизу, Милль поспешил его занять, но на это же место предъявляла требования какая-то дама. Милль не хотел уступать, дело дошло до мэра и решилось в пользу настойчивого юноши. Он перебрался на свое новое место и мог беспрепятственно наслаждаться природой.
Бентамы жили в пяти верстах от Тулузы, в старинном замке, который был очень живописно расположен на крутой горе, возвышавшейся над долиной Гаронны. Южная природа, новые люди, странные для англичанина обычаи местных жителей, религиозные процессии, образчик которых Миллю пришлось увидеть на второй же день после прибытия, – все это чрезвычайно заинтересовало юношу, но все-таки не могло заставить его позабыть о своих обычных занятиях.
Уже на четвертый день он принимается за работу, и его дневник делается подробным отчетом о ежедневных занятиях. Приведем выдержки из этого дневника:
«29. Поздно вернулся с утреннего купания. Перечитал эклогу Вергилия, закончил „Vocalium Judicium“, написал несколько французских переводов и прочел несколько стихотворений Буало. Спрашивал м-ра Джорджа о приемах дифференциального исчисления и решил все оставшиеся задачи в курсе Лакруа. Решил несколько задач из курса Веста, в том числе одну очень трудную. После обеда начал „Cataplus“ Лукиана.
30. Читал две эклоги Вергилия. Кончил „Cataplus“. Читал Лежандра, нашел неточность в одном его доказательстве. Писал французские упражнения, читал „Логику“ Сандерсона и „Химию“ Томсона».
Семья Бентамов, в которой Милль прожил более года, состояла из отца, матери, сына и трех дочерей. Глава семьи, сэр Сэмюэл, раньше был на военной службе, занимал довольно важную должность в морском министерстве, но потом добровольно вышел в отставку и поселился на юге Франции. Жена его была выдающейся по уму и образованию женщиной; сын, Джордж Бентам, сделался впоследствии известным ботаником. Все они были очень расположены к Миллю, особенно леди Бентам, относившаяся к нему с материнской заботливостью. Ей пришлось потратить много усилий на то, чтобы хоть немного «отшлифовать» своего гостя. При всей своей учености и солидности Милль совсем не умел держать себя в обществе, одевался плохо, имел угловатые манеры и часто ставил своих светских хозяев в неловкое положение. Еще более неприятное впечатление производила на них страсть молодого Милля к спорам, за которую многие упрекали его, хотя и совсем неосновательно, в самомнении. Привычка к спорам была в нем просто следствием его воспитания: отец приучил его ничего не принимать на веру, и поэтому мальчик с детства привык без всякого смущения вмешиваться в разговоры старших и возражать им. Такие свободные манеры никого не шокировали в обществе друзей Джеймса Милля, – но в том кругу, к которому принадлежали Бентамы, они казались невоспитанностью самого дурного тона. Леди Бентам взялась за светское воспитание Милля и уговорила его учиться верховой езде, танцам, фехтованию и пению. По своему обыкновению, Милль с чрезвычайной добросовестностью относился к своим новым занятиям, но преуспевал в них довольно мало. Леди Бентам так и не удалось сделать из него светского молодого человека.
Несмотря на все это, семья Бентама очень полюбила Милля и уговорила его прожить у них на несколько месяцев дольше, чем он предполагал. В этом странном неуклюжем мальчике, с такой вдумчивостью и серьезностью относившемуся ко всему, что его окружает, таился неистощимый запас добродушия и искренности, привлекавший к нему всех, кто имел случай поближе узнать его. Он был очень удобным, покладистым гостем, нисколько не обижался на все замечания леди Бентам и даже был ей очень за них благодарен.
Миллю очень нравилось его новое местопребывание. Он любил предпринимать далекие пешеходные прогулки по окрестностям Тулузы, собирать по дороге растения и насекомых, заводить при случае разговоры с попадавшимися ему на пути крестьянами, присматриваться к их образу жизни, нравам и обычаям. По большей части ему приходилось гулять одному; Джордж Бентам присоединялся к нему только в тех случаях, когда его экскурсии имели научные цели.
В замке у сэра Бентама собиралось лучшее провинциальное общество – старинное французское дворянство и высшая буржуазия. Общество это совсем не походило на то, какое Милль встречал в Англии, в доме своего отца. Его поражал «контраст между откровенностью, общительностью и любезностью французов и суровыми английскими нравами, требующими, чтобы каждый относился ко всем окружающим, как к своим злейшим врагам». Таким образом, время проходило разнообразно и интересно, хотя большую часть дня Милль по-прежнему посвящал занятиям. Однажды ему случилось целый день провести без книг: Бентамы переезжали в другое место и книги надо было упаковать с другими вещами. Бедный Милль совершенно растерялся и очутился в самом беспомощном положении. Обыкновенно он вставал очень рано, но теперь пишет в своем дневнике: «Нарочно долго не вставал и лежал в постели, чтобы как-нибудь скоротать время». Весь день этот 14-летний мальчик томился скукой и не знал, куда ему себя девать; попробовал пойти гулять подальше, но к обеду пришлось вернуться домой. В течение вечера Милль так истомился, что на следующий день кто-то сжалился над ним и достал ему несколько книг. Настроение духа его тотчас же изменилось, как только он снова почувствовал себя в своей родной стихии, и он с удовольствием принимается опять заносить в дневник отчет о своих ежедневных занятиях.
Этот эпизод настолько характерен, что не нуждается в комментариях. Милль вырос среди книг, думал о книгах, развлекался только книгами, и они сделались для него такими же необходимыми, как вода для рыбы. Но хотя воспитание и ослабило восприимчивость Милля к впечатлениям окружающей жизни, по натуре он не был сухим, педантичным, книжным человеком. Чудная южная природа производила на него свое действие. Только что описанное происшествие случилось вскоре после его приезда во Францию, и надо думать, что, если бы оно случилось попозже, наш юный жрец науки сумел бы с удовольствием провести свободное время. К сожалению, Бэн, по которому мы цитируем дневник Милля, обрывает этот дневник на самом интересном месте. По его словам, последующая часть дневника производит совсем другое впечатление и доказывает, что Милль все более и более увлекался природой; стиль его теряет свою прежнюю лаконичность и сухость – он пространно описывает крестьянские обычаи, сцены мирной деревенской жизни и поэтичные приморские пейзажи, которые приводят его в восторг своей красотой.
Из Тулузы Милль предпринял экскурсию в Пиренеи и провел несколько недель на вилле сэра Сэмюэла у подножья одинокой скалистой горы, неподалеку от Монпелье; грандиозная горная природа глубоко поразила воображение юноши, и он заканчивает описание этой живописной местности восклицанием: «Jamais je ne l'oublierai, la vue du côté méridional!» («Я никогда не забуду вид на южную сторону!»).
В Монпелье Милль прослушал курс лекций по химии, зоологии и философии. Он остался очень доволен результатами своего первого и последнего опыта университетских занятий, но еще больше пользы он вынес из общения с французскими студентами и профессорами. Он говорит по этому поводу в своей автобиографии:
«Пребывание во Франции было для меня особенно полезным потому, что доставило мне возможность провести целый год в свободной и радостной атмосфере континентальной жизни. Из своего знакомства с французским обществом я вынес глубокий и постоянный интерес к континентальному либерализму, за успехами которого я с этого времени следил так же усердно, как за английской политикой. Это, в свою очередь, оказало самое лучшее влияние на мое умственное развитие, избавило меня от коренной английской ошибки судить обо всем в мире по английской мерке».
В июле 1821 года Милль вернулся на родину, и его жизнь пошла прежним порядком, с той только разницей, что отец предоставил ему больше свободы в распределении своих занятий и перестал давать ему уроки. Прочитанные книги были единственными событиями за это время, которые Милль считает достойными упоминания в своей автобиографии. Он случайно познакомился с историей Французской революции и был глубоко поражен тем, что демократические принципы, не имевшие в 20-х годах успеха в Англии и Европе, достигли такого торжества во Франции в конце прошлого столетия и были в течение долгого времени символом веры для всей нации. Раньше Милль имел очень смутные представления о Французской революции. Он знал только то, что французы свергли абсолютную монархию Людовиков XIV и XV, казнили короля и королеву, гильотинировали множество людей, в том числе и Лавуазье, и, в конце концов, подчинились деспотизму Бонапарта. Но когда Милль узнал подробности великого переворота, он увлекся им с юношеским энтузиазмом. Ему казалось, что в будущем может повториться нечто подобное, и он мечтал о славе играть роль жирондиста в английском конвенте.
Примерно в это же время Милль прочел трактат Дюмона «Принципы законодательства», содержащий в себе подробное изложение взглядов Бентама. Он сам следующим образом описывает впечатление, произведенное на него этой книгой:
«Чтение трактата Дюмона составило эпоху в моей жизни и было поворотным пунктом в моем умственном развитии. Все мое предшествующее воспитание было до известной степени основано на учении Бентама. Отец с ранних лет учил меня прилагать к делу бентамовский критерий „наибольшего счастья“; тем не менее с первых же страниц книги Дюмона этот принцип поразил меня, как нечто совершенно новое. Особенно сильное впечатление я вынес из первой главы, в которой излагается критика Бентамом ходячих суждений о нравственности и политике, основанных на таких фразах, как „естественный ход вещей“, „закон природы“, „нравственное чувство“ и так далее. Бентам доказывает, что все это не что иное, как скрытый догматизм, который не приводит никаких обоснований чувству, а выставляет само чувство как основание умозаключения. Раньше мне не приходило в голову, что с помощью принципа наибольшего счастья можно покончить со всеми такими рассуждениями. Я стал считать, что все прежние этические доктрины отжили свое время и наступает новая эра человеческой мысли. Когда я дочитал трактат Дюмона, я сделался другим человеком. Принцип полезности, как его понимает Бентам, сделался краеугольным камнем всей совокупности моих отрывочных и несистематических знаний. Теперь у меня был свой символ веры, своя доктрина, своя философия, своя религия в самом великом смысле этого слова, – религия, распространение которой мне казалось высшей целью жизни».
Мало-помалу Милль освободился от непосредственного влияния отца и завел свой собственный круг знакомых. Среди них особенно выделялся Чарлз Остин – молодой человек на несколько лет старше Милля, недавно окончивший Кембриджский университет, среди воспитанников которого он приобрел большую популярность своим ораторским талантом. Он был самым влиятельным членом студенческого клуба, служившего обычной ареной для умственных состязаний лучшей части кембриджского студенчества. Чарлз Остин первенствовал во всех дебатах и обыкновенно выходил из них победителем. По окончании университета он не порывал связи с прежними товарищами и продолжал играть среди них роль вождя. Через него Милль познакомился с Маколеем, лордом Ромелли и другими молодыми людьми, приобретшими впоследствии известность на поприще политики и литературы. Бэн рассказывает о впечатлении, которое Милль производил на компанию бывших кембриджских студентов: их поражал контраст между его детской фигурой и тонким голосом и силой его строго логичной последовательной аргументации.
Остин был чрезвычайно талантливым человеком, обладавшим громадной силой воли и привыкшим царить и повелевать в своем кружке. Он так же увлекался Бентамом, как и Милль, который, со свойственной ему восприимчивостью к чужому влиянию, в скором времени совершенно подчинился своему новому знакомому. Он дает в своей «Автобиографии» следующую характеристику Остина:
«Это был первый мой знакомый, с которым я стоял на совершенно равной ноге в умственном отношении, хотя я далеко отставал от него по развитию. Этот человек производил глубокое впечатление на всех, с кем ему приходилось сталкиваться, даже если взгляды последних совершенно расходились с его собственными. Люди, знавшие его ближе, предсказывали ему блестящую роль в общественной жизни. Он искал борьбу и находил в ней наслаждение. Он излагал доктрины Бентама, стараясь придать им возможно резкую форму и преувеличивая все то, что могло оскорбить предвзятые мнения других».
По словам Милля, многие ходячие неверные представления о школе Бентама были основаны на парадоксах Чарлза Остина.
Пример вождя действовал заразительно на его сподвижников, и они усвоили в разговорах с посторонними такой же самоуверенный тон, каким отличались речи Остина. Милль не отставал от прочих и тоже со всем пылом юности пропагандировал учение Бентама. Молодые последователи Бентама стремились образовать нечто вроде секты, с обязательным для всех ее членов Символом веры, который бы представлял из себя квинтэссенцию политического, философского и религиозного радикализма. Милль предложил товарищам составить общество для изучения и разработки философии Бентама. Этот кружок получил название «Утилитарное общество»; так был впервые введен в употребление термин, получивший впоследствии такую широкую известность. Само слово «утилитаризм» не было выдумано Миллем, а было заимствовано им из одного романа Гальта, в котором представлен шотландский священник, увещевающий своих прихожан не покидать истинной веры и не делаться утилитаристами. Товарищи Милля с восторгом приняли эту новую кличку и в своих частных разговорах называли друг друга не иначе, как утилитаристами.
«Утилитарное общество» существовало около трех лет. Оно никогда не было многочисленным и даже во время наибольшего процветания число членов его не превышало десяти. Членами были самые близкие приятели Милля – молодые люди приблизительно одного возраста, но далеко не одинакового развития. Лидером их был сам Милль, так как более зрелые бентамисты, например, Остин, не принимали никакого участия в «Утилитарном обществе». Занятия общества заключались в чтении рефератов, написанных в духе утилитарной философии, и в устных дебатах по поводу прочитанного. Ораторские упражнения были не бесполезны для Милля, но так как он стоял значительно выше товарищей по своему развитию, то устроенное им общество не могло существенным образом увеличить его познания и расширить его умственный кругозор. В то же время это общество сыграло большую роль в его жизни: выросши среди людей, бывших гораздо старше его, он впервые очутился в среде своих сверстников, получил возможность влиять на других и содействовать распространению увлекавших его теоретических учений.
Результаты деятельности Милля были довольно удачные, так как ему удалось завербовать в свой кружок очень даровитых молодых людей, до этого времени остававшихся чуждыми новому учению.
Настоящим главою этого кружка был отец Стюарта – Джеймс Милль. Философские воззрения Бентама и Джеймса Милля проникали в общество главным образом посредством трех каналов: во-первых, фанатическим и неутомимым проповедником нового слова был Джон Стюарт Милль, находившийся в это время под полным и неограниченным влиянием отца. Во-вторых, среди бывших кембриджских студентов принципы утилитарной философии пропагандировались Чарлзом Остином, а в самом Кембриджском университете те же взгляды проповедовались одним из ближайших друзей Милля – Туком. Таким образом, в обществе образовалось несколько кружков бентамистов, связанных между собой единством философского и политического миросозерцания.
Учение Бентама о том, что достижение наибольшего счастья на земле должно быть единственной целью нравственности и политики, было главным основанием этого миросозерцания, но последнее не исчерпывалось им одним. Все лица, присоединявшиеся к взглядам Джеймса Милля, признавали психологическое учение Гартли существенным пунктом своей философской программы. Они отрицали существование в нашем уме каких бы то ни было прирожденных идей; человеческий ум есть tabula rasa, и только путем индивидуального опыта он может усваивать новые истины и познавать устройство вселенной. Отрывочные впечатления, получаемые нами извне, под влиянием воздействия на наш организм сил природы, связываются друг с другом и образуют одно слитное целое под влиянием основного психологического закона ассоциации. Нравственные понятия – справедливость, долг и так далее – возникают в нас сходным путем, под влиянием ассоциации между представлениями об известных поступках и их обычных последствиях. Человеческий характер также образуется воспитанием и условиями жизни, как кристаллы осаждаются в растворе. Поэтому не существует границы нравственному совершенствованию человека, если только воспитание его ведется разумным образом.
По своим экономическим воззрениям последователи Джеймса Милля и Бентама примыкали к Мальтусу, но с одним существенным отличием – они понимали в обратном смысле закон народонаселения, на основании которого Мальтус утверждал неустранимость бедности и нищеты на земле, и верили в легкую достижимость общего благополучия вследствие добровольного воздержания рабочего класса от чрезмерного размножения. В области политики они стояли за представительное правление и свободу печати в самом широком смысле этого слова. Их вера в могущество разума была так сильна, что они считали одним из главных средств для достижения лучшего государственного устройства предоставление народу свободы читать, слушать и говорить все, что ему заблагорассудится.
Все эти воззрения с восторгом усваивались небольшой группой молодежи, к которой принадлежал и Джон Стюарт Милль. Любопытно, что хотя он и был главным проповедником нового слова, он увлекался им менее, чем другие его товарищи.
В «Автобиографии» Милль дает себе следующую характеристику:
«Столь обычное определение бентамиста, как „мыслящая машина“, не было несправедливо относительно меня в этот период моей жизни. У меня было много честолюбия и жажды превосходства и почестей; чувством, покрывающим все остальные, было стремление к тому, что я считал общественным благом; но это стремление имело совершенно отвлеченный характер. Оно не основывалось на живом и глубоком чувстве симпатии и любви к людям. Точно так же оно не вытекало из идеального увлечения благородными свойствами человеческой души. Я был очень восприимчив ко всему подобному, но в моем воспитании не хватало настоящей пищи для таких чувствований, именно поэтического элемента, и в то же время было слишком много противоположного элемента – логики и анализа. К тому же отец всегда учил меня не придавать большого значения чувству. Все наши взгляды, которым мы придавали больше всего значения, постоянно оспаривались именно со стороны чувства; полезность называлась холодным расчетом, политическая экономия – жестокосердой наукой, и так далее. Такие возражения мы называли „сентиментальностью“, и это слово вместе с эпитетами „декламация“ и „общее место“ служили нам высшими выражениями порицания. Хотя обыкновенно мы бывали правы в этих спорах, они производили на нас вредное действие, побуждая нас совершенно пренебрегать развитием чувства в нас самих и мало думать об этом вопросе. Наша задача заключалась в том, чтобы изменить мнения людей; заставить их поверить в силу разума и понять собственные интересы… Вследствие этого мы мало ценили поэзию, как и произведения человеческой фантазии вообще. В обществе привыкли считать бентамистов врагами поэзии. Это вряд ли было верно относительно самого Бентама и было совсем неверно относительно многих из нас; что касается моего отца и меня, то мы в теории были совершенно равнодушны к поэзии. Я не любил сентиментальности ни в стихах, ни в прозе и не придавал значения поэзии в деле воспитания человеческого духа, но сам лично очень увлекался некоторыми поэтическими произведениями. В пору моего наибольшего увлечения Бентамом я прочел Попа „О человеке“ и до сих пор помню, какое громадное впечатление на меня произвели эти стихи. Но, быть может, в это время на меня не подействовала бы поэзия высшего сорта, чем красноречивые рассуждения Попа в стихотворной форме. Поэтические впечатления я испытывал также, читая о жизни и характере великих людей, особенно героев человеческой мысли. Меня воодушевляло описание Сократа в диалогах Платона и некоторые современные биографии, в особенности „Жизнь Тюрго“, написанная Кондорсе. Героические добродетели этого блестящего представителя тех воззрений, которым я глубоко сочувствовал, приводили меня в восторг, и я постоянно прибегал к этой книге, как другие прибегают к своим любимым поэтам, когда чувствовал потребность отдохнуть душою в высших сферах чувства и мысли. Эта же книга избавила меня от моих сектантских увлечений: я перестал называть себя и своих товарищей утилитаристами и оставил дурную привычку при всяком удобном случае выставлять на вид свою сектантскую нетерпимость. Но от внутреннего сектантства я избавился гораздо позже и более постепенно».
С 16-ти лет Милль начал печатать свои произведения. Он поместил в одной газете несколько писем в защиту экономических воззрений Рикардо, которые подвергались нападению в этом органе. Вслед за тем он написал несколько статей о Карлейле. Но настоящая его литературная деятельность началась только в 1824 году, после основания бентамистами своего органа «Westminster Review». В первой же книжке была помещена статья Джеймса Милля, заключающая в себе злую и меткую характеристику либеральной партии, которая заигрывала с народом, но избегала всяких коренных реформ государственного строя. Статья эта обратила на себя общее внимание своей смелостью, и первый номер журнала разошелся в громадном количестве экземпляров. В «Westminster Review» печатались почти все лица, группировавшиеся вокруг Джеймса Милля, но особенно деятельными сотрудниками его были молодые члены «Утилитарного общества». Больше всего писал молодой Милль, помещавший свои статьи, рецензии и разные заметки почти в каждом номере журнала. Журнал вначале шел хорошо, но молодые сотрудники не были им довольны, и Милль замечает, что они доставляли много огорчения редактору своей постоянной критикой помещаемых статей.
«Westminster Review» выходил под той же редакцией в течение четырех лет (с 1824-го по 1828 год). Несмотря на успех первых номеров, журнал не окупал издержек, и издатель принужден был передать его в другие руки. Новая редакция пригласила Милля сотрудничать в журнале, но он наотрез отказался от всякого участия в деле. Последняя статья его, помещенная в «Westminster Review», была посвящена защите деятелей Французской революции от несправедливых нападок Вальтера Скотта в его «Истории Наполеона».
Несмотря на то, что работа в журнале отнимала у молодого Милля много времени, он в 1825 году предпринял очень большой и серьезный труд – Бентам сделал ему лестное предложение приготовить к печати его сочинение «О судебных доказательствах». Работа была нелегкая, так как Бентам трижды принимался за нее и написал три отдельных сочинения, из которых нужно было составить один систематический трактат. Сверх того, Милль должен был сам следить за тем, чтобы в редактируемом им издании не проскользнули какие-либо неточности и ошибки, так как Бентам предоставил ему полную свободу делать всевозможные изменения и добавления к оригиналу. Этой работе Милль приписывает большое влияние на свое умственное развитие. Он перечитал массу книг юридического содержания и научился систематически, по определенному плану, группировать научный материал. Кроме того, чтение рукописи Бентама, написанной блестящим слогом, оказало хорошее действие на выработку его собственного стиля, который сделался более ясным и живым.
Литературная деятельность не мешала Миллю заниматься своим еще далеко не законченным образованием. Успех «Утилитарного общества» внушил ему мысль устроить кружок из лиц одинакового возраста и развития для совместного изучения некоторых наиболее необходимых для общего образования наук. Члены кружка решили собираться два раза в неделю, по утрам. Занятия должны были продолжаться полтора часа, от половины девятого до десяти часов утра. Один из членов кружка читал вслух заранее выбранную книгу, и, если кто-либо был не согласен со взглядами автора или не вполне понимал их, то свободно высказывал свое мнение, и вопрос обсуждался всеми присутствующими. При этом все твердо придерживались правила не прекращать обсуждения спорного вопроса до тех пор, пока все не приходили к какому-нибудь определенному и окончательному решению. Членам кружка иногда приходилось на несколько недель останавливаться над обсуждением какого-нибудь особенно трудного и непонятного места в читаемой книге; они откладывали заключение дебатов с одного заседания на другое, придумывали всевозможные решения и не успокаивались до тех пор, пока не достигали удовлетворительного результата.
Для начала они выбрали предметом своих занятий «Основания политической экономии» Джеймса Милля. За этой книгой последовали «Начала политической экономии» Рикардо и «Рассуждения о ценности» Бэли. Занятия кружка шли очень удачно, и Милль говорит даже, что многие экономические и философские теории, составившие впоследствии его славу, возникли под влиянием споров в этом кружке. Так, между прочим, его теория международной торговли была выработана совместными силами Миллем и Грегамом. Первоначально они хотели напечатать под общей подписью ряд статей, касающихся разных невыясненных вопросов политической экономии, но когда Милль написал эти статьи, то оказалось, что между ним и Грегамом не существует согласия относительно некоторых основных пунктов. Подобным же образом общими силами была разработана теория прибыли и процента, послужившая Миллю основанием в его критике учения Рикардо о том же предмете. Многие изменения, внесенные отцом Милля в третье издание его «Политической экономии», основывались на критических замечаниях членов кружка.
Изучив политическую экономию, кружок принялся за логику. Для первого знакомства выбрано было старое сочинение по логике, написанное на латинском языке иезуитом Du Trieu. Затем прочли «Логику» Уэтли и «Computatio sive Logica» Гоббса. Милль говорит, что первая книга его «Системы логики», содержащая в себе теорию названий и определений, обязана своим происхождением этим беседам в кружке. Более оригинальные мысли высказывались обыкновенно самим Миллем и Грегамом, а остальные члены кружка служили превосходным трибуналом для разрешения спора. С этого времени Милль составил себе план написать систематическое сочинение о логике, хотя и не в таких широких размерах, в каких он его написал впоследствии.
После логики кружок принялся за изучение психологии по сочинениям Гартли и Джеймса Милля, и на этом он закончил свои занятия. Значение кружка для умственного развития Милля лучше всего характеризуется его собственными словами:
«Под влиянием споров в кружке я сделался оригинальным и независимым мыслителем. Благодаря кружку я приобрел, или, по крайней мере, укрепил в себе ту умственную привычку, которой я приписываю все, сделанное мной в области умозрения, а именно: привычку никогда не принимать неполное решение за окончательное разрешение трудностей вопроса; никогда не оставлять неясности в мысли, но упорно думать до тех пор, пока мысль не сделается вполне понятной; никогда не пренебрегать исследованием второстепенных сторон вопроса потому только, что они кажутся маловажными, и, наконец, никогда не допускать мысли, что часть может быть понята раньше целого».
Не довольствуясь прениями в своей собственной среде, члены кружка искали более широкую арену. Один из них случайно попал на заседание «Кооперативного общества», состоящего из последователей Оуэна, и предложил этому обществу устроить публичный диспут на тему о законе народонаселения. Предложение было принято, и в назначенный день аудитория наполнилась сотнями любопытных, друзей и противников бентамистов. Первым выступил Чарлз Остин, произнеся блестящую и остроумную речь в защиту теорий Мальтуса. Спор на эту тему продолжался в течение шести заседаний, но когда все аргументы pro и contra были исчерпаны, разговор перешел на более общую почву – на вопрос о достоинствах системы Оуэна вообще. Страсти разгорались; к той и другой стороне присоединялись добровольные защитники из публики, с величайшим интересом следившей за упорными и продолжительными прениями. Теоретические разногласия не препятствовали оппонентам с полным уважением относиться друг к другу, и спор никогда не переходил на личную почву. Дебаты продолжались в течение четырех месяцев, но противникам так и не удалось убедить друг друга, и победа осталась нерешенной. Успех первого опыта публичных прений навел Милля на мысль устроить специальное «Общество публичных прений». Ему удалось заинтересовать в этом деле влиятельного экономиста Мак-Кулоха, который привлек к участию в обществе многих талантливых молодых людей. На общем собрании учредителей в одном из лондонских ресторанов был выработан устав и намечен подробный список лиц, которых имелось в виду привлечь к участию в публичных прениях. В список этот вошли несколько членов парламента и все знаменитости студенческих кружков Оксфорда и Кембриджа. Труднее всего было найти подходящих ораторов консервативной партии, тогда как либеральные ораторы имелись в изобилии. В числе последних были Маколей, Бульвер и другие. Все они охотно согласились примкнуть к новому обществу, но когда пришлось перейти от слов к делу и выбрать президента для открытия прений, то оказалось, что никто из «знаменитостей» не желает брать на себя этой ответственной роли, и президентом было избрано лицо довольно незначительное.
Наступил торжественный день. Зала была полна народом, «знаменитости» тоже все были налицо, но они решили не говорить, а только слушать. Президент начал вступительную речь… После немногих фраз он стал сбиваться, путаться, не мог связно и понятно изложить самые простые мысли и закончил свое слово среди общего гробового молчания. Это произвело удручающее впечатление на всю аудиторию; последующие ораторы робели, говорили вяло и неубедительно, и первый дебют общества кончился полнейшим фиаско. Приглашенные знаменитости, невозмутимо созерцавшие неудачу своих товарищей, не пришли на помощь растерявшимся учредителям и по окончании заседания удалились с тем, чтобы больше не возвращаться в общество.
Этот неожиданный оборот событий совершенно изменил отношение Милля к учрежденному им обществу. Первоначально он не хотел принимать в нем деятельного участия, но теперь его самолюбие было задето, и он решил взять в свои руки руководство прениями. Первый год общество не имело большого успеха, не обращало на себя внимания молодежи, и прения были неоживленными. Но на следующий год Миллю удалось привлечь к дебатам двух превосходных ораторов консервативного направления, а собственные ряды бентамистов были пополнены выпускниками Кембриджского университета. Прения оживились; почти на каждом заседании происходили ожесточенные битвы между юными радикалами и консерваторами. О них заговорили в публике, и зала заседаний начала наполняться любопытными.
На третий год дела общества пошли еще лучше. К двум состязающимся сторонам присоединилась третья – последователи Кольриджа со Стерлингом и Морисом во главе. Эта новая партия была не менее радикальна, чем сами бентамисты, но коренным образом расходилась с ними по своему философскому мировоззрению и вела одинаково непримиримую борьбу как с консерваторами, так и с радикалами школы Бентама. Споры между этими партиями среди молодежи служили прекрасным отражением умственного движения, волновавшего в то время европейское общество. Консерваторы представляли собой реакцию, последовавшую на континенте после падения Наполеона, бентамисты – политический радикализм, опиравшийся на традиции великой революции конца прошлого столетия, а товарищи Стерлинга – новейший радикализм с метафизической окраской, стремившийся примирить религию с наукой.
Для Милля «Общество публичных прений», в котором он в течение четырех лет был деятельным членом, послужило превосходной школой ораторского искусства. От природы он не был красноречив и с трудом подбирал в разговоре подходящие выражения. Привычка к диспутам не сделала из него блестящего оратора, но развила в нем способность ясно и свободно выражать свои мысли.
Вообще, описанные общества и кружки играли огромную роль в жизни Милля. Под впечатлением общения с горячей и увлекающейся молодежью Милль мало-помалу сделался другим человеком и перестал походить на юного подвижника науки, неспособного ни к какому другому времяпрепровождению, кроме чтения книг. Потребность любви и жажда счастья – эти стремления, наполовину заглушенные в его душе воспитанием, теперь впервые пробудились в нем и подготовили тот душевный кризис, который ему вскоре пришлось пережить.
Глава IV
Душевный кризис в жизни Милля. – Его разочарование в системе Бентама. – Жажда новых идеалов. – Увлечение Уордсвортом. – Изменение его взглядов на значение искусства. – Сближение со Стерлингом.
При воспитании сына Джеймс Милль сделал одну ошибку, свойственную всем книжным людям, всецело поглощенным отвлеченной умственной работой: он судил по самому себе о характере и природных способностях своего сына, был мало знаком с его внутренним миром и не допускал и мысли о том, что система воспитания, пригодная для него самого, может оказаться вредной для сына. Между тем характер Стюарта был несравненно сложнее характера его отца. От отца он унаследовал любовь к труду и настойчивость в достижении намеченных целей, сильно развитое чувство долга и горячее стремление к общественному благу. Но наряду с этим в мягкой и даже женственной натуре Стюарта было много такого, чего был совершенно лишен его отец: он был способен к глубокой и бескорыстной любви, чувствовал потребность в эстетических наслаждениях, восхищался природой, был добродушным и привязчивым товарищем, легко подпадал под чужое влияние, вообще, принадлежал совсем к другому типу людей, чем его суровый и черствый отец. Воспитание, полученное Стюартом, должно было убить в нем все эти свойства, недостойные радикального философа. Но природа оказалась сильнее, – и вот в то время, когда Милль должен был выступить на жизненную арену и начать борьбу во имя того, что он признавал высшим благом, он почувствовал, что ему жить нечем.
Этот тяжелый душевный кризис, который ему пришлось пережить так рано, он следующим образом описывает в своей автобиографии:
«С того момента, как я в первый раз прочел Бентама, у меня была цель в жизни – реформировать человечество. Мои личные представления о счастье совершенно отождествились с этой целью, я поздравлял себя с тем, что мне предстоит счастливая и хорошая жизнь. Но настало время, когда я очнулся от мечты, как от сна. Это случилось осенью 1826 года (когда ему было 20 лет. – Авт.). Я был в тяжелом настроении духа, которое знакомо каждому по собственному опыту; ничто не доставляло мне никакого удовольствия, я относился равнодушно к тому, что в обыкновенное время занимало меня, – вообще, испытывал такое состояние, в каком находятся методисты от сознания своей греховности. В таком настроении я задал себе вопрос: предположим, что все мои желания осуществятся, что все изменения в области правовых институтов и человеческих мнений, о которых я мечтаю, действительно произойдут в настоящий момент, – будет ли это для меня истинным счастьем и радостью? И внутренний голос тотчас же, без малейших колебаний, ответил мне: нет. Сердце мое упало. Все основание моей жизни разрушилось: все мое счастье заключалось в преследовании одной цели. Цель эта перестала меня привлекать; какой же интерес могли представлять для меня средства? Мне казалось, что у меня ничего не осталось в жизни… Вначале я надеялся, что набежавшая туча пройдет сама собой. Но она не проходила. На другой день я проснулся с тяжелым сознанием моего несчастия. Оно преследовало меня повсюду – в обществе и во время моих одиноких занятий. Вряд ли что-нибудь в моей повседневной жизни могло доставить мне хотя бы несколько минут забвения. В течение следующих месяцев туча все более и более сгущалась. Напрасно искал я облегчения в моих любимых книгах, этих памятниках прошедшей доблести и величия, которые раньше так воодушевляли меня. Я их читал теперь без всякого чувства и убедился, что моя любовь к человечеству прошла сама собой… Я часто спрашивал себя, должен ли я продолжать жить, если моя жизнь всегда будет проходить таким образом. И я всегда отвечал себе, что не вынесу такой жизни даже в течение одного года».
Тяжелое состояние духа Милля усиливалось тем, что ему не к кому было обратиться за утешением и поддержкой. Человек, с которым он был более всего близок, – его отец – не был способен понять причины тоски и уныния сына. Джеймс Милль тоже знал мало радости в жизни, не был счастлив и не верил в саму возможность счастья. Но это не приводило его в отчаяние. Жизнь представлялась ему тяжелой и трудной борьбой, от которой никто не имеет права уклоняться, и долг всегда стоял для него на первом плане. Он не нуждался ни в каких внешних стимулах, чтобы неуклонно и настойчиво стремиться к цели, которую наметил себе раз и навсегда. Он смотрел на душевное состояние сына как на постыдное малодушие, заслуживающее сурового порицания, но никак не сочувствия.
Между тем молодой Милль нуждался именно в сочувствии и любви. Он бессознательно тяготился той сухой и безрадостной атмосферой, в которой ему приходилось жить. Сам он называл себя «мыслящей машиной»; но, чтобы удовлетвориться таким существованием, ему нужно было атрофировать в себе большую часть своих душевных способностей. К этой цели и было направлено все его воспитание, но в решительный момент, когда цель казалась уже достигнутой, природа взяла свое, и Милль стал мучительно сознавать пустоту своей жизни, лишенной всяких сильных и ярких впечатлений. Он не мог увлекаться тем, чем увлекается большинство молодых людей его возраста: к женщинам он до сих пор оставался совершенно равнодушным, не влюблялся, не писал стихов и не мечтал «о ней». В его характере было мало честолюбия, и первые успехи, которыми он мог гордиться так рано, скоро перестали льстить его тщеславию, как все то, что слишком легко достигается нами. Наконец, любовь к человечеству, во имя которой он должен был вести борьбу с невежеством и предрассудками своих современников, не вытекала из его сердца и не могла поддерживать и воодушевлять его в трудные минуты жизни, подобные тем, которые он теперь переживал. Таким образом, в душе Милля не осталось никаких предметов желаний – ни благородных, ни эгоистических, – и он почувствовал усталость и пресыщение жизнью раньше, чем начал жить. По его собственным словам, он походил на прекрасно оснащенный корабль, с рулем и экипажем, но без парусов: не хватало двигающей силы, и кораблю грозило крушение.
Но привычка к труду, созданная воспитанием, была такова, что, несмотря на полную нравственную прострацию, Милль не прекращал своих обычных занятий. Он продолжал много читать и писать, говорил речи в устроенных им обществах, но все это делал без всякого увлечения, вяло и апатично. Привыкши анализировать свои душевные движения, он постоянно думал о том, от чего зависело то безотрадное настроение духа, которое его угнетало, и приходил к убеждению, что никто не в силах ему помочь. Он рассуждал следующим образом: все наши нравственные качества суть результат ассоциации; мы любим те вещи, которые обыкновенно причиняют нам удовольствие, не любим того, что причиняет нам страдание. Задача воспитания заключается в том, чтобы создать в душе ребенка твердые и прочные ассоциации между удовольствиями и поведением, направленным ко благу человечества, и ассоциацией страдания с противоположным образом действий. Но при его собственном воспитании на это правило не было обращено достаточного внимания. Отец довольствовался таким слабым воспитательным средством, как похвала одних поступков ребенка и порицание других. Таким путем устанавливались желательные ассоциации, но они были очень слабы. Между тем умственное развитие и вытекающая из него привычка к анализу имеет тенденцию разрушать все непрочные искусственные ассоциации и может привести к полной неспособности испытывать какие бы то ни было сильные желания. Его собственный опыт доказывал справедливость этих рассуждений, и он страдал от невозможности для себя полюбить то, что считал достойным любви.
Все это усиливало тоскливое настроение Милля. Он переживал трудное время: его излюбленные теории не могли оказать ему помощи в такую минуту, когда дело шло о всей его жизни. Он должен был признать, что человеческая душа есть вещь, несравненно более сложная, чем абстракция Бентама, и что одного ума недостаточно для жизни. Последователи Бентама называли сентиментальностью всякое сильное чувство, не придавали никакой важности эстетическим наслаждениям и мечтали преобразовать человеческий род при помощи одного разума. Милль с детства верил всему этому и не мог без мучительной борьбы отказаться от усвоенного им миросозерцания. Учение Бентама он продолжал считать истиной, но не мог уже относиться к нему с прежним увлечением и невольно искал новой веры, новых идеалов, которые воскресили бы в нем бодрость и энергию.
Он стал скептически относиться к своим реформаторским планам: что будут делать люди, чем они наполнят свою жизнь, когда цель будет достигнута и борьба за лучшее будущее увенчается победой? Стоит ли бороться с пороками и невежеством, господствующими в современном обществе, когда успех повлечет за собой только скуку и пресыщение жизнью? Как достигнуть того, чтобы люди были счастливы теми ежедневными будничными событиями, которые составляют главное содержание жизни каждого человека? До тех пор, пока не найдено разрешение этого вопроса, нечего и думать о социальной реформе.
Карлейль в таких выражениях говорил одной общей знакомой об этом кризисе, пережитом Миллем:
«Бедный малый! Он должен был освободиться от бентамизма, и все муки и волнения, перенесенные им, привели его в конце концов к таким мыслям, которые никогда не приходили в голову Бентаму. Но все-таки он слишком любит требовать доказательства для всего. Если бы Стюарт Милль очутился в раю, то он не успокоился бы до тех пор, пока не уяснил бы себе его устройство».
В таком настроении духа Милль оставался около полугода. Наконец это тяжелое состояние мало-помалу начало проходить. Он случайно прочел мемуары Мармонтеля, где очень живо описывались чувства одного молодого человека, потерявшего отца и неожиданно для самого себя сделавшегося единственной опорой осиротевшей семьи. Этот эпизод растрогал Милля до слез. Мысль о том, как он сам поступил бы в подобном случае, воскресила его энергию; он почувствовал, что в его душе еще не все умерло и сохранилось еще достаточно любви к своим близким, чтобы заботиться о них в случае нужды. Он начал с большим интересом относиться к своим обычным занятиям, стал оживляться во время разговора, увлекаться книгами и перестал думать о самоубийстве. Вместе с тем он сделался другим человеком: он стал увлекаться искусствами, в особенности музыкой. Опера Вебера «Оберон» привела его в восторг и воскресила в его душе надежду радоваться и наслаждаться, как все другие люди. Но привычка к анализу и рефлексии продолжала отравлять все его удовольствия: его серьезно мучила мысль, что музыкальные комбинации ограничены, так как октава состоит всего из пяти тонов и двух полутонов, следовательно, когда-нибудь будут исчерпаны все музыкальные мелодни, и человечество не будет больше наслаждаться новизной и оригинальностью музыкальных произведений. Он прекрасно сознавал, что в течение его личной жизни музыкальное творчество не прекратится, но не мог отделять своей собственной судьбы от участи всего человеческого рода. Чтобы полюбить жизнь, Милль должен был поверить в возможность счастья для всех людей.
В самое тяжелое время, когда его мрачное настроение достигло своего апогея, Милль пробовал найти исцеление в поэзии. Он прочитал всего Байрона, – но сходство между настроением байроновских героев и его собственным не могло возбудить в нем особенно радостных чувств. Зато поэмы Уордсворта были настоящим бальзамом для его больной души. Уордсворт описывает все то, что всегда производило глубокое впечатление на Милля: мирную деревенскую жизнь, горные пейзажи, идиллически спокойную природу. Уордсворт показал разочарованному юноше, что, помимо борьбы за идеи, в жизни есть много прекрасного; он научил его любить и понимать незаметную будничную жизнь простых людей, которые родятся и умирают в полной неизвестности, не совершают никаких подвигов и оставляют по себе память только в тесном кругу близких родных. Спокойное созерцательное настроение, господствующее в поэмах Уордсворта, передалось и Миллю, и жизнь перестала казаться ему холодной, мертвенной пустыней. Он убедился, что в жизни есть такой источник радости и счастья, которого никакие социальные реформы не могут иссушить, и что счастье это будет все увеличиваться по мере того, как люди будут становиться гуманнее и научатся лучше понимать и ценить красоту и величие мироздания.
После перемены, происшедшей в мировоззрении Милля, он не мог поддерживать дружеских отношений с прежними товарищами и стал искать новых связей. Вскоре он подружился со своими постоянными оппонентами в «Обществе публичных прений» – Морисом и Стерлингом. Стерлинг был живой, веселый и откровенный человек; в скором времени он сделался самым близким другом Милля. Впоследствии им не удавалось часто видеться, так как Стерлинг имел слабое здоровье и не мог жить в Лондоне. Но когда судьба сводила их вместе, они встречались как братья. Они оба имели большое влияние друг на друга, и, хотя первоначально их философские убеждения были диаметрально противоположны, с течением времени разница в их воззрениях значительно смягчилась. Милль научился ценить Кольриджа и Карлейля – любимых авторов Стерлинга, а последний перестал относиться с пренебрежением к Бентаму и утилитарной философии вообще. Стерлинг рано умер; по словам Милля, это был необыкновенно симпатичный, обаятельный человек, лишенный всякого мелкого тщеславия и всегда готовый принять новое мнение, если оно казалось ему согласным с истиной.
Новые воззрения Милля не укладывались так легко в определенные рамки, как его прежние взгляды. Он не выработал себе никакой определенной философской системы на место покинутых им теорий Бентама. Он проникся убеждением, что априорные теории не могут объяснить всего многообразия и сложности человеческой жизни и что истина обыкновенно лежит одинаково далеко от всех крайних мнений. Он часто говорил впоследствии, что сектанты нередко правы в том, что они признают, но всегда неправы в том, что они отрицают. Милль совершенно отказался от мысли о пригодности одной и той же формы правления для всякого народа, и отрицал практическое значение всех идеальных построений, в которых не приняты во внимание условия времени и места. Относительно демократического строя он тоже значительно изменил свои взгляды. Раньше он был неограниченным приверженцем демократии; теперь же считал необходимым обставить известными гарантиями господство народа из опасения стеснения индивидуальной свободы и деспотизма большинства над меньшинством. Вместе с тем Милль отказался от всяких абсолютных решений в области социальных вопросов и в практической политике стал предпочитать компромиссы радикальным решениям.
Относительно значения чувства в деле морали и личной жизни человека Милль совсем разошелся с Бентамом: он считал главной задачей воспитания развитие в людях чувства любви и симпатии в самых широких размерах, средством для чего должны были служить изящные искусства, со значением которых он познакомился на собственном опыте. Таким образом, взгляды Милля по многим существенным пунктам значительно изменились, хотя в общем его мировоззрение по-прежнему покоилось на признании закона ассоциации основанием всей психологии, а принципа наибольшего счастья – основанием этики и политики. Вначале он был склонен преувеличивать размеры своего разногласия с Бентамом и зашел в этом направлении так далеко, что впоследствии сам признавал несправедливость такого отношения к своему прежнему кумиру.
Новое направление Милля рельефно обнаружилось в его статье о Бентаме, написанной им через несколько лет после описанного перелома в его жизни. В этой статье указаны достоинства и недостатки теории Бентама, но последние очерчены особенно ярко. О самом Бентаме Милль отзывается в таких выражениях:
«Он видел в человеческой душе только то, что доступно самому грубому наблюдению… Его полное незнакомство с более глубокими основаниями человеческого характера помешало ему понять, какое значение имеет эстетическое чувство в деле воспитания человека… Вряд ли кто-либо приступал к делу с более ограниченными представлениями о силах человеческой души, чем Бентам…» и так далее.
Неудивительно, что подобное отношение к Бентаму возбуждало негодование среди его друзей и последователей. Между обеими сторонами возникло охлаждение, продолжавшееся несколько лет. С течением времени старые приятели Милля убедились, что он продолжает оставаться радикалом и утилитаристом, хотя и на свой собственный манер, и между ними опять возобновились хорошие отношения. Что касается его отношений к отцу, то сам Милль описывает их следующим образом:
«По своему настроению и образу мыслей я чувствовал себя очень далеким от отца, даже более далеким, чем это было в действительности, если бы только с обеих сторон было возможно спокойное обсуждение причин разногласия. Но с моим отцом нельзя было спокойно говорить об основных вопросах его мировоззрения, в особенности нельзя было говорить мне, которого он мог считать перебежчиком из своего лагеря. К счастью, мы всегда сходились относительно текущих политических вопросов, преимущественно интересовавших его в это время. Мы мало говорили о том, в чем не были согласны друг с другом. Он знал, что привычка к самостоятельному мышлению, которую он сам так старался развить во мне, приводила меня иногда к взглядам, отличным от его собственных, и замечал, что я неохотно говорил об этом. Я не ожидал ничего хорошего для нас обоих, если бы стал говорить с полной откровенностью, и открыто противоречил отцу только тогда, когда он высказывал свои мысли в такой форме, что я не считал себя вправе молчать».
Между отцом и сыном не было близости, и каждый из них жил своей собственной жизнью.
Около этого времени Милль впервые познакомился с учением сенсимонистов. Он не сочувствовал их практическим планам – уничтожению права наследства и коренной реформе государственного строя, которую они предлагали, но его поразило установленное Базаром разделение истории на органические и критические периоды, разделение, дававшее ключ ко всем колебаниям и сомнениям, волновавшим его лично. По воззрениям сенсимонистов, органические периоды характеризуются религиозностью и согласием большинства людей относительно коренных вопросов добра и зла. Напротив того, в критические периоды, к каковым принадлежит и наше время, люди утрачивают прежнюю веру и истощают свои силы в бесплодных попытках восстановить единство во взглядах, пока не наступает новый органический период. Учение об исторической необходимости периодов веры и неверия успокоило Милля относительно будущности человеческого рода, которому предстоит воспользоваться всем, что было хорошего в прежние века, с их наивной, но глубокой и искренней религиозностью, и сохранить вместе с тем приобретения переходного времени, создавшего свободу мысли и провозгласившего разум своим верховным руководителем.
Точно такое же глубокое впечатление на Милля произвела критика сенсимонистами либерализма и буржуазии. До этого времени Милль привык признавать свободу безусловным благом, а частную собственность – необходимым условием прогресса и цивилизации. Знакомство с сенсимонизмом возбудило в нем скептическое отношение к преимуществам современного социального строя и заронило в его душу симпатии к социализму. В таком настроении его застала Французская революция 1830 года. Он с энтузиазмом отнесся к этому событию, от которого ожидал великих результатов для всего цивилизованного мира. Как только явилась возможность, он поспешил в Париж и постарался завязать сношения с вождями либеральной партии.
По возвращении в Англию Милль продолжал тщательно следить за политическими событиями на континенте и вел в одной газете еженедельную хронику общественной жизни Франции.
Глава V
Дальнейшая жизнь Милля. – Его обширная литературная деятельность. – Служба в Ост-Индской компании. – Издание журнала «London and Westminster Review». – Отношение Милля к своим собратьям по перу. – Переписка его с Контом.
Биография Милля значительно теряет для читателя свой интерес, когда его душевная эволюция завершилась и он окончательно сложился умственно и нравственно. С этих пор его жизнь, наполненная исключительно умственным трудом, пошла гладко и без потрясений. С семнадцати лет он состоял на службе в Ост-Индской компании, сперва клерком, с жалованием около 300 рублей в год на наши деньги, потом – важным чиновником, жалованье которого достигало 20 тысяч рублей. В Ост-Индской компании он служил в течение 35 лет и оставил службу только потому, что в 1858 году Ост-Индская компания, как политическое учреждение, была распущена правительством. Служебное положение Милля было связано с некоторыми неудобствами для него лично, – так, например, он не мог быть выбран членом парламента, пока состоял на службе. Точно так же за все эти долгие 35 лет он не мог отлучиться из Лондона более чем на месяц в течение каждого года, только два раза он по болезни брал более продолжительные отпуска, которыми воспользовался, чтобы объездить Тироль, Швейцарию и Италию. Тем не менее Милль был вполне доволен своей службой и говорит в «Автобиографии», что вряд ли можно было подыскать другое занятие, более пригодное для бедного человека, желающего посвятить свою жизнь умственному труду. Служба в Ост-Индской компании давала хороший заработок, не отнимала много времени (Милль был занят ежедневно от 10 до 16 часов); сами занятия не были утомительны и в то же время настолько содержательны, что не наводили скуки. Они служили Миллю отдыхом и даже были полезны для его литературной деятельности тем, что на практике знакомили его с механизмом государственного управления.
В период с 1830-го по 1848 год Милль совершил большую часть того, что прославило его имя как мыслителя. В 1843 году он издал «Систему логики» – наиболее оригинальное свое произведение, до сих пор оказывающее большое влияние на направление философской мысли в Европе; а в 1848 году – «Основания политической экономии». Кроме того, за это время он написал множество журнальных статей, посвященных самым разнообразным вопросам философии, политики, эстетической критики и так далее. Некоторые из этих статей вошли в собрание его сочинений, но большая часть из них, по самому характеру своей темы, была осуждена на забвение. В течение нескольких лет он сам издавал журнал «London and Westminster Review», не пользовавшийся большим успехом в публике вследствие своего направления, слишком радикального для Англии. Журнал этот отличался от прочих подобных изданий тем, что Милль проводил в нем на практике свою излюбленную идею, что истина может заключаться в противоположных мнениях; поэтому помещаемые в журнале статьи не отличались полным единством направления, хотя они, конечно, не противоречили основным пунктам философской и политической программы Милля.
В числе постоянных сотрудников «London and Westminster Review» мы встречаем Карлейля, несмотря на то, что последний всегда относился с большим пренебрежением к общественным и философским заслугам Бентама. Заметим, кстати, что полное несходство характеров и всей умственной организации не препятствовало Карлейлю и Миллю быть в приятельских отношениях. Милль всеми силами пропагандировал сочинения Карлейля и немедленно по выходе в свет его «Истории Французской революции» поместил в своем журнале восторженный отзыв об этом произведении, которое он называл прямо «гениальным». В «Автобиографии» Милль говорит, что самая крупная заслуга «London and Westminster Review» заключалась в том, что этот журнал содействовал успеху сочинений Карлейля. В этих словах выражается характерное свойство Милля – полнейшее отсутствие зависти к своим собратьям по перу, заслуженные удачи которых радовали его почти столько же, как свои собственные. Можно привести много примеров бескорыстной поддержки, которую Милль оказывал молодым начинающим писателям, часто рискуя при этом своими деньгами. Так, например, когда издатель не решался издать за свой счет сочинение Бэна «Чувство и воля», Милль предложил взять на себя возможные убытки, и книга была напечатана. Другой подобный случай был с Гербертом Спенсером. Предпринятое им многотомное сочинение «Система синтетической философии» находило мало подписчиков, и он объявил им, что вынужден приостановить печатание своего сочинения. Тогда Милль гарантировал Спенсеру необходимые издержки и дал ему возможность закончить начатое дело. Этот случай особенно замечателен потому, что философские воззрения Спенсера значительно расходились со взглядами самого Милля, великодушно оказавшего поддержку своему противнику.
В начале 40-х годов Милль пользовался уже громкой известностью, хотя его главный философский труд «Система логики» еще только готовился к печати. В это время с Миллем познакомился Бэн, впоследствии выдающийся психолог, бывший тогда молодым человеком, только что начавшим пописывать в журналах. Бэн следующим образом описывает их знакомство:
«Немедленно по приезде в Лондон я отправился в здание Ост-Индской компании и осуществил свою давнишнюю мечту лично познакомиться с Миллем. Я никогда не забуду впечатления, которое он произвел на меня, стоя у своей конторки, лицом к двери, через которую мы вошли. Меня прежде всего поразила его высокая, тонкая фигура, моложавое лицо, плешивая голова с редкими белокурыми волосами, румянец на щеках и судорожное подергивание левой брови в то время, как он говорил; затем навсегда запечатлелась в моей памяти живость его манер, его тонкий, почти пронзительный голос, не имевший, впрочем, неприятного оттенка, красивые черты лица с мягким выражением. Чтобы дополнить картину, я должен описать костюм, в котором он каждый день бывал на службе – черный фрак и черный шелковый галстук. Много лет спустя он заменил фрак сюртуком, но черный цвет всегда пользовался его предпочтением».
Брандес, познакомившийся с Миллем в Париже в то время, когда знаменитому мыслителю было 64 года, описывает его наружность почти такими же красками:
«Когда он назвал свою фамилию, я тотчас же вспомнил виденный мною раньше портрет его. Впрочем, последний давал лишь слабое представление о выражении его лица и, понятно, совсем не мог передать его походку и манеру держать себя. Хотя он в это время был уже стариком, лицо его было свежо и румяно, как лицо ребенка. Его темно-синие глаза смотрели бодро и весело, нос у него был тонкий, орлиный, лоб – высокий и выпуклый; можно было думать, что, постоянно работая головой, он тем самым заставил природу расширить помещение для своего мозга. Лицо его с характерными крупными чертами имело простое, но не спокойное выражение: по временам в нем замечались нервные подергивания, как бы указывавшие на неустанную внутреннюю работу. Разговаривая, он как бы подыскивал слова и иногда запинался в начале фразы. Когда он сидел, то благодаря его красивому свежему лицу и высокому гладкому лбу его можно было принять за сравнительно молодого, бодрого человека. Но когда я потом вышел вместе с ним на улицу, я заметил, что, несмотря на свою быструю походку, он несколько прихрамывал и во всей его фигуре сказывалось что-то старческое, хотя он и старался держаться прямо. Костюм заметно старил его; надетый на нем старомодный сюртук доказывал, что он мало заботился о своей внешности».
В 1843 году Милль обнародовал свою «Систему логики», которую он писал с большими перерывами в течение нескольких лет. Его манера писать имела одну характерную особенность: он никогда не мог сразу написать что-либо для печати. У него выработалась привычка сначала заканчивать вчерне свое сочинение и потом начинать его сызнова, пользуясь кое-чем из первоначального наброска, но вместе с тем значительно его видоизменяя. В первом наброске он не заботился о красоте слога и обращал внимание только на план сочинения и группировку материала. По мнению Милля, эта система позволяла соединять живость и непосредственность первоначального изложения с глубиной и серьезностью, достигаемыми только после продолжительной работы мысли. Во всяком случае, нужно было иметь редкую привычку и любовь к труду, чтобы писать по нескольку раз одно и то же.
Раньше чем выпустить в свет свою книгу, Милль дал ее просмотреть в рукописи Бэну, с которым он незадолго до того познакомился. Бэн был в восторге от этого замечательного произведения, но заметил Миллю, что приводимые им примеры опытного исследования слишком немногочисленны и к тому же часто неверны. Он предложил Миллю свою помощь и доставил ему большую часть тех примеров, которые теперь фигурируют в «Системе логики».
Милль не ожидал особенного успеха от своего нового сочинения. Он думал, что большая часть публики не может заинтересоваться книгой, посвященной совершенно абстрактным вопросам, а специалисты не отнесутся к ней сочувственно оттого, что громадное большинство их принадлежит к школе его противников. Единственное, что, по его мнению, могло заинтересовать публику, – это его полемика с Уэвеллем, автором «Истории индуктивных наук».
Милль рассчитывал, что Уэвелль будет ему отвечать немедленно, но расчет этот не оправдался. Уэвелль ответил только через несколько лет, когда «Система логики» выходила уже третьим изданием. Книга имела громадный успех, ее покупали нарасхват, о ней писали пространные статьи, по большей части хвалебного содержания, и она доставила автору выдающееся положение среди мыслителей всего мира.
Старинные знакомые Милля, охладевшие к поклоннику Уордсворта и Карлейля, вернули ему свою благосклонность. Д. Грот возобновил прежние приятельские отношения с сыном своего старого друга и с этого времени сделался одним из самых близких ему людей. Они любили вместе гулять по улицам Лондона, рассуждая о разных философских и метафизических вопросах, которыми Грот интересовался не менее самого Милля. «Система логики» сделалась любимой книгой Грота, хотя он никогда не мог отделаться от некоторого недоверия к неожиданным оборотам мысли своего непостоянного друга.
В 1841 году Милль завязал переписку с Огюстом Контом. Сочинение Конта «Système de philosophie positive» оказало громадное влияние на философские воззрения Милля, открыто, со свойственной ему искренностью, сознававшегося, что некоторые главы «Системы логики» обязаны своим происхождением чтению этого великого труда. Установленные Контом законы социального развития Милль считал замечательным по своей глубине обобщением исторических фактов, но при всем своем увлечении творцом позитивной философии он не мог одобрить его политической системы, основанной на подчинении общества деспотизму духовных руководителей его, в лице ученых и философов.
Переписка между обоими мыслителями продолжалась в течение нескольких лет и имела вначале очень откровенный, даже сердечный характер. Конт подробно описывал свои столкновения с учеными знаменитостями Парижа, возбудившими против него ненависть всемогущего Араго, говорил о своей интимной жизни, о своих неудачах, – вообще, относился к Миллю как к близкому другу. Когда Конту стала угрожать опасность потерять место экзаменатора в Политехнической школе, Милль немедленно предложил ему денежную помощь, несмотря на то, что его собственные дела были очень расстроены вследствие потери нескольких тысяч фунтов стерлингов (несколько десятков тысяч рублей) во время промышленного кризиса, постигшего тогда Англию. Конт отклонил это предложение на том основании, что философы не имеют права помогать друг другу из своих скудных средств; на это существуют богатые люди. Когда «Система логики» была напечатана, Милль немедленно послал экземпляр своего сочинения Конту, который был очень польщен многочисленными комплиментами автора по его адресу. Согласие между ним и в первый раз было нарушено спором о женском вопросе. После нескольких пространных писем Конт объявил, что он считает бесполезным продолжать спор на эту тему, так как он не может привести ни к какому результату. Однако переписка не прекращалась. В 1844 году Конт должен был выйти из Политехнической школы и, таким образом, лишился своего единственного источника дохода; он обратился за помощью к своим английским друзьям, но опять-таки с той оговоркой, что помощь не должна исходить лично от Милля. Милль уговорил Грота и двух других богатых поклонников французского философа оказать ему материальную поддержку, которая была ему так необходима.
В следующем году экономическое положение Конта нисколько не улучшилось. Ему по-прежнему не на что было жить, но Грот решительно отказался помогать своими деньгами писателю, последние произведения которого показались ему в высшей степени вредными по своему направлению. Когда Конт узнал об этом, он написал Миллю негодующее, полное упреков письмо по поводу того, что богатые люди не умеют ценить философов. Милль объяснял отказ Грота принципиальным разногласием, а Конт на это возражал, что во всех основных пунктах взгляды его вполне сходятся со взглядами самого Милля, умышленно преувеличивающего второстепенные различия. Переписка стала принимать характер, неприятный для обоих, и наконец совсем прекратилась. Последнее письмо было написано Миллем, и этим кончились его сношения с Контом, с которым, кстати сказать, он никогда не виделся лично. Во всей этой истории Огюст Конт является в довольно несимпатичном виде, – он отличался властолюбивым характером и стремился применить к действительной жизни свою теорию о необходимости господства избранного философа над прочим человечеством.
В «Системе логики» Милль говорит о необходимости новой социальной науки, которую он называет «политической этологией». Эта наука должна установить законы развития национального характера, исследуя психические особенности целых народов подобно тому, как психология изучает психическую жизнь отдельной личности. Одно время Милль много носился с мыслью создать эту науку и даже набирал материал для нее. Но, убедившись, что задача ему не по силам, он принялся за более легкую работу и в течение полутора лет написал «Основания политической экономии». Скорость работы показывает, что автор был хорошо знаком с избранной им темой; действительно, если мы вспомним, с каких ранних лет Милль начал изучать политическую экономию, нас нисколько не удивит, что он мог в такое время написать объемистое экономическое исследование, более чем в 1000 страниц мелкого текста.
«Основания политической экономии» имели еще больший успех, чем «Система логики». Первое издание было раскуплено в один год, второе – в два года. Новая книга цитировалась всеми как авторитетное изложение экономических истин и сразу приобрела значительное влияние на общественное мнение и даже на практическое законодательство Англии.
После «Оснований политической экономии» Милль в течение некоторого времени не писал ничего крупного и ограничивался небольшими статьями в журналах и газетах. Значительная часть его времени уходила на обширную переписку, часто с людьми совершенно незнакомыми, которые обращались к нему за разъяснением различных общественных и политических вопросов. Милль уже совершил главное дело своей жизни и мог почивать на лаврах.
Глава VI
Знакомство Милля с миссис Тэйлор. – Их двадцатилетняя дружба. – Влияние ее на Милля. – Взгляды Милля на женский вопрос. – Женитьба Милля. – Смерть его жены. – Последние годы жизни Милля. – Его парламентская деятельность. – Смерть Милля.
В 1830 году Милль познакомился с миссис Тэйлор, и это знакомство, по его собственным словам, было «величайшим счастьем его жизни». Мужа ее он знал с детства, но потом они почему-то не виделись и возобновили свои встречи только когда мистер Тэйлор был уже женатым человеком, а самому Миллю было 25 лет. Миссис Тэйлор сразу произвела очень сильное впечатление на молодого Милля. Она была очень хороша собой и, по-видимому, владела тайной покорять себе людей. Карлейль пишет про нее, что она была «бледная, красивая, с большими печальными глазами – настоящая героиня романа». Об уме и характере миссис Тэйлор мы не имеем никаких точных сведений. Несомненно, что она была умной и выдающейся женщиной, потому что иначе она не смогла бы внушить к себе такое благоговейное, почти религиозное поклонение со стороны такого человека, как Милль, который прямо утверждал, что «по сравнению с ее душой все высшие проявления поэзии, философии и искусства кажутся тривиальными» и что ей он обязан всеми своими лучшими мыслями, всем, что есть ценного в его сочинениях. Такое отношение не может объясняться ослеплением влюбленного человека, так как в течение 27 лет его преклонение перед нею не только не ослабевало, а все более и более усиливалось. Но несомненно также, что все его восторженные отзывы были сильно преувеличены. Вот, например, как он характеризует ее в своей «Автобиографии»:
«По своему темпераменту и умственному складу она в молодости несколько напоминала мне Шелли; но Шелли был ребенком перед ней, когда она достигла полной умственной зрелости. В высших сферах умозрения, так же как и в мельчайших деталях повседневной жизни, она всегда умела схватывать саму суть явления и понимала его истинное значение. Ее богатое воображение и пылкая впечатлительность могли бы сделать из нее великую артистку, так же как ее нежная и в то же время страстная душа вместе с ее удивительным красноречием несомненно сделали бы ее великим оратором и вообще одним из вождей человечества, если бы только женщинам открыт был доступ к общественной деятельности. Ее умственные способности вполне соответствовали ее нравственному характеру – самому возвышенному и прекрасному, какой я когда-либо встречал в своей жизни… Любовь к справедливости была одним из самых сильных ее чувств, если не считать ее безграничного великодушия и ее отзывчивости на всякое проявление любви…» и так далее.
Не говоря уже о явно преувеличенном тоне всего этого панегирика, он не дает нам никакого представления о личности миссис Тэйлор. Милль вообще не отличался житейской проницательностью и умением распознавать людей. Много занимаясь психологией, он в жизни был плохим психологом, и индивидуальные особенности людей ускользали от его внимания. Все его красноречивые тирады не воспроизводят перед нами живого образа женщины, игравшей такую громадную роль в его жизни. Мы можем только догадываться о том, что она была за человек, по разным отдельным замечаниям Милля и по отзывам лиц, знавших их обоих. Большинство друзей Милля совершенно не разделяло его высокого мнения о ней: все признавали миссис Тэйлор очень умной женщиной, но утверждали, что в ней нет и тени того, что в ней видел Милль. Многим миссис Тэйлор прямо не нравилась: ее находили аффектированной и высокомерной и удивлялись странному вкусу Милля. Другие же, например Карлейль, приходили от нее в восторг. Но как бы то ни было, уже само это разногласие во мнениях показывает, что она была недюжинным человеком.
По-видимому, миссис Тэйлор обладала теми свойствами, которых Милль был совершенно лишен: ее нервная, впечатлительная натура, артистический темперамент, тонкое понимание и любовь к искусству, разносторонность и полнота ее духовной жизни – все это составляло полную противоположность цельной, прямолинейной натуре Милля. Сближение с нею ввело Милля в новый для него мир любви и женского обаяния, стремление к которому всегда бессознательно жило в его душе. Отец Милля презирал всякие увлечения и старался внушить сыну свои взгляды на мир, но это ему не удалось. Рядом с твердой волей и умственными способностями, унаследованными от отца, в характер Милля неизвестно каким образом вкралось что-то мягкое, женственное, что его суровый воспитатель пренебрежительно определял словом «сентиментальность». Может быть, он унаследовал это от своей кроткой, забитой матери, на которую он был очень похож лицом. Детство, проведенное среди книг, без ласки и радости, молодость, почти ничем не отличающаяся от детства, – все это не могло заглушить в нем потребности в любви и счастье. Как велика была эта потребность, видно хотя бы из следующих его слов. Говоря в «Автобиографии» о пережитом им душевном кризисе, он прибавляет: «Если бы я в то время любил кого-нибудь настолько, что мог бы поделиться с ним своими терзаниями, я не очутился бы в том положении, в каком находился в ту эпоху». Миссис Тэйлор дала ему то, чего он долго и тщетно ждал; она осветила и согрела его жизнь, и Милль, со свойственной ему податливостью к чужому влиянию, вполне подчинился ей, как он раньше подчинялся своему отцу.
В кружке знакомых Милля вскоре заговорили о его увлечении миссис Тэйлор, и эти слухи дошли и до его отца. Можно себе представить негодование Джеймса Милля, когда он узнал, что его сын, которым он так гордился и на воспитание которого положил столько труда, влюблен в замужнюю женщину! В его глазах это было непростительной слабостью, недостойной истинного ученого и философа. Он попробовал выразить сыну свое неудовольствие по этому поводу, но тот ответил, что питает к миссис Тэйлор такие же чувства, как к какому-нибудь товарищу-мужчине, и затем решительно уклонился от всяких дальнейших разговоров. Отец больше не задевал эту тему, и с этого времени имя миссис Тэйлор никогда не упоминалось в семье. Милль не допускал постороннего вмешательства в свои отношения к любимой женщине и разошелся со многими из своих друзей из-за того, что они позволили себе коснуться этого щекотливого пункта. Так, он совсем рассорился с миссис Грот, с Гарриет Мартино, с миссис Остин. Мужчины в данном случае были тактичнее дам и не досаждали ему своими советами и увещаниями.
В своей «Автобиографии» Милль говорит, что в течение двадцати лет, пока был жив муж миссис Тэйлор, их отношения держались исключительно на почве дружбы и совместной умственной работы. Тем не менее, при жизни мистера Тэйлора положение Милля было очень трудное. Он не мог не сознавать, что внес разлад в семью любимой женщины и что его чистая и благоговейная любовь набрасывает на нее тень в глазах общества. Большинство знакомых не верило в идеальный характер их отношений и строго осуждало их обоих.
Муж миссис Тэйлор вел себя вполне по-джентльменски: он предоставил своей жене полную свободу и не мешал ее близости с Миллем, несмотря на все толки, ходившие по этому поводу. Они постоянно виделись у него в доме в Реджент-парке. Бэн рассказывает: «Милль в течение нескольких лет ходил к ней обедать около двух раз в неделю, в те дни, когда мужа ее не было дома. Сверх того, бывали дни, когда он отказывался прогуляться со мной от управления Ост-Индской компании до дому. В один из таких дней я случайно заметил, что он, простившись со мной, поспешно сел в омнибус, направлявшийся в Реджент-парк».
Странно представить себе солидного, рассудительного Милля, каким он рисуется нам по своим сочинениям и по «Автобиографии», тайком от друзей спешащего на свидание!
Позднее миссис Тэйлор большую часть года проводила в деревне в окрестностях Лондона вместе со своей маленькой дочерью Еленой. В деревне Милль виделся с ней чаще, чем в Лондоне. Иногда они вместе предпринимали небольшие поездки за границу. Милль постоянно делился с ней всеми своими мыслями, читал ей черновики своих произведений и придавал большое значение ее суждениям. В своих книгах он часто обращался к ней с восторженными посвящениями; по словам Грота, нужно было иметь репутацию Милля, чтобы позволять себе такие смешные выходки. Например, посвящение в его «Политической экономии» гласит: «Это сочинение, в знак глубочайшего почтения, посвящается миссис Тэйлор, которая из всех известных автору лиц наиболее способна понять и оценить исследование о человеческом прогрессе». Посвящение в его книге «О свободе», вышедшей уже после ее смерти, еще более характерно: «Дорогой памяти той, которая была вдохновительницей и частью автором всего, что есть лучшего в моих сочинениях, жене и другу, чье одобрение было для меня лучшей наградой, – я посвящаю эту книгу. Как и все, что я писал в течение многих лет, эта книга принадлежит столько же ей, сколько и мне».
Каково же было в действительности влияние миссис Тэйлор на научные труды Милля? Несмотря на его собственные заявления, можно думать, что влияние это не было значительно. Прежде всего, он сам говорит в «Автобиографии», что в самом крупном из его сочинений, в «Системе логики», миссис Тэйлор не принимала никакого участия и ограничивалась только замечаниями о стиле. Теоретическая часть «Политической экономии» тоже всецело принадлежит Миллю, но миссис Тэйлор придала этому сочинению ту социальную окраску, которая отличает книгу Милля от прочих курсов политической экономии. Так, благодаря ее настойчивым убеждениям Милль прибавил к своему трактату главу «О будущности рабочих классов». Об этой книге Милль говорит: «Абстрактная и чисто научная часть сочинения принадлежала мне; но от нее исходил гуманный элемент, проникающий собой всю книгу. Я был ее учеником во всем, что касалось приложения философии к требованиям человеческого общества и прогресса».
Эти слова лучше всего показывают нам, какое влияние миссис Тэйлор имела на Милля как на ученого: она не давала ему углубиться в дебри абстракции и постоянно напоминала о реальной жизни и о людях, счастье которых должно быть целью всякого знания. Своим впечатлительным, отзывчивым характером она предохраняла его от сухости и односторонности и заставляла интересоваться тем, что выходило из сферы его научных занятий. В области общественных вопросов она была смелее и радикальнее Милля. До знакомства с миссис Тэйлор он был только демократом, а под ее влиянием стал симпатизировать социализму. Главное же ее значение для Милля заключалось в том, что она была для него нравственной поддержкой, жила его интересами, возбуждала его энергию и заставляла его идти все вперед и вперед.
Единственная книга Милля, которая действительно столько же принадлежит его жене, сколько и ему самому, была книга «О подчиненности женщины». Милль всегда был горячим защитником женской эмансипации, и, как мы уже упоминали, разногласие по этому поводу было одной из причин его разрыва с Контом. Книга «О подчиненности женщины», заключающая в себе взгляды Милля на женский вопрос, является красноречивым, проникнутым глубоким чувством воззванием в пользу женской равноправности и независимости. Теперь она уже не представляет особенного интереса, потому что большинство мнений Милля сделалось истинами, не нуждающимися ни в каких доказательствах и обоснованиях. Но в то время (в 60-х годах) это было целым событием. Особенно горячо ратует Милль за необходимость образования для женщин, доказывая, что по своим умственным способностям женщина стоит нисколько не ниже мужчины и что допущение женщин к высшему образованию будет иметь громадное благотворное влияние на общество, на семью, а также и на мужчин, которые только по какому-то непонятному ослеплению восстают против того, что было бы величайшим счастьем для них самих. Милль на собственном опыте знал, какое значение может иметь умная и развитая жена, и поэтому с полным правом мог написать следующие строки: «Для мыслителя ничто не может быть полезнее, как совершать свой труд в обществе и под критическим надзором умной женщины».
В 1849 году – значит, через 20 лет со времени начала их знакомства – муж миссис Тэйлор умер, и она вышла замуж за Милля. Милль был очень счастлив в своей семейной жизни. Они жили очень замкнуто и уединенно, погруженные в умственные занятия и довольствуясь обществом друг друга. Милль сам говорил про себя впоследствии, что когда он был счастлив, он не нуждался ни в каком обществе, и почти совсем порвал всякие сношения со своими прежними знакомыми. К числу немногих, бывавших в доме Милля после его женитьбы, принадлежали Карлейль с женой. Миссис Милль была большой поклонницей Карлейля. После женитьбы Милль все вечера проводил дома и только раз в месяц ходил в «Экономический клуб». Желающие повидаться с ним должны были идти к нему в здание Ост-Индской компании. Дома он почти никого не принимал.
Но это семейное счастье, которого он ждал в течение стольких лет, продолжалось очень недолго: жена его умерла через семь лет после их свадьбы, в Авиньоне, куда они поехали для поправления ее здоровья. Нечего и говорить о том, как Милль был потрясен ее смертью. Он похоронил ее в Авиньоне и тотчас же вернулся в Англию, где в течение нескольких месяцев жил совершенным отшельником, не видя буквально никого. Когда Бэн пытался несколько успокоить его, он сказал: «Я никогда не оправлюсь от этого удара. Отныне я буду только машиной для идей». Приведем отрывок из его письма к Торнтону, написанного вскоре после смерти жены:
«Надежды, с какими я поехал в это путешествие, оказались совершенно напрасными. Моя жена, товарищ всей моей жизни, вдохновительница всех моих лучших мыслей, моя путеводная звезда – скончалась! У нее сделалось сильное воспаление легких. Здешние доктора не могли ей помочь, и она умерла раньше, чем приехал наш знакомый доктор из Ниццы.
Не думаю, чтобы я был в состоянии теперь действовать на каком бы то ни было поприще. Жизнь моя подточена в самом корне. Но я всеми силами буду стараться исполнить ее всегдашнее желание и ради ее памяти буду продолжать работать на пользу людей».
В характере Милля поражает его необыкновенная восприимчивость к чужому влиянию. Он всегда нуждался в чьем-нибудь руководительстве и поддержке. В детстве на него оказывал неограниченное влияние отец; затем, когда влияние отца ослабело, он подчинился своим новым друзьям – Стерлингу и Карлейлю. Наконец, миссис Тэйлор совершенно овладела его умом и сердцем и сделалась светом и радостью его жизни. Потеря жены была бы еще более тяжела для Милля, если бы после ее смерти он остался совсем одиноким. Но с ним оставалась его падчерица, Елена Тэйлор, которую он любил, как свою родную дочь, и привязанность которой помогла ему перенести тяжелое горе.
Несмотря на страшное нравственное потрясение, Милль не мог долгое время оставаться праздным и в скором времени принялся за работу. Он был совершенно свободен, так как с 1858 года не состоял больше на службе в Ост-Индской компании, и мог жить где ему угодно, получая от правительства пенсию в 15 тысяч рублей. Не желая расставаться с тем местом, где умерла его жена, Милль купил небольшое поместье вблизи Авиньона и поселился там вместе со своей падчерицей. Он жил очень уединенно, почти ни с кем не виделся, но поддерживал оживленные контакты со своей родиной при помощи личной переписки с соотечественниками. Журналы и газеты, за которыми он следил очень тщательно, знакомили его с политическим положением Англии, а собственная литературная деятельность давала ему возможность оказывать влияние на общественное мнение.
В 1859 году Милль выпустил книгу «О свободе» – сочинение, в котором принимала деятельное участие его покойная жена; в 1860 году – «Исследование о представительном правлении», а в 1861 году – «Утилитарианизм». В 1865 году он напечатал обширное сочинение «О философии Гамильтона», посвященное метафизическим вопросам о границах познания, критериях истины, происхождении наших верований, о существовании внешнего мира и материи, о свободе воли и так далее. Сочинение это давало метафизическое основание всем тем воззрениям, которые были развиты Миллем в «Системе логики», и оно интересно, помимо глубины и серьезности содержания, еще и тем, что в нем глава современной эмпирической школы делает некоторые уступки идеализму.
Кроме этих крупных сочинений, Милль написал за это время целый ряд статей и памфлетов политического содержания. Оставаясь по большей части вдали от Англии, он принимал деятельное участие в политических событиях, и когда в 1865 году ему предложено было выступить кандидатом либеральной партии в одном из избирательных округов Вестминстера, он охотно принял это предложение. Но со своей обычной искренностью и прямотой он открыто объявил условия, на которых соглашался выступить кандидатом в парламент. Во-первых, вследствие своего убеждения в несправедливости обычая, требовавшего, чтобы кандидат своими деньгами расплачивался за все избирательные издержки, он отказывался принять издержки по избранию на свой счет. Во-вторых, он не соглашался отвечать на вопрос о своих религиозных убеждениях, и, в-третьих, он заранее объявил, что в своей парламентской деятельности не будет отстаивать сугубо местные интересы Вестминстера.
Эти условия были приняты избирателями. Милль приехал в Вестминстер и несколько раз публично выступил на митингах, устраиваемых преимущественно рабочими, которые были горячими приверженцами радикального философа и экономиста. На одном собрании среди многочисленной толпы рабочих Миллю был предложен вопрос: правда ли, что в своих сочинениях он обвинял английских рабочих в пристрастии ко лжи? И Милль немедленно, без всякого колебания, ответил: «Да». Этот ответ был встречен громом рукоплесканий: рабочие до такой степени привыкли к льстивым заискиваниям людей, нуждавшихся в их поддержке, что были поражены мужественной прямотой Милля.
Милль был выбран в парламент значительным большинством голосов. Кабинетный ученый, привыкший жить среди книг, в мире абстракций и умозрений, и рассматривавший все вопросы текущей политики с высшей философской точки зрения, не мог быть искусным политиком и вождем партии. Тем не менее, он занимал в парламенте очень влиятельное положение. Приведем слова Гладстона о Милле:
«Мы все знали умственное превосходство Милля, но его парламентская деятельность доказала также его редкую нравственную высоту. Я его называл „святым рационализма“, хотя этот эпитет не совсем выражал мою мысль. Он был совершенно чужд тех эгоистических чувств и желаний, которые обыкновенно влияют на членов парламента. Его речи походили на проповеди. Он был полезен нам всем, и ради самого парламента я радовался его появлению в нашей среде и сожалел о его удалении».
Но, несмотря на уважение, с которым в парламенте относились к Миллю его друзья и противники, он не играл большой политической роли и стоял особняком, сохраняя свободу действий и не примыкая ни к какой определенной партии. В своей «Автобиографии» он вспоминает два случая, когда обстоятельства позволили ему оказать существенные услуги обществу и народу. Оба случая настолько характерны, что на них стоит остановиться.
В 1866 году на Ямайке произошло восстание, подавленное с большой жестокостью губернатором Эйром, который сжигал целые селенья и без всякого основания повесил нескольких неповинных людей. Либеральная партия в Англии была возмущена этими жестокостями и требовала, чтобы губернатор был отозван. Многие не довольствовались простой отставкой губернатора и требовали предания его суду. Милль произнес в парламенте горячую речь в защиту этого требования, но оно, тем не менее, было отвергнуто палатой. Тогда из среды лиц, решивших во что бы то ни стало добиться наказания Эйра, был избран комитет, председателем которого стал Милль. Общественное мнение Англии стояло на стороне правительства. Жестокости Эйра признавались необходимыми для подавления восстания, угрожавшего опасностью для колониального могущества Англии. На Милля градом сыпались порицания и насмешки, его имя сделалось чрезвычайно непопулярно среди господствующих классов, его упрекали в недостатке патриотизма и политического смысла; особенно ревностные защитники Эйра доходили до того, что угрожали смертью неустрашимому поборнику справедливости. Но он в течение двух лет неутомимо продолжал кампанию, агитировал в парламенте, устраивал митинги и писал в газетах, имея целью склонить общественное мнение на свою сторону. Просьба о предании Эйра суду подавалась почти во все суды Англии, но все было напрасно: английский шовинизм стеной ограждал Эйра. Хотя Милль и не достиг своей цели, его горячая защита прав угнетенных негров произвела большое впечатление на всех, и с этого времени английские колониальные чиновники стали с большим уважением относиться к подвластному населению.
Это показывает нам, с какой энергией Милль мог бороться за то, что он признавал истиной. С другой стороны, в описанном эпизоде резко проявилась одна характерная черта Милля, о которой мы еще не говорили: типичный англичанин, проживший почти всю жизнь в Англии, он был совершенно лишен английского шовинизма. Его особенной симпатией пользовалась Франция, и он любил противопоставлять веселых, откровенных и общительных французов своим чопорным и скучающим соотечественникам. Вообще Милль не любил английского общества и, насколько мог, старался его избегать. Свое полное беспристрастие в вопросах международной политики он обнаружил во время междоусобной войны в Соединенных Штатах; как известно, Англия симпатизировала южным штатам и едва не была вовлечена в войну с Союзом. Но Милль, несмотря на опасения вызвать против себя взрыв общественного негодования, встал на сторону северян и написал памфлет в защиту их дела.
Другой случай, который Милль считает своей заслугой перед обществом, заключался в следующем: во время волнений рабочих по случаю отвержения парламентом билля о реформе правительство запретило устраивать публичные митинги в Гайд-Парке. Несмотря на запрет, рабочие решились там собраться, запасшись на всякий случай оружием. Правительство, со своей стороны, приказало войскам быть наготове, и можно было опасаться столкновения, которое стоило бы жизни многим. Чтобы предупредить кровопролитие, правительство обратилось к Миллю с просьбой уговорить рабочих разойтись.
Он принял это предложение и произнес перед рабочими длинную речь, доказывая им, что их поведение неблагоразумно: они желают вызвать революционное движение, но для революции они слишком слабы, и потому было бы благоразумнее не покидать легальной почвы и постараться достигнуть своих целей путем закона. Доводы Милля подействовали на рабочих, и они спокойно разошлись по домам.
В парламентской деятельности Милля обращает на себя внимание его отношение к ирландскому вопросу. Он всегда горячо отстаивал интересы ирландских коттеров и предсказывал, что только энергичными, смелыми мерами можно решить ирландский вопрос. Последующие события доказали справедливость его предсказания.
В 1868 году были назначены новые выборы в парламент, и Милль потерпел поражение в Вестминстере. Ему немедленно предложили выступить кандидатом в других избирательных округах, но он отклонил эти предложения, ссылаясь на слабое здоровье и усталость, и уехал в Авиньон.
Милль объясняет свое поражение тем, что он принимал участие в публичной подписке для покрытия избирательных издержек радикального и атеистического депутата Брэдло. Сочувствие атеисту было таким большим грехом в глазах избирателей Вестминстера, что они предпочли на место Милля выбрать консервативного депутата.
Последние несколько лет жизни Милля мирно и спокойно прошли в Авиньоне. В одном письме к своему другу Торнтону он следующим образом описывает свою домашнюю обстановку:
«Елена (его падчерица. – Авт.) осуществила свою мечту и устроила для меня крытую галерею, в которой я могу гулять в холодную и дождливую погоду. Терраса тоже увеличена и охватывает обе стороны дома. Кроме того, Елена устроила небольшую комнату для моих гербариев, с ящиками для растений, полками для ботанических книг и большим столом посредине для препарирования растений. Вы видите, я живу, как в монастыре, и можете себе представить, с каким пренебрежением я думаю о парламентских залах, которые при всех своих удобствах не могли бы предоставить мне этих скромных радостей жизни».
В 1871 году умер близкий друг Милля, историк Грот; он был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Милль приехал на его торжественные похороны и заметил при этом Бэну: «Скоро и меня похоронят, хотя и без таких церемоний». Его силы заметно ослабевали. Морлей, известный либеральный писатель и общественный деятель, следующим образом описывает свое последнее свидание с Миллем:
«Он с ранним утренним поездом приехал ко мне в деревню, чтобы провести день со мной. Он был в спокойном и приветливом настроении духа. Мы не спеша шли по поросшей травой дороге, окаймленной с обеих сторон кустами вереска и тисса; перед нами расстилались живописные меловые холмы, перемежающиеся с зеленеющими полями, и Милль живо наслаждался этой мирной картиной природы. Как известно, он – страстный ботаник, и каждые десять минут он останавливался, чтобы сорвать тот или иной цветок… Понятное дело, мы много разговаривали, и Милль говорил очень хорошо. Он соглашался, что Гете внес много нового в поэзию, но его возмущал нравственный характер Гете. Он удивлялся, как человек, который умел так хорошо описывать скорбь покинутой женщины, мог в своей личной жизни так дурно относиться к женщинам. Во всех отношениях он предпочитает Шиллера. Перейти к Шиллеру от Гете – это все равно, что выйти на свежий воздух из оранжереи. Он говорил, что проза Ж. Санд действует на него как музыка и что он не знает более совершенного прозаического стиля.
Далее он рассказывал, что его радикальные друзья были очень недовольны его пристрастием к Уордсворту, но он обыкновенно возражал им: Уордсворт вам не нужен во время борьбы, но когда победа будет одержана, люди более чем когда-либо будут нуждаться в тех ощущениях, которые поддерживаются и питаются чтением Уордсворта… Когда мы пришли домой, Милль стал с детской веселостью болтать с моими детьми о полевых цветах, о жизни насекомых и пении птиц. Ему очень хотелось послушать пение соловья. Вечером я отвез его на станцию железной дороги, и таким образом и этот светлый день моей жизни прошел, как проходит все хорошее и дурное».
Милль умер в 67 лет, 8 мая 1873 года в Авиньоне. За несколько дней до смерти он вышел погулять и собрал первые весенние цветы. Он заболел совершенно внезапно. Когда ему сообщили, что нет надежды на выздоровление, он спокойно сказал: «Мое дело сделано», – и встретил смерть так же мужественно, как и жил.
Милля похоронили в Авиньоне, рядом с его женой.
Глава VII
Философская и научная деятельность Милля.
Генри Томас Бокль, известный автор «Истории цивилизации Англии», говорит в одной из своих статей, что если бы из величайших мыслителей Европы был составлен суд присяжных для решения вопроса, кто из всех современных писателей больше всего сделал для успехов знания, то они не усомнились бы назвать имя Джона Стюарта Милля. Эта высокая оценка значения литературной деятельности Милля, без всякого сомнения, значительно преувеличена; многие современные писатели и ученые оставили после себя более глубокий след в истории человеческой мысли, проявили в своих сочинениях больше смелости и творческой силы, чем знаменитый автор «Системы логики» и «Политической экономии». Достаточно назвать Огюста Конта, творца позитивной философии, чтобы убедиться в том, что пальма первенства не может быть присуждена Миллю. В противоположность Конту Милль не создал новой школы и не выработал законченной философской системы. Он сам был последователем других, более оригинальных мыслителей и развивал те идеи, которые были открыты его предшественниками. Но он, более чем кто-либо другой, содействовал распространению во всем цивилизованном мире правильного понимания духа современной науки, возникшей на почве изучения природы.
Сочинения Милля, написанные прекрасным, живым языком, пользуются в настоящее время такой популярностью, которая лучше всего свидетельствует о громадном значении трудов Милля в истории умственного развития нашего времени. О распространенности его сочинений можно судить по количеству изданий их на английском языке. Так, до 1885 года «Система логики» выдержала 10 изданий, «Начала политической экономии» – 8, «Рассуждения о философии Гамильтона» – 5, «О подчиненности женщин» – 4, «О свободе» и «Утилитарианизм» – 3 издания и т. д. Кроме того, надо принять во внимание, что сочинения Милля переведены на все европейские языки (на русском языке, например, «Начала политической экономии» выдержали два издания), – и тогда мы убедимся, что произведения этого замечательного писателя должны были обладать какими-нибудь редкими и даже исключительными достоинствами, чтобы до такой степени завоевать себе симпатии читателей Англии и всего континента.
Предметом исследования Милля была психическая жизнь человечества в самом широком смысле этого слова. Изучение психических процессов отдельной личности служило ему основанием для разработки социальных вопросов: жизнь индивидуума и общества – вот постоянная тема сочинений Милля. Он был убежден в том, что социальная наука не может иметь самостоятельного характера и что законы социальных явлений могут быть открыты только тогда, когда мы поймем явления, происходящие в душе отдельного человека.
Главной задачей нашего времени Милль считал построение социальной науки. Мы видели при описании его жизни, что надежда сделаться реформатором человечества была мечтой его юности. В зрелом возрасте Милль не ставил себе таких высоких и неосуществимых задач; он убедился, что великая социальная реформа есть дело далекого будущего и что прежде чем приступить к ней, нужно поставить на научную почву изучение естественных явлений, открыть те законы, которым человеческое общество, так же, как и все в мире, подчинено с роковой необходимостью. Нужно создать социальную науку, и это становится для Милля новой целью жизни.
Прежде чем приступить к исследованию какого-либо явления, необходимо знать, каким образом, при посредстве какого метода мы должны вести исследование, чтобы прийти к истинным результатам. Самое логическое и правильное умозаключение не приведет нас ни к чему, если мы будем исходить из неправильных посылок. Поэтому построение социальной науки невозможно до тех пор, пока не будет установлен метод исследования социальных явлений. Если бы даже нам удалось открыть истинные законы социального строя, то мы лишены всякой возможности доказать их справедливость, пока нам недостаточно известно, что должно служить основанием для доказательства. Возьмем, например, спорный вопрос о преимуществах свободной торговли. Противники теории Адама Смита ссылаются обыкновенно на опыт тех стран, которые облагали высокими пошлинами ввозные товары, производимые также внутри страны, и достигали при этом большого благосостояния. Так поступала Англия до середины текущего столетия, так поступал во Франции Кольбер, создавший в короткое время цветущую промышленность в стране, носившей до этого времени преимущественно земледельческий характер. Могут ли эти примеры опровергать теорию свободной торговли? Следует ли выводить социальные законы из наблюдения исторических фактов, как утверждают многие историки, в том числе и Маколей? Или же правы экономисты школы Смита и Рикардо, которые при построении своей теории исходят из немногих общих посылок и заботятся только о том, чтобы их посылки были верны и умозаключения построены согласно законам логики? Пока эти вопросы не решены удовлетворительным образом, разногласия среди ученых, изучающих социальные явления, не могут прекратиться, и социальная наука будет оставаться в таком же хаотическом состоянии, как и прежде.
Таким образом, Милль пришел к мысли, что прежде чем приступить к построению науки об обществе, необходимо исследовать логические процессы вообще, определить характерные черты методов, при помощи которых современная наука достигла таких блестящих результатов в области изучения природы. Самое замечательное произведение Милля – «Система логики» – было посвящено этим вопросам.
Прежде всего, что такое логика, каково ее содержание? Все прочие науки изучают определенную область явлений природы, а логика имеет своим предметом сами науки, она исследует сам процесс умозаключений, из которых слагаются наши знания. Изучением мыслительных процессов занимается не только логика, но и психология – однако между этими двумя науками есть одно коренное различие. Психолог стремится узнать законы, по которым в нашем духе возникают и группируются идеи, а логик ограничивает свою задачу определением того, насколько истинны или ложны исследуемые им умозаключения. Для логики процесс умозаключения есть данный факт, происхождением которого она не интересуется. Ее дело сделано, если она установила ясные и точные правила, с помощью которых всегда можно отличить истину от лжи, доказать, верно или неверно данное умозаключение. Другими словами, «логика есть теория доказательств».
Итак, прежде всего, что же доступно нашему познанию? Возьмем любое суждение о конкретном или абстрактном предмете, например, суждение «это яблоко вкусно», и попробуем определить, в чем заключается реальное содержание утверждаемой нами мысли. Говоря об этом яблоке, мы подразумеваем совершенно определенный предмет, который производит известного рода впечатление на наши органы чувств. Яблоко имеет круглую форму, то есть мы не замечаем в нем никаких углов при рассматривании его со всех сторон; оно окрашено в желтоватый или розоватый цвет, другими словами, мы испытываем ощущение желтого и розового цвета, когда на него смотрим; оно обладает некоторым весом, в этом мы убеждаемся по тому, что, когда мы берем яблоко в руки, мы испытываем ощущение тяжести; оно твердо и гладко – при надавливании на яблоко мы встречаем известное сопротивление, и так далее. Мы видим, что все наше понятие о яблоке слагается из различных ощущений, совокупность которых и составляет то, что мы обозначаем этим словом. Во всем понятии не оказалось никаких других элементов. Правда, мы уверены в том, что помимо этой совокупности ощущений существует и нечто реальное вне нас, вызывающее в нас эти ощущения. Но, говоря это, мы утверждаем существование таинственного «нечто», которое всегда будет определенным образом действовать на нас, как только оно войдет в соприкосновение с нашими органами чувств. Единственное, что мы можем знать о яблоке – это те ощущения, которые оно в нас вызывает.
Мы говорили, что яблоко вкусно. Ко всем прочим, уже известным нам свойствам яблока мы прибавили новое – приятный вкус. Последним словом мы определяем ощущения, которые мы испытываем, когда едим яблоко. Следовательно, и подлежащее, и сказуемое разбираемого нами предложения относятся только к нашим ощущениям.
Всякое суждение о внешнем мире, обо всей вселенной, которую мы видим, слышим, осязаем и т. д., имеет такой же характер, как и только что разобранное нами. Что бы мы ни утверждали относительно всего мироздания или его части, все сводится в конце концов к ощущениям. Но, может быть, мы знаем больше относительно самих себя, нашего внутреннего мира? Внимательный анализ показывает, что и в этом смысле наше знание не более глубоко.
Мы сознаем мысли, чувства, желания, которые наполняют нашу душу. Но что такое представляет сама наша душа, независимо от всех ее проявлений, – это нам так же мало известно, как и вопрос о том, что такое внешний мир. Относительно своего «я» мы тоже должны довольствоваться скудным познанием своих душевных состояний, не пытаясь проникнуть в сущность вещей.
Итак, все наше знание основывается на опыте, на фактах, ибо ощущения, испытываемые нами под влиянием различных причин, и составляют то, что мы называем фактами.
Само абстрактное суждение представляет собой не что иное, как сложное выражение соотношения между фактами. Мы знаем только факты, и все наши рассуждения сводятся к тому, что мы на основании известных фактов заключаем о неизвестных. Истина есть согласие с фактами и, следовательно, единственный критерий истины есть опыт.
Это положение есть краеугольный камень всей философии Милля. Ему случалось в течение своей жизни изменять взгляды на многие философские вопросы, но относительно этого пункта он был совершенно непоколебим и не вступал ни в какие компромиссы с противниками. Вопрос о критерии истины он признавал основанием всякой философской системы; кто утверждал существование другого критерия, тот, по его мнению, принадлежал к метафизической школе.
Но помимо чисто философского значения правильного разрешения вопроса о критерии истины, Милль приписывал ему громадное нравственное влияние на характер человека и был глубоко убежден, что в общественной жизни только те могут настойчиво и энергично бороться с устарелыми учреждениями, основанными на принципе авторитета, кто по своим философским убеждениям отрицает сверхчувственное происхождение знания. Учение о врожденных идеях казалось Миллю прочной опорой всяких политических и религиозных предрассудков, и потому он думал, что социальная реформа сделается возможной только когда в области философии будет твердо установлен принцип опытного происхождения всего нашего знания.
Идеалисты и метафизики, несогласные с этими взглядами, ссылаются обыкновенно на пример математических аксиом, истинность которых познается помимо всякого опыта, а отрицание которых представляется нам совершенно немыслимым. Так, например, геометрическая аксиома, что «две прямые линии не могут заключать пространства», не могла возникнуть из опыта по следующим причинам: во-первых, опыт никогда не мог нас убедить, что две прямые линии, продолженные на громадное расстояние – тысячи и миллионы верст, не пересекутся более одного раза, ибо такого опыта мы никогда не делали; во-вторых, мы вовсе не нуждаемся в опыте, чтобы убедиться в истинности этой аксиомы: нам для этого достаточно воспроизвести две прямые линии в своем воображении; в-третьих, истины, выведенные из опыта, никогда не кажутся нам необходимыми. Так, например, мы из ежедневного опыта убеждаемся, что после ночи всегда следует день, и, несмотря на это, мы легко можем представить себе, что ночь будет продолжаться неопределенно долгое время и день никогда не наступит. Между тем попробуем отрицать математические аксиомы – попробуем представить себе, что две прямые линии заключают собой пространство, и мы немедленно убедимся в полной невозможности вызвать в своем уме требуемое представление. На основании всего этого идеалисты утверждают, что наше знание математических аксиом не вытекает из опыта, а прирождено нашей познавательной способности.
Возражение это очень серьезно и всегда составляло твердыню идеализма. Милль прекрасно сознавал важность неприятельской позиции и направлял все силы своей аргументации, чтобы выбить из нее врага. Он должен был согласиться с идеалистами, что воспроизведение геометрических фигур в воображении совершенно заменяет геометрический опыт. Это зависит от простоты и несложности пространственных восприятий, к которым мы привыкли с раннего детства; постоянно испытываемые нами впечатления времени и пространства воспроизводятся нами в воображении лучше, чем все остальные впечатления внешнего мира. Поэтому относительно математических аксиом внутренний духовный опыт с полным успехом может заменить действительные наблюдения.
Геометрическая фигура, которую я рисую в своем воображении, совершенно подобна такой же фигуре, нарисованной на бумаге, и с одинаковым успехом может служить основанием для моих выводов. Правда, мы никогда не видели двух прямых линий, продолженных на миллионы верст, но чтобы убедиться, что они не заключают пространство, нам не нужно следить за ними на громадные расстояния; достаточно перенестись мысленно в ту точку, где они пересеклись во второй раз, чтобы ясно увидеть, что линии перестали быть прямыми и изогнулись.
Наконец, что касается утверждения идеалистов относительно немыслимости отрицания аксиом, то оно, по мнению Милля, основано на малом знакомстве с историей человеческой мысли. Многое из того, что мы считаем теперь мыслимым, признавалось немыслимым для наших предков, и наоборот. Так, например, в средние века против шарообразности Земли выставляли следующий аргумент: если бы Земля была шарообразна, то существовали бы люди, обращенные к нам ногами; они должны были бы ходить вниз головой, а это признавалось немыслимым. Теперь мы знаем, что антиподы существуют, и не видим в этом ничего немыслимого. Милль приводит еще несколько подобных примеров для доказательства своей мысли. Он объясняет психологическую невозможность отрицать математические аксиомы тем, что в нашем уме образовались прочные и неразрывные ассоциации представлений времени и пространства, от которых мы освободиться не в силах.
Таким образом, все наше знание исчерпывается знанием фактов. Каким же путем мы можем открывать новые истины, восходить от известных фактов к неизвестным? Средневековая логика признавала только один такой путь – силлогизм.
Силлогизм – это цепь умозаключений, построенных по известному типу: большая посылка содержит в себе какое-нибудь общее положение относительно целого класса явлений, например, «все люди смертны»; меньшая посылка констатирует принадлежность к этому классу какого-либо отдельного явления, например, «я – человек»; вывод состоит в том, что отдельному явлению приписываются свойства класса, например, «я смертен».
Но узнаем ли мы при помощи силлогизма что-либо новое? Когда я говорю, что все люди смертны, то этим я утверждаю смертность Ивана, Петра, Андрея – словом, смертность каждого человека, в том числе и меня самого; следовательно, вывод «я смертен» с самого начала заключается в большой посылке, и мы не подвинулись ни на шаг в открытии истины. Если только признать, что задача силлогизма заключается в том, чтобы открывать в особи свойства, известные нам относительно целого класса, то силлогизм обратится в пустую игру слов, ненужную тавтологию, замену одного выражения другим.
Между тем в действительности это не так. Хотя формально основанием силлогизма служит большая посылка, в сущности, мы исходим совсем из другого. Большая посылка играет роль записной книги, куда мы для памяти заносим свои впечатления. Когда нам нужно сделать вывод относительно какого-нибудь отдельного случая, мы вынимаем книжку и справляемся с ее содержанием.
Так, например, когда я говорю, что я смертен, то истинным основанием моего умозаключения служит наблюдение, что все люди, жившие раньше меня, умерли. Другими словами, я делаю свой вывод не из общего положения, а из отдельных частных случаев, которые мне приходилось наблюдать или о которых я знаю со слов других людей. Итак, мы заключаем в силлогизме от частного к частному; большая посылка играет лишь вспомогательную роль при наших умозаключениях. Но мы можем прекрасно обходиться без ее помощи; животные, дети и люди малообразованные всегда заключают от частных случаев к частным, не облекая своих наблюдений в форму общих положений.
Мы видим, что и при силлогизме источником нашего знания все-таки остается наблюдение и опыт. Другими словами, всякому силлогизму должно предшествовать обобщение частных случаев, то есть индукция.
Разработка теории индукции составляет главную заслугу Милля. По форме силлогизм противоположен индукции; в первом случае мы нисходим от общего к частному, а во втором – восходим от частного к общему. На основании наблюдения отдельных явлений мы заключаем относительно целого класса, обобщаем частные случаи и получаем возможность предсказывать такие явления, которые были совершенно недоступны непосредственному наблюдению.
Этот процесс и называется индукцией. Существенным его признаком является то, что он всегда расширяет наше знание. Если мы констатируем известное свойство целого ряда особей на основании того, что мы их нашли у каждой особи в отдельности, то этот вывод не будет индукцией, а простой заменой одного выражения другим. Так, например, если мы заключим на основании изучения формы правления американских государств, что все самостоятельные государства Америки – республики, то наш вывод не будет шире посылок и потому не составит индукции.
Основанием индукции является наше убеждение в единообразии природы. Это убеждение человечество вынесло из всей совокупности своего многолетнего опыта. Каждый из нас знает, что достаточно наблюдать один раз явление при известных условиях, чтобы получить уверенность, что всегда, во всяком месте и во всякое время, будет происходить то же самое явление, если будут в наличности те же самые условия. Только эта уверенность дает нам возможность делать обобщения, открывать свойства класса явлений на основании наблюдения единичных случаев.
Но всегда ли мы имеем право обобщать частные случаи? У моего знакомого черные глаза. Следует ли из этого, что у всех людей глаза того же цвета?
Очевидно, что нет. Следовательно, обобщение не всегда возможно, и мы должны определить те условия, при которых оно делается орудием истины, а не источником заблуждений.
Научная индукция возможна только относительно явлений, между которыми существует причинная связь. Понятие причины есть краеугольный камень всей теории индуктивного процесса. Что же такое причина?
Относительно этого понятия существует целая литература. Каждая философская школа толкует его по-своему. Милль принадлежит к школе Юма и не говорит ничего о таинственной связи причины со следствием, которая занимает метафизиков. Для него «причина есть все неизменно предшествующее явлению, а следствие – все неизменно последующее… Настоящую причину составляют все факты, все условия, без которых не могло бы явиться следствие… Нет научного основания в различии, которое проводится между причиною явления и его условиями. Причина есть сумма всех условий, положительных и отрицательных, взятых вместе, совокупность явлений всякого рода, наступление которых неизменно сопровождается следствием».
Мы видим, что причиной исследованного явления Милль называет все другие явления, которые, по нашим наблюдениям, безусловно необходимы для того, чтобы оно наступило. Единообразие процесса, о котором мы только что говорили, проявляется в том, что одна и та же причина всегда производит то же самое следствие. Вся совокупность нашего знания, все научные законы основываются на этом предположении. Если нам удалось найти причины известного явления, то мы смело можем обобщать частный случай и утверждать, не опасаясь ошибки, что найденная нами причина всегда будет производить такие же явления, как и наблюдаемые нами в данном случае.
Когда причина открыта, тогда построить обобщение нетрудно, когда же причина нам неизвестна, тогда наша индукция может иметь лишь приблизительный характер и на нее нельзя много полагаться.
Так, например, все лебеди, которые водятся в Старом Свете, белого цвета; но из этого нельзя заключить, что не может быть черного лебедя, так как мы не знаем причинной связи между строением лебедя и его цветом. И действительно, черные лебеди были найдены в Австралии.
Вся трудность индукции заключается в том, чтобы найти причину исследуемого явления. Милль установил четыре метода, посредством которых возможно находить причины явления. Из этих четырех методов два имеют производный характер, и только два оставшихся действительно представляют из себя различные типы опытного исследования.
Первый метод, называемый Миллем методом согласия, основан на следующем правиле: «Если двум или более случаям исследуемого явления обще лишь одно обстоятельство и только в этом обстоятельстве все случаи согласуются, то оно и есть причина или следствие данного явления». К помощи этого метода весьма часто прибегают медики при определении причин болезни. Так был найден центр речи в мозгу человека: во всех случаях, когда наблюдалось расстройство речи, вскрытие констатировало определенное изменение в одном и том же участке мозга.
Указанное обстоятельство характеризовало все известные случаи нервных заболеваний, сопровождающихся расстройством речи, несмотря на то, что в других отношениях картина болезни имела самый разнообразный характер и соответственно с этим были также разнообразны анатомические изменения внутренних органов. Поэтому совершенно логично заключили, что причиной расстройства речи являются подмеченные изменения мозга, и таким образом было определено местонахождение нервного центра речи.
Метод согласия не может быть вполне надежным орудием открытия истины. Мы принимали, что обстоятельство, общее всем случаям исследуемого явления, есть его причина; в действительности это может быть и не так; одно и то же следствие может быть произведено различными причинами. Поэтому мы только тогда можем пользоваться методом согласия, когда можем исследовать много различных случаев, в которых известное явление происходит, ибо чем больше будет таких случаев, тем менее вероятно, что в каждом отдельном случае действует своя особая самостоятельная причина.
Этого недостатка лишен более совершенный метод разницы. Его правила Милль формулирует следующим образом: «Если случай, в котором явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, согласуются во всех обстоятельствах, кроме одного, встречающегося только в первом случае, то обстоятельство, составляющее единственную разницу в этих двух случаях, и есть действие или причина исследуемого явления». Примеры этого метода так многочисленны, что на них не стоит останавливаться; ребенок, который пугается огня потому, что раз обжег палец, рассуждает по методу разницы: когда его палец был далеко от огня, он не чувствовал боли, но как только он прикоснулся к огню, он почувствовал боль; следовательно, причиной боли был огонь, потому что единственная разница обоих случаев заключалась в этом обстоятельстве.
Оба метода основаны на одном и том же приеме: чтобы найти причину данного явления, мы должны исключить все предшествовавшие явления, ничем с ним не связанные; для этой цели мы комбинируем несколько случаев, в которых явление наблюдается и не наблюдается, и путем отвлечения приходим к тому убеждению, что некоторые частные обстоятельства явления могут быть исключены; неисключимый остаток и есть причина. В сокращенной форме Милль так определяет правила обоих методов: метод разницы основывается на том, что все, не могущее быть исключенным, связано с явлением каким-либо законом. Метод согласия основывается на том, что все, могущее быть исключенным, не связано с явлением никаким законом.
Итак, оба метода индуктивного исследования основаны на исключении. Когда по каким-либо причинам исключение отдельных элементов рассматриваемого явления невозможно, то невозможно пользоваться индукцией. В природе большая часть явлений находится в такой тесной органической связи, что исключить из них какой-либо элемент значит разрушить все явление. Так, например, организм животного или растения представляет собой чрезвычайно сложный комплекс сил, находящихся в подвижном равновесии. Каждая из этих сил безусловно необходима для жизни. Если нам требуется изучить какое-нибудь сложное жизненное явление, например кровообращение, то индукция окажется совершенно бессильною открыть его причины, ибо кровообращение зависит одновременно от целого ряда сил: от давления эластических стенок сердца и сосудов, от силы тяжести, капиллярности мелких сосудов, атмосферного давления и т. д. Все эти силы действуют одновременно, и ни одну из них нельзя исключить, так как они существенно необходимы для жизни. Как же быть в подобных случаях, чем заменить индукцию?
Когда индуктивное исследование невозможно, то прибегают к помощи дедуктивного метода. Этот метод заключается в том, что составные элементы данного сложного явления изучаются порознь; каждая отдельная причина изучается особо, и, когда мы вполне уясним действия их всех, тогда при помощи умозаключения можно определить, какие следствия могут получиться, если все эти причины будут действовать совместно и одновременно. Если результаты умозаключения соответствуют действительно наблюдаемым фактам, то, следовательно, вывод сделан верно и мы открыли причину явления. Таким образом, дедуктивный метод слагается из трех частей: индуктивного исследования, вывода и поверки.
Самым блестящим примером дедукции можно считать знаменитое открытие Ньютоном причин движения небесных тел. Ньютон предположил, что планеты движутся под влиянием двух сил – центростремительной силы, приближающей планеты к Солнцу, и центробежной силы, удаляющей их от Солнца. Законы действия каждой отдельной силы были известны Ньютону из опыта; он вычислил движение планет под влиянием обеих сил, и оказалось, что действительность вполне соответствует результатам, полученным путем вычисления. Это совпадение доказало справедливость предположения Ньютона.
Дедуктивный метод составляет самое могучее орудие человеческой мысли. Особенное значение и важность этого метода заключается в том, что при выводе мы имеем возможность воспользоваться математическим приемом и сообщить таким образом нашему знанию природы точность и достоверность математики.
Поэтому наука только тогда достигает совершенства, когда она становится дедуктивной. Астрономия и физика достигли этой стадии, а прочие науки еще не вышли из состояния эмпиризма.
Перейдем теперь к нашей специальной задаче – определению метода социальных наук.
Явления, происходящие в человеческом обществе, отличаются от всех других явлений природы своей сложностью и разнообразием, но они точно так же могут быть предметом научного изучения. Если до сих пор сделано в этой области мало успехов, то это зависит, во-первых, от сложности задачи и, во-вторых, от того, что не разработан вопрос о самом методе исследования социальных явлений. На этом вопросе мы и должны остановиться.
Возможно ли открывать причины социальных явлений путем чистой индукции? Если бы мы захотели применить метод разницы к определению причин того или другого исторического события, то мы должны были бы подыскать два примера общественных состояний, сходных во всех отношениях, кроме того, которое составляет предмет нашего исследования. Нечего и говорить, что наши поиски остались бы без успеха, так как не существует двух народов, до такой степени похожих друг на друга, а один и тот же народ не остается одинаковым в разные исторические эпохи. Метод согласия еще менее подходит к нашей цели. Остается дедуктивный метод, который привел к таким блестящим открытиям в астрономии и физике.
Психология и другие науки исследуют элементарные факты человеческой души, социальная наука должна воспользоваться этими фактами для вывода законов их совместного действия, которые будут, вместе с тем, законами социальных явлений. Выводы, полученные таким образом, только в том случае могут быть признаны научными законами, если действительные факты вполне согласуются с ними.
Между всеми социальными явлениями существует известное взаимодействие, и потому нельзя изучать одну сторону общественной жизни совершенно независимо от остальных. Однако для облегчения исследования полезно выделить в особую науку изучение некоторых социальных явлений, которые зависят, главным образом, от немногих основных факторов; так, возможна особая наука о сельском хозяйстве, потому что хозяйственная деятельность человека подчиняется преобладающему влиянию одного психологического мотива – эгоизма. Но выводы, полученные нами при таком ограничении области исследований, будут, по необходимости, односторонними; это надо всегда иметь в виду, чтобы избежать очень распространенной между экономистами ошибки: отрицать влияние всех других факторов общественной жизни – права, нравственности, религии и т. д. – на законы народного хозяйства.
Наряду с отдельными общественными науками должна существовать общая социальная наука, названная Огюстом Контом социологией, устанавливающая закон взаимодействия всех социальных элементов. Главная задача социологии заключается в исследовании законов развития общества. Законы социального развития не могут быть открыты при помощи дедукции, так как человеческий ум не в состоянии проследить на целые тысячелетия влияние громадного количества факторов, от которых зависят общественные явления. Поэтому при историческом исследовании необходимо несколько видоизменить дедуктивный метод; то, что было поверкой, становится первым шагом исследования, а вывод играет роль поверки. Прежде всего, мы должны найти единообразие, правильность в последовательности исторических фактов, обобщить весь тот исторический материал, которым мы располагаем. Затем мы должны доказать, что наши исторические обобщения согласуются с законами человеческой природы. Это доказательство служит поверкой наших обобщений и придает им силу и значение научного закона.
Таким образом, общественные науки могут пользоваться двумя методами – дедуктивным и обратно дедуктивным, или историческим. Первый метод преимущественно применяется в политической экономии, второй метод был впервые сознательно употреблен О. Контом при построении новой науки об обществе – социологии, создание которой составляет главную задачу нашего времени.
«Система логики» есть наиболее глубокое и продуманное сочинение Милля. Нельзя сказать, чтобы эта книга проложила новые пути в области мысли или составила эпоху в истории философии и науки; даже в теории индуктивного процесса, составляющей, по общему мнению, самую ценную часть «Системы логики», Милль не был вполне оригинален и развивал те мысли, которые уже были высказаны многими другими, в особенности Гершелем в нескольких статьях, вышедших в свет незадолго до появления книги Милля. Тем не менее, Милль достойным образом завершил целый ряд мыслителей и ученых, выработавших общими силами систему эмпирической философии. Он был преемником таких крупных людей, как Бэкон, Локк и Юм, составляющих гордость английской нации, и при этом не был слепым продолжателем их дела, не преклонялся перед их авторитетом, но относился вполне самостоятельно к заимствованной от них философской системе. Милль воспользовался принципами эмпирической философии для построения общей теории науки, не вполне верно понятой Бэконом и его последователями. Под влиянием Бэкона среди английских эмпириков укоренилось мнение, что индукция есть единственное орудие открытия истины, что дедуктивный метод должен быть совершенно отвергнут точной наукой. Милль доказал несправедливость этого мнения, основанного на неправильном понимании сущности дедукции, и вместе с тем выработал законченную теорию индуктивного процесса, которая не оставляет желать ничего лучшего по ясности и последовательности мысли.
Слабее всего в «Системе логики» чисто метафизическая сторона. Последователи Канта вряд ли будут убеждены доводами Милля, что математические аксиомы имеют такое же происхождение, как и все остальное наше знание, основанное на опыте и наблюдении; то же самое можно сказать относительно сделанного Миллем анализа понятия причины, которое приводит его к парадоксальному предположению, что на какой-нибудь отдаленной планете могут происходить беспричинные явления, и так далее. Но каковы бы ни были метафизические основы «Логики» Милля, эта книга в редкой степени проникнута научным духом и содержит в себе глубокую и верную характеристику методов исследования природы. Благодаря этому она сразу приобрела такую популярность, которая вначале поражала самого автора, и по этой причине до настоящего времени эта книга остается незаменимой школой научного мышления.
Теория социальной науки, которой посвящены последние главы «Логики», мало оригинальна. Милль сам признает, что «Система позитивной философии» Конта оказывала на него большое влияние; от Конта он заимствовал убеждение, что социология нуждается в особом «историческом» методе. От него же он почерпнул много отдельных мыслей относительно взаимодействия социальных элементов, разделения социологии на статику и динамику, относительно законов развития общества и так далее. Вообще, социологические взгляды Милля не отличаются такой глубиной, как его философские воззрения, хотя изучение социальных явлений было излюбленным предметом его занятий. Большая часть его сочинений посвящена исследованию различных сторон общественной жизни, но все эти исследования носят отрывочный характер и не сведены в одну стройную систему. Поэтому, чтобы познакомиться с социальными теориями Милля, нужно перечитать его многочисленные статьи, памфлеты и книги, написанные по разному поводу.
Самым крупным социологическим трудом Милля были его «Начала политической экономии» – обширный трактат о законах народного хозяйства, более всех других сочинений содействовавший распространению в английском обществе идей Смита и Рикардо.
По своим экономическим воззрениям Милль ближе всего примыкал к школе Мальтуса и Рикардо, но вместе с тем он находился под сильным влиянием Огюста Конта и сочувствовал французским социалистам, особенно сенсимонистам и Фурье. Школа Мальтуса отрицала возможность улучшения материального положения рабочих классов путем общественных реформ и стремилась доказать, что распределение народного дохода подчинено роковым, необходимым законам, над которыми воля человеческая не властна. Между тем социалисты приписывали все несчастия и несправедливости, переносимые низшими классами народа, современной организации права собственности и надеялись достигнуть общего благополучия путем коренной реформы общественного строя. Что касается Конта, то он отрицал всю политическую экономию целиком, не признавал ее наукой и обвинял экономистов в пристрастии к бесплодным схоластическим спорам. Таким образом, Милль очутился в трудном положении; ему пришлось примирять такие взгляды, которые взаимно уничтожают друг друга, и он попытался это сделать в «Началах политической экономии».
Милль вполне соглашался с мыслью Конта о существовании постоянного взаимодействия между всеми социальными элементами и поэтому в своем главном экономическом сочинении обратил особенное внимание на те поправки и дополнения, которые нужно ввести во все заключения, основанные на одних экономических соображениях.
«Начала политической экономии» Милля представляют из себя систематический трактат о законах народного хозяйства, финансах и политике. Эта книга мало оригинальна, но она и до настоящего времени остается едва ли не лучшим трактатом по политической экономии.
Оставаясь верным последователем Рикардо, Милль смягчил слишком резкий и абстрактный характер учения этого знаменитого экономиста. Политическая экономия в обработке Милля сделалась менее отвлеченной наукой, приблизилась к жизни и получила возможность влиять на практическую политику и законодательство. У сенсимонистов Милль заимствовал воззрение, что социальные реформы могут изменить распределение народного дохода; но вместе с тем он оставался приверженцем взглядов Мальтуса о необходимости ограничения размножения населения для поднятия имущественного положения рабочего класса. Милль старался согласовать оба эти взгляда при помощи следующего соображения: социальное и экономическое положение человека влияет на его склонность к размножению – так, например, безземельный рабочий легче обзаводится многочисленной семьей, чем крестьянин, имеющий собственность и желающий в неуменьшенном виде передать ее своим детям. Социальные реформы тогда только полезны, когда они уменьшают размножение народонаселения. Поэтому Милль горячо стоял за распространение мелкой земельной собственности, в которой он видел лучшее средство обеспечить массу населения и преобразовать ее нравственно. В первых изданиях своей книги он довольно сурово относился к социализму, хотя и признавал его светлые стороны. Но в каждом последующем издании он выражал все более и более симпатии социализму.
За недостатком места мы должны обойти молчанием многие интересные взгляды Милля на разные политические и экономические вопросы. Для характеристики общего мировоззрения Милля мы остановимся на сочинении, написанном им уже в позднем возрасте, – на книге «Утилитаризм».
Нравственная философия Милля, изложенная в этой книге, основана на признании счастия единственною целью нашей жизни. Этот принцип был заимствован им у Бентама, но утилитаризм Милля значительно отличается от своего первообраза. По мнению Бентама, человек всегда остается эгоистом и только потому предпочитает добродетель пороку, что добродетельная жизнь обещает ему больше удовольствий, чем порочная. Бентам не допускает у человека никаких бескорыстных мотивов; Милль, напротив того, считает необходимым, чтобы человек стремился к идеальному благородству, совершенно независимо от соображений о своем личном счастье. Самопожертвование, готовность лишиться не только счастья, но и самой жизни для блага других людей он признавал высшей добродетелью, которую преимущественно следует развивать воспитанием. Он сравнивает состояние духа благородного человека с состоянием духа скупого. Как для скупого богатство, которое первоначально служило средством для получения удовольствия, сделалось под влиянием привычки целью само по себе, так для стоика и христианина добродетель есть высшая цель жизни, несмотря на то, что в действительности добродетель есть лишь средство для достижения счастья.
Воспитание приучает нас относиться с одобрением к одному образу действий и порицать другой. Под влиянием этого в нас возникают нравственные убеждения, которые могут достигать такой силы, что освободиться от них мы оказываемся не в состоянии, и тогда мы их называем совестью, чувством долга. Внешней санкцией чувства долга служит страх порицания и наказания со стороны других людей, а внутренней санкцией является страдание, вызываемое у нравственных людей сознанием нарушенного долга.
Во всякой этической теории нужно различать два вопроса – вопрос о критерии нравственности и вопрос о генезисе наших нравственных чувств. Теория этики как искусства должна выяснить, что следует признавать нравственным и безнравственным, какой образ действий мы должны одобрять или порицать, к чему мы должны стремиться. С другой стороны, этика как наука занимается исследованием вопроса о том, как возникли и развивались в человечестве те чувства и желания, которые мы признаем нравственными. Первый вопрос разрешается Миллем вполне ясно и определенно: мы должны стремиться к наибольшему счастью всех людей, и это общее счастье является высшим критерием нравственности; но относительно происхождения нравственности воззрения Милля не так ясны. Возникают ли наши нравственные чувства из эгоизма или же чувство симпатии, любви к людям есть первичная основа нравственности? На этот вопрос Милль не дает категорического ответа.
Этим мы и закончим изложение философской и научной деятельности Милля. Мы могли лишь очень бегло коснуться многих важных вопросов, разрешение которых составляло задачу Милля. Но и из этого беглого очерка выступает одна характерная черта, составляющая вместе и силу, и слабость Милля как мыслителя. Мы говорим об его необыкновенной восприимчивости к чужим мыслям, об его отзывчивости ко всему истинному и справедливому, как бы оно ни противоречило его собственным воззрениям. В своей научной деятельности, как и в личной жизни, Милль оставался тем же честным, искренним и беспристрастным человеком. Со свойственною ему скромностью он говорит в своей «Автобиографии», что его главное преимущество перед другими мыслителями заключается в том, что он всегда готов был поучиться у своих противников и охотно изменял свои мнения, когда приводимые против них доводы казались ему убедительными.
Если к этой редкой способности беспристрастно относиться к чужим мнениям мы присоединим громадную силу ума преимущественно логического склада, то мы поймем секрет влияния Милля на своих современников. Он умел лучше всякого другого примирять крайние взгляды, отделять в них истину от лжи и пользоваться истиной для построения общей теории вопроса. Милль был эклектиком в лучшем смысле этого слова. Он жил в переходное время, когда основные воззрения человечества претерпевали глубокие изменения, и потому его философские и политические взгляды не отличаются такой стройностью и цельностью, как взгляды его отца, представителя отживающего либерализма XVIII века, и взгляды других, более смелых и оригинальных мыслителей, которым принадлежит будущее.
Источники
1. John Stuart Mill. Autobiography.
2. J. S. Mill. A criticism by Bain.
3. W. Courtney. Life of J. S. Mill.
4. Г. Брандес. Новые веяния.
5. Россель. Статьи о Милле в «Вестнике Европы» за 1874 год.
6. Г. Т. Бокль. Этюды.
7. Тэн. Новейшая английская литература.
8. Главнейшие сочинения Милля.


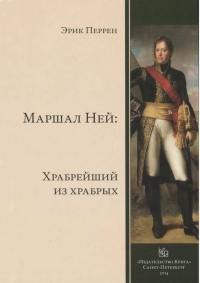

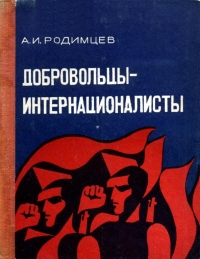



Комментарии к книге «Джон Стюарт Милль. Его жизнь и научно – литературная деятельность», Михаил Иванович Туган-Барановский
Всего 0 комментариев