Михаил Александрович Энгельгардт Антуан Лоран Лавуазье. Его жизнь и научная деятельность
Биографический очерк М. А. Энгельгардта
С портретом Лавуазье, гравированным в Лейпциге Геданом
Глава I. Детство и молодость
«Я был молод – я жаждал славы».
ЛавуазьеПроисхождение Лавуазье. – Его предки и отец. – Рождение Лавуазье. – Его семья. – Его обучение. – Литературные опыты. – Поступление на юридический факультет. – Занятия естествознанием. – Руэль. – Первые работы. – Гэтар. – Мемуар об освещении улиц. – Экскурсии. – Минералогический атлас. – Плутня Моннэ. – Лавуазье-академик.
В XVIII веке новые элементы все сильнее и сильнее выступают в общественной жизни т Франции. Внешне старый порядок еще сохраняется со всеми своими аксессуарами, но в этой изношенной оболочке уже задолго до революции сформировалось и билось новое общество.
Новое сословие выходит на сцену: с новыми требованиями, новыми нравами, новым строем жизни. Трудолюбивая, упорная, цепкая, живучая буржуазия отличалась не только этими достоинствами. Из ее рядов вышли славнейшие деятели науки и литературы, лучшие умы XVIII века; в их числе – и величайший ученый Франции Антуан Лоран Лавуазье.
Первый из его предков, о котором мы имеем сведения, Антуан Лавуазье (умер в 1630 году), был почтальоном в городке Вильер-Котре.
Потомки его понемногу поднимались из этого низкого состояния, карабкаясь на высшие ступени общественной лестницы, достигая степеней известных с упорством и терпением, характерными для их сословия. Сын его уже был содержателем почты, внук – судебным приставом, правнук – купцом, праправнук – прокурором уездного суда в Вилъер-Котре.
Сын этого последнего, Жан-Антуан, учился правоведению в Париже и, получив степень адвоката, вернулся в родной город. В 1741 году он переселился в Париж, получив место прокурора в парламенте. Таким образом, после вековой упорной и неустанной борьбы семья добилась материального благосостояния и почтенного положения. Тут она как бы решила отдохнуть от материальных забот и произвести что-нибудь выдающееся в духовном отношении.
В 1742 году Жан-Антуан Лавуазье женился на Эмилии Пунктис, дочери адвоката. В следующем, 1743 году 28 августа у них родился сын, которому дали имя Антуан Лоран.
Первые годы жизни ребенок провел в Париже, в переулке Пеке, окруженном садами и пустырями. Мать его умерла, родив еще девочку, в 1748 году, когда Антуану Лорану было всего пять лет.
По смерти жены Жан-Антуан Лавуазье поселился вместе с тещей, незадолго перед тем овдовевшей. Ее вторая дочь, Констанция, взяла на себя обязанности матери и действительно заменила ее сиротам: дрожала над ними как наседка над цыплятами, ради них отказалась от замужества. Да и остальные члены семьи окружали их нежнейшими заботами. Это было типичное буржуазное семейство, умеренное и аккуратное, ведшее скромную, тихую, довольно замкнутую жизнь в своем глухом переулке. Все его заботы, надежды, честолюбивые мечты сосредоточились на Антуане Лоране (сестра его умерла на пятнадцатом году): он должен был возвеличить имя Лавуазье, составить славу и гордость семьи. Конечно, это величие понималось не Бог весть как широко. «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носить» – это прежде всего и самое главное. Но отец Лавуазье понимал также и важность образования и не стеснял наклонностей сына.
Он не был богат: его состояние ограничивалось доходами прокурора; но семья Пунктис обладала значительным состоянием и не жалела издержек для воспитания молодого Лавуазье.
Первоначальное образование он получил в коллеже Мазарини. Эта школа была устроена кардиналом Мазарини для знатных детей; но в нее принимали экстернов и из других сословий. Она была самой популярной школой в Париже.
Антуан Лоран учился отлично. Как многие из выдающихся ученых, он мечтал сначала о литературной славе и, находясь еще в коллеже, начал писать драму в прозе «Новая Элоиза», но ограничился только первыми сценами. В то же время писал он рассуждения на дидактические темы, предлагаемые для конкурса провинциальными академиями, например, «Прямое сердце так же необходимо для достижения истины, как и здравый ум» или «Сообразно ли с природой и разумом желание увековечить свое имя в памяти людей».
По выходе из коллежа он поступил на факультет права, – вероятно, потому, что его отец и дед были юристами и эта карьера начинала уже становиться традиционной в их семействе: в старой Франции должности обыкновенно передавались по наследству. В 1763-м он получил степень бакалавра, в следующем году – лиценциата прав.
Но юридические науки не могли удовлетворить его безграничной и ненасытной любознательности. Он интересовался всем – от философии Кондильяка до освещения улиц. Он впитывал знания, как губка; всякий новый предмет возбуждал его любопытство; он ощупывал его со всех сторон, выжимая из него все, что возможно. Вскоре, однако, из этого разнообразия начинает выделяться одна группа знаний, которая все более и более поглощает его: естественные науки. Не оставляя своих занятий правом, он изучал математику и астрономию у Лакайля, очень известного в то время астронома, имевшего небольшую обсерваторию в коллеже Мазарини; ботанику – у великого Бернара Жюсье, с которым вместе гербаризировал; минералогию – у Гэтара, составившего первую минералогическую карту Франции; химию – у Руэля.
Руэль оставил немного оригинальных работ, но славился своим преподаванием. Живое, блестящее, увлекательное изложение, ясность и стройность – насколько, конечно, они были достижимы при тогдашнем смутном состоянии химии – привлекали к нему бездну учеников. Между прочим, у него учился Дидро, знаменитые в свое время химики Макер, Байен, Дарсет; наконец, Лавуазье. Последний занимался в лаборатории Руэля в Jardin des Plantes.
Он изучал также анатомию, но любимыми предметами его в это время были математика и метеорология.
Метеорологией он продолжал заниматься и впоследствии: вел барометрические наблюдения изо дня в день в течение всей своей жизни, имел корреспондентов в различных странах, заказал за свой счет несколько барометров и разослал их различным лицам для наблюдений, содействовал учреждению частных метеорологических обществ и оставил несколько мемуаров по метеорологии, в которых, как и во всех его работах, нас поражает способность сразу овладеть истинным методом исследования: он уже тогда понял значение одновременных и многочисленных наблюдений в различных странах и предвидел результаты, достигнутые много позднее, после работ Гумбольдтов, Кэмцов и др.
К сожалению, результаты его собственных тридцатилетних наблюдений никогда не были сведены в одно целое: «гражданин Самсон», палач революции, помешал ему исполнить эту работу.
Всецело поглощенный занятиями, он вел в это время замкнутую, отшельническую жизнь, избегая знакомых и общества под предлогом болезни. Однако усиленные занятия и в самом деле расстроили его здоровье, так что одно время он в течение нескольких месяцев питался исключительно молоком.
«Ваше здоровье, любезный математик, – писал ему по поводу этого один из друзей (1763 г.), – как у всех ученых, дух которых сильнее тела. Умерьте ваши занятия и поверьте, что лишний год жизни на земле стоит больше ста лет в памяти людей».
Но эти благоразумные увещания не могли на него подействовать. Неугомонная, лихорадочная жажда знаний уже сама по себе служила достаточным стимулом для занятий; к ней присоединялось и честолюбие. Жить в памяти людей не казалось ему такой нестоящей вещью, как его благоразумному приятелю. Гений его искал только подходящее поприще, чтобы проявить свою силу.
В тогдашней науке готовились великие преобразования, факты накоплялись и умножались с каждым днем, тогда как законы, объяснения, теории еще предстояло создать. К ней и обратился Лавуазье впоследствии, – пока же пробовал силы в различных отраслях знания и техники.
Первые работы Лавуазье были сделаны под влиянием его учителя и друга Гэтара. Последний занимался сначала ботаникой и за свои труды в этой области получил звание академика; потом перешел к геологии и минералогии. Кроме ученых трудов, он славился невозможным характером. «Немного найдется людей, которые имели столько ссор», – говорит его биограф Кондорсе; он был до крайности резок, вспыльчив, груб, бесцеремонен и сварлив, не выносил противоречий, не стеснялся в выражениях и манерах. Воспитанный в коллегии иезуитов, он остался ярым поклонником и защитником этого ордена, который в то время был, к общему удовольствию, изгнан из Франции; понятно, что разговоры об этом событии давали обильную пищу для вспышек Гэтара. Эти недостатки характера не мешали ему быть безукоризненно честным и справедливым человеком; интриги его возмущали, а так как никакое человеческое учреждение – даже Парижская академия – без интриг не обходится, то источник ссор и грызни не иссякал для него… Как бы то ни было, Лавуазье всегда оставался с ним в наилучших отношениях. Задумав составить минералогическую карту Франции, Гэтар предпринял ряд экскурсий; Лавуазье был его сотрудником в течение трех лет (1763—1766) и сопровождал его в поездках или экскурсировал один. Так, в 1763 году он изъездил некоторые провинции, изучая, главным образом, гипсовые ломки, но не упуская из вида и другие отрасли науки и промышленности.
Плодом этой экскурсии явилась его первая работа – «Исследование различных родов гипса». Особенного значения она не имеет и как все подобные «пробы пера» может интересовать нас лишь постольку, поскольку в ней проявились характерные черты будущего ученого. В этом отношении можно указать на его осторожность и недоверие к гипотезам. «Я мог бы позволить себе несколько догадок, – замечает он в одном месте, – но считаю это неуместным в химическом мемуаре, где каждый шаг вперед должен основываться на опыте».
В следующем году академия предложила премию за «лучший способ освещения улиц большого города». Лавуазье принялся за работу, убедившись, что глаза его недостаточно впечатлительны к различным оттенкам света, он велел обить свою комнату черной материей и заперся в ней на шесть недель, в темноте. Этот факт достаточно характеризует его энергию. С такой настойчивостью и человек средних способностей мог бы уйти далеко; чего же можно было ожидать от Лавуазье. Результатом его исследований явился обширный мемуар, представленный им академии. Премии, однако, он не получил: она была выдана другим соискателям, отнесшимся к вопросу с более практической точки зрения; ему же, исследовавшему предмет с научной, теоретической стороны, была присуждена золотая медаль (1766 г.), а работа напечатана в мемуарах академии.
В 1766 году умерла г-жа Пунктис. Отец Лавуазье, желая упростить формальности наследства, решил объявить сына совершеннолетним, что и было исполнено (по закону совершеннолетие достигалось только в 25 лет).
Покончив с работой на премию, Лавуазье продолжал экскурсии с Гэтаром. В 1767 году они предприняли довольно продолжительную поездку в Вогезы для исследования тамошних рудных богатств. Отец и тетка относились к этой поездке не без боязни, точно дело шло о путешествии на северный полюс или в сердце Африки. Им мерещились всевозможные страхи, реальные и фиктивные: разбойники, звери, опасности в рудниках, и прочее, и прочее. Письма их переполнены беспокойством и опасениями.
«Я начинаю терять Вас из вида, – пишет m-lle Пунктис, – и очень беспокоюсь. Я боюсь вредных последствий жары, которая все усиливается, боюсь оружия, которое Вы захватили с собой, хотя оно и может быть Вам полезно против зверей и разбойников, боюсь рудников. Заклинаю Вас нашей нежной дружбой, будьте еще осторожнее, чем Вы мне обещали: только это может несколько успокоить меня». Затем, переходя от церемонного тона к родственному, она продолжает: «Мы боимся, что ты не получаешь всех писем, которые мы тебе посылаем, и твой отец намерен – если ты найдешь это приличным – адресовывать письма „г-ну Лавуазье, посланному короля в Вогезах“, чтобы на них обращали больше внимания. Надеемся получить сегодня о тебе известие; пиши почаще, иначе мы не в состоянии будем выносить твоего отсутствия. Мы ждем почтальона, как Мессию. Ты помнишь наши условия; этого нам достаточно; но не забывай о них, иначе наше положение будет невыносимо; это наша единственная поддержка… Будь здоров, дитя мое, будь благоразумен, вспомни обо мне и береги себя…»
Лавуазье оставил журнал этой поездки, который дает нам понятие о его неугомонной любознательности и разнообразии интересов.
«Каждое утро перед отъездом между пятью и шестью часами он записывает показания барометра и термометра; эти наблюдения повторяются несколько раз в день и в последний раз производятся на ночлеге. По дороге он замечает все: характер почвы, рельеф местности, растительность. Часто неровный почерк показывает, что он делал заметки, не слезая с лошади. Он посещает рудники, мануфактуры: здесь – стальную фабрику, там – заведение для беления полотна; если нельзя побывать самому в той или другой местности, расспрашивает сведущих людей, в особенности рудокопов и каменщиков, узнает от них, есть ли где поблизости известняк, песчаник, гипс. Приехав в какой-нибудь город, осматривает коллекции любителей, составляя наскоро инвентарь. В каждой местности определяет температуру и плотность вод… Вечером пополняет журнал, пишет письма и записывает расходы» (Grimaux, 19).
По возвращении из путешествия Гэтар принялся за составление минералогического атласа Франции при деятельном сотрудничестве Лавуазье. Впрочем, им не удалось довести его до конца. Вследствие разных интриг, о которых здесь не стоит распространяться, издание попало в руки некоего Моннэ, очень бесцеремонного господина, воспользовавшегося готовым материалом и приписавшего себе главную честь издания. В результате оказалось, что исследование было произведено Гэтаром и Моннэ, и главным образом последним, имя же Лавуазье упоминалось только вскользь.
Этот бесцеремонный поступок, понятно, очень раздражил его. «Я напоминаю об этих подробностях, – говорит он в одной из своих заметок, – чтобы показать, с каким бесстыдством г-н Моннэ завладел таблицами (для атласа), на которые Гэтар и Лавуазье имели гораздо больше права, чем он, или лучше сказать, на которые он вовсе не имел права».
Этот пигмей навсегда остался врагом обворованного им ученого и печатал впоследствии брошюрки против теорий Лавуазье.
Впрочем, эта неудача не повлияла на общий, успешный и быстрый, ход его карьеры.
Независимо от участия в составлении минералогического атласа, Лавуазье представил академии ряд статей и заметок: о новом виде стеатита, о северных сияниях, довольно обширный мемуар по геологии и др. Нам нет надобности останавливаться на этих работах, посвященных частным вопросам; во всяком случае, они доставили ему известность в кругу ученых.
В 1768 году, когда ему исполнилось 25 лет, произошло важное событие в его жизни; он был избран членом Академии наук. Без сомнения, при этом влияли не только его работы, но и личное знакомство с учеными, знавшими его энергию, дарования и преданность науке. По крайней мере, Лаланд, подавший за него голос, так объясняет свой выбор: «Я содействовал избранию Лавуазье, хотя он был моложе своего соперника, минералога Жарса, и менее известен, потому что молодой человек, обладавший такими знаниями, умом и энергией и притом значительным состоянием, избавлявшим его от необходимости искать заработок, естественно, мог быть очень полезен для науки».
Академия в то время имела иное устройство, чем ныне: на ней, как и на всем остальном, отражались особенности старого порядка. Она состояла из почетных членов, выбираемых из знатных лиц, пенсионеров, действительных членов и адъюнктов. Наибольшим значением пользовались почетные члены, люди с громкими титулами: герцоги, графы и маркизы; они имели решающий голос при выборе новых членов. Действительные члены принимали участие в составлении списка кандидатов. Адъюнктов держали в черном теле: на заседаниях они должны были помещаться на скамьях за креслами, на которых восседали действительные и почетные члены. Впрочем, если было свободное место, то им дозволялось садиться и рядом.
Лавуазье был кандидатом на место умершего химика Барона. Большинство голосов оказалось за него, однако за его соперника Жарса стоял министр Флорентен. Не желая ни уступить, ни оскорбить академиков, он вышел из затруднительного положения, создав для Лавуазье новое место адъюнкта. Таким образом, оба кандидата были выбраны.
Легко себе представить, какую радость возбудил в семействе Лавуазье этот важный успех.
«Я отсюда вижу, какая радость сияет в Ваших глазах, – пишет его тетке один из родственников, – при мысли, что Ваш племянник, предмет всех Ваших попечений, избран в Академию наук. Как приятно видеть, что в таких юных летах, когда думают только об удовольствиях, этот милый ребенок показал уже такие успехи в науках, что получил место, которого достигают обыкновенно после многих усилий, не ранее пятидесяти лет».
С избранием в академию Лавуазье приобрел position sociale, ярлык, свой шесток, без которого в глазах солидных людей он при всех своих работах оставался бы молодым человеком, лишенным определенных занятий. Но он не считал себя обеспеченным в материальном отношении. Средства у него были, но ему требовалось богатство. Мы не удивимся этому, когда узнаем, что одни опыты над составом воды обошлись ему в 50 тысяч ливров. Он мечтал о собственной лаборатории, о безукоризненных аппаратах, о широкой научной деятельности, о том, чтобы можно было не останавливаться перед издержками. Итак, он стал искать доходное место, «неразменный червонец». Таковой и нашелся в откупе податей, «Ferme générale», учреждении, пользовавшемся всеобщею и заслуженною ненавистью, куда Лавуазье поступил в 1769 году. Но мы должны подробнее ознакомить читателя с этим учреждением, что и сделаем в следующей главе.
Не будем перечислять здесь работ Лавуазье по различным вопросам науки и техники, появившихся в эти годы. Точность, аккуратность, полнота исследования – их отличительные черты. Но сами по себе вопросы слишком специальны, мелки и лишены общего интереса. Они служили для него школой; на них он вырабатывал метод своих будущих работ. Внимание его все более и более устремляется к вопросам химии; но он не удовлетворяется качественным исследованием и, стремясь к идеальной точности, вырабатывает метод количественного определения. Недостаточно знать, какие вещества участвуют в реакции, нужно определить, сколько их участвует. Только таким путем, с весами в руках, можно добиться полного и точного решения вопроса.
Это был ключ к разгадке великих тайн природы. В одной из следующих глав мы расскажем, как Лавуазье воспользовался этим ключом.
Глава II. Устройство карьеры и образ жизни
«В Персеполисе есть сорок королей – плебеев: они держат в аренде всю Персидскую империю и кое-что из ее доходов отдают монарху».
ВольтерГенеральный откуп. – Его организация. – Паразиты откупа: пайщики и пенсионеры. – Злоупотребления и кражи. – Реформа откупа при Людовике XVI. – Ненависть народа и общества к откупу. – Женитьба Лавуазье. – Его тесть. – Приобретение потомственного дворянства. – Смерть отца Лавуазье. – Отношение Лавуазье к жене. – Ее работы. – Отзыв Артура Юнга. – Образ жизни Лавуазье. – Его аккуратность, трудолюбие, энергия. – Лаборатория Лавуазье. – Разнообразие занятий. – Доходы и издержки Лавуазье. – Его щедрость. – Религиозные и политические взгляды.
В 1769 году Лавуазье вступил в генеральный откуп товарищем откупщика Бодона, уступившего ему третью часть своих доходов.
«Ferme générale» было обществом финансистов, которому государство уступало за известную плату сбор косвенных налогов (винный, табачный, соляной, таможенные и крепостные пошлины). Контракт между откупом и государством заключался на шесть лет; в промежутке между окончанием одного и выработкой другого контракта сбор податей поручался (фиктивно) особо назначенному лицу, «генеральному подрядчику», который давал свое имя новому контракту и по утверждении его уступал право сбора откупщикам. Это была чистая формальность: труды «генерального подрядчика» ограничивались получением четырех тысяч ливров в год в течение шести лет. Таким образом, в распоряжении министра финансов оказывалась синекура, которую он мог подарить кому-нибудь из своих протеже. Так, с 1780 по 1786 год генеральным подрядчиком был некто Сальзар, служивший сначала дворником, а потом камердинером.
Каждый откупщик во времена Лавуазье вносил 1560 000 ливров залога. Вознаграждение откупщикам определялось в 10 % со внесенного миллиона и 6 % – с остальных 560 тысяч; всего, с некоторыми другими мелкими получениями, около 150 тысяч ливров в год. «Из этой суммы, – говорит Лавуазье, – приходилось выплачивать шесть процентов на занятые 1560000 ливров; если принять в соображение этот и некоторые другие расходы, то каждому откупщику оставалось только 52 тысячи ливров в год. Нельзя не согласиться, что эта сумма не чрезмерно велика, если иметь в виду необходимость содержать дом, платить секретарям и комми, воспитывать детей».
Независимо от этих расходов откупщикам приходилось кормить массу дармоедов. Откуп считался одним из самых аппетитных общественных пирогов, и на него зарились очень многие. Чем более разорялась Франция в царствование «короля-солнца» и его преемников, тем сильнее разгорались аппетиты. Целая стая голодных волков рвала откупную добычу. Таковы, например, «пайщики» (croupier), – лица, посторонние откупу, но приписанные к нему по желанию короля; иногда они вносили известную сумму и получали проценты, ничего не делая, иногда ничего не вносили, а просто считались «кредиторами откупа» и тоже получали проценты. Далее присасывались к откупу «пенсионеры», назначаемые королем при утверждении откупщиков и получавшие более или менее значительные суммы. В 1774 году из-за нескромности одного из должностных лиц был обнародован список пайщиков и пенсионеров откупа. «Список произвел чудовищный скандал в парижском обществе; имена высочайших особ стояли в нем рядом с самыми безвестными именами; оказалось, что целая шайка, от короля до ничтожнейшего из подданных, грабит лохмотья Франции».
Доходы пайщиков равнялись четырнадцати фермерским доходам; в числе пенсионеров фигурировали король, дофин, доктор графини Дюбарри (10 тысяч ливров), кормилица герцога Бургундского (10 тысяч ливров), придворная певица и прочие.
Наконец, откуп должен был ублажать множество лиц высшей администрации: министров, интендантов, генерал-контролера и других.
При такой массе издержек и добросовестном ведении дела откупщик мог не только ничего не получить, но и потерпеть убыток в случае неурожая или промышленного кризиса. Так, например, тесть Лавуазье после четырехлетнего участия в откупе оказался с дефицитом в 52 тысячи ливров.
Но даже и в благоприятные годы доходы откупщиков не были так чудовищны, как думали в обществе: опять-таки – при добросовестном отношении к делу, потому что злоупотребления и спекуляции могли дать много. В царствование Людовиков XIV и XV происходила настоящая оргия. Некто Бурэ, введенный в откуп маркизой Помпадур, нажился на спекуляциях с хлебом, просадил 42 миллиона и умер в нищете; откупщик Руссель награбил и промотал 12 миллионов – и много было таких героев, оставивших славное имя в скандальной хронике того времени. Эти «подвиги» производились без всякого стеснения. «Ведь вы тянете деньги из наших карманов!» – заметил кто-то генерал-контролеру Террэ, известному в свое время взяточнику и казнокраду. «Откуда же прикажете их тянуть?» – отвечал тот, смеясь. Эта циничная откровенность характеризует эпоху Людовика XV.
Само правительство обвиняло иногда откупщиков в казнокрадстве. «Они утаивают большую часть денег, которые обязаны вносить в казну, – гласит эдикт регента от 1716 года. – Огромные богатства, нажитые преступным путем, непомерная роскошь, которая как бы издевается над нищетой наших подданных, уже сами по себе доказывают их недобросовестность. Их богатства – жатва наших провинций, хлеб нашего народа, собственность государства».
Правда, в царствование Людовика XVI этого уже не было. Реформаторская метла коснулась и откупа. Администрация его обновилась: спекулянтов и грабителей отогнали от пирога; циклопические кражи отошли в область преданий. Среди откупщиков, погибших в 1794 году на эшафоте, не оказалось ни одного, повинного в какой-нибудь плутне; все это были честные, аккуратные, добросовестные финансисты, усердно занимавшиеся своим делом, получая законную прибыль и стараясь улучшить систему сборов, чтобы облегчить положение нации.
Тем не менее их ненавидели. Отблеск скандальной славы первых откупщиков падал и на них. Никто не верил в их честность. Они могут воровать, следовательно, они воруют, – так рассуждала публика. Как не погреть руки около общественного ящика? Это сам Бог велел! Да и помимо этого причин для ненависти было достаточно. С какой стати между правительством и народом ввязалась компания частных лиц и набивает себе карманы за счет того и другого? Далее, сама система налогов была безобразна. Внутренние таможни убивали промышленность, разоряли народ. Контрабанда процветала. Откуп преследовал контрабандистов, ссылал их на галеры, где они составляли более трети каторжников. Понятно, какую злобу возбуждало это в населении: контрабандист и браконьер всегда пользуются симпатией народа, это не воры, а скорее герои. Для борьбы с контрабандой откуп должен был содержать целую армию мелких служащих. Они могли делать обыски, арестовывать по подозрению в контрабанде. Недостатка в мелких злоупотреблениях не было. Администрация откупа преследовала их не особенно ретиво, опасаясь ослабить деятельность своих агентов и повредить сбору податей. Юридическая же ответственность откупа была призрачной. Жаловаться на него было бесполезно. В 1767 году некто Монера, безвинно арестованный и просидевший в тюрьме 20 месяцев, пробовал искать управы на своих обидчиков, – напрасно! Сам Малерб, взявшийся хлопотать за него, не мог ничего поделать.
Несмотря на улучшение откупа при Людовике XVI, ненависть к нему не уменьшалась, а скорее росла, по мере того как распространялись и развивались освободительные идеи. В нем видели как бы воплощение темных сторон старого порядка. Это был самый яркий цветок, выросший на почве бесправия, привилегий и безгласности. Как бы ни были добросовестны откупщики, но уже тот факт, что кучка людей пользуется такой громадной властью, в темноте и, так сказать, en famille, был достаточен для возбуждения к ним ненависти.
Нападки на откуп не прекращаются вплоть до его уничтожения. Накануне революции Мерсье пишет: «Я не могу без глубокого вздоха пройти мимо откупного отеля. Как бы мне хотелось низвергнуть эту огромную адскую машину, которая душит всех честных граждан… Откуп – пугало, подавляющее все смелые и благородные намерения. Дай Бог, чтобы провинциальные собрания уничтожили эту корпорацию, виновницу стольких бедствий и беспорядков».
Таково было общее мнение об учреждении, членом которого стал Лавуазье.
Некоторые из его товарищей по академии опасались, что занятия, связанные с новой должностью, пагубно повлияют на его научную деятельность. «Ничего, – утешал их математик Фонтэн, – зато он будет задавать нам обеды».
Устроившись в материальном отношении, Лавуазье вскоре женился на дочери генерального откупщика Польза (Paulze). Это был один из выдающихся людей своего времени. Он принадлежал к партии гуманистов, во главе которой стоял сам король и которая в течение многих лет тщетно пыталась обновить старый порядок. Он интересовался, главным образом, экономическими вопросами и много работал над улучшением финансовой системы Франции: предложил ряд полезных и гуманных мер, которые не были приняты; указал много улучшений, которые не были исполнены; давал прекрасные советы, которых не слушали… В доме его собирались выдающиеся представители науки и литературы, особенно экономисты. Он доставил Рейналю материалы для «Философской истории обеих Индий», наделавшей в свое время много шума.
Впоследствии он, так же, как и Лавуазье, поплатился головой за грехи старого порядка, хотя личная его деятельность была так же безупречна, как и деятельность его зятя.
Женитьба Лавуазье была до некоторой степени избавлением для его невесты. Дело в том, что ее важный родственник, генерал-контролер (министр финансов) Террэ, от которого зависел Польз, во что бы то ни стало хотел выдать ее за некоего графа Амерваля, обнищалого дворянина, славившегося своими кутежами, скандалами и буйным характером и желавшего поправить свои финансы женитьбой на богатой мещаночке. Польз наотрез отказался от этой чести; и так как Террэ настаивал, то откупщик решил поскорее выдать дочь замуж, чтобы прекратить всякий разговор о графе. Он предложил ее руку Лавуазье; последний согласился. В это время (1771 г.) ему было 28 лет, а его невесте – четырнадцать. Ввиду такого различия лет и исключительных условий брака у читателя может, пожалуй, явиться мысль о каких-нибудь расчетах со стороны жениха. Но этого не было. Приданое m-lle Польз – 80 тысяч ливров – не могло иметь для него особенного значения. Он обладал в это время собственным капиталом в 170 тысяч ливров, получил от отца 250 тысяч; наконец, откуп давал ему до 20 тысяч ливров в год.
Эта женитьба завершила мечты старика Лавуазье. В самом деле, сын его приобрел, по-видимому, все, что требуется для человеческого благополучия: доходное место, почетное звание, известность; наконец, обзавелся семьей. Одного еще ему не доставало: он не был дворянином, и, как истый буржуа, его почтенный родитель решился восполнить этот недостаток. После женитьбы сына он оставил должность прокурора парламента и стал искать место, которое могло бы доставить сыну дворянство. Таких мест было около четырех тысяч; они продавались желающим и доставляли казне изрядный доход. Лавуазье-отец купил должность «советника – секретаря короля, дома, финансов и короны Франции» («Conseiller – secrétaire du Roi, maison, finances et couronne de la France»), дававшую потомственное дворянство.
Совершив таким образом «в пределе земном все земное», он умер в 1775 году, четыре года спустя после женитьбы сына. Он был достойный человек, один из хороших представителей тогдашней буржуазии и заслуживает благодарного воспоминания с нашей стороны, так как много сделал для своего сына, а следовательно, и для науки.
«Я оплакиваю потерю не столько отца, – писал Лавуазье, – сколько лучшего из моих друзей. Взаимное доверие, нежность и дружба, связывавшие нас с первых лет моего детства, составляли до сих пор счастье моих дней».
Несмотря на молодость невесты, брак оказался счастливым. Лавуазье нашел в ней деятельную помощницу и сотрудницу в своих занятиях. Она помогала ему в химических опытах, вела журнал лаборатории, переводила для мужа работы английских ученых, между прочим, брошюру Кирвана, написанную в защиту старой теории флогистона и изданную во французском переводе с примечаниями Лавуазье и его сотрудников. Рисунки, приложенные к «Traité de chimie» Лавуазье, были сделаны и выгравированы ею.
Известный Артур Юнг, путешествовавший по Франции в 1787 году, интересуясь «познанием всякого рода вещей», побывал также у Лавуазье и оставил такой отзыв о его жене: «Г-жа Лавуазье, особа очень образованная, умная и живая, приготовила нам завтрак по-английски; но лучшая часть ее угощения, без сомнения, ее разговор, частью об „Опыте о флогистоне“ Кирвана, частью о других предметах, которые она умеет передавать замечательно интересно».
Она гордилась успехами мужа больше, чем он сам. Недостатком ее характера была некоторая вспыльчивость, резкость и высокомерие. Тем не менее они уживались как нельзя лучше, связанные не только любовью, но – и главным образом – дружбой, взаимным уважением, общими интересами и общей работой. Детей у них не было.
В жизни великих и много работавших людей мы постоянно встречаем одни и те же черты. При всем различии направлений, характеров, занятий у них есть нечто общее, как бы известный шаблон, по которому они устраивают свою жизнь. Так, например, вопреки старому представлению о гении как о каком-то растрепанном во всех отношениях существе, мы убеждаемся, что трудолюбие, аккуратность и строгий порядок представляют почти неизменную черту жизни великих деятелей науки и литературы, в особенности науки. То же самое мы наблюдаем и в жизни Лавуазье.
Он положил себе за правило заниматься наукой шесть часов в день: от шести до девяти утра и от семи до десяти вечера. Остальная часть дня распределялась между занятиями по откупу, академическими делами, работой в различных комиссиях и так далее.
Один день в неделю посвящался исключительно науке. С утра Лавуазье запирался в лаборатории со своими сотрудниками; тут они повторяли опыты, обсуждали химические вопросы, спорили о новой системе.
Здесь можно было видеть славнейших ученых того времени – Лапласа, Монжа, Лагранжа, Гитона Морво, Маккера и других; знатных дилетантов, занимавшихся наукой согласно моде эпохи: как герцог Ларошфуко, изучавший способы образования селитры, герцог д’Айен, президент академии, тоже кропавший что-то по химическим вопросам; начинающих ученых, находивших приют и поддержку у Лавуазье; наконец, особенно в последние годы, когда новая химия стала приобретать господство, – иностранных путешественников и ученых, таких как А. Юнг, Франклин, Уатт, Ингенгуз. Некоторые из этих посетителей – Лаплас, Менье, Сегэн – были его сотрудниками в различных работах и разделяют славу некоторых из его открытий. Другие являлись с воинственными целями – сразиться с еретиком, у которого хватало дерзости (наглости, как казалось многим) выбросить за борт все прежние авторитеты, вымести, как негодный сор, измышления Бехеров и Сталей, Макеров и Блэков, Пристли и Шееле и объявить, что только он один в целом мире владеет истиной. В то время научные открытия публиковались и распространялись не так быстро, как теперь; личные контакты между учеными были более развиты; естественно, что всякий, интересовавшийся вопросами химии, стремился на свет нового учения. Лаборатория Лавуазье сделалась центром тогдашней науки; друзья и недруги стекались вокруг солнца химии и, отражая лучи его гения, рассылали их во все концы мира.
В характере Лавуазье были цепкость и упорство расы, выразившиеся в настойчивости, с какою он вел свои работы в течение многих лет подряд, шаг за шагом, не торопясь, обдуманно, сознательно, хладнокровно, логически переходя от вывода к выводу, от факта к факту, без всяких скачков и увлечений.
Эта спокойная рассудочность соединялась в нем с удивительной энергией. Ниже мы увидим, какую бездну дел переделал он в течение своей жизни. Химик, технолог, агроном, финансист, администратор, – да, кажется, не найдется такой отрасли общественной деятельности, в которой бы он не играл более или менее важной роли, всегда веселый, кипучий, живой, поднимавший на ноги самых ленивых и сонных, всюду вносивший свою горячку работы.
Казалось бы, человек, поглощенный великими вопросами науки, создававший новые теории, открывавший новые законы, должен был сторониться черной работы или, по крайней мере, относиться к ней равнодушно. Но нет, он вкладывал душу во все, за что брался: шло ли дело о новых законах химии, об устройстве народного образования, исследовании тюрем, фабрикации пороха – о чем угодно. Для него не было мелкого или неважного дела, раз оно так или иначе соприкасалось с благом людей; так же как не было слишком грязного или неприятного: светило науки, царь химии, он без всяких колебаний брался за такую работу, как, например, исследование отхожих мест – работа грязная и неприятная, но важная для города, страдавшего от миазмов.
Разнообразные занятия заставляли его вступать в контакты с разными лицами – не только учеными, но и администраторами, как Малерб, Тюрго, который очень уважал его мнение и советовался с ним о своих реформах, Неккер и другие.
Контакты эти требовали обширной переписки, и здесь-то, может быть, самым наглядным образом проявилась его необыкновенная аккуратность, соединявшаяся с такой порывистой и кипучей энергией. «Он имел привычку сам писать черновые своих писем, переправлял их несколько раз и затем отдавал переписывать секретарю; часто он переделывал наново эту копию, обдумывая каждое выражение, взвешивая каждое слово. Если бы не сохранились все его черновики, все его рукописи, изданные и неизданные, нельзя было бы поверить, что его хватало на этот огромный и непрестанный труд».
Лавуазье понимал значение золотого мешка в жизни, однако никто не мог бы упрекнуть его в корыстолюбии. Доходы его были значительны: с 1768 по 1774 год откуп доставил ему около 100 тысяч ливров. Следующий контракт (1774—1780 гг.), совпавший с министерством Тюрго и временным подъемом народного благосостояния, оказался очень выгодным и доставил каждому откупщику более 100 тысяч ливров ежегодно; затем доходы снова понизились до 75 тысяч ливров. В общем итоге Лавуазье получил с 1768 по 1786 год 1200000 ливров.
Он тратил огромные суммы на устройство приборов, представляя в этом отношении совершенную противоположность некоторым из своих современников, например, Шееле, производившему свои удивительные исследования в черепках и помадных банках. Лавуазье стремился к идеальной точности и совершенству аппаратов; это был его конек, его страсть, и это стоило огромных денег: как мы уже упоминали, одни опыты над составом воды обошлись ему в 50 тысяч ливров.
Вообще, он не жалел денег на дело: агрономические опыты стоили ему 120 тысяч ливров; в 1778 году он дал взаймы городам Блуа и Роморантену, пострадавшим от неурожая, 38 тысяч ливров; отказался от процентов да, кажется, не получил и капитала; помогал начинающим ученым; выручал из нужды своих коллег, например, химика Адэ, долго находившегося в стесненном положении, – словом, благоразумие и аккуратность не мешали ему быть великодушным и щедрым.
Кроме науки и общественных дел, он интересовался живописью, – сохранился каталог выставки с его пометками – но в особенности увлекался музыкой. В памфлете против откупщиков, вышедшем в 1789 году, его упрекают за то, что он имеет ложу на все оперные спектакли. В бумагах его сохранился трактат о гармонии.
Как это часто бывает, он строго отделял религиозную сферу от научной. Разрушитель и скептик в науке, он принимал беспрекословно догматы, заученные в детстве. Это раздвоение представляет тоже почти общее явление: весьма редко встречаем мы в истории науки людей вроде Дарвина с его удивительною последовательностью и единством взглядов. «Вы предпринимаете прекрасное дело, – писал Лавуазье некоему Кингу, издавшему трактат в защиту религии, – выступая защитником откровения и подлинности Священного Писания; в особенности замечательно ваше уменье обратить в пользу религии те самые аргументы, которыми думали опровергнуть ее».
Политические взгляды его гармонировали с общим складом его ума, по преимуществу творческого. Правда, как мы только что говорили, он явился разрушителем старых доктрин в науке. Но как он вел это дело? Сначала он создает метод исследования, прилагает его на деле, исследует и объясняет главнейшие факты, известные в то время, вырабатывает основные истины новой химии, почти ни единым словом не затрагивая старой теории. Наконец, когда все готово, здание выстроено и учение флогистона, фактически уже уничтоженное, треплется в нем только в силу инерции, как бесполезная тень прошлого, он обращается к этой теме и выгоняет ее одним взмахом руки. То же стремление созидать обнаруживается и в его политической деятельности. Он был безусловным сторонником реформ и врагом насилия – либералом, по современной терминологии. Его убеждения не были только словами: всю свою жизнь он работал над исправлением недостатков старого механизма, и если большая часть его усилий пошла прахом, его ли это вина! Но мы дадим ниже более подробный очерк его общественной деятельности; здесь же отметим только его непоколебимую верность своим идеалам. Ужасы революции не сделали его ренегатом, как многих из его единомышленников; страх за свою шкуру не вынудил его примкнуть к партии террористов; он до конца остался верен своим либеральным идеям и принял смерть без злобы и проклятий, как принимают смерть от болезни, в которой никто не повинен.
Глава III. Научная деятельность Лавуазье
«В этой главе придется развернуть перед читателем картину, полную величия. В тиши лаборатории, предоставленный лишь собственным силам, один человек оказывается достаточно сильным, чтобы обновить всю науку».
Н. МеншуткинСостояние химии в конце XVIII века. – Теория флогистона. – Задача Лавуазье. – Работа о природе воды. – Преобразование химии: исходный пункт исследований Лавуазье; теория горения; состав воздуха; строение окислов, кислот и солей; опровержение флогистонной теории; анализ и синтез воды; строение органических тел; органический анализ; новая химическая номенклатура. – «Traité de chimie». – Значение Лавуазье для физиологии: теория дыхания; объяснение животной теплоты. – Калориметрия. – Распространение новой химии: период нападок; торжество новых идей. – Литературные достоинства Лавуазье.
Во второй половине XVIII века химия пребывала в состоянии лихорадочного оживления. Ученые работают не покладая рук, открытия сыплются за открытиями, выдвигается ряд блестящих экспериментаторов – Пристли, Блэк, Шееле, Кавендиш и другие. В работах Блэка, Кавендиша и в особенности Пристли ученым открывается новый мир – область газов, дотоле совершенно неведомая. Приемы исследования совершенствуются; Блэк, Кронштедт, Бергман и другие разрабатывают качественный анализ; результат этого – открытие массы новых элементов и соединений.
А между тем, строго говоря, наука химия еще не существовала. Были факты, накоплявшиеся не по дням, а по часам; были ложные противоречивые теории, кое-как объединявшие эти факты; но науки, то есть правильного объяснения, координации фактов, не было.
Не было основного закона химии, потому что идея вечности материи, высказанная еще Лукрецием и Демокритом, никогда не применялась к химическим явлениям, не формулировалась химически, то есть в виде положения: вес тел, входящих в реакцию, равен весу тел, получаемых в результате реакции. А пока это положение, которое ныне молчаливо подразумевается во всех химических исследованиях, не вошло в сознание ученых, немыслимо было сколько-нибудь правильное объяснение химических явлений: тела весомые смешивались с «невесомыми» (то есть теплотой, светом и пр.), присоединение тела могло уменьшать вес, отделение – увеличивать, и так далее, иными словами – не было правильного представления о простых телах.
Не было метода исследования, потому что весы – главное орудие химии – применялись только случайно, и никому не приходило в голову, что весовое, количественное определение должно всегда, неизбежно, неизменно сопровождать химическое исследование, что в нем-то и лежит ключ к объяснению химических явлений.
Наконец (что и понятно из вышесказанного), основные явления химии – процессы горения и окисления вообще, состав воздуха, роль кислорода, строение главных групп химических соединений (окислов, кислот, солей и прочего) – не были еще объяснены.
Теория флогистона, правда, объединяла, но не объясняла многие из этих явлений. Вот сущность этой теории, основанной Бехером, развитой и переработанной Сталем: она признает существование особого элемента, флогистона, в большей или меньшей степени насыщающего все горючие тела. Он находится, например, в железе и в других металлах. Металл сгорает (окисляется) – флогистон выделяется; в этом разъединении двух тел и состоит горение. В результате получается окись, простое тело: металл минус флогистон. Как видит читатель, это объяснение как раз противоположно действительности; на самом деле металл – простое тело, горение – соединение двух тел; результат горения – сложное тело. Итак, объяснение, даваемое теорией флогистона, было ложно. Но, кроме того, оно было фиктивно: оно вводило в сферу реальных явлений нереальный принцип, нематериальную материю – флогистон, удивительное тело, неуловимое, загадочное, не походившее на все остальные тела, ускользавшее от всякого объяснения, одинаково пригодное для всевозможных теорий и одинаково превращавшее все их в фикцию.
Пока этот призрак путался в химические исследования, наука как объяснение фактов, а не только их накопление, не могла развиваться. И в самом деле, сравнивая воззрения Пристли, Шееле, Макера и других с теорией самого Сталя, мы не видим прогресса. Напротив: факты накопляются, идеи запутываются; бревна и кирпичи сносятся со всех сторон и здание принимает вид все более и более безобразной груды. Довольно благовидное в изложении Сталя учение о флогистоне превращается у его последователей в какую-то фантасмагорию: это уже не одна теория, это – десятки теорий, запутанных, противоречивых, изменяющихся у каждого автора.
Итак, вот что предстояло сделать: найти основной закон химии, руководящее правило химических исследований; создать метод исследования, вытекавший из этого основного закона; объяснить главные разряды химических явлений и, наконец, выбросить мусор фантастических теорий, развеять призраки, мешавшие правильному взгляду на природу.
Эту задачу взял на себя и исполнил Лавуазье. Для выполнения ее недостаточно было экспериментального таланта. К золотым рукам Пристли или Шееле требовалось присоединить золотую же голову. Такое счастливое соединение представлял Лавуазье. Ему принадлежит ряд блестящих открытий, но почти все они были сделаны независимо от него другими учеными. Кислород, например, открыт Байеном и Пристли до Лавуазье и Шееле, независимо от первых трех; открытие состава воды приписывалось, кроме Лавуазье, Кавендишу, Уатту и Монжу (в действительности оно принадлежит Кавендишу). По поводу последнего открытия Лавуазье даже обвиняли в плагиате, в недобросовестном умолчании о будто бы известном ему открытии Кавендиша. Но слава Лавуазье так мало зависит от этих фактических открытий, что нам даже нет надобности касаться вопросов о первенстве. Если бы он не открыл ни одного нового факта, но высказал только свои выводы, свою систему воззрений – его слава не пострадала бы ни на йоту. Он велик как теоретик, как архитектор, строивший из материалов, накопленных трудами многих исследователей; что за важность, если архитектор не таскает сам кирпичи и бревна!
В научной деятельности Лавуазье нас поражает ее строго логический ход. Сначала он вырабатывает метод исследований. Этот подготовительный период завершается в 1770 году работой «О природе воды». Передадим вкратце ее содержание.
Давно уже было замечено, что при выпаривании воды в стеклянном сосуде получается землистый осадок. Отсюда вывели заключение о способности воды превращаться в землю; другие думали, что земля уже существует в воде в виде особого соединения; третьи приписывали образование осадка материи, присоединяющейся извне.
Лавуазье решился проверить эти мнения. Для этого он в течение 101 дня перегонял воду в замкнутом аппарате. Вода испарялась, охлаждалась, возвращалась в приемник, снова испарялась и так далее. В результате получилось значительное количество осадка. Откуда он взялся?
Общий вес аппарата по окончании опыта не изменился: значит, никакого вещества извне не присоединилось. Вес воды после опыта не изменился: значит, она не превратилась в землю. Вес стеклянного сосуда уменьшился на столько же, сколько весил полученный осадок: значит, осадок получился от растворения стекла.
Как видим, в этой работе Лавуазье уже является во всеоружии своего метода – метода количественного исследования. Химия имеет дело с весомыми телами, химические реакции состоят в соединении и разъединении весомых тел, по увеличению или уменьшению веса можно судить о присоединении или отделении вещества.
Все это так просто, ясно, что мы готовы спросить: неужели нужен великий ум, чтобы додуматься до таких простых вещей? Но это ясно и очевидно для нас – после Лавуазье и благодаря ему. А посмотрим на его современников. Через несколько лет после вышеизложенной работы Шееле, блестящий, проницательный, остроумный исследователь, обогативший науку массой крупных открытий, издает трактат о воздухе, в котором среди прочего доказывает, что два весомых элемента – «огненный воздух» (кислород) и флогистон – соединяясь, дают невесомую материю, которая проходит сквозь стенки сосуда и исчезает в виде теплоты и света. Если уж лучшие умы науки бродили в таком тумане, то можно себе представить понятия массы. Только Лавуазье обладал секретом, волшебной палочкой, по мановению которой груда материалов должна была превратиться в царский дворец.
Овладев методом, Лавуазье приступает к своей главной задаче. Работы его, создавшие современную химию, охватывают период времени с 1772 по 1789 год. Исходным пунктом его исследований послужил факт увеличения веса тел при горении. В 1772 году он представил в академию коротенькую записку, в которой сообщал о результате своих опытов, показавших, что при сгорании серы и фосфора они увеличиваются в весе за счет воздуха, иными словами, соединяются с частью воздуха.
Этот факт – основное, капитальное явление, послужившее ключом к объяснению всех остальных. Никто этого не понимал, да и современному читателю может с первого взгляда показаться, что речь здесь о единичном неважном явлении… Но это неверно. Объяснить факт горения значило объяснить целый мир явлений окисления, происходящих всегда и всюду в воздухе, земле, организмах – во всей мертвой и живой природе, в бесчисленных вариациях и разнообразнейших формах. Сюда относятся процессы горения в собственном смысле, медленного окисления, дыхания; продуктами горения являются самые распространенные тела, например, вода, углекислота, бесчисленные окиси и ангидриды.
Лавуазье – и только Лавуазье – понимал значение установленного им факта. Обобщая свои наблюдения, он высказал мысль, что вообще все явления горения и окисления происходят вследствие соединения тел с частью воздуха. Около 60 мемуаров было им посвящено уяснению различных вопросов, связанных с этим исходным пунктом. В них новая наука развивается как клубок. Явления горения естественно приводят Лавуазье, с одной стороны, к исследованию состава воздуха, с другой – к изучению остальных форм окисления; к образованию различных окисей и кислот и уяснению их состава; к процессу дыхания, а отсюда – к исследованию органических тел и открытию органического анализа, и т. д.
В нижеследующем кратком очерке его открытий мы не будем придерживаться строго хронологического порядка, но перечислим сначала чисто химические работы; затем упомянем отдельно о работах, относящихся к физиологии и физике.
Ближайшей задачей Лавуазье являлась теория горения и связанный с ней вопрос о составе воздуха.
В 1774 году он представил академии мемуар о прокаливании олова, в котором сформулировал и доказал свои взгляды на горение. Олово прокаливалось в замкнутой реторте и превратилось в «землю» (окись). Общий вес остался неизменным – следовательно, увеличение веса олова не могло происходить за счет присоединения «огненной материи», проникающей, как полагал Бойль, сквозь стенки сосуда. Вес металла увеличился; это увеличение равно весу той части воздуха, которая исчезла при прокаливании; следовательно, металл, превращаясь в землю, соединяется с воздухом. Этим и исчерпывается процесс окисления: никакие флогистоны, «огненные материи» тут не участвуют. В данном объеме воздуха может сгореть только определенное количество металла, причем исчезает определенное количество воздуха; отсюда мысль о его сложности: «Как видно, часть воздуха способна, соединяясь с металлами, образовывать земли, другая же – нет; это обстоятельство заставляет меня предполагать, что воздух – не простое вещество, как думали раньше, а состоит из весьма различных веществ».
В следующем, 1775 году он представил академии мемуар, в котором состав воздуха был впервые точно выяснен. Воздух состоит из двух газов: «чистого воздуха», способного усиливать горение и дыхание, окислять металлы, и «мефитического воздуха», не обладающего этими свойствами. Названия кислород и азот были даны позднее.
Заметим, что кислород был открыт и описан Пристли раньше Лавуазье. Но что за объяснение дал он своему открытию! По его мнению, окись ртути, превращаясь в металл, отнимает у воздуха флогистон, остается «дефлогистированный воздух» (кислород). При окислении же ртути она выделяет флогистон: получается «флогистированный воздух» (азот). С этой точки зрения воздух является однородной материей, которая, однако, может превращаться в кислород – выделяя флогистон, или азот, насыщаясь флогистоном.
Подобные теории могли возникать только потому, что не обращалось внимания на изменения веса тел при химических реакциях. Вникнем в ход рассуждений Лавуазье. Металл увеличивается в весе, – значит, к нему присоединилось какое-нибудь вещество. Откуда оно взялось? Определяем вес других тел, входивших в реакцию, и видим, что воздух уменьшился в весе на столько же, на сколько увеличился вес металла; стало быть, искомое вещество выделилось из воздуха. Это – метод весового определения; но чтобы понять его значение, нужно признать, что все химические тела имеют вес, что весомое тело не может превратиться в невесомое, что, наконец, ни единая частица материи не может исчезнуть или возникнуть из ничего. Вышеприведенные рассуждения Пристли показывают нам, насколько эти истины, азбучные с нашей точки зрения, были новы и неожиданны для современников Лавуазье. Подавленные старой теорией, они так свыклись с фантасмагориями, что считали бредом его воззрения именно за их ясность и простоту: слишком яркий свет болезненно действовал на глаза, привыкшие к темноте.
В том же мемуаре Лавуазье выяснил строение «постоянного воздуха», как называли тогда углекислоту. Если нагревать окись ртути в присутствии угля, то выделяющийся кислород соединяется с углем, образуя «постоянный воздух».
В трактате «О горении вообще» (1777 г.) он подробно развивает свою теорию. Всякое горение есть соединение тела с кислородом; результат его – сложное тело, а именно «металлическая земля» (окисел) или кислота (ангидрид по современной терминологии).
Теория горения повела к объяснению состава различных химических соединений. Уже давно различались окислы, кислоты и соли, но строение их оставалось загадочным. Не станем перечислять здесь многочисленных мемуаров Лавуазье, посвященных этому предмету: об образовании различных кислот – азотной, фосфорной и пр.; о природе кислот вообще, где он рассматривает их все как соединения неметаллических тел с кислородом: так, с серой он дает серную, с углем – угольную, с фосфором – фосфорную кислоту; о вытеснении водорода металлами при обливании их кислотою и т. д.
Общий результат их можно сформулировать так: Лавуазье дал первую научную систему химических соединений, установив три главные группы – окислы (соединения металлов с кислородом), кислоты (соединения неметаллических тел с кислородом) и соли (соединения окислов и кислот).
Десять лет прошло со времени первой работы Лавуазье, а он почти вовсе не касался теории флогистона. Он просто обходился без нее. Процессы горения, дыхания, окисления, состав воздуха, углекислоты, множество других соединений объяснились без всяких таинственных принципов совершенно просто и ясно – соединением и разделением реальных весовых тел. Но старая теория еще существовала и влияла на ученых. Как мало понимали Лавуазье его коллеги, видно из письма Макера, одного из известнейших химиков своего времени, – письма, относящегося к 1778 году:
«Г-н Лавуазье давно уже стращал меня каким-то великим открытием, которое он держит in petto[1]и которое должно – шутка сказать! – уничтожить вконец теорию флогистона; я просто умирал от страха, видя его уверенность. Подумайте только, куда же мы денемся с нашей старой химией, если придется перестроить все здание заново? Признаюсь, я был бы совершенно обескуражен! Г-н Лавуазье обнародовал свое открытие – и уверяю вас: у меня гора с плеч свалилась».
Нужно было поставить точку над i, вымести старый мусор из нового здания. В 1783 году Лавуазье напечатал «Размышления о флогистоне». Опираясь на свои открытия, он доказывает полнейшую ненужность теории флогистона. Без нее факты объясняются ясно и просто; с нею начинается бесконечная путаница. «Химики сделали из флогистона туманный принцип, который вовсе не определен точно и, следовательно, пригоден для всевозможных объяснений. Иногда это – весомый принцип, иногда – невесомый, иногда – свободный огонь, иногда – огонь, соединенный с землею; иногда он проходит сквозь поры сосудов, иногда они непроницаемы для него; он объясняет разом и щелочность и нещелочность, и прозрачность и тусклость, и цвет и отсутствие цветов. Это настоящий Протей, который ежеминутно меняет форму».
«Размышления о флогистоне» были своего рода похоронным маршем по старой теории, так как она давно уже могла считаться погребенной.
Однако и новая теория еще натыкалась на многие затруднения. Объяснение процессов дыхания, горения органических тел, образования солей не могло быть полным, пока не объяснилась роль водорода в этих процессах. Лавуазье давно уже занимался этим телом – «горючим газом», как его тогда называли. Но опыты его были неудачны. Он придавал слишком абсолютное значение одному из принципов своей системы. Считая кислород «началом кислотности», он думал получить кислоту и от сожжения водорода. «Я убедился, что при всяком горении образуется кислота: серная – если сгорает сера, фосфорная – если сгорает фосфор, угольная – если сгорает уголь; и я заключил по аналогии, что при сжигании горючего воздуха тоже должна получиться кислота».
С этой целью он произвел ряд опытов, приведших, разумеется, к отрицательному результату. Кислота не получалась, а действительный продукт горения – вода – ускользал от его внимания. Такова сила предвзятых мнений. Если теория, в сущности истинная, но слишком абсолютно понятая, могла затемнить такой исключительно ясный ум, то можно себе представить, к каким результатам должны были приводить теории сплошь ошибочные. После этого мы не станем удивляться приведенным выше мнениям Пристли и Шееле.
Только в 1783 году, после того как Кавендиш показал, что при сжигании водорода образуется вода (но еще не обнародовал своего открытия), Лавуазье представил академии «мемуар, имеющий целью доказать, что вода не есть простое тело». В этом и последующих мемуарах (1784 и 1785 гг.) он разработал предмет со свойственной ему полнотой и точностью. Знал ли он об открытии Кавендиша или нет, это не уменьшает ценности его работ, потому что первый анализ и синтез воды был произведен им при помощи опытов и приборов, которые и ныне описываются в учебниках химии. Далее, важно было не только открыть состав воды, но и вывести последствия этого открытия; а это целиком принадлежит Лавуазье. Он показал, что вода образуется при дыхании вследствие окисления водорода органических тканей; уяснил образование соли при растворении металла в кислоте, показав, что водород, выделяющийся при этом, происходит от разложения воды, кислород которой соединяется с металлом.
Наконец, знание водорода и продукта его окисления дало ему возможность положить основание органической химии. Он определил состав органических тел и создал органический анализ путем сжигания углерода и водорода в определенном количестве кислорода. «Таким образом, историю органической химии, как и неорганической, приходится начинать с Лавуазье» (Н. Меншуткин).
Накопление фактов, открытие новых соединений, уяснение их состава, наконец, новые понятия, внесенные в химию, требовали и соответственной номенклатуры. До сих пор она находилась в хаотическом состоянии: названия давались случайно; часто были описательного характера, например, «самая чистая часть воздуха», «масло антимония»; одно и то же тело имело по нескольку названий – словом, чувствовалась настоятельная необходимость в общей методической, по возможности простой, номенклатуре. Эта задача была исполнена Лавуазье в сотрудничестве с Гитоном де Морво, Фуркруа и Бертолле в сочинении «Methode de nomenclature chimique» (1787 г.). Мы не будем излагать ее в подробностях; напомним только, что принципы ее лежат в основе современной химической номенклатуры.
Когда, таким образом, основы современной химии были созданы, Лавуазье решил соединить данные своих многочисленных мемуаров в виде сжатого очерка. В 1789 году появился его «Traité de chimie», первый учебник современной химии – явление в своем роде единственное в истории наук: весь учебник составлен по работам самого автора. Разумеется, факты он заимствовал у многих исследователей, – но только факты. Ряд истин, развиваемых в новом учебнике, принадлежит ему. Состав атмосферы, теория горения, образование окислов, кислот и солей, анализ и синтез воды, строение органических тел, органический анализ – все это представляет краткий свод мемуаров Лавуазье. Точное представление о простых телах, основной закон химии, превративший всякую химическую проблему в алгебраическое уравнение, метод количественного исследования установлены им же.
В выработке номенклатуры он принимал существенное участие; термины кислород, водород, азот, углекислота, окисление, окись и другие созданы им же; наконец, большая часть приборов, описанных в новом учебнике, изобретена им самим. Из них достаточно назвать газометр и калориметр, чтобы показать, какое огромное значение имел он и в этой, технической части химических исследований.
С тех пор химия сделала колоссальные успехи, превратилась в науку почти столь же точную, как астрономия или оптика. Она обязана этим Лавуазье, и тот, кто пожелал бы ознакомиться с элементами химии, может и теперь взяться за его «Traité».
Работы Лавуазье захватили не одну только область химии; они знаменуют собою начало новой эры и в физиологии. До него было сделано много великих анатомических открытий, уяснена топография органов, исследовано обращение крови, млечного сока и так далее – словом, устройство органической машины выяснилось в существенных чертах. Это был период анатомического метода в физиологии. Но действия организма, жизненные явления оставались загадочными. Все объяснялось действием «жизненной силы», фигурировавшей под разными названиями – архея, ψυχη, anima θ так далее.
Лавуазье первым свел явления жизни к действиям химических и физических сил и тем самым нанес сокрушительный удар по теориям витализма и анимизма. Правда, он не успел развить свои принципы с такою несокрушимой силой, как в химии. Там он объяснил все известные в его время факты. В физиологии он проложил новый путь, но успел сделать по нему лишь несколько шагов. Он установил учение о дыхании как медленном окислении, происходящем внутри организма, причем кислород, соединяясь с элементами тканей, дает воду и углекислоту. Обмен газов при дыхании исследован им с такою полнотою, что дальнейшие исследования не прибавили к его данным почти ничего существенного. Не меньшую важность имело его учение о животной теплоте. Она развивается вследствие сгорания тканей за счет кислорода, поглощаемого при дыхании. Количество поглощаемого кислорода увеличивается на холоде, при пищеварении, а особенно при мускульной работе, то есть во всех этих случаях происходит усиленное горение. Пища играет роль топлива: «если бы животное не возобновляло того, что теряет при дыхании, оно скоро погибло бы, как гаснет лампа, когда в ней истощится запас масла».
В этих исследованиях Лавуазье обходился без помощи жизненной силы. Она оказывалась излишней: жизненные явления – по крайней мере те, которых он коснулся, – сводились к химическим реакциям; силы, развиваемые организмом, так же реальны, так же измеримы, как всякие физические и химические силы. «Мы видим соотношения между силами, которые на первый взгляд не имеют ничего общего между собою. Можно вычислить, например, скольким единицам веса соответствуют усилия оратора, который произносит речь, музыканта, который играет на каком-нибудь инструменте. Можно бы было даже свести к механическому выражению труд философа, когда он размышляет, ученого, когда он пишет, композитора, когда он сочиняет музыку».
Много лет прошло, пока в науке установилось рациональное воззрение на жизнь. Лавуазье опередил своих современников по крайней мере на полстолетия. Тем более для него чести.
Занимаясь изучением теплоты, Лавуазье и Лаплас создали важную главу физики – калориметрию, найдя способ измерять относительные количества тепла, выделяющегося при различных реакциях, сравнением количества льда, растворяющегося при этих реакциях. «Калориметр Лавуазье и Лапласа» и поныне описывается в учебниках физики.
До сих пор мы ничего не говорили о распространении новой химии. Нужно ли говорить, что воззрения Лавуазье были встречены нападками, бранью, враждой?.. Какие-то умники в Германии торжественно сожгли «еретика науки» «in effigie» («в изображении», то есть сожгли его портрет).
Однако ему посчастливилось видеть торжество своих идей еще при жизни. Замечательно, что первыми сторонниками его воззрений явились не химики, а математики – Лаплас, Менье, Монж.
В 1785 году Бертолле первым из химиков объявил себя сторонником новых воззрений. В следующем году к нему присоединились Фуркруа и Гитон де Морво. В 1788 году Лавуазье и его последователи предприняли коллективное опровержение старого учения, издав во французском переводе книгу Кирвана «Опыт о флогистоне» и снабдив ее подробными примечаниями; наконец, в следующем году начали издавать журнал «Annales de chimie», проводивший новые химические воззрения. Еще два-три года – и победа могла считаться полной, лишь немногие голоса раздавались в защиту флогистона: Пристли и Ламетри до конца были верны старому учению, но их уже никто не слушал.
Напротив, теперь затянули другую песню. Теория Лавуазье в изложении Фуркруа и других превратилась в теорию французских химиков. Люди, когда-то нападавшие на «научную ересь», разом переменили фронт: ересь оказалась банальной истиной, давно им известной и чуть ли не ими открытой. Словом, повторилось обычное в таких случаях «мы пахали».
Лавуазье был возмущен такими притязаниями. В сборнике своих работ, изданном только после его смерти г-жой Лавуазье, он в резких выражениях требовал восстановления своих прав: «Это не теория французских химиков, как ее называют, это моя теория, моя собственность, и я заявляю свое право на нее перед современниками и потомством».
Замечательно, что и до сих пор находятся люди, посягающие на это право.
Они указывают на факты, открытые Пристли, Шееле, Бергманом и пр. и послужившие материалом для здания, воздвигнутого Лавуазье; откапывают в забытых трактатах старых химиков Рея, Яна Майова и других отдельные замечания, намеки, смутные указания, в которых можно видеть смутное, почти бессознательное предчувствие новых воззрений. И на основании всего этого доказывают, что не «дилетант Лавуазье» открыл законы, метод, основные истины новой химии, а… неизвестно кто, сами отрылись…
Эта печальная история повторяется по поводу каждого великого открытия, но человечество в конце концов умеет воздать каждому и по делам его! Нападки и враждебная критика только резче оттеняют разницу между фактом и объяснением факта, случайным намеком на теорию и самой теорией. Так и здесь: чем глубже мы проникаем во мрак, расстилающийся перед Лавуазье, тем более восхищаемся светом, озарившим область науки после его трудов.
В заключение этой главы нам остается сказать несколько слов о литературных достоинствах Лавуазье. Слог его ясен и прост в высшей степени, форма вполне гармонирует с содержанием; в соединении с могучей силой ума, необыкновенно ясного, логического, систематичного, с величием истин, открываемых им, это производит положительно чарующее впечатление. В учебниках вам преподносят великие истины в готовой, более или менее догматической форме; вы соглашаетесь с ними – потому что нельзя не согласиться – совершенно спокойно и равнодушно. Но, читая мемуары Лавуазье, вы видите их зарождение. Перед вами хаос, «тьма над бездною»… И вот начинается творческая работа; тьма рассеивается, суша выступает из воды, – на ваших глазах возникает новый мир. Что может быть восхитительнее этого зрелища!
Глава IV. Общественная деятельность Лавуазье
Общий характер деятельности Лавуазье. – Академия. – Исследование тюрем. – Мнение о месмеризме. – Агрономические опыты Лавуазье. – Участие в комитете земледелия. – Инструкция провинциальным собраниям. – Управление пороховыми заводами. – Взрыв в Эссонне. – Провинциальное собрание в Орлеане. – Споры о податях. – Откупная деятельность Лавуазье. – Стена вокруг Парижа. – Заключение.
Общественная деятельность Лавуазье поражает своим разнообразием и характерна для людей его эпохи. Он принадлежал к партии прогрессистов, мечтавших обновить старый порядок без крови и потрясений. Ее деятельность оставила мало следов: это был в полном смысле слова глас вопиющего в пустыне. Она стремилась к коренным реформам и кончала на практике ничтожными мелочами, бесполезными заплатами, которые не могли держаться на расползавшемся платье. Во главе ее стоял Людовик XVI; но и его усилия разбивались о сопротивление защитников старого порядка, косневших в своем непонимании и упорстве. Одно время, с назначением Тюрго министром, казалось, что Франция вступает на новый путь, – но Тюрго пал, и с ним пали его реформаторские попытки. Старая система почти вплоть до революции сохранилась во всех своих существенных чертах: с привилегиями знати и духовенства, с грудой податей, не дававших вздохнуть народу, с убийственной системой внутренних таможен, с местным управлением сатрапов-интендантов… Наконец, разразилась революция и разметала ветхое здание со всеми подпорками, починками и заплатами. Наступил новый порядок вещей, и деятельность упомянутой партии была забыта, только новейшие историки откопали следы ее в архивах. Лавуазье был одним из самых рьяных приверженцев ее. В нижеследующих строках мы дадим краткий очерк его деятельности в различных сферах общественной жизни, начиная с академии.
Избранный в 1768 году адъюнктом, в 1772-м он стал действительным членом, в 1778-м – пенсионером, в 1785-м – директором академии. Вопреки опасениям товарищей, занятия откупом не помешали ему проявить удивительную энергию в академических делах. Число его докладов (не считая собственно ученых мемуаров) – более двухсот. Тут есть отчеты о новых изобретениях, открытиях, книгах по разнообразнейшим вопросам науки и техники, например, об анализе цеолита, о новом механическом кресле для больных, о метеорологических наблюдениях Мори, о китайских чернилах, о фальсификации сидра (целое исследование, вызванное несколькими случаями отравления сидром вследствие вредных примесей) и прочее.
Нередко академия поручала ему отвечать на запросы различных лиц и учреждений, например, о безопасности новых пиротехнических изобретений, о способах очистки соли (на запрос министра финансов), о стоимости колониальных продуктов (на запрос морского министра). В должности директора академии ему приходилось хлопотать о назначении премий, о порядке чтений на заседаниях, об инструкциях для путешественников и т. п. Наконец, он участвовал во многих комиссиях, например, по вопросу об улучшении тюрем (1780 г.), о месмеризме (1783 г.), об улучшении аэростатов (1784 г.) —тогдашней новинки, возбудившей преувеличенные надежды. Мы не будем, конечно, излагать подробно всю эту массу дел, более или менее частных и специальных, но остановимся вкратце на исследовании тюрем и опытах с месмеризмом, так как в этих двух случаях довольно ярко обнаруживаются: в первом – гуманные принципы общественной деятельности Лавуазье, во втором – замечательная сила его ума.
В 1780 году Неккер предложил академии предпринять исследование тюрем и указать реформы, которые она сочтет необходимыми. В комиссии, назначенной академией, главную роль играл Лавуазье. В докладе о результатах исследования он горячо ратует за реформы, указывая на ужасное состояние тюрем: «Воздух и свет с трудом проникают в эти зараженные, вонючие камеры; крошечные окна размещены совершенно неправильно; на нарах арестантам негде повернуться от тесноты; вместо матрацев гнилая солома; трубы отхожих мест проходят через камеры, и вредные миазмы отравляют воздух. В темницах вода просачивается сквозь стены, и платье гниет на теле узников, которые тут же отправляют все свои нужды. Везде на полах лужи гниющей воды… всюду грязь, гниль и мерзость!»
Далее он перечисляет улучшения, которые нужно произвести в отношении помещения, света, воздуха, дезинфекции, и заканчивает настойчивым требованием изменить эту «картину, возмутительную для человеческого чувства».
В 1783 году он участвовал в комиссии по исследованию месмеризма. В то время существовало два мнения об этом предмете: одни отрицали сами факты, подавшие повод к учению о животном магнетизме, приписывая всё шарлатанству и фокусам; другие не только признавали факты, но и объясняли их таинственными силами, действующими вопреки естественным законам. Лавуазье, опираясь на опыты, произведенные комиссией, объясняет явления так называемого животного магнетизма внушением. «Не прибегая к средствам, предписываемым практикой месмеризма, можно достигнуть совершенно тех же результатов, овладев воображением пациента». Это облегчается «склонностью к машинальному подражанию, которое, по-видимому, представляет общий закон организмов». «Магнетизм или, вернее, подражание мы встречаем в театрах, армиях, во время восстаний, в собраниях – всюду с удивлением наблюдаешь результаты этой страшной и могущественной силы».
Современному читателю знакомы эти взгляды; они лежат в основе обширных трактатов о внушении, о роли подражания в общественной жизни и так далее. Но для этого потребовалось целое столетие!
В домашней академической жизни Лавуазье старался, сколько мог, отстаивать независимость этой ученой корпорации. Так, он хлопотал, хотя и безуспешно, о предоставлении академикам права самим выбирать директора; воевал с президентами, которые назначались королем из почетных членов и не зависели от остальных академиков: в 1772-м он энергично восстал против герцога Лаврильера, президента, который покровительствовал своим протеже в ущерб остальным членам. Впрочем, ему не удалось добиться существенных улучшений.
В 1778 году Лавуазье купил имение Фрешин между Блуа и Вандомом за 229 тысяч ливров; затем приобрел и некоторые другие имения (всего на 600 тысяч ливров) и принялся за агрономические опыты, думая, что «можно оказать большую услугу местным земледельцам, давая им пример культуры, основанной на лучших принципах». Он не был безусловным сторонником физиократов, видевших в земледелии единственный источник национального благосостояния, но жалкое состояние культуры и нищета населения глубоко возмущали его. В сущности, для того времени мнения физиократов могли быть приняты без оговорок, потому что земледелие во Франции было доведено до полного упадка. Аристократия пренебрегала хозяйством, сохраняя, однако, все свои привилегии; крестьянин был слишком придавлен налогами, чтобы вести сколько-нибудь правильную культуру; а система поощрения обрабатывающей промышленности в ущерб земледелию, дурное управление, безжалостное выбивание податей окончательно добивали его. Страна разорялась и не могла оправиться без коренных реформ в государственном хозяйстве; Лавуазье убедился в этом во время своих многочисленных поездок по Франции. «Поверят ли, – говорит он, – что такая плодородная, такая существенно земледельческая страна, как Франция, вместо того, чтобы вывозить всевозможные продукты, находится в зависимости от иностранцев относительно большей части предметов культуры, для которых ее почва как нельзя более приспособлена?» Вообще, его взгляды на земледелие отличаются наивностью: неисправимый идеалист проглядывает под оболочкой благоразумного и практичного буржуа. «Забывают, что истинная цель всякого правительства – увеличивать сумму благосостояния и счастья всех граждан. До сих пор более покровительствовали торговле, потому что негоцианты принадлежат к высшему сословию, чем земледельцы, умеют говорить и писать, живут в городах и составляют корпорацию, которая может постоять за себя. Несчастный земледелец стонет в своей хижине; у него нет ни представителя, ни защитника; его интересы не ставят ни во что».
Для исцеления этих бедствий он считал необходимым как улучшение сельскохозяйственной культуры, так и облегчение состояния народа, которое дало бы ему возможность подняться самому и поднять земледелие.
В своем имении он не жалел издержек на агрономические опыты и мало-помалу довел хозяйство до цветущего состояния. Затраты на земледелие, по его мнению, были самым благородным помещением капитала. «Подобное помещение не представляет блестящих спекуляций ажиотажа или операций с государственными бумагами, зато оно не сопряжено и с такими риском и потерями; успех не достигается за счет чужих слез, а напротив, сопровождается благословениями бедных. Землевладелец, улучшая хозяйство, распространяет вокруг благосостояние и довольство; богатая и обильная жатва, многочисленное население, картина общего благополучия – вот награда за его труды».
Заметим, что эту программу он с успехом исполнил для своей местности, введя ряд улучшений в местное хозяйство: травосеяние (клевер и эспарцет), улучшенные породы скота, овечью толоку, возделывание картофеля и свеклы.
В 1785 году министр финансов Калонн учредил Комитет земледелия, род совещательной комиссии, обязанной указывать министру меры, полезные для земледелия. Лавуазье был назначен секретарем Комитета и составил по его поручению много инструкций и докладов, касающихся как сельскохозяйственной техники, так и общих условий сельского быта. По его же инициативе Комитет устроил образцовые мастерские для тканья льна и пеньки: дело в том, что Франция отправляла эти продукты сырьем за границу и получала оттуда в виде тканей; Лавуазье хотелось создать ткацкий промысел и во Франции, чтобы, с одной стороны, не платить иностранцам, а с другой, – доставить крестьянам зимний заработок.
В 1787 году Комитет поручил Лавуазье важное дело: составление инструкции для провинциальных собраний. Собрания эти были устроены вместо прежних интендантов, управлявших провинциями по принципу «кого хочу – помилую, кого хочу – казню» и возбудивших к себе самую остервенелую ненависть со стороны местного населения. В инструкции Лавуазье указываются сначала различные улучшения в системе хозяйства, которые необходимо ввести; затем он переходит к сути вопроса: тяжелому экономическому положению крестьянства. Подати – taille, corvée, chainparts, десятины, светская и духовная, достигавшие на практике половины, местами – всего дохода от земледелия; запретительная система, не допускавшая вывоза продуктов, – всё это не давало подняться разоренному народу.
Как эта инструкция, так и большинство докладов и проектов, составленных Комитетом, не привели ни к чему. В 1787 году Комитет был закрыт, и груда бумаги, исписанной его членами, отправилась в архивы дожидаться будущих историков.
Более плодотворные результаты принесло управление Лавуазье пороховыми заводами (1775—1791 гг.), так как здесь дело шло главным образом о технических вопросах. До 1775 года производство пороха принадлежало частной компании и шло очень плохо; Тюрго уничтожил эту систему, заменив её «пороховым управлением» (régie de poudre) из четырех лиц. Лавуазье, подавший мысль об этой реформе, был назначен одним из управляющих и внес в это дело свою обычную энергию. Производство селитры во Франции было в жалком состоянии, правительству приходилось покупать ее за границей. Лавуазье удалось повысить его более чем вдвое (с 1600 000 фунтов до 3 770 000). Заинтересовавшись этим вопросом, он изучил способы образования селитры, составил несколько мемуаров по этому предмету, редактировал сборник трудов по вопросу о фабрикации селитры, изданный академией в 1787 году. Современные способы очистки селитры основаны на трудах Лавуазье и Боме. Он ввел также улучшения в производство самого пороха, благодаря которым значительно увеличилась сила выстрела, тогда как раньше французская артиллерия уступала иностранной, что, конечно, было невыгодно для государства в случае войны. Замечательно, что этого рода работы Лавуазье как будто смущали. «Сомнительно, чтобы подобные улучшения были полезны для человечества, – замечает он в одном из своих докладов, – но, во всяком случае, они выгодны для государства». В этом замечании сказывается «гражданин мира», воспитанный на сочинениях Вольтера и энциклопедистов.
Благодаря его хлопотам были уничтожены некоторые привилегии, отягчавшие население, например, обязательство продавать дрова и подвозить материалы для пороховых заводов по определенной, слишком низкой таксе; сокращено право обыска и прочие.
Дважды в течение этой службы жизнь Лавуазье подвергалась опасности. В первый раз, в 1788 году, на пороховом заводе в Эссонне произошел взрыв, при котором погиб директор мануфактуры Летор; Лавуазье и некоторые другие лица случайно спаслись от гибели.
Во второй раз опасность возникла из совершенно иного источника. Это было уже в начале революции, в августе 1789 года. Прошел слух, что управляющие арсеналом увозят порох из Парижа, чтобы продать его врагам Франции. Толпа окружила арсенал, требуя ареста Лавуазье и Лефошё, его товарища. Они были схвачены и отведены в Hotel de Ville. Тут Лавуазье без труда доказал ложность обвинения, и городское управление решило освободить его. Но толпа не унялась, наводнила ратушу, хотела убить маркиза Ласалля, подписавшего приказ об освобождении управляющих. Маркиз спрятался, а Лафайет с трудом уговорил толпу.
Независимо от инструкции провинциальным собраниям, Лавуазье был членом одного из них, Орлеанского, созванного в 1787 году. Тут было 25 членов, назначенных королем: 6 духовных, 6 аристократов, 12 из третьего сословия и президент, герцог Люксембургский. Собрание должно было выработать меры для поощрения торговли и земледелия, улучшить систему раскладки и сбора податей и т. п. Лавуазье, фигурировавший в числе членов третьего сословия, несмотря на свое благоприобретенное дворянство, и здесь выдвинулся на первый план. «Лавуазье всем вертит, всё оживляет; его хватает на всё, его имя постоянно на слуху» (Л. де Лавернь).
Главные вопросы, обсуждавшиеся на этом собрании, касались податей. Прежде всего возник вопрос о «двадцатине» (vingtième), которую должны были уплачивать в пользу короля земледельцы и землевладельцы. На самом деле платили только первые: аристократия или совершенно отделывалась от этого налога, или доводила его до минимума; так, герцог Люксембургский не платил ничего, барон Монбуассье, получавший 60 тысяч ливров, платил только за 12 тысяч и так далее. Король предложил заменить эту подать общим налогом со всех имений, не исключая владений короля, дофина, герцога Орлеанского, графа Артуа, Мальтийского ордена и т. д. Третье сословие ухватилось за это предложение, знать была против него, в особенности герцог Люксембургский, который всеми правдами и неправдами старался увлечь на свою сторону третье сословие, даже приглашал его на обеды… Но третье сословие оказалось хитрее, чем он думал: обеды съело, а проект всё-таки провело.
Далее возник вопрос о corvée – натуральной повинности, лежавшей на крестьянах и состоявшей в починке дорог и доставке лошадей и экипажей для казенной надобности. Лавуазье предложил заменить ее денежным налогом, общим для всех сословий. Но это предложение было встречено таким негодованием со стороны дворянства, духовенства и даже некоторых членов третьего сословия, что Лавуазье пришлось взять его обратно. Оно задевало не только карман, но и гордость знатных: corvée считалась специально мужицкою податью, самим Богом предназначенною для «vilains, taillables, corvéables», то есть, по-нашему, «смердов, платящих подать и отбывающих натуральную повинность».
Затем, он составил немало докладов в качестве члена «комиссии общественного блага и земледелия»: об устройстве эмеритальной кассы для бедного населения, о мелком кредите, об уничтожении внутренних пошлин и о многих полезных и разумных вещах. Но все эти благие начинания не привели ни к чему. Собрание разошлось, оставив комиссию, которая продолжала действовать (на бумаге) до 1790 года. Но следующее собрание не состоялось, и мероприятия, выработанные первым, сделались достоянием архивов. Было уже поздно: наступила революция, и ветхая машина, которую собирались починить провинциальные собрания, разлетелась вдребезги.
Мы уже упоминали о вступлении Лавуазье в генеральный откуп. До 1779 года он был только пайщиком откупщика Бодона; по его смерти – откупщиком. Он занимал в откупе разные должности: несколько раз был инспектором – должность, требовавшая многочисленных разъездов по Франции для надзора за сбором податей, – и участвовал в различных комиссиях, внося в эту деятельность свою обычную добросовестность и энергию. В 1783 году его назначили членом административного комитета, самого важного из комитетов откупа, имевшего непосредственные отношения с правительством.
Он стремился улучшить механизм сборов, сократить издержки на содержание администрации, предлагал однообразный способ взимания для всей Франции. В Клермонтуа ему удалось избавить евреев от унизительного налога «droit de pied fourchu» [2], бравшегося только с евреев и свиней. Еврейская община в Меце отправила к нему депутацию выразить свою благодарность и поднести опресноки в знак братства.
Незадолго до революции Лавуазье сделался предметом ожесточенных нападок за один из своих проектов, касавшихся откупной системы. В то время каждый товар, ввозимый в Париж, должен был оплачиваться пошлиной, но, разумеется, масса их провозилась контрабандой. Лавуазье пришла в голову несчастная мысль: обнести Париж заставой. Исполнение этого проекта было поручено некоему Леду, который воздвиг целые укрепления, стоившие более тридцати миллионов ливров. Это случилось в 1787 году – во время, самое неподходящее для подобных предприятий, беспокойное, лихорадочное, канун революции. Формула «тащить и не пущать» решительно выходила из моды, и все, что напоминало эту формулу, возбуждало ненависть. Стена, воздвигнутая Леду, вызвала целую бурю. Уверяли, что тайная цель ее – удержать парижан в повиновении в случае восстания; в салонах ходили стихи:
Pour augmenter son numéraire, Et raccoursir notre horizon, La Ferme a jugé nécessaire De nous mettre tous en prison (Чтобы увеличить свои доходы И стеснить наш кругозор, Откуп счел необходимым Засадить нас всех в тюрьму), —и каламбуры вроде: «Le mur murant Paris fait Paris murmurant» [3]. В памфлете по поводу этого события досталось и Лавуазье: «Всем известно, что г-н Лавуазье, член Академии наук – тот благородный патриот, которому мы обязаны остроумной и благотворной выдумкой засадить в тюрьму столицу Франции. По смерти этого академика его собрат, которому будет поручено произнести похвальное слово о покойном, догадается любезно вычеркнуть этот подвиг из его истории. Откуп может воздвигнуть ему статую на стенах, которые он изобрел, но академия должна краснеть за такого собрата. Говорят, что один из маршалов Франции, герцог N, когда у него спросили его мнение насчет этой стены, сказал: „По-моему, автора этого изобретения следовало бы повесить“. К счастью для г-на Лавуазье, это мнение еще не приведено в исполнение».
В общем итоге мы можем сказать о деятельности Лавуазье следующее. Там, где дело касалось вопросов науки и техники, он сделал много: напомним его агрономические опыты, массу докладов в академии, усовершенствования в добыче и фабрикации селитры и пороха. Но там, где дело шло об улучшении государственного порядка, его деятельность большею частью не заходила дальше благих намерений и кое-каких мелких улучшений. Итак, она имеет главным образом исторический интерес. Как мы уже сказали, это было целое направление, целая партия. Но упорство защитников старого порядка возвышалось перед ними непреодолимой стеной; они пытались процарапать эту стену; оказалось, что ее можно только разрушить, что и сделала революция.
Глава V. Деятельность Лавуазье в эпоху революции
Отношение Лавуазье к революции. – Выборы в Блуа. – Первый период революции. – Нападки Марата. – Затруднительное положение Лавуазье. – Письмо к королю. – Деятельность в Комиссии мер и весов. – Гонение на академиков. – Заступничество Лавуазье. – Работы в Совещательной комиссии. – Уничтожение академии.
С наступлением революции положение Лавуазье сделалось затруднительным. Он хотел реформ и боялся резни, но чувствовал, что без нее не обойдется. Он слишком хорошо понимал непригодность старой системы, чтобы пристать к партии, тормозившей ход революции, и слишком ясно видел, какой бойней угрожает водворение нового порядка, чтобы увлекаться мечтами о скором наступлении всеобщего братства. Какой-нибудь Лафайет мог гарцевать перед национальной гвардией в уверенности, что он своими слабыми ручонками повернет и направит поток революции; но для этого нужна была наивность Лафайета. Лавуазье видел, что здесь выступает на сцену стихийная сила, злоба, накопившаяся веками, которую нельзя ни удержать, ни направить. Опасения он высказывал уже в 1789 году, в трактате о дыхании, представленном Академии наук. В то время политика так занимала всех, что даже специальные ученые трактаты без нее не обходились. Установив факт соотношения между усиленным дыханием и мускульной работой, Лавуазье распространяется о грустном положении бедняка, которому приходится много работать и мало есть, хотя при усиленном горении требовалось бы и больше топлива. «Благословим же философию и человечность, соединившиеся, чтобы выработать мудрые учреждения, которые поведут к уравнению состояний, к увеличению платы за труд, к обеспечению за ним справедливого вознаграждения и улучшению положения всех классов общества, в особенности нуждающихся. А главное, пожелаем, чтобы энтузиазм и увлечение, которые так легко овладевают людьми в многочисленных собраниях; страсти, которые так часто заставляют толпу действовать против собственных интересов, увлекая в общем вихре даже мудрецов и философов, – не погубили дела, предпринятого с такими благими намерениями, и не разрушили надежду родины».
Подобная двойственность, подобные колебания обыкновенно возбуждают в нас мысль о слабости, нерешительности. Но вникнем поглубже в деятельность Лавуазье: мы будем поражены его мужеством, его величием. Многие из его товарищей по академии, предвидя кровавую расправу, бежали из Франции; иные, как Фуркруа, примкнули к якобинцам, заседали на скамьях Горы в Конвенте, а впоследствии сами проклинали неистовство крайней партии. Наконец, третьи притихли, попрятались, надеясь остаться незамеченными в общем хаосе. Ничего подобного мы не замечаем у Лавуазье. Он смело выступает на защиту учреждений, которым сочувствует, например, академии, хотя уже это одно могло навлечь на него обвинение в «заговоре против республики». Никакие соображения личного характера не заставили его примкнуть к партии Робеспьера, которой он не сочувствовал. Он спокойно продолжает свою деятельность, оставаясь по-прежнему сторонником реформ и противником насилия. Его двойственность была результатом его проницательности, но мы не замечаем в его поступках трусости, слабости, нерешительности.
Первый период революции, период реформ по преимуществу, прошел сравнительно спокойно. Лавуазье участвовал в выборах депутатов в законодательное собрание в Блуа, в качестве одного из представителей местной аристократии, и составил «тетрадь» (cahier) этого сословия: в ней аристократия отказывалась от своих привилегий; требовала уравнения налогов, которые должны взиматься со всех лиц и владений соответственно их доходу и назначаться только со свободного согласия нации. Требовали также свободы печати, неприкосновенности личности, уничтожения полицейского произвола, цехов и корпораций, которые «не позволяют гражданам пользоваться их способностями», и т. д. Словом, «тетрадь» была составлена в самом широком реформаторском духе.
Лавуазье баллотировался и в депутаты, но был избран только кандидатом. Говорили, что тут повлияла его должность откупщика податей, считавшаяся несколько зазорной; может быть и то, что он был «parvenu» – мещанин во дворянстве – в глазах истых аристократов.
Вернувшись в Париж, он продолжал заниматься делами откупа, академии, порохового управления, составляя в то же время свой «Traité de chimie» и производя опыты над дыханием в сотрудничестве с Сегэном. Кроме того, он был избран в собрание городских представителей, где заседала в то время целая плеяда знаменитостей: мэр Бальи, начальник национальной гвардии Лафайет, ученые Кондорсе, Жюсье, Бруссоне, будущие революционные заправилы Бриссо, Дантон, Сантерр и другие.
Он участвовал также в различных комиссиях: монетного дела, народного здравоохранения и других; занимался ревизией госпиталей, выработкой мер, направленных на сохранение ружей от ржавчины, и другими делами, о которых мы не будем распространяться.
Он был членом «Клуба 1789 года» – клуба умеренной партии, поставившего своей задачей развитие, защиту и распространение принципов свободной конституции. Клуб этот существовал до 1791 года, но под конец потерял всякую популярность; принадлежность к нему даже считалась признаком плохих гражданских чувств.
С особенным усердием занимался в это время Лавуазье экономическим положением Франции. Помимо мелких статей и докладов он составил обширный труд «О территориальном богатстве Франции». Работа была напечатана в 1791 году по распоряжению Национального собрания. Она и до сих пор не потеряла значения как один из главных источников для суждения об экономическом состоянии Франции накануне революции.
Между тем положение дела ухудшалось. Партия реформ сходила со сцены; на ее место выдвигалась партия расправы. Власть начинала переходить от правительства к клубам якобинцев и кордельеров; заговорили об уничтожении королевской власти; зашипел Марат. Марат злился на всех, в том числе и на ученых, в частности на Лавуазье. Независимо от величия и славы последнего, которые одни были достаточны для возбуждения ненависти в таком человеке, как Марат, тут была и личная причина для злости. Когда-то Марат представил академии бездарнейший трактат «Об огне». Лавуазье отозвался о нем презрительно. Теперь Марат отплачивал ему сторицею в своем «Друге народа»:
«Вот вам корифей шарлатанов, господин Лавуазье, сын сутяги, недоучившийся химик, ученик женевского спекулянта, откупщик податей, управляющий пороховым делом, администратор учетной кассы, секретарь короля, член Академии наук, величайший интриган нашего времени. Поверите ли вы, что этот молодчик, который получает 40 тысяч ливров дохода и коего единственные права на общественную признательность заключаются в том, что он посадил Париж в тюрьму, уничтожил в нем циркуляцию воздуха посредством стены, стоившей 33 миллиона бедному народу, и перевез порох из арсенала в Бастилию в ночь с 12 на 13 июля, – интригует, как черт, чтобы быть избранным администратором Парижского департамента. Жаль, что его не вздернули на фонаре 6 августа; избирателям не пришлось бы краснеть за его выбор».
В памфлете «Современные шарлатаны», направленном против знаменитейших ученых Франции – Лапласа, Монжа, Кассини, Фуркруа – он говорит о Лавуазье:
«Лавуазье – мнимый отец всех сенсационных открытий; не имея своих идей, он присваивает чужие; но, не умея их оценить, отказывается от них так же легко, как принял, и меняет системы, как башмаки. В течение каких-нибудь шести месяцев он поочередно цеплялся за новые доктрины огня – принципа, огненной жидкости, скрытой теплоты. В еще более короткий срок он сначала был ярым защитником флогистона, потом безжалостно нападал на него. Гордый своими великими делами, он почивает на лаврах, тогда как его паразиты превозносят его до небес».
Это, прежде всего, несказанно глупо, – однако это глупость палача, чувствующего свою силу.
Пороховое управление, а заодно и Лавуазье, тоже подвергалось нападкам со стороны многих клубов и газет, требовавших свободной торговли порохом. Лавуазье и его товарищи должны были издать мемуар в свою защиту. Они указывали на заслуги управления, увеличение производства, улучшение пороха, избавление населения от стеснений, связанных с прежней системой. Если же монополия, которой пользовалось правительство, несовместима с принципами свободной торговли, то ведь не управление ее создало.
Вообще, в это время начинались черные дни для Лавуазье. Администрация поглядывала на него косо. Ему отказали в нескольких должностях, которых он добивался, – и это его очень огорчило.
Однако когда управление государственными доходами перешло в руки нации, он был сделан членом «национальной казны». В ней он устроил такую строгую и простую систему отчетности, что в каждую данную минуту можно было получить точные сведения о состоянии кассы.
Вскоре затем Лавуазье потерял место управляющего пороховым делом, которым дорожил, главным образом, из-за лаборатории, устроенной в арсенале. Впрочем, правительство уважило его просьбу, оставив за ним помещение и лабораторию.
Все более и более убеждаясь в своем бессилии, встречая со всех сторон подозрительное отношение, обвинения в недостатке гражданских чувств, он и сам решил развязаться с должностями, тем более что они отнимали у него почти все время. «Я начинаю чувствовать тяжесть громадного бремени, которое лежит на мне», – пишет он в конце 1791 года. Он не успевал приводить к концу начатые работы, не мог исполнить проектированных исследований над пищеварением, функциями крови и хила. Положение дел казалось ему безнадежным. В феврале 1792 года он вышел из казначейства. Вскоре ему снова предложили место управляющего арсеналом; он отказался, предвидя неудачу. Предчувствия не обманули его: через несколько дней в арсенал явился комиссар одной из городских секций, опечатал бумаги, арестовал управляющих. Один из них, Лефошё-отец, лишил себя жизни, другие были освобождены Национальным собранием. Затем король хотел назначить его министром. Лавуазье отказался. В письме, написанном им королю по этому поводу, отразился его взгляд на современное положение дел.
«Честный человек и гражданин не должен принимать важного места, раз не надеется исполнить во всем объеме связанные с ним обязанности.
Я не якобинец, не фельян. Я не принадлежу ни к какому обществу, ни к какому клубу. Привыкнув все взвешивать на весах моей совести и разума, я никогда не соглашусь поступить противно своим убеждениям в угоду какой бы то ни было партии. Я клялся в верности конституции, которую Вы приняли; властям, установленным по воле народа; Вам, Ваше Величество, конституционному королю Франции, Вам, чьи несчастья и добродетели так мало оценены. Что может сделать конституционный министр, раз он убедился, что законодательный корпус вышел из пределов власти, отведенной ему конституцией? Неспособный поступиться своими принципами, своею совестью, он тщетно будет взывать к авторитету закона, с которым все французы связаны самой торжественной клятвой. Он будет советовать сопротивление – теми мерами, которые конституция предоставляет Вашему Величеству, – но это сочтут за преступление, и сама непреклонность его характера явится источником новых бедствий».
Съездив в последний раз в свое имение, он вернулся в Париж и оставался в нем до ареста. Занятия его распределялись между Комиссией мер и весов, Совещательным бюро (Bureau de consultation) и академией.
Академия уже давно проектировала выработку общей единицы меры и веса, но только всеобъединяющая революция осуществила этот проект. В 1790 году Национальное собрание поручило академии выработать систему мер и весов на определенных и простых основаниях, которые могли бы быть приняты всеми нациями. Сначала хотели организовать международную комиссию, но, не встретив поддержки со стороны других государств, решили действовать сами по себе.
Лавуазье был назначен секретарем и казначеем Комиссии мер и весов, в трудах которой принимали участие лучшие ученые того времени: Лаплас, Борда, Лагранж, Куломб и другие. Зимою 1792 года Лавуазье и Гаюи определили плотность воды и выработали единицу веса; в 1793 году изучали сравнительное расширение меди и платины для устройства образцового метра.
Деятельность комиссии встретила некоторую помеху в гонении на академиков. Революционное правительство, уничтожая все учреждения, завещанные старым порядком, давно уже косилось на Академию наук. Деньги, назначенные для нее, выплачивались очень туго, и Лавуазье, избранному в 1791 году казначеем академии, приходилось немало хлопотать, выручая из беды своих коллег, большинство которых жило только жалованьем. Нередко он помогал им из собственных средств.
В 1792 году Фуркруа, желая доказать свое революционное рвение, предложил академии исключить из своей среды членов, эмигрировавших за границу и считавшихся врагами отечества. Предложение это возбудило большое волнение. Многие из академиков высказались против него, говоря, что их дело заниматься наукой, а не политикой. Наконец, геометр Кузен нашел формулу, удовлетворившую всех: предоставить министерству удаление тех членов, которых оно считает врагами революции, тогда как академия «будет по обыкновению предаваться более интеллектуальным занятиям».
Около года дело тянулось кое-как. Нападки на академию усиливались. Бедные академики делали все, чтобы избежать гибели: среди прочего велели вынести ковры из залы заседаний, потому что «ковры представляют атрибуты, которые не могут быть терпимы при республиканском режиме». Но даже и этот акт гражданской доблести не был оценен суровыми вожаками революции: в августе 1793 года декретом Конвента академия была уничтожена.
Тщетно Лавуазье обращался в Комитет народного просвещения, указывая, какие убытки принесут рассеянье академиков, прекращение начатых работ, таких как «Сравнительная анатомия» Вик д’Азира, минералогическая карта Демаре и другие; тщетно взывал он к чувству справедливости, напоминая о положении академиков, оставшихся без всяких средств к существованию. «Только надеясь на честность общества, избрали они эту карьеру, почетную, но малодоходную. Многие из них – восьмидесятилетние беспомощные старцы; многие потеряли здоровье и силы в путешествиях и трудах, предпринятых за свой счет для пользы государства; французская честность не позволяет нации обмануть их надежду; они имеют право, по меньшей мере, на пенсию, выдаваемую каждому чиновнику».
Но его не слушали. Титул академика сделался подозрительным; Добантон, знаменитый анатом, должен был принять звание «пастуха» (он занимался среди прочего вопросами об овцеводстве); многие укрылись в провинции под вымышленными именами; многие очутились в самом отчаянном положении.
Меры и вес были переданы в новую комиссию, в состав которой вошли, впрочем, некоторые из бывших академиков, в том числе и Лавуазье. Кроме того, он занимался в Совещательном бюро, которое должно было указывать правительству полезные изобретения и открытия, достойные награды; составил много докладов по различным техническим вопросам и замечательный проект организации народного образования на новых началах. Подробное рассмотрение этого проекта было бы неуместно в нашей книжке; заметим только, что он уже тогда стоял за принципы, лишь недавно осуществленные французским правительством. Реальный характер образования – ознакомление гражданина с его правами и обязанностями, с элементами наук, управляющих нашим обществом, – вот общий характер его системы. Но пройдет много времени, пока эти принципы осуществятся повсеместно. Мы слишком трусливы, мы пичкаем наших детей сказками, над которыми сами смеемся, и не решаемся сообщить им то, что считаем истиной.
Пока Лавуазье работал над этими вопросами, над его головой собирались тучи.
Глава VI. Суд и казнь
«Итак, правда, что честное служение обществу, важные услуги родине, карьера, употребленная на пользу и преуспеяние человеческих искусств и знаний, не могут избавить от зловещего конца, от смерти, постигающей преступников!»
ЛавуазьеУничтожение откупа. – Отзывы революционной печати об этом событии. – Нападки на откуп. – Арест откупщиков. – Письмо Лавуазье к жене. – Обвинения против откупа. – Доклад Дюпена. – Предание суду откупщиков. – Слова и последнее письмо Лавуазье. – Суд революционного трибунала. – Приговор и казнь. – Г-жа Лавуазье. – Падение террористов. – Заключение.
Генеральный откуп был уничтожен в 1791 году декретом Национального собрания.
О впечатлении, произведенном этим событием в революционных кружках, можно судить по следующему отзыву «Père Duchêsne»:
«Хотелось бы мне присутствовать в отеле откупа, посмотреть на жирные морды финансистов за зеленым столом, когда они узнали о декрете Национального собрания. Конечно, эти… последуют примеру аристократии и утянут за границу награбленное у нас добро. Предлагаю гражданам всех секций соединиться, потребовать у них отчета, вырвать у них из глотки все, что они нажили воровством и разбоем».
По уничтожении откупа нападки на него продолжаются в том же изящном стиле. У откупщиков предполагалось 300—400 миллионов награбленного состояния: это и помимо всякой ненависти было бы кстати для обанкротившегося государства. Но расчет был преувеличен: состояние всех откупщиков, в виде земель, домов и денег, достигало, по расчетам Мольена, только 22 миллионов.
В 1793 году г-н Kappa предложил назначить комиссию для исследования преступлений, обманов и грабежей откупа.
«Нет, вы не оставите в покое этих глупых пиявок, – говорил он, – вы заставите их изрыгнуть кровь, которую они высосали из тела народа!.. Законодатели, нельзя терять времени; все эти казнокрады, эти пиявки, эти отвратительные спекулянты продадут свои имения и унесут к вашим врагам остатки общественного достояния, если вы не поспешите предупредить их».
Но в это время шла борьба Горы с Жирондой, и об откупщиках на время забыли.
Между тем откупщики вовсе не собирались ни продавать имущество, ни бежать за границу. Уверенные в своей правоте, они организовали комиссию, которая должна была ликвидировать дела и представить отчет правительству.
В июне 1793 года комиссия была уничтожена, бумаги ее опечатаны, касса секвестрована. Немного позднее у откупщиков произвели обыск, опечатали имущество, арестовали бумаги. В них, однако, не нашлось ничего подозрительного. Бумаги были возвращены владельцам, печати с их имущества сняты, ликвидационная комиссия восстановлена. Конвент назначил сроком ликвидации 1 апреля 1794 года.
Но в ноябре 1793 года депутат Бурдон заявил в Конвенте: «Вот уже сотый раз говорят о расчетах с откупщиками. Я требую, чтобы эти пиявки были арестованы и преданы мечу правосудия, если они не представят отчет через месяц».
Под влиянием этого заявления Конвент издал декрет об аресте откупщиков 24 ноября.
Лавуазье узнал об этом в тот же вечер и укрылся у бывшего сторожа академии Люкаса. Два дня он провел в нерешимости, наконец мужество одержало верх; он вышел из своего убежища и был отведен в тюрьму «Port-Libre» (бывший монастырь «Port-Royal»).
Тут он застал большое и довольно веселое общество. В то время беззаботную жизнь, кажется, только и можно было найти в тюрьмах. На воле свирепствовала тирания революционных комитетов, шпионство развилось в неслыханной степени; никто не мог быть спокоен за свою участь. Попадая в тюрьму, успокаивались, подчинялись неизбежному и старались устроиться поудобнее и провести время повеселее в ожидании близкой смерти.
У каждого из заключенных была своя камера. По вечерам собирались в общей зале: женщины вязали и шили, мужчины читали, спорили, писали. Потом ужинали; в 9 часов являлись на перекличку, затем расходились по камерам. Впрочем, и после этого времени можно было посещать друг друга. Лавуазье работал здесь над составлением сборника своих работ, у него оставалось мало надежды на спасение; это видно из следующего письма к жене:
«Ты слишком много трудишься, слишком устаешь телом и духом, и я не могу разделить с тобой твоих забот. Береги свое здоровье; если оно пошатнется, это будет величайшим несчастьем. Моя карьера близится к концу; я жил счастливо, и ты содействовала этому счастью своей любовью; притом я оставлю по себе почетную память. Итак, моя задача исполнена, но ты еще можешь надеяться на долгую жизнь; не порти же ее. Мне показалось, что ты была грустна в последний раз; зачем? Ведь я подчинился своей участи и буду считать выигранным все, чего не потеряю. Впрочем, надежда еще не вполне исчезла; а пока – твои посещения доставят мне еще много счастливых минут».
С разных сторон поднимались голоса в пользу Лавуазье: Комиссия мер и весов, Комиссия ассигнаций и монет просили за него, – но Комитет общественного спасения не обращал внимания на их просьбы.
Вскоре откупщики были переведены в откупной отель, превращенный на время в тюрьму; здесь они могли, по крайней мере, закончить ликвидацию и представить правительству отчет о своих действиях. Они закончили отчет к 27 февраля 1794 года и, кроме того, решили составить оправдательную записку против нападок ревизионной комиссии, которая была назначена для проверки их действий и с самого начала обнаружила явное желание обвинить их во что бы то ни стало. Она составила свой доклад, в котором обвиняла откуп в расхищении и воровстве на 130 миллионов. Главные обвинения сводились к следующему. Во время контракта Давида (1774—1780 гг.) откупщики получали 10 % и 6 %, тогда как контракт назначал им только 4 %. Откуп умышленно запаздывал со взносами в казну, пользуясь этой отсрочкой для спекуляций с деньгами, которые должен был внести. Наконец, откуп обвинялся в подделке нюхательного табака, к которому подмешивал слишком много воды: «способ, столь же вредный для здоровья потребителей, сколь убыточный для их интересов».
Первое и второе обвинения были основаны на недоразумении. Проценты, получаемые откупщиками (десять с миллиона и шесть с остального взноса), были перепутаны с другой суммой вследствие простого невнимания. Таким же путем возникло обвинение в задержке взносов: в конце каждого срока откуп получал от правительства квитанцию в уплате следуемых сборов. Но она выдавалась после проверки счетов откупа, через несколько месяцев после действительного взноса, и отмечалась днем выдачи. Обращая внимание только на квитанцию, можно было подумать, что откуп на несколько месяцев задерживал взносы; к такому заключению и пришла ревизионная комиссия, умышленно или по рассеянности – трудно сказать.
Обвинение в подделке табака, с виду мелочное и второстепенное, едва ли не более всех других способствовало казни откупщиков. Дело в том, что откуп пользовался монополией выделки и продажи тертого табака. Разумеется, возникли тайные мастерские, контрабандная торговля. Разгорелась целая война «rapistres» и «antirapistres». Об этом много шумели, много толковали; вообще, дело было сенсационное. Говорили, что табак, приготовляемый откупом, вреден, подмочен и так далее. Ревизионная комиссия повторила это обвинение, не заботясь о доказательствах. Опровергнуть его было очень легко: таблицы производства, отчеты фабрик показывали, что откуп – в целях противодействия контрабанде – старался улучшить и удешевить табак.
Кроме этих основных обвинений, было несколько мелких, столь же «добросовестных». Вообще, при мало-мальски внимательном отношении к делу ревизия должна бы была убедиться, что откуп в правление Людовика XVI действительно обновился и вел свои дела честно.
Без сомнения, податная система при старом порядке была сопряжена со многими неудобствами для нации. Ввиду этого, пожалуй, и можно было упрекнуть откупщиков: зачем они принимают участие в учреждении, невыгодном для народа и государства? Но этот упрек пришлось бы повторить всякому, кто занимал в то время какое-нибудь официальное положение. Суд, администрация, местное управление – все учреждения старого порядка были плохи и требовали преобразований. Не отвечать же за это частным лицам, раз они действовали безупречно!
В своей оправдательной записке откупщики без труда опровергли возводимые на них обвинения.
Но до этого никому не было дела. Революция достигала своего апогея. Наступило время резни оптом. «Живо вперед – по колена в крови и слезах», – говаривал Сен-Жюст. Тут уже не было государственных идей, планов, целей; одно казалось ясным: нужно убивать, очищать Францию. «Хотите привести в порядок дела – возьмитесь за гильотину. Нужно вам покрыть военные издержки – действуйте гильотиной. Желаете уплатить долги – поможет только гильотина, тысячу раз гильотина!»
Доклад ревизоров и отчет откупа рассматривались в финансовом комитете. При этом главную роль играл некто Дюпен, бывший чиновник откупа, личность ничтожная, бесцветная и готовая угождать всякому капралу, который возьмет палку в данную минуту.
Некоторые из друзей Лавуазье тщетно хлопотали о его освобождении. Советовали его жене отправиться к Дюпену ходатайствовать за мужа. В то время происходила такая кутерьма, что и спасти и погубить человека было нетрудно лицу, имевшему вес в партии Робеспьера. Дюпен уже почти соглашался дать благоприятный отзыв о Лавуазье, но обижался на его жену: зачем не придет попросить его лично? Принимать в качестве просительницы супругу своего принципала было лестно для его тщеславия. Наконец она явилась и вместо просьб о помиловании назвала его негодяем, злодеем, членом шайки разбойников, убивающих невинных людей, чтобы воспользоваться их имуществом.
Разумеется, Дюпен разозлился, – и дело Лавуазье было проиграно.
Было у него несколько влиятельных друзей – Фуркруа, Гитон де Морво, Гассенфрац (редактор «Annales de chimie»), – заседавших в Конвенте, друживших с Робеспьером. Но они разыграли отменно некрасивую роль в деле Лавуазье: никто из них не подумал вступиться за своего учителя и друга. Впоследствии Фуркруа объяснял свое равнодушие трусостью: «Вспомните об этой эпохе… когда нам приходилось скрывать наши слезы в глубине наших сердец, чтобы не обнаружить перед тиранией нашу чувствительность; когда малейшие признаки сострадания и милосердия были в глазах шайки, захватившей власть, доказательствами соучастия с теми, кого она признавала виновными; когда террор вносил разлад между друзьями, между членами семьи; когда самое слабое заступничество за несчастных, осужденных на смерть, считалось преступлением и заговором».
5 мая 1794 года Дюпен представил Конвенту доклад, в котором повторил все обвинения ревизоров.
Конвент постановил отдать откупщиков на суд революционного трибунала. Это был смертный приговор. Революционный трибунал, составленный из креатур Робеспьера, никого не миловал. Декрет Конвента был передан в трибунал 7 мая. Но уже 5-го Фукье Тенвиль подписал обвинительный акт: у них это было заранее обделано с Дюпеном.
Обвиненные встретили весть о смерти спокойно. В те времена к этому привыкли. Двое – Мольен и Тавернье – хотели отравиться, чтобы избежать позорной казни и оскорблений толпы, и предложили Лавуазье разделить с ними участь. Но он отговорил их: «Зачем упреждать смерть? Разве она будет постыднее, если постигнет нас по приказу другого, по приказу несправедливому? Здесь сам избыток несправедливости уничтожает позор. Мы можем спокойно оглянуться на нашу жизнь, спокойно умереть в ожидании приговора, который будет высказан, может быть, через несколько месяцев; наши судьи не в трибунале, перед которым мы предстанем, не в толпе, которая будет оскорблять нас. Чума опустошает Францию, она готова постигнуть и нас; по крайней мере, она убивает разом… Прибегать к самоубийству значило бы избавлять от ответственности неистовых людей, которые посылают нас на эшафот. Вспомним о тех, кто взошел на него раньше, и оставим такой же хороший пример тем, кто взойдет на него после нас».
В тот же день заключенных отправили в тюрьму Консьержери, где они провели два дня в очень скверной обстановке. Седьмого их водили в революционный трибунал для допроса. По возвращении оттуда Лавуазье написал письмо одной из своих родственниц:
«Я прожил довольно долгую и очень счастливую жизнь и думаю, что воспоминание обо мне будет возбуждать некоторое сожаление, быть может, соединится с некоторой славой. Чего мне желать больше? Судьба, постигшая меня, по крайней мере, избавляет меня от одряхления. Я умру целиком – это тоже одно из благ, доставшихся на мою долю. Меня огорчает только то, что я не могу ничего сделать для своей семьи; не могу оставить ни ей, ни Вам никакого доказательства моей любви и признательности.
Итак, правда, что честное служение обществу, важные услуги родине, карьера, употребленная на пользу и преуспеяние человеческих искусств и знаний, не могут избавить от зловещего конца, от смерти, постигающей преступников!
Я пишу Вам сегодня, потому что завтра, быть может, это уже будет невозможно и потому что мне приятно думать о Вас и о дорогих мне лицах в мои последние минуты. Это письмо предназначается Вам и всем, кто принимает во мне участие. Вероятно, это мое последнее письмо».
На следующий день, 8 мая, их обыскали, отобрали часы и другие дорогие вещи и отвели в революционный трибунал. Официальным защитникам было дано четверть часа для переговоров с подсудимыми о деле, которое им – защитникам – было совершенно неизвестно. После этого заседание было открыто. Председательствовал Коффингаль, обвинял, за отсутствием Фукье Тенвиля, Лиэндон. Перечислив преступления откупщиков, он заключил свою речь словами: «Мера злодеяний этих вампиров переполнена, безнравственность этих тварей признана общественным мнением, – они виновники всех бедствий, преследовавших Францию в течение многих лет!»
Защитники, незнакомые с делом, разумеется, не могли сказать ничего путного; откупщики попробовали объясняться, но им заткнули рты, объявив, что они могут отвечать только «да» или «нет», а не пускаться в рассуждения; их оправдательная записка не была принята во внимание.
Во время судебного разбирательства явился гражданин Галле с петицией от Совещательного бюро, в которой указывались научные заслуги Лавуазье. «Республика не нуждается в ученых, – отвечал ему Коффингаль, – не мешайте правосудию совершать свой ход».
Одно обстоятельство затрудняло несколько это правосудие: дело откупщиков не подлежало ведению революционного трибунала, судившего только за государственные преступления: заговоры против республики, сношения с эмигрантами и т. п.
Но какое отношение имели к заговору против республики подделка табака или финансовые плутни, да еще совершенные пятнадцать лет тому назад, когда о республике и помину не было? Если бы даже обвинения против откупщиков были верны, революционному трибуналу тут нечего было делать. Предстояло придумать благовидную формулу обвинения; Коффингаль, старый судейский крючок, напрактиковавшийся еще при прежнем порядке, так сформулировал вопрос присяжным: «Существовал ли заговор против французского народа, имевший целью облегчить успех врагам Франции посредством всевозможных вымогательств и лихоимств, подмешивания в табак воды и вредных для здоровья граждан ингредиентов, взимания 10 и 6 процентов вместо 4, назначаемых законом, всевозможных краж и грабежа казны и народа с целью похитить у нации огромные суммы, необходимые для войны с деспотами, вооружившимися против республики, и доставить их этим последним?»
Присяжные отвечали на этот вопрос утвердительно.
Суд приговорил обвиняемых к смертной казни на основании статьи уголовного кодекса, карающей смертью «всякие сношения с врагами Франции, имеющие целью облегчить им завоевание, передавая в их руки крепости, города, арсеналы и прочее или оказывая им поддержку деньгами, солдатами и припасами».
Подсудимые – 28 человек – были отведены в Консьержери, а оттуда немедленно отправлены на революционную площадь. Все они были спокойны и молчали. Только д'Отерош заметил, глядя на толпу санкюлотов и намекая на конфискацию имущества откупа: «Досадно, что приходится иметь таких безобразных наследников».
Толпа против обыкновения встретила их молча и даже как будто с сожалением. Впрочем, в это время резня уже начинала утомлять нацию. Гильотина работала больше, чем когда-либо; однако с разных сторон уже высказывалось отвращение к террору.
Лавуазье был четвертым по списку. Перед ним казнили его тестя, Польза. Затем наступила его очередь…
«Палачу довольно было мгновения, чтобы отрубить эту голову, – сказал на другой день Лагранж, – но, может быть, столетия будет мало, чтобы произвести другую такую же».
Имущество откупщиков было конфисковано. Так как оно далеко не достигало 130 миллионов, то Дюпен предложил отобрать имущество у жен и детей казненных.
Вдова Лавуазье осталась без всяких средств к существованию.
Впрочем, это тянулось недолго. Колесо революции свершило свой полный круг, и началось обратное движение. У вождей терроризма опустились руки. Они раздавили всех своих врагов и остановились в недоумении над грудой трупов. Дальше идти было некуда. Месяца через два после казни откупщиков наступило 9 термидора: партия Робеспьера была уничтожена. Погибли Фукье, Коффингаль, большая часть судей, казнивших Лавуазье. Почти все они встретили смерть с тем же холодным спокойствием и уверенностью в своей правоте, с какими сами посылали на казнь «врагов революции». Но тот, кто разыграл в деле с откупом едва ли не главную роль – депутат Дюпен, уцелел, убедившись, что ветер повернул в другую сторону, он решил забежать зайцем, предложил вернуть конфискованное имущество родственникам убитых и представил Конвенту доклад, в котором сваливал всю вину на Робеспьера и его приверженцев. Он все же был арестован, но впоследствии освобожден и прожил до 1820 года, всеми забытый. Этот ничтожный и трусливый человек только на мгновение промелькнул в политической жизни; волна революции случайно вынесла его на поверхность; он успел загрязнить себе руки бессмысленным убийством и погрузился в ту же бездну ничтожества, из которой ему никогда не следовало бы выходить.
Имущество откупщиков было возвращено их вдовам и детям.
Г-жа Лавуазье прожила еще 42 года. Она издала сборник научных исследований своего мужа; салон ее посещали Кювье, Гумбольдт, Араго, Био, Лаплас и другие. Но она прекратила сношения с Фуркруа, де Морво и другими коллегами Лавуазье, принадлежавшими в эпоху террора к крайней партии. В 1805 году она вышла замуж за знаменитого физика графа Румфорда, но брак оказался неудачным, и они разошлись. В 1836 году она умерла на 79-м году жизни.
Лавуазье умер 50-ти лет, в расцвете сил и таланта. Конечно, в эти годы уже не создают новых систем, новых принципов. Но для науки не менее важно развитие уже установленного принципа и применение его к пестрому миру явлений. В последние годы жизни Лавуазье занимался главным образом физиологическими исследованиями. Он установил правильный взгляд на жизнь, наметил путь для дальнейших исследований, но смерть застигла его в начале этого пути. Кто знает, сколько потеряла от этого наука!
Но оставим в стороне то, чего он не исполнил, и вспомним о том, что он сделал для человечества. Есть великие имена, чья слава растет, а не умаляется с веками. Современная химия – хвалебный гимн Лавуазье, потому что каждый новый успех ее свидетельствует о величии основных истин, им открытых.
Источники
1. Grimaux. Lavoisier l'après sa correspondance etc. 1888.
2. Notice sur la vie et les travaux de Lavoisier (par Fourcroy), l'an IV-me (1796). Paris.
3. Lalande. Notice sur la vie et les ouvrages de Lavoisier (Magaz. encycl. de Millin, vol. 5, 1795).
4. Desaissarts. Siècles littéraires de la France, 1800—1801. (Art. «Lavoisier»).
5. Cuvier. Lavoisier. («Biographie universelle» Michaud).
6. Guizot. La comtesse de Rumford (M-me Lavoisier) в «Mélanges biogr. et littér».
7. Hoefer, Lavoisier. («Nouvelle biographie générale»).
8. Фигъе. Светила науки. Т. 3.
9. Berthelot. Les grandes découvertes de Lavoisier. («Rev. scient.», 1890. №2 (1-er sem.).
10. Richet. Lavoisier et la chaleur animale. (Ibid., 1884, p. 141, (2-me sem.).
11. Richet. Expériences inédites de Lavoisier sur la respiration. (Ibid., 1887, №7 (1-er sem.).
12. Rosenthal. Lavoisier et les progrès de la physiologie. (Ibid., 1891. №2 (1-er sem.).
13. Dumas. Lecons sur la philosophie chimique. Paris, 1836.
14. Вюрц. История химических доктрин. 1869.
15. Меншуткин. Очерк развития химических воззрений. СПб., 1888.
16. Уэвелъ. История индуктивных наук. Т. 3.
17. Lavoisier. Oeuvres. Paris, 1864.
Примечания
1
в душе (лат.).
(обратно)2
«налог на раздвоенное копыто» (фр.).
(обратно)3
«Стена вокруг Парижа делает Париж бормочущим» (фр.)
(обратно)

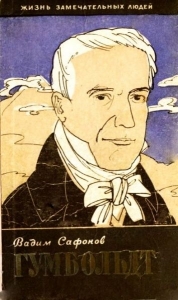

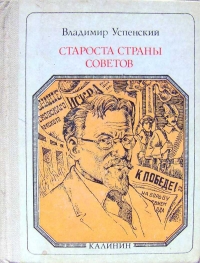
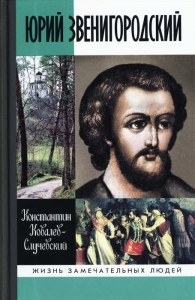

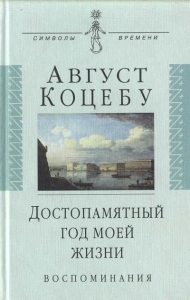
Комментарии к книге «Антуан Лоран Лавуазье. Его жизнь и научная деятельность», Михаил Александрович Энгельгардт
Всего 0 комментариев