Мария Ватсон Фридрих Шиллер. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк М. В. Ватсон с портретом Шиллера, гравированным в Лейпциге Геданом
Глава I
Происхождение и рождение Шиллера. – Характеристика его родителей. – Первый учитель и первые друзья. – Ранние впечатления и черты характера. – Театр и латинская школа в Людвигсбурге. – Вынужденное поступление в военную академию. – Любимые авторы поэта; появление в печати первых его стихотворений. – Пробная диссертация: «Философия психологии». – Драма Шиллера «Разбойники». – Выпускная работа: «Связь животной стороны человеческой природы с духовной ее стороной».
Известно, что великие люди, эти князья в царстве искусств и наук, происходят по большей части от людей маленьких, из народа, с положением более чем скромным. Довольно обычное это явление повторяется и в генеалогии Шиллера. Предками его, как с отцовской, так и с материнской стороны, были простые сельские булочники.
С проторенной дорожки на самостоятельный путь первым выбился отец поэта, Иоганн Каспар Шиллер, благодаря своей энергии и настойчивости. Немало пришлось ему вынести в детстве после ранней смерти отца-булочника из села Биттенфельд, оставившего вдову и восемь человек детей при весьма скудных средствах: десятилетний мальчик должен был ходить на полевые работы. Но стойкий и честолюбивый ребенок, умевший уже тогда читать, писать и знавший немного латынь, не успокоился, пока не упросил мать отдать его в ученье к ближайшему цирюльнику и хирургу. Двадцати двух лет занял он должность лекаря в баварском гусарском полку и, побывав в походах, вернулся после заключения Ахенского мира (в 1748 году) на родину, где и поселился в городке Марбахе. Тут 25-летний юноша познакомился с 16-летней Елизаветой Доротеей Кодвейс, дочерью местного булочника и содержателя гостиницы. Молодые люди понравились друг другу и поженились уже в следующем 1749 году. После восьми лет бездетного брака у них сперва родилась дочь, Кристофина, а два года спустя – в 1759 году, 10 ноября, в день рождения Лютера – и единственный сын их Фридрих, впоследствии прославивший фамилию Шиллер.
Родители поэта, не выделяясь чем-либо исключительным и необычайным, были, однако, прекраснейшие люди: честные, добрые, не лишенные умственных и духовных интересов. Отец Шиллера, с виду человек крепко сложенный, невысокого роста, живой, деятельный и здоровый, отличался глубокою религиозностью, сознанием своего долга, любовью к порядку и твердостью характера. При всей его строгости и даже некотором педантизме в домашнем обиходе жена и дети, выражая ему глубочайшее почтение, вместе с тем искренне любили его до конца дней, а все знавшие его всегда относились к нему с величайшим уважением. Елизавета Доротея, женщина кроткая и примерно добрая, была образцовой дочерью, женой и матерью. Не блистая особенным образованием, она была, однако же, одарена чувством понимания природы и восприимчивостью ко всему великому и прекрасному. Наряду с Библией – искреннее религиозное чувство было ей присуще всю жизнь – она охотно перечитывала стихотворения Геллерта, Уца, интересовалась естественной историей и так далее, но самым любимым ее чтением были жизнеописания великих людей.
Подобно Канту, Шиллер внешне был вылитый портрет матери. Как и она, он обладал высоким ростом, был строен, имел светлые рыжеватые волосы, большой лоб и нежный взгляд голубых глаз. В первые годы своей жизни поэт был слабым, хилым ребенком, и ему пришлось перенести массу детских болезней. Но затем он окреп и пользовался хорошим здоровьем до 14 лет. Учиться начал с шести лет; первым его учителем был хороший ориенталист и составитель еврейского словаря Мозер, пастор в местечке Лорх, куда был переведен в 1765 году отец Шиллера, состоявший теперь, после разных мытарств и неудач, капитаном вюртембергской службы. Маленький Шиллер сильно привязался к первому своему учителю, пастору Мозеру. Насколько образ этого строгого, требовательного, но любимого им педагога глубоко запечатлелся в душе поэта, видно уже из того обстоятельства, что достойному во всех отношениях духовному лицу, выведенному им в «Разбойниках», он дал имя Мозер.
В эту раннюю пору детства Шиллера ближайшими его друзьями, сохранившими к нему теплые отношения всю жизнь, были сын пастора Мозера Фердинанд и некто Конц, впоследствии известный филолог и поэт. Также и старшая сестра Шиллера, Кристофина, любимица родителей, лицом и характером походившая на брата; она была страстно ему предана, и он платил ей тем же. Уже в детском возрасте Шиллер выказывал позднейшую свою способность отдаваться друзьям всей душой. При этом он отличался замечательною совестливостью, добротой, правдивостью и страстью раздавать все, что у него было: книги, платья, даже постельные принадлежности, за что ему не раз доставалось от родителей.
Между тем отца Шиллера скоро перевели из Лорха в людвигсбургский гарнизон. В Людвигсбурге поэт поступил в местную «латинскую» школу, где преимущественно обучали латыни, а также началам греческого и еврейского языков. Школа эта считалась подготовительною ступенью для желавших посвятить себя изучению богословия. А маленький Шиллер выразил таковое желание еще в бытность свою в Лорхе, – отчасти, вероятно, вследствие восхищения пастором Мозером.
«Нередко, – рассказывает Кристофина, – малютка взбирался на стул, просил меня или мать облачить его вместо пасторской мантии в черный передник и затем начинал с самым серьезным видом говорить проповедь со своей воображаемой кафедры». В Людвигсбурге особенно сильное впечатление на мальчика произвел, по-видимому, театр. Отец его, как и все гарнизонные офицеры, имел даровой вход туда, и маленького Шиллера водили в театр в награду за хорошее учение. Дома мальчик устраивал из книг подобие сцены, вырезал бумажные фигуры, которые Кристофина раскрашивала, и заставлял этих кукол разыгрывать драматические сцены. Но эта игра ему скоро надоела, и тоща они с сестрой и с товарищами, соорудив сцену в саду, играли там комедии. Впрочем, сам Шиллер был плохой актер: он портил всякую взятую на себя роль чрезмерною страстностью и живостью.
Любимым товарищем Шиллера в Людвигсбургской латинской школе был Вильгельм фон Ховен. По свидетельству этого последнего, поэт представлял собой в ту пору живого, веселого, смелого, иногда даже своевольного мальчика, который был не прочь и подразнить товарищей, – только не зло, а добродушно.
Однако при переходе в старшие классы настроение духа Шиллера изменилось.
Он стал конфузлив, неловок, мечтателен, серьезен, любимыми темами его разговоров сделались жалобы на судьбу и на покрытую глубокой мглой будущность. Учился он хорошо, и в аттестациях своих учителя называли его «мальчиком, подающим надежды».
Примерно в это время герцог Вюртембергский, который провел молодость свою весьма бурно, только что остепенился, главным образом благодаря влиянию на него графини фон Гогенгейм, и стал увлекаться педагогикой.
В одном из своих летних дворцов он устроил учебное заведение, вскоре значительно расширенное, переименованное в «военную академию» и переведенное им в Штутгарт. Нежданно-негаданно, волею судеб попал туда и 14-летний Шиллер. Герцог осведомился о наиболее способных учениках в других школах – с тем, чтобы взять их себе. Таким образом ему указали и на Шиллера.
Карл Евгений предложил отцу мальчика воспитать Фридриха на казенный счет, – с тем, однако, чтобы он впоследствии оставался у него на службе. Предложенная милость равнялась приказанию: отец Шиллера был в полной зависимости от герцога, так как состоял у него на службе. Делать было нечего, и огорченным родителям пришлось расстаться с мечтой видеть сына пастором. Жизнь в академии вряд ли могла прийтись по вкусу будущему поэту; тут все делалось по барабанному бою и по команде. По команде вставали, одевались, молились, слушали лекции, учились, ели и ложились спать.
Так шло круглый год, потому что в академии не полагалось каникул.
Но стены закрытого заведения скоро расширились, и замкнутая жизнь в них для юного воспитанника озарилась солнечным лучом; дремавшие в его душе зачатки поэзии проснулись: пестрый мир фантазии открылся для него. Несмотря на строжайшие запреты, в академию все-таки проникали извне сочинения выдающихся писателей; молодой Шиллер уходил в них всей душой. Сначала, по-видимому, на него имел значительное влияние Клопшток. Зачитываясь «Мессиадой», он возымел мысль избрать Моисея героем религиозного эпоса. Мрачный трагизм герстенберговского «Уголино» вызвал затем первую его драматическую попытку – трагедии «Христиане» и «Нассауский студент». Шиллер читал с особенною любовью Библию в переводе Лютера, а также Сервантеса, Лессинга, Гердера, Мендельсона, Оссиана и других.
Но выше всех ставил он Плутарха, который, по его словам, своими жизнеописаниями великих людей «возносит нас над нашим поколением и делает нас современниками более совершенных, сильных характеров». Также и Руссо, этот горячий, благородный и смелый мыслитель, был крайне симпатичен Шиллеру. «Отказаться от свободы – значит отказаться от принадлежности к человеческому роду; не быть свободным – равносильно отречению от человеческих прав и даже обязанностей»; эти и тому подобные изречения из «Contract social» («Общественного договора») стояли огненными буквами перед глазами Шиллера.
Вскоре он познакомился и с Шекспиром благодаря профессору Абелю. Последний имел обыкновение, читая лекции, иллюстрировать философские положения выдержками из поэтов. Так, однажды он объяснял слушателям столкновение страстей и с этою целью читал им соответственные места из «Отелло». Шиллер слушал затаив дыхание и, подойдя после лекции к профессору, упросил его дать ему Шекспира. Но увлечение великим английским драматургом, которого Шиллер, впрочем, оценил не сразу и только уже позже полюбил всей душой, не могло умалить его восхищения отечественными писателями. Драмы Клингера, Лейзевица и других продолжали производить на него сильное впечатление. Между прочим, прочитав трагедию Лейзевица «Юлиус фон Тарент», он так восторгался ею, что почти всю запомнил наизусть и стал писать трагедию «Козьма Медичи». Но и этот опыт был уничтожен им, и лишь несколько отдельных образов, мыслей и строф перенесены оттуда в «Разбойники».
Уже в академии личность Шиллера имела ту чарующую, притягательную силу, которая привлекала к нему стольких друзей. Так, например, знаменитый впоследствии скульптор Даннекер был здесь очень близок с Шиллером; Цумштег – музыкант и композитор – боготворил его и перекладывал его стихи на музыку. Два брата Вольцоген, Гауг, Шарфенштейн, Петерсен, фон Ховен были преданнейшими его друзьями. Трое последних составляли вместе с Шиллером тайное поэтическое общество и читали друг другу запретные в академии плоды своего поэтического вдохновения; они письменно критиковали друг друга и высказывали как похвалу, так и порицание, – конечно, чаще первое, чем второе. К числу близких друзей Шиллера в академии принадлежал также сын издателя «Deutsche Chronik» и известного поэта Шубарта. В то время как мальчик Шубарт, милостью герцога, воспитывался в академии, тот же герцог без суда и следствия, – вероятно, за непонравившиеся ему эпиграммы – заключил его отца в крепость Асперг, где несчастный протомился целых десять лет. Позже, в 1781 году, Шиллер, большой поклонник Шубарта, посетил его здесь, и заключенный поэт, в свою очередь, сильно восхищался автором «Разбойников».
Из профессоров академии Шиллер ближе всех сошелся с Абелем, этим «ангелоподобным» человеком, как выражались о нем воспитанники. Он читал им логику, психологию и метафизику. Другой профессор академии, Гауг, преподававший историю, немецкую стилистику и искусства и писавший стихи, издавал литературный ежемесячный журнал «Schwäbisches Magazin». Здесь в 1776 году мы находим первое напечатанное стихотворение Шиллера – оду «Вечер». Это стихотворение, как и вообще первые опыты даже величайших поэтов, грешит подражательностью; но две строфы заслуживают все-таки внимания: во-первых, та, где проступает любовь юного поэта к свободе, и, во-вторых – та, где он просит Всевышнего осчастливить его не властью или богатством, а даром песен.
В 1777 году в том же журнале появилось другое стихотворение Шиллера – «Завоеватель». Остальные его лирические и драматические опыты той эпохи все затерялись.
Перенесение академии в Штутгарт не могло быть особенно приятным Шиллеру – уже из-за разлуки с родителями. Незадолго перед тем герцог назначил капитана Шиллера смотрителем обширных садов и новонасажденных плантаций вокруг дворца. Еще в Людвигсбурге Каспар Шиллер, скучая от ничегонеделания гарнизонной службы, занялся изучением ботаники, лесоводства и садоводства. Смотрителем дворца он оставался до своей смерти, последовавшей в 1799 году, и то, что он дело вел осмысленно, доказывает изданная им в 1795 году книга «Die Baumzucht im Grossen».
Когда в 1776 году в академии открылся новый факультет – медицинский, – Шиллер вместе с фон Ховеном, бросив юридический факультет, перешел на вновь открывшийся.
Последние два года своего пребывания в академии поэт очень приналег на свою специальность и, в надежде скорее закончить курс, представил пробную диссертацию. В академии существовал обычай, позволявший воспитанникам за год до выпуска, для выяснения их познаний, писать пробные диссертации, которые в благоприятном случае открывали бы им двери выхода из академии. Имея на то право, Шиллер сам избрал себе тему, озаглавив ее «Философия физиологии». Эта диссертация двадцатилетнего юноши, доказывавшая его блестящее духовное развитие, не была одобрена профессорами медицинского факультета, нашедшими сделанные выводы слишком запутанными и рискованными. Ввиду такого решения юноше пришлось пробыть еще год в академии. Это было для него тяжелым ударом. Настроение его делается теперь грустным, подавленным, жизнь становится ему в тягость, он доходит почти до отчаяния. Конечно, удивляться тут нечему, – именно даровитые натуры часто в юношеские годы подвержены унынию и временной потере жизнерадостности, – особенно при неблагоприятных внешних обстоятельствах.
В этот период Шиллер написал на смерть младшего фон Ховена элегию, озаглавленную «Над свежей моги лой», – одно из немногих юношеских произведений, которые автор включил потом в полное собрание своих сочинений. Тогдашнее настроение поэта излилось, впрочем, наиболее многосторонне и полно в другом его произведении – драме «Разбойники». Как только ему удавалось написать новую сцену, он тотчас же декламировал ее товарищам, восторгавшимся его произведением.
Между тем настало время выпуска из академии, и Шиллеру предстояло повторить неудавшуюся перед тем попытку, то есть написать новую диссертацию. Эта последняя – «Опыт о связи животной стороны человеческой природы с его духовной стороной» – была одобрена профессорами и даже удостоилась чести, выпадавшей на долю только лучших работ, быть напечатанной.
Таким образом, 14 декабря 1780 года поэт простился с учебным заведением, в котором провел восемь лет и откуда увез с собою диссертацию свою и второй, еще более блестящий документ развития своих духовных сил – драму «Разбойники».
При выпуске его назначили лекарем в гарнизонный гренадерский полк в Штутгарте, с жалованьем в 18 гульденов в месяц.
Глава II
Жизнь Шиллера в Штутгарте. – Луиза Фишер. – Появление «Разбойников» в печати. – Контакты со Шваном и Дальбергом. – Успех драмы на сцене в Мангейме. «Антология» и «Вюртембергский реперториум». – Арест Шиллера и решение спастись бегством. – Новая драма «Фиеско». – Приезд в Мангейм и разочарование. – Путешествие во Франкфурт и Оггерсгейм. – «Коварство и любовь» и переделка «Фиеско». – Отъезд в Бауернбах. – Знакомство с Рейнвальдом и несчастная любовь к Шарлотте фон Вольцоген. – Неожиданное предложение Дальберга. – Шиллер при театре в Мангейме. – Его болезнь. – Успех «Коварства и любви»
В Штутгарте Шиллер поселился вдвоем с академическим товарищем лейтенантом Капфом в небольшой комнате, снятой им у вдовы капитана Луизы Фишер. Тотчас же вокруг него собрались его друзья – Шарфенштейн, Петерсен, Ховен, Конц, а некоторое время спустя – молодой музыкант Штрейхер. Последний восхитился «Разбойниками», пожелал познакомиться с их автором и с тех пор сделался завсегдатаем у Шиллера и одним из наиболее преданных и близких его друзей. В маленькой, сильно накуренной комнате поэта почти всегда стоял шум, слышался громкий смех и голоса. Сам Шиллер не прочь был поиграть в карты или в кегли и охотно выпивал с друзьями бутылку-другую пива. Два или три раза ему случалось выпить больше чем следовало, и сейчас же скороспелая городская молва поспешила зачислить его в разряд кутил. Дружба его с хозяйкой, 30-летней, вовсе не обладавшей красотой блондинкой и матерью двоих детей, тоже подвергалась немалым толкам и пересудам. Некоторые биографы полагают, что пламенные оды к Лауре, помещенные Шиллером в его «Антологии» в 1782 году, вызваны действительно чувством его именно к Луизе Фишер. Разбираться в этом вопросе теперь, через сто лет, не имея на то фактических данных, конечно, несколько трудно.
В то самое время как внешний образ жизни полкового врача давал столько пищи разнообразным слухам и сплетням, внутреннее его развитие и поэтическая деятельность продолжали быстро идти вперед. По выходе из академии поэт первым делом занялся окончательной обработкой «Разбойников» и решил напечатать их. Но где и как? Ни в Штутгарте, ни в Мангейме не нашлось издателя, который согласился бы за свой счет напечатать эту первую пробу пера начинающего писателя. Шиллеру оставалось одно: издать драму на собственные средства. С этой целью он занял под поручительство одного приятеля нужную сумму, и таким образом «Разбойники» увидели наконец свет Божий летом 1781 года. Появление драмы сделалось настоящим «литературным событием». Весь город всполошился; молодежь была в восторге, словно наэлектризована, а сторонники тогдашних порядков, предрассудков и понятий выходили из себя от негодования и страха. Так, по словам Гёте, одно очень высокопоставленное лицо сказало ему в Карлсбаде: «Если бы я был Богом, только что собравшимся сотворить мир, и предвидел, что в нем появятся „Разбойники“ Шиллера, я передумал бы, и мир не был бы сотворен». Трудно даже поверить теперь, до какой степени драма Шиллера проникла тогда во все слои общества. В Баварии, например, мальчики составили шайку разбойников, которая потому только не осуществилась, что один из малолетних Карлов Моров, прежде чем отправиться в Богемские леса, нашел нужным проститься с матерью.
Целый поток повестей и романов на мотивы разбойничьих похождений запрудил книжный рынок. И критика тоже взволновалась: с одной стороны, разносили в пух и прах автора «Разбойников», с другой – видели в нем чуть ли не немецкого Шекспира и осыпали его похвалами.
В течение четырех лет, с 18 до 21 года, писал Шиллер своих «Разбойников». Он работал по большей части ночью, потому что в академии нельзя было иначе. «Склонность к поэзии оскорбляла законы заведения, в котором я воспитывался, и противоречила планам его учредителя», – жалуется Шиллер, извещая о выходе своей «Thalia». Эти ночные занятия в академии вошли затем в привычку у Шиллера, и он потом уже всю свою жизнь предпочитал работать ночью.
Сюжет «Разбойников» навеян Шиллеру рассказом Шубарта, заключающим в себе историю двух враждебно настроенных братьев и напечатанным в «Швабском магазине» за 1785 год под названием «К истории человеческого сердца».
Несмотря на все промахи, преувеличения и ошибки, на взвинченность и неумелость, первый этот юношеский опыт Шиллера пользовался, да еще и теперь продолжает пользоваться, значительной популярностью. Великая тайна волновать сердца читателей и зрителей заключается в том, по словам Карлейля, чтобы сам автор был страстно увлечен и взволнован, когда писал свое произведение. Непосредственное, сильное впечатление, производимое пьесой, исходит из прикосновения к глубоко лежащим струнам человеческой души, к возвышенным порывам юности. Драма основана на самых естественных и самых древних нравственных противоречиях. Правда, поэт выражает эти чувства очень шумно и не зная границ, но пафос его не грешит пустой риторичностью, это настоящий трагический пафос, достигающий высшей точки, например, там, где страсть увлекает Карла Мора. По теме можно бы, пожалуй, драму Шиллера сравнить с «Королем Лиром», где, как и в «Разбойниках», есть убийство отца и брата. И тут, и там, собственно, мир внутренней нравственной сумятицы и неурядицы: брат идет против брата, сын – против отца, отец – против своего детища; и именно отвергнутое им детище является спасителем отца. Не только семейные отношения ослаблены в «Разбойниках»: тут все чисто человеческие отношения в глубине потрясены и разрушены.
Шиллер – мастер драматической композиции. Первая сцена в «Разбойниках» превосходна. Тут поэт сумел ярко изложить глубокое горе старика отца и гнусное намерение Франца Мора. Мы сразу видим все семейство, все их отношения и внутреннюю обстановку. Подложными письмами и лживыми известиями Франц Мор восстанавливает старика отца против Карла. Признанный таким путем наследником, он подкупает одного негодяя принести известие о смерти Карла. Отец не выдерживает наплыва горя и теряет сознание; его уносят, считая мертвым. Амалия, невеста Карла, не поддается, однако, ни уверениям в любви, ни насилию Франца, ставшего со смертью отца владельцем и графом. Между тем старший брат, Карл, ведет в кружке буйных молодых товарищей разгульную жизнь, зачитываясь при этом Плутархом, герои которого переполняют его душу презрением к мелочному «чернильному» веку. Карл жаждет великого дела, подвигов.
В это время ему приносят письмо от Франца, ложно извещающего его, что отец за его бурную жизнь отрекся от него, проклял и отказывается считать его сыном.
Товарищи уговаривают его отправиться с ними в Богемские леса, чтобы собрать там шайку разбойников и среди грабежа и кровопролития отомстить людям. Карл соглашается быть их атаманом, и намерение приводится в исполнение. Но и тут Карл хранит благородство и великодушие. Он обирает богатых, но помогает бедным и сиротам. Его стремление – людское счастье; недостижимый идеал совершенства преследует его везде. Наконец любовь к Амалии влечет Карла в отцовский замок; но Франц, узнавший переряженного Карла, велит убить его. Однако опасность устраняется благодаря верности старого слуги. Ночью среди спящих в лесу разбойников Карл случайно наталкивается на ужасающее преступление и открывает страшную тайну. Старик Мор жив и заключен в башню замка. Обморок его был принят за смерть. Положенный в гроб, старик проснулся, когда в комнате был один Франц. увидев это, последний велел Герману отвести старика в башню и уморить его там голодом. Чувствуя жалость к несчастному, Герман, тайно от своего господина, приносит пищу старому графу. Зажженный разбойниками замок пылает. Франц кончает самоубийством. Но, узнав, что любимый сын его – атаман разбойников, старик отец, пораженный ужасом, на этот раз действительно умирает. Краткие мечты влюбленного в Амалию Карла исчезают перед требованием товарищей, напоминающих ему данную клятву. В отчаянии Амалия молит о смерти, и сам Карл убивает ее, «так как возлюбленная Мора должна умереть только от руки Мора». После того он отказывается от звания атамана и решает отдать себя в руки правосудия. Вспомнив о бедном крестьянине с огромной семьей из одиннадцати человек детей, которому вознаграждение, обещанное за поимку Карла Мора, может доставить обеспечение на всю жизнь, он идет к нему.
Герой драмы Карл Мор прекрасно удался Шиллеру. Это характер вполне прочувствованный автором, жизненный, правдивый, сильный, благородный, украшенный лучшими дарами души и тела. Основная черта его природы – стремление к свободе, ненависть ко всякой неправде и лицемерию. Но наряду с этим у него много черт нежных, трогательных и много душевной твердости. При его страстном темпераменте, при натуре, устремленной к великому, недостижимому, становится понятным, как он мог вступить на фантастический путь преступления. Но тут-то Карл и делается настоящим трагическим героем, так как он вступает в конфликт не только с обществом, но и с самим собой. Он отчаивается в своих поступках, он чувствует всю тяжесть гнетущего сознания своей вины и только в заключительной сцене, переполненной быстро меняющимися и ярко друг другу противопоставленными чувствами, достигает высшей точки внутреннего очищения и просветления.
Трагедия, переполненная всякими ужасами, не могла быть завершена более торжественным и трогательным концом, чем придуманный Шиллером. Умно избежал поэт картины виселицы и казни. Намерения этой заключительной сцены настолько велики и значительны, что, быть может, художественные силы поэта еще не вполне соответствовали им и, быть может, слишком абстрактно и теоретично, больше из уст поэта, чем самого героя, слышатся нам сознание его вины, его угрызения совести. Как бы то ни было, Карл Мор не умирает геройской смертью в битве или, как разбойник, на виселице, а как последователь юношеских философских статей Шиллера жертвует жизнью своею обществу. Исполняя дело человеколюбия и утешившись перед казнью счастьем ближнего, идет он навстречу смерти со словами: «Тысяча луидоров! Для бедняка это будет недурная помощь…»
Франц Мор, этот «холодный пресмыкающийся гад», уже не столь живой характер, как Карл. Он видит, что все предпочитают ему брата, в нем просыпается зависть и ненависть, его заедает властолюбие и желание сделаться господином. Старик Мор является почти везде пассивной натурой и слабым отцом, но, несмотря на это, он благороден и добр.
Характеры некоторых разбойников заимствованы Шиллером прямо из жизни.
«Разбойники» Шиллера переведены на многие языки. На французском имеются переводы Баранта, Мармье, Ренье и других. Из английских переводов упомянем о переводе Томсона.
Только что отпечатанные листы своей драмы Шиллер послал Швану, книгопродавцу в Мангейме, пользовавшемуся в то время известностью ценителя поэтических, особенно же драматических произведений. Шван тотчас же отправился с пьесой к Дальбергу, директору Мангеймского театра. Последний не замедлил связаться с поэтом и посоветовал ему переделать драму для сцены. Это письмо Дальберга было весьма значительным событием в жизни Шиллера, – оно дало ей решающий поворот. 13 января 1782 года в Мангейме состоялось первое представление «Разбойников». Без отпуска, тайком, выбрался Шиллер из Штутгарта и присутствовал на премьере своего произведения. Играли прекраснейшие актеры: Иффланд, Бейль, Бок: успех пьесы был колоссальный. Взволнованные зрители выражали свой восторг нескончаемыми бурными аплодисментами. Веселый и счастливый вернулся поэт домой. Но он не почил здесь на лаврах. На нем самом оправдалась истина его же слов: «Чем более высокую цель ставит себе человек, тем выше растет он и сам с нею». Шиллер работает теперь еще деятельнее, чем в предыдущем году. Он издает «Антологию» – сборник лирических стихотворений, пишет ряд статей в «Вюртембергском реперториуме» и принимается за новую драму – «Фиеско». Элегия поэта на смерть приятеля, молодого врача Векерлина, перепечатанная им затем в числе других восьмидесяти трех лирических стихотворений в «Антологии», вышла в свет, изданная за счет товарищей поэта, сложившихся с этою целью. Смелость мысли и выражения упомянутого стихотворения сделала поэту в Штутгарте отчаянную репутацию. Он сам так пишет об этом Ховену: «Элегия моя доставила мне сразу более громкую известность, чем могла бы сделать двадцатилетняя врачебная практика. Но известность эта – да помилует меня Господь – равняется известности Герострата, сжегшего храм в Эфесе».
Журнал «Вюртембергский репертуар литературы», душу которого составлял Шиллер, был основан им в сообществе с Петерсеном и Абелем и имел целью заменить собою прекратившийся в 1780 году «Schwäbisches Magazin» Гауга. Но журнальная деятельность поэта продолжалась на этот раз очень недолго, как и сам журнал, в котором он писал. Последний прекратил существование уже на третьем выпуске, в январе 1783 года.
«Антологию» Шиллер издал опять-таки на собственный счет и должен был для этого, по словам Гауга, сделать заем в 600 гульденов, который не раз потом давал себя тяжело чувствовать поэту.
Лирика Шиллера в «Антологии» тоже наполнена большею частью духом внутренней неудовлетворенности, протеста против ограничений жизни, против неурядиц общественного строя. Здесь, как и в философии своей, наш поэт на наиболее выдающееся место ставит любовь, с которой он связывает всякие мировые вопросы. Лирика Шиллера заключает в себе то, что принято называть «идейной» поэзией. Вдохновляющей ее мыслью является сознание, что истинное счастье – элемент, присущий самой личности и не зависит от внешнего мира, ничтожество которого, а также ничтожество земного счастья, чувствуется поэтом очень сильно.
Приводим прекрасные строки из стихотворения «На смерть Руссо», которыми юный Шиллер почтил память столь любимого им французского писателя:
Монумент, возникший злым укором, Нашим дням и Франции позором, Гроб Руссо, склоняюсь пред тобой! Мир тебе, мудрец, уже безгласный! Мира в жизни ты искал напрасно: Мир нашел ты, но в земле сырой. Язвы мира век не заживали: Встарь был мрак – и мудрых убивали, Нынче свет, а меньше ль палачей? Пал Сократ от рук невежд суровых, Пал Руссо, – но от рабов Христовых, За порыв создать из них людей. (Перевод Л. Мея)По обилию, богатству мысли и чувства, по могучему, свежему, хотя и необузданному еще таланту Шиллер является в «Антологии» таким же многообещающим лириком, как в «Разбойниках» он явился многообещающим драматическим писателем. Шубарт восхитился этими стихотворениями Шиллера и, излив свой восторг в оде, посвященной поэту, писал из крепости жене: «Шиллер – велик, я горячо его люблю, поклонись ему от меня».
Однако лирика отступает теперь у Шиллера временно на второй план. Успех «Разбойников» всюду, где давали пьесу: в Лейпциге, Гамбурге, Берлине и других местах, – и мнение знатоков убедили поэта в том, что истинное назначение его – драматическая поэзия. Он стал искать новый подходящий сюжет и после долгих колебаний остановился, наконец, на «Заговоре Фиеско в Генуе». Еще в академии личность Фиеско возбудила интерес в Шиллере вследствие беглого замечания Руссо, что один из сильных характеров, заслуживающих особого внимания, – Фиеско. «Фиеско» – первая историческая трагедия Шиллера. С тех пор он, за исключением «Коварства и любви» и «Мессинской невесты», придерживался почти исключительно исторических тем. С молодых уже лет знаменитый немецкий поэт чувствовал особенное влечение к истории. Любимыми сюжетами его являются времена переворотов, революций и тому подобного. Недаром Саллюстий, автор «Заговора Каталины», принадлежал в молодости к любимым писателям Шиллера. На драму поэт наш смотрел как на средство не только нравственного, но и политического воспитания общества. Философ-идеалист, он в творчестве своем руководствовался тремя главными идеями: человеческою свободой, достоинством и правом. В силу такого взгляда он выбирал для своих произведений те моменты истории, в которых видел торжество своих идей.
В «Фиеско», как и в других драмах Шиллера, поражает нас его умение справляться с сюжетом, его живое изображение и расположение сцен, в которых появляются выведенные им лица. Политические и личные отношения генуэзского дворянства, их разлад, вражда, интриги, разнородные интересы, занимающие их, – все это ярко проходит перед нашими глазами. Мы легко понимаем и легко можем вникнуть во все запутанные пружины заговора. Точно действительно идет мимо нас многосторонний, величественный ход событий, ведущий к катастрофе. Последняя развертывается с особенным эффектом. Краткими, но живописно начертанными штрихами встает перед умственным нашим взором Генуя, погруженная в сон и в полночную тишину, прерываемую только далекими окликами часовых, будто подавленным шумом и ропотом моря или же осторожными шагами и измененным голосом Фиеско. Нам так и кажется, что уединение и глубокая тишина Генуи обдает и нас и что и мы напряженно ждем сигнала, долженствующего так страшно нарушить этот сон и тишину. Наконец раздается ружейный выстрел, и следующие затем суматоха и дикое смятение не менее прекрасно переданы поэтом. Возгласы ужаса и изумления, насилие, пальба пушек, удары в набат, радостные крики собравшейся многотысячной толпы, «голос Генуи, говорящий с Фиеско», – все это передано ярко и сильно. Характеры пьесы тоже, в общем, задуманы и проведены с поразительной энергией и умением.
Поэтическая деятельность Шиллера не могла, конечно, нравиться герцогу Карлу Евгению; смелый, необузданный полет юношеских стихотворений Шиллера, вроде «Дурных монархов», «На смерть Руссо», драма его «Разбойники» – все это не должно было прийтись по вкусу герцогу. Он потребовал к себе полкового лекаря и предложил ему – все что он впредь ни напишет присылать ему до напечатания на просмотр. Шиллер мужественно отказался. Дурное к нему расположение герцога не замедлило проявиться при первом же случае. Поэт вторично отлучился тайком в Мангейм на представление «Разбойников». На этот раз он сопровождал туда двух приятельниц, Луизу Фишер и Генриетту фон Вольцоген. Последняя была матерью братьев Вольцогенов, академических товарищей Шиллера. Поэт дружески сошелся с нею и оставался в наилучших отношениях до самой ее смерти в августе 1788 года. Дамы, как водится, не сумели сохранить тайны, – они проболтались, и слух о недозволенной отлучке дошел до герцога. Тотчас же велел он провинившегося лекаря посадить на две недели под арест. Тут поэт рассудил, что для спасения от могущей обрушиться на него в будущем весьма печальной участи, подобной той, например, которая выпала на долю Шубарта, один только выход – бегство. Такие опасения имели тем большую вероятность, что герцог, снова выведенный из себя попавшимся ему на глаза газетным доносом на Шиллера, опять вытребовал последнего к себе и огорошил его окриком: «Приказываю вам впредь не печатать никаких других сочинений, кроме медицинских. Поняли вы меня? Под страхом кассации и заключения в крепость вы отныне не будете больше писать комедий!» Понятно, что Шиллер не хотел дать себя задавить уже готовившейся обрушиться на него лавине. Он решил первым делом закончить быстрее «Фиеско» и с этой целью приналег на драму, работа над которой стала стремительными темпами подвигаться вперед. Еще и теперь поэт надеялся, через Дальберга, убедить герцога отпустить его добровольно в Мангейм, где он мечтал занять при театре должность драматического поэта. Однако время шло, а Дальберг ничего не делал; тогда, потеряв всякое терпение и не будучи в состоянии дольше выносить тяжелое свое положение, Шиллер решил отвоевать себе свободу единственным оставшимся еще у него путем – бегством. Прежде всего, он открылся преданнейшему из своих друзей – Штрейхеру, затем – сестре Кристофине. И тот, и другая одобрили его план. Штрейхер не только предложил помощь ему в приготовлениях к бегству, но и захотел сопровождать друга. Улучив благоприятный момент – суету, вызванную посещением Штутгартского двора русским великим князем Павлом Петровичем с супругой, племянницей Вюртембергского герцога, – Шиллер съездил в Солитюду, простился здесь с матерью и под чужим именем, – доктор Риттер – покинул поздним вечером город, где теперь на площади красуется прекрасная колоссальная его статуя. Но в Мангейме бедного скитальца ожидали прежде всего тяжелые разочарования. Его радужные надежды и иллюзии далеко не оправдались здесь. Пьеса его «Фиеско» не понравилась Дальбергу и не была им принята.
Пробыв в Мангейме неделю и все еще опасаясь преследований со стороны герцога, Шиллер и Штрейхер решили на время удалиться во Франкфурт и Огтерсгейм. Ввиду крайне стесненного денежного положения друзья отправились туда пешком. Во Франкфурте Шиллер задумал новую драму – «Коварство и любовь». Он продолжал работать над нею и в Оггерсгейме. Здесь он также вторично переделал для сцены «Фиеско». Но и в таком виде Дальберг отказался принять пьесу. Ввиду вполне иссякших финансов было теперь решено, что друзья расстанутся, что Шиллер примет предложение Генриетты фон Вольцоген и временно переедет в ее имение Бауернбах. Так и поступили, и поэт прожил в Бауернбахе целых восемь месяцев, почти в полном уединении. Единственным его приятелем был здесь библиотекарь близлежащего городка Мейнингена, Рейнвальд, к которому г-жа фон Вольцоген дала ему рекомендательное письмо и который снабжал его книгами. Через три года после этого Рейнвальд женился на любимой сестре поэта, Кристофине. Он был старше ее на двадцать лет и прожил с ней до 1815 года, когда умер. Кристофина же достигла почти 90-летнего возраста и умерла только в 1847 году.
В Бауернбахе Шиллер окончил «Коварство и любовь».
В изложении своих драм Шиллер почти везде тонкий мастер; это мы видели и в «Разбойниках», и снова видим в «Коварстве и любви». Первая сцена вполне и естественно переносит нас в самое средоточие действия. Как живые, стоят перед нашими глазами родители героини драмы – Луизы: ее честный, правдивый, несколько грубый отец и тщеславная, слабая мать. Что любовь Луизы и Фердинанда, о которой идет речь, закончится плохо – мы это предчувствуем с первых же слов. Тотчас же является на сцене и первый представитель коварства в образе городского секретаря Вурма, желающего жениться на Луизе. Но последняя любит Фердинанда, сына старшего президента при маленьком немецком дворе. Чтобы сохранить свое положение, приобретенное им преступными средствами, президент решил, что сын его Фердинанд женится на любовнице владетельного герцога, леди Мильфорд. Это англичанка весьма знатного происхождения. Несмотря на свое некрасивое положение, она одарена всякими добродетелями. К тому же она почувствовала чистую и сильную любовь к Фердинанду. Но все дело расстраивается благодаря страстной и честной любви Фердинанда к Луизе, дочери старого городского музыканта Миллера.
В первых двух актах все чары леди Мильфорд и все могущество президента разбиваются о силу этой любви. С большим пафосом обрисовывает здесь Шиллер положение действующих лиц и многие картины из диких нравов тогдашнего аристократического общества. Так, мы узнаем, как благородно герцог старается загладить свою вину перед женщиной, которую он опозорил. Он преподносит ей к предполагаемой ее свадьбе безумно дорогой бриллиантовый убор, для покупки которого разорены им целых семь тысяч подданных, осужденных отправиться в изгнание; а кто из них протестовал, те были расстреляны на месте.
Мы видим, как честного старика музыканта и его жену, по приказанию президента, уводят в тюрьму, а дочь их оскорбительно клеймят «развратницей». Но насилие не удается; тогда президент и его соумышленники придумывают новую низость. Угрозами против жизни отца им удается принудить Луизу написать компрометирующее ее письмо и назначить свидание одному из участников гнусного заговора. Письмо это, конечно, попадает в руки Фердинанда, – с этою целью оно и было написано. Связанная данной клятвой, Луиза не может сказать правду, отвергнуть принятую на себя вину. Напрасно видится она с леди Мильфорд и силой своей душевной чистоты и невинности влияет на нее так, что леди отказывается от Фердинанда и решается всю жизнь свою посвятить исключительно добродетели. Репутация Луизы замарана, и для Фердинанда жизнь становится невыносимой. В последний раз приходит он к Луизе, но она опять-таки не смеет отречься от взятой на себя вины. Тогда он лимонадом отравляет ее и себя. Умирая, Луиза открывает ему тайну. Президент входит еще вовремя, чтобы услышать последние слова сына – упреки молодого поколения, имеющего иной идеал любви, чем единственный доступный президенту идеал придворного любовного легкомыслия. Энтузиазм, чистота, возвышенный образ мыслей и действий и грустная судьба Луизы и Фердинанда бесконечно трогают зрителя.
Три таких юношеских произведения, как «Разбойники», «Фиеско» и «Коварство и любовь», сразу же показали миру великий и оригинальный талант, подававший самые возвышенные, смелые надежды. Три этих драмы указывают также на постепенный рост таланта Шиллера. В первой, наиболее популярной, но не наиболее художественной, так и бьет ключом пылкий, но раздраженный энтузиазм юности, доведенный до ярости и безумия; в других двух хотя и сохраняется тот же энтузиазм, но он уже постепенно поддался власти разума, постепенно был взнуздан более правильными суждениями и более обширными знаниями.
Окончив «Коварство и любовь», Шиллер не покладая рук тотчас же занялся поисками нового драматического сюжета. Он остановился на исторической теме – «Дон Карл ос». С каким пламенным интересом относился поэт к этому новому своему произведению, видно яснее всего из письма его к Рейнвальду от 14 апреля 1783 года: «Мне кажется, – пишет он, – что всякое поэтическое творчество есть не что иное, как восторженная дружба или платоническая любовь к созданиям нашей фантазии. Выскажусь яснее. Мы создаем драматические характеры, сливая с чужими наши собственные чувства и наши исторические познания. Производя, таким образом, разные смеси, мы при этом одаряем добродетельных лиц плюсом, а порочных – минусом. Подобно тому, как из простого белого луча, смотря о какую он ударяется плоскость, рождаются тысячи и тысячи цветов, так же и в душе нашей – я склонен это думать, – незримо таятся зачатки всех характеров, вызываемых к жизни действительностью и природой или поэтической фикцией…» Шиллер убежден, что без любви к своему произведению не может быть истинного художника.
Первое время своего уединения в Бауернбахе Шиллер чувствовал себя хорошо, но скоро первоначальное спокойствие его заменяется глубоким унынием. Он воображает даже, что становится человеконенавистником, и пишет г-же Вольцоген от 4 января 1783 года: «Мне казалось, что я с пламенной любовью прижимаю к груди своей полмира; но я убедился, что держу в объятиях ледяную глыбу». А 10 января он снова жалуется той же Вольцоген: «Страшно жить без людей, без сочувствующей вам души; но в равной мере страшно привязаться к сердцу, от которого непременно когда-нибудь – так как ничто не вечно в здешнем мире – придется оторваться и истечь кровью». Тогдашнее настроение поэта объясняется, кроме слишком продолжительного однообразия и уединения жизни, – и то и другое не могло иметь особенных прелестей для 23-летнего живого юноши, – также и мучившей его несчастною любовью. Вовсе не блиставшая красотой, но симпатичная 16-летняя дочь г-жи Вольцоген, Шарлотта, воспламенила сердце поэта. Его любовь осталась без ответа; Шарлотта фон Вольцоген вышла впоследствии замуж за некоего Лилиенштерна и умерла еще молодой в 1794 году. Может показаться странным, – однако это так: любовь к Шарлотте не вызвала у Шиллера ни единого стихотворения.
Между тем поэт, неожиданно для себя, получил весьма приятное письмо от Дальберга. Последний приглашал его прислать в Мангейм новую его драму «Коварство и любовь». Решив покинуть Бауернбах временно, – как он говорил г-же фон Вольцоген, – Шиллер, цветущий и здоровый с виду, после продолжительной своей виллежиатуры вторично явился в Мангейм. На этот раз прежние его мечты осуществились: Дальберг предложил ему место драматического писателя при театре, заключил с ним на год контракт, по которому Шиллеру назначалось годовое жалованье в 300 гульденов и сбор с одного представления каждой новой его пьесы. Поэт, со своей стороны, обязывался поставлять для театра три драмы в течение года. Шиллер был очень доволен своим новым положением, – но скоро наступили для него тяжелые дни. Вспыхнувшая в городе эпидемия унесла много жертв, и среди них – верного друга Шиллера, режиссера Мейера, причем сам поэт также болел – долго и тяжело. Ему пришлось проглотить массу хинина, и под Новый год он пишет г-же фон Вольцоген: «Чтобы удовлетворить нетерпение театрального начальства и ожидания здешней публики, я был вынужден во время болезни работать головой и поддерживать незначительные мои силы такими приемами хинина, что зима эта, может быть, окажется гибельной для всего будущего моего здоровья».
К несчастью, опасения поэта действительно осуществились. Невесело вступил Шиллер в новый 1784 год: здоровье его было расшатано и он был угнетен долгами, уплатить которые имел мало надежд. Впрочем, и истекший 1783 год прошел для него не очень-то удовлетворительно. В течение первой, большей его половины, проведенной им в Бауернбахе, он терзался сердечными муками, а вторая половина года прошла для него в болезни, денежных затруднениях и срочных работах. Только благодаря своей железной силе воли больной Шиллер довел до конца новую переделку «Фиеско». Пьеса была поставлена впервые в Мангейме, на масленице 1784 года. Драма не имела успеха; публика приняла ее довольно холодно. И Шиллер не без горечи пишет по этому поводу одному из друзей: «Мой „Фиеско“ не был понят. Для здешней публики республиканская свобода – слово без значения, пустой звук. Как видно, в жилах мангеймцев не течет ни капли римской крови». Холодность публики была, однако, естественна. Выраженное в «Разбойниках» недовольство подгнившими общественными порядками и понятиями, хотя еще и неясно, все-таки проснулось уже в бесчисленном множестве умов, оттого и успех драмы был такой полный. Но определенная республиканская тенденция, выраженная в «Фиеско», вовсе еще не проникала в массы, и потому это произведение нашло гораздо меньше отзвука в публике. Зато третья юношеская драма Шиллера, «Коварство и любовь», где действие снова перенесено в современность или в очень недалекое прошлое и где изображен близкий и понятный всем протест прав сердца и просвещенной гуманности против кастовых различий и предрассудков, имела на сцене опять громкий успех. В этой драме поэт ввел впервые социальный элемент, как в «Заговоре Фиеско» введен им политический, а в «Разбойниках» – культурно-исторический. Выдающийся успех «Коварства и любви» вознаградил поэта за разочарование «Фиеско». Пятьдесят лет спустя Цельтер в письме к Гёте, восторгаясь «Коварством и любовью», восклицает: «Трудно передать, до какой степени наэлектризовало меня и остальную молодежь это юношеское произведение Шиллера». Как и другие драмы поэта, «Коварство и любовь» переведена на все европейские языки. В числе французских переводов этой пьесы отметим перевод Александра Дюма.
Глава III
Новые знакомства: Маргарита Шван, Катарина Бауман, г-жа фон Кальб. – Отношение к ним Шиллера. – Тяжелые обстоятельства и мрачное настроение духа. – Пакет и письма из Лейпцига. – Шиллер-журналист: «Rheinische Thalia». – Герцог Карл Август в Дармштадте. – Разрыв поэта с Дальбергом и отъезд в Лейпциг. – Дружба с Кернером. – Ода «К радости». – Шиллер следует за Кернером в Дрезден. – «Философские письма». – Стихотворения «Resignation» и «Борьба». – «Дон Карлос». – Сюжет трагедии и появление ее на сцене. – Страсть Шиллера к Генриетте фон Арним. – Угнетенное состояние духа и решение искать счастья в Веймаре.
Сердце Шиллера пережило и в Мангейме тревожные, бурные дни: чуть ли не одновременно разыгралось у него тут несколько романов: с Маргаритой Шван, Катариной Бауман и г-жой фон Кальб. Когда эти новые женские фигуры появились на горизонте Шиллера, его несчастная любовь к Шарлотте фон Вольцоген, и без того уже поблекшая, совершенно погасла. Прежде всего он влюбился в Мангейме в старшую дочь Швана, 17-летнюю красавицу, не лишенную наклонности к литературе и искусству. Поэт бывал почти ежедневно в доме у Швана, и его легковоспламеняющееся сердце сразу вспыхнуло. В письмах к родным Шиллер говорил о Маргарите с таким восторгом, что, довольный перспективой этого брака, отец поэта уже представлял себе своего сына зятем почтенного и состоятельного придворного книгопродавца. Мечты эти, однако, не сбылись. Маргарита, всегда окруженная толпою поклонников, хотя и не равнодушная к Шиллеру, была кокеткой и то привлекала, то отталкивала его. Когда весною 1785 года Шиллер перед отъездом из Мангейма пришел проститься с Маргаритой, она снова так очаровала его своею любезностью, что он твердо решил просить у Швана ее руки. Это он и сделал в апреле 1785 года, вскоре после приезда в Лейпциг. Но, не переговорив с дочерью, Шван поспешил отказать Шиллеру, – оттого ли, что не желал видеть Маргариту замужем за человеком без всяких средств и положения, каким был тогда поэт, или же действительно оттого, – как он в письме своем объяснил Шиллеру, – что дочь его, «по особенностям ее характера», не была бы ему подходящей женой. Так закончился, во всяком случае, не по вине Шиллера, его роман. Маргарита вышла впоследствии замуж за некоего Геца и умерла рано, всего 36-ти лет. Она виделась еще раз с Шиллером, когда последний, уже женатый, приезжал на родину в Штутгарт. По словам жены Шиллера, оба – и Маргарита, и муж ее – были сильно взволнованны во время этого свидания.
Тогда же в Мангейме Шиллер увлекался также талантливой драматической актрисой, Катариной Бауман. Она принимала ухаживания поэта, радуясь им, как ребенок, но не отвечала на его чувство.
Продолжительнее других была любовь поэта к Шарлотте фон Кальб. Это была выдающаяся личность, богато одаренная от природы умом и фантазией, многосторонне образованная, – но вместе с тем неуравновешенная, болезненно-нервная, несколько испорченная натура. Происходила Шарлотта из старинной и родовитой семьи Маршалк фон Остгейм; рано осиротев, она, по ее словам, столько плакала ребенком, «что тогда уже выплакала все свои слезы». Читала она все, что ей попадалось на глаза, – Библия, Коран, Вольтер, Руссо, Шекспир, Клопшток были только выдающимися пунктами в ее «безбрежном чтении», как выразился о ней позднейший поклонник ее, Жан Поль Рихтер, который, впрочем, мог бы сказать то же и про себя самого. Двенадцать лет спустя после романа с Шиллером Шарлотта воспылала к знаменитому юмористу Жан Полю такой же пламенной страстью, как и к автору «Разбойников». Она увлеклась им до того, что писала о нем следующие строки: «Клянусь Богом, все, все, весь мир желает овладеть им, но нет! Все не овладеют им, или я погибну! Когда меня не будет, тогда только пусть он принадлежит им!» И Жан Поль, со своей стороны, так восхищался ею, что называл ее «Титанидой» и писал о ней: «Это женщина из ряда вон выходящая, с могучим сердцем и железной силой воли. У нее два больших преимущества: великая душа и такие большие глаза, каких я еще никогда не видел. Говорит она так, как Гердер пишет в своих письмах о гуманности».
Впрочем, теплая дружба, связывавшая Шарлотту с Гёте, Гердером, даже со строгим Фихте и многими благородными прекрасными женщинами того времени, – веское доказательство того, что она не была заурядной женщиной. Замуж Шарлотта вышла не любя, по семейным расчетам, за майора Генриха фон Кальба. Вообще, судьба не уставала преследовать ее. Ей пришлось перенести в жизни немало тяжелых утрат, а под конец – полную потерю состояния, после чего ее муж и сын кончили самоубийством. В довершение всего, большие глаза Шарлотты, столько плакавшие и всегда отличавшиеся слабостью зрения, доходившей до того, что она «не видела звезд», окончательно ослепли. В таком состоянии прожила она еще лет двадцать и переносила несчастие свое с изумительным мужеством и бодростью. Когда же Шарлотта впервые познакомилась с Шиллером, она была пикантной, красивой, недавно лишь вышедшей замуж 23-летней молодой женщиной, с таким обилием длинных густых волос, что, распущенные, они волочились по земле. Недавняя утрата нежно любимой сестры и единственного брата внушила ей величайшее равнодушие к жизни, она смотрела вперед апатично, без надежды и бодрости. Но, познакомившись с Шиллером, войдя в контакт с такой пламенной душой, как он, и Шарлотта, со своей стороны, почувствовала, что начинает «желать от жизни большего, чем до той поры просила у нее»; и тоща только узнала она, как «пусто и одиноко было ее прошлое». Впрочем, страстное увлечение Шиллера г-жой фон Кальб не дало ему душевного удовлетворения, радости и мира: он должен был призвать всю свою железную силу воли, чтобы не нарушить долга. А когда несколько лет спустя он решил было добиться развода ее с мужем и жениться на ней, – она сама сперва затягивала дело, пока Шиллер не охладел к ней, увлекшись сестрами фон Ленгефельд. Вообще же поэт сознавал инстинктивно, что болезненно-нервная, неуравновешенная натура Шарлотты не принесет ему прочного семейного счастья. В одном из писем своих к Кернеру (20 октября 1788 года) он писал о ней: «Шарлотта – благороднейшее существо, одаренное всякими превосходными качествами, но влияние ее на меня не было благотворно». А в другом письме Шиллер еще строже судит о ней: «Мне никогда не нравилось, – пишет он, – преобладание в ней ума там, где должно было решать только сердце. Истинной задушевности в ней нет. Ее анализирующий ум, холодная мудрость, с которой она беспощадно разлагает самые нежные – как свои, так и чужие – чувства, заставляли меня всегда быть с нею настороже». Когда Шиллер женился, отношения его к Шарлотте фон Кальб стали даже несколько враждебными, но вскоре они помирились. Г-жа фон Кальб была крестной матерью второго сына поэта, и он оставался с нею в дружеской переписке до самой своей смерти. Посылая ей «Валленштейна», он пишет: «Вы когда-то уважали во мне еще не развитый, еще борющийся, не уверенный в себе талант. Если теперь мне удалось осуществить тогдашние Ваши надежды и оправдать Ваше участие, то я, со своей стороны, никогда не забуду, скольким обязан я Вам, нашим с Вами в то время теплым, прекрасным отношениям».
Ко всем сердечным смутам Шиллера в бытность его в Мангейме присоединились еще и тысячи маленьких огорчений и забот; в особенности же угнетали его старые и новые долги. И без того невеселое положение поэта сделалось поистине трагическим, когда однажды штутгартский его приятель, который два года тому назад поручился за него, выведенный из терпения преследованиями кредиторов, бежал от них в Мангейм. Тем не менее он был здесь арестован и посажен в долговую тюрьму. Бедный поэт не знал, что делать, был вне себя – как не выручить друга и не уплатить долг чести? Делу помог, наконец, квартирный хозяин Штрейхера и Шиллера, простой и вовсе не богатый плотник, Антон Хёльцел, большой почитатель поэта; он достал нужную сумму. Но кроме этого долга оставались другие, и дела Шиллера запутались так, что он впал в очень мрачное настроение духа и писал Рейнвальду: «Я еще не был счастлив в Мангейме и почти отчаиваюсь когда-либо в жизни надеяться на счастье».
В эти тяжелые дни явилось большим для него утешением следующее событие. В начале июня 1784 года Шиллер получил из Лейпцига пакет с письмами, красивым, искусно вышитым портфелем и четырьмя портретами. Портреты эти изображали двух живших в Лейпциге ученых – Кернера и Грубера с их невестами, сестрами Минной и Дорой Шток. Вот как сам Шиллер описывает это событие в письме к г-же фон Вольцоген от 7 июня 1784 года: «Несколько дней тому назад обрадовал меня прелестный сюрприз. Я получаю пакет из Лейпцига и нахожу в нем от четырех совершенно незнакомых мне лиц письма – крайне задушевные и исполненные восхищения моими произведениями. В числе этих моих корреспондентов – две очень красивые женщины; из них одна вышила мне чудеснейший портфель, которому по изяществу мало равных в мире. Вторая нарисовала портреты, свой собственный и остальных трех моих почитателей, и все знатоки в Мангейме удивляются ее таланту к живописи. Третий положил на музыку песню из „Разбойников“ только для того, чтобы сделать мне приятное. Вот видите, дорогая, как иногда неожиданные радости выпадают на долю Вашему другу, радости тем более ценные, что источники их – искреннее, лишенное всяких иных побуждений чувство, свободная воля и влечение душ. Такой подарок от совершенно незнакомых людей, вызванный единственно лишь уважением ко мне и желанием выразить сердечную признательность за несколько часов, приятно проведенных в чтении моих произведений, – такой подарок для меня —большая награда, чем громкие одобрения всего мира. Это – единственное сладкое вознаграждение за тысячи тяжелых минут».
Только полгода спустя, уже в декабре, ответил Шиллер на присланные ему письма, – но тогда уже от всей души. Из этой корреспонденции между Шиллером и Кернерами расцвела благородная, почти идеальная дружба.
Полученные им из Лейпцига письма вернули поэту бодрость и побудили его снова к деятельности. Он занялся «Дон Карлосом», все более и более углубляясь в драму, первый акт которой был написан в Мангейме. Замечательно в Шиллере то, что, несмотря на усиленную борьбу с материальными затруднениями, он всегда умел дать своим творениям полную законченность.
Год, в течение которого Шиллер состоял театральным драматургом с жалованьем в триста гульденов, кончился, и Дальберг не предложил возобновить контракт. На Дальберга нельзя было и вообще полагаться: Шиллер говорил про него, что он – огонь, но только пороховой огонь, который, вспыхнув, так же мгновенно и гаснет.
Не имея ни малейшей надежды на иной какой-либо определенный заработок или положение, Шиллер задумал теперь издавать журнал. Какие при этом лелеял он мечты, видно из следующего его письма к Генриетте фон Вольцоген от 8 октября 1784 года: «Я проболел почти весь прошедший год. Беспрерывно гнетущее горе, неуверенность в ближайшем будущем – все это препятствовало моему выздоровлению и было причиной того, что планы мои не удались. Теперь же, хорошенько все обдумав и обсудив, начинаю новое предприятие. Им приведу я в порядок дела свои и буду в состоянии уплатить мои долги до последней копейки. На этой неделе объявляю журнал, который буду издавать по подписке. Имею наилучшие надежды. Если у меня будет 500 подписчиков, а это почти верно благодаря принятым мерам, то, за уплатой расходов, мне останутся тысячи гульденов ежегодного дохода. Кроме того, буду получать еще за свои пьесы, и все будет зависеть от моего трудолюбия и здоровья».
В объявлении о выходе нового журнала, названного им «Rheinische Thalia», юный поэт вдохновенным языком пишет, между прочим, следующее:
«Отныне публика будет для меня всем в мире, моей заботой, предметом моих наблюдений, моим доверенным другом и повелителем; одной публике принадлежу я отныне; над собой признаю я только ее суд и никакого другого; только одну ее чту и боюсь я теперь. Для меня есть нечто величественное в сознании, что отныне не буду носить иных оков, кроме приговора света, не буду обращаться ни к какому другому престолу, кроме человеческой души».
Интересно, с каким чувством припомнил Шиллер эти излияния юношеского воодушевления впоследствии, когда, после более близкого знакомства со своим «повелителем», публикой, он писал Гёте в июне 1799 года: «Единственное отношение к публике, в котором никогда не раскаешься, – это война».
Уже первый номер журнала поставил Шиллера во враждебные отношения с актерами; им очень не понравилась критическая статья поэта о театрах и драматическом искусстве. Тысячи мелочных уколов и неприятностей обрушились на Шиллера, который, впрочем, в то же время получил также и некоторого рода удовлетворение с другой стороны. В Мангейме стало известно, что в соседний Дармштадт приехал гостить веймарский герцог Карл Август, друг Гёте и Виланда. Шарлотта фон Кальб посоветовала Шиллеру представиться герцогу и прочесть ему только что оконченный им первый акт «Дон Карлоса». Поэт так и сделал. Пьеса очень понравилась герцогу, который обласкал ее автора и в знак своего к нему уважения прислал ему диплом на звание советника. Так как в те времена внешние формы значили очень много, то это выражение внимания к нему герцога было на руку поэту. Теперь он уже был не беглым полковым лекарем, а господином советником. Вернувшись из Дармштадта, Шиллер решил окончательно порвать с Дальбергом и уехать из Мангейма. Из всех неприятностей и смут тамошней его жизни тянуло его теперь к лично еще незнакомым ему друзьям в Лейпциг, которым он и пишет в феврале 1785 года: «Не могу, не могу больше оставаться в Мангейме. Двенадцать дней носил я решение это в душе и чувствовал себя так тяжело, как будто мне предстояло навек покинуть мир. Здешние условия, здешние люди, небо и земля – все мне противно, а с тем, что, быть может, и могло бы быть дорогим мне, разлучают меня приличие и обстоятельства. Со здешним театром я окончательно порвал и всем бесповоротно объявил, что уезжаю в Лейпциг. Примете ли вы меня? В моих мечтах, в предчувствии моем Лейпциг является мне словно розовая утренняя заря по ту сторону гор. Во всей моей жизни не было у меня такой пророческой уверенности, как теперешняя, что в Лейпциге ждет меня счастие. До сих пор внешние условия всегда мешали осуществлению моих замыслов. И муза и сердце мое одновременно должны были подчиняться необходимости. Нужен был коренной переворот в моей судьбе, чтобы я сделался другим человеком, чтобы я начал становиться поэтом».
Кернер тотчас же ответил, что приезд друга осчастливит его, и доказал это тем, что немедля выслал нуждающемуся поэту денежный вексель. Благодаря этой дружеской помощи Шиллер получил возможность выехать из Мангейма, заплатив самые неотложные свои долги. Простившись с г-жой фон Кальб, он провел последний вечер в обществе верного своего друга Штрейхера, довольный и веселый, строя вместе с ним разные светлые планы. С тех пор Штрейхер уже только издали (он переехал на жительство в Вену), но с той же неизменной преданностью и величайшей радостью следил за успехами и славой своего знаменитого друга, которого он пережил на целых 28 лет.
В общем итоге Шиллер обогатился в Мангейме жизненным опытом более грустным, чем приятным. То обстоятельство, что он здесь ближе увидел женщин, выгодно отразилось на изображении его драматических героинь. Женские его фигуры в «Дон Карл осе» показывают значительный прогресс в сравнении с женскими характерами в «Разбойниках», «Фиеско» и «Коварстве и любви».
В Лейпциг Шиллер прибыл 17 апреля 1785 года и тут впервые увиделся с Христианом Кернером, фамилия которого впоследствии стала навсегда любимой в Германии благодаря единственному его сыну, Теодору Кернеру, известному поэту, издавшему сборник «Лира и меч» и павшему еще юношей геройскою смертью на поле битвы за освобождение отечества. С первого же свидания с Шиллером Кернер становится наиболее близким и дорогим для него другом, которым и остается до самой смерти поэта. Родился Кернер в 1756 году у состоятельных родителей. Это был человек многосторонне образованный, крайне начитанный, необычайно твердых правил и высокой нравственности. Он находился в дружеских отношениях со многими выдающимися – людьми того времени и, хотя сам писал, или, вернее, печатал, очень мало, но суждениями и взглядами своими немало повлиял на ход тогдашней литературы. Переписка его с Шиллером показывает, какое значение он имел для последнего не только как для человека, но как для художника и писателя. Сам поэт высоко ценил Кернера, отлично сознавая, скольким он был обязан этому другу, «в сердце которого, – как он выражается, – никогда не мог отыскать ни одного неискреннего звука» и который представлял собой такую «прекрасную смесь холода и огня».
Однако и в Лейпциге поэта нашего скоро настигли денежные затруднения. Касса его была пуста, потому что признанный им «повелитель», публика, отнеслась не очень-то благосклонно к журнальным его заслугам. И хотя «Thalia», с небольшим перерывом, просуществовала до 1794 года, но подписчиков было у нее совсем мало. Кернер и на этот раз выручил поэта, притом как нельзя более деликатно и великодушно. В письме от 8 июля 1785 года он пишет ему: «Никогда бы я не осмелился предложить тебе жить за мой счет, отлично зная, что если бы ты захотел работать из-за насущного хлеба, то, конечно, был бы в состоянии прокормить себя. Но прошу тебя, не откажи мне в счастии, по крайней мере, хоть на один год избавить тебя от необходимости работать из-за этого „насущного хлеба“». Тронутый поэт принял предложение друга и, временно освобожденный от ежедневных забот, провел в местечке Голис, в окрестностях Лейпцига, все лето в кругу добрых своих идеалистов-друзей. Тут пессимистическое настроение уступило место восторженному и светлому. Он тогда же написал известную свою оду «К радости», этот чудный гимн, прославляющий высокую братскую любовь к человечеству. В этом бессмертном стихотворении – вероисповедание Шиллера, изложение его философских взглядов. Оно вдохновило и одинаково бессмертное музыкальное произведение, – финал девятой симфонии Бетховена, – написанное гениальным композитором на текст шиллеровской оды.
Тут видим мы и те мужественные взгляды, и те практические идеалы, которые позже, в «Дон Карлосе», исповедует маркиз Поза. «Там, где является радость, люди становятся братьями. Обнимаю вас, миллионы, – этот поцелуй всему миру!» – восклицает поэт. Словно высокое открытие осенило его. «Терпимость, примирение, любовь ко всему человечеству – один отец для всех в надзвездном мире». Шиллер составил себе мистическую философию, всецело основанную на понятии о любви. Без веры в чистую бескорыстную любовь нет надежды на Бога, бессмертие и добродетель. Любя, создал Бог мир духов. Любовь – лестница, по которой мы поднимаемся к уподоблению Богу. Умереть за друга, за человечество – высшее деяние любви, которое поэт себе представляет.
В августе состоялась свадьба Кернера с Минной Шток, и он с женой уехал в Дрезден, куда вскоре последовал за ними и Шиллер. Из местечка Лешвиц, вблизи Дрездена, где у Кернера была дача и где гостил у них Шиллер, последний пишет Груберу: «Среди наших милых живу я здесь, как на небе». Тут поэт провел осень 1785 года, лето 1786 года и весну 1787 года и много работал. После усиленных подготовительных исторических занятий он совершенно переделал и окончил «Дон Карлоса», а также написал драматический отрывок «Мизантроп» и рассказ «Игра судьбы».
Кроме того, здесь же поэт задумал роман «Духовидец» и написал несколько статей для «Thalia», в числе которых особенно замечательны его «Философские письма». Последние передают попытки пламенного, восторженного, испытующего ума освободиться от тревожащей его неуверенности и старания его проникнуть в страшный мрак, тяготеющий над человеческой судьбой. По удачному выражению Куно Фишера, эти письма Шиллера – «философские гимны, ежеминутно готовые превратиться в поэтические».
Поэт излагает высоконравственные взгляды. Вера и надежда, говорит поэт, заключают сами в себе свою награду. Принося им жертвы, пусть человек не ждет в том мире за это возмездия, – он получает его уже здесь.
Главным произведением Шиллера, законченным им в Лешвице и Дрездене, была его драма «Дон Карлос», написанная пятистопным ямбом.
Действие драмы построено на хорошо известном мифе о любви дона Карлоса к Елизавете Валуа, первоначально обрученной с инфантом, а потом, из политических соображений, вынужденной сделаться женой отца его, Филиппа II. Драма, по собственным словам Шиллера, должна представить столкновение личной страсти с великим энтузиазмом, – энтузиазмом, воспламененным маркизом Позой. Последнему удается отвратить злополучную страсть Карлоса к королеве, внушив юному принцу стремление к иному идеалу, идеалу короля-патриота. Поза настаивает на том, чтобы дон Карлос тотчас же ехал освобождать Нидерланды от гнета и притеснений.
Трагедия состоит именно в неосуществлении благородных намерений Позы и дона Карлоса. Им, поперек их дороги, становится интригующая толпа царедворцев.
Маркиз Поза – личность идеальная, необычайно возвышенная, великодушная. Он, как сам про себя говорит, «посланник человечества». В знаменитой сцене с Филиппом Поза просто великолепен: ни на пядь не склоняется он перед всемогущим деспотом-королем и наотрез отказывается принять из рук его какое бы то ни было высокое положение и широкую власть.
Маркиз Поза в конце пьесы приносит в жертву свою жизнь для спасения дона Карлоса. Когда он, чтобы проститься с другом, пришел к нему в тюрьму и сидит с ним, пуля убийцы, подосланного Филиппом, настигает его. Чтобы возвестить Карлосу о его освобождении, к инфанту является король со свитою, – но дон Карлос, вне себя от отчаяния при виде смерти друга, встречает короля горькими негодующими упреками.
В противоположность итальянскому поэту Альфиери, написавшему драму на ту же тему и черпавшему из тех же источников, Шиллер не считал нужным представить короля Филиппа деспотом-чудовищем. Этот столь могучий монарх, в котором, по учению его великого инквизитора, всякое человеческое чувство должно умолкнуть, трогает нас у Шиллера своей жалобой, что нет у него ни одного человека, который бы его любил.
Что же касается женских характеров, королевы и принцессы Эболи, то тут, как мы уже говорили, Шиллер в сравнении с первыми тремя своими юношескими произведениями сделал большой шаг вперед. Будучи знаком с тонко образованными и благородными женщинами, он сумел хорошо воспользоваться этим для поэтических целей.
Некоторые критики упрекают Шиллера в том, что в «Дон Карлосе» нет драматического единства. Тут, собственно, два героя – дон Карлос и маркиз Поза – и две основные идеи – борьба любви против обычаев и насилия политики, и борьба свободолюбивого гражданина против эгоистических желаний деспота-короля. Упреки эти отчасти верны, и сам Шиллер дает ключ к этой двойственности своей драмы в письмах о «Дон Карлосе». «В тот период времени – а период этот вследствие многих перерывов оказался довольно продолжительным, – когда я работал над моей драмой, во мне самом многое изменилось. Появившиеся у меня новые мысли вытеснили прежние. Мое чувство к Карлосу стало холоднее – может быть, по одной той причине, что я опередил его годами, – и место его занял маркиз Поза». Итак, главный герой пьесы, дон Карлос, и страсть его к мачехе, жене отца его, короля Филиппа II, потеряли интерес для Шиллера. На первый план выступает у него теперь маркиз Поза, носитель либеральных идей, который у Филиппа II, этого преданного ученика инквизиции, требует свободы мысли, у сына Карла V требует государства, где бы не воля единого составляла закон, а где государь заботился бы о счастье людском. Мировоззрение поэта, в трех первых его драмах отрицательное и разрушительное, является в «Дон Карлосе» положительным и созидающим. Место насильственного переворота занимают здесь благодетельные реформы: кинжал разбойника превращается в меч свободного слова, красное пламя пожара уступает место кроткому свету правды. Этот высокий смысл внес в драму именно образ маркиза Позы, в которого Шиллер вдохнул все благородство собственной души. Гейне прекрасно сказал, что сам Шиллер – тот маркиз Поза, который одновременно и пророк и боец, который борется за то, о чем пророчит, и у которого под плащом испанца бьется чудеснейшее сердце, когда-либо любившее и страдавшее.
Если щепетильные критики находят какие-то промахи в драматической композиции «Дон Карлоса» и если эти промахи и действительно существуют, то, несмотря на них, «Дон Карлос» навсегда останется великим памятником поэтического творчества Шиллера, его богатства высокими мыслями и чувствами, – он останется вдохновенным, опередившим свой век «драматическим гимном в честь свободного человечества в свободном государстве». Таким энтузиастам, как Шиллер, про которого m-me Сталь говорила, что он жил, действовал и рассуждал, как будто злых людей не существовало вовсе на свете, – таким энтузиастам люди будут всегда обязаны уже за то, что они спасают их и от равнодушия и бездействия мудрых и осторожных, и от презрения тех, кто человека называет червяком.
В печати «Дон Карлос» появился в 1786 году, а на сцене он был дан впервые в Гамбурге 29 августа 1787 года. Пьеса произвела громадную сенсацию и обошла театры всех немецких городов. Переведена драма впервые в 1798 году на английский язык, а потом и на все остальные европейские языки.
Зимой 1786/87 года сердце Шиллера пленила новая страсть. В Дрездене он часто бывал в доме артистки Софии Альбрехт и здесь познакомился с очаровательной красавицей Генриеттой фон Арним. Чудно сложенная, стройная, с прекрасными черными волосами и блестящими, полными ума синими глазами, юная Генриетта сразу очаровала поэта, смертельно влюбившегося в нее. Мать Генриетты, вдова офицера с незначительными средствами, была по характеру большая интриганка. Она позволяла Шиллеру бывать у нее в доме, ухаживать за ее дочерью, чтобы этим увеличить цену последней в глазах других, более аристократических и богатых поклонников. А дочь, хотя и тронутая пламенным обожанием поэта и чувствовавшая к нему влечение, была настолько нравственно убога, что не отказалась от двойной игры, которую мать заставляла ее играть.
Шиллер же, со своей стороны, был положительно слеп, и только позже, благодаря стараниям друзей, глаза его открылись. Узнав об обмане, он имел силу побороть страсть и, расставшись с Генриеттой без громких сцен, вел еще некоторое время с нею переписку. Она же вскоре вышла замуж за графа Кунхейма и по-своему оставалась верна поэту, так как в спальне над ее постелью, до самой ее смерти в 1847 году, всегда висел портрет Шиллера.
Несмотря на приятно проведенное с друзьями время и на горячие к ним чувства, Шиллер стал все чаще и чаще испытывать припадки сильной грусти и меланхолии. Не прибегая к Канту, который называет меланхолию свойством глубоких натур, нетрудно тяжелое настроение поэта объяснить и другими причинами.
Прежде всего, он в то время переживал эпоху разлада, неуверенности в своих силах. Кроме того, неопределенность его положения, зависимость от друзей в материальном отношении тоже начинали сильно тяготить его. Вновь сделанные им долги были, правда, уплачены Кернером, но это-то и мучило его. Ему хотелось поскорее самому встать на ноги, добиться независимого положения, и он решил попытать счастья в Веймаре, куда его влекло теперь многое; между прочим, Виланд предложил ему здесь сотрудничество в издаваемом им «Немецком Меркурии». Незадолго перед тем и Шарлотта фон Кальб сообщила ему, что она поселилась в Веймаре. Но и помимо этого город, где так блистательно устроился Гёте, где жили Виланд и Гердер, должен был сам по себе манить воображение Шиллера. Таким образом, отъезд его в Веймар был окончательно решен и состоялся летом 1787 года.
Глава IV
Знакомство с Виландом и Гердером. – «История отпадения нидерландских провинций», «Боги Греции» и «Художники». – Профессура в Йене и блестящий успех вступительной лекции Шиллера. – Влечение к «семейному существованию». – Знакомство с семьей фон Ленгефельд. – Характеристика Каролины и Лотты. – Дуализм любви Шиллера. – Счастливый брак поэта. – Усиленные занятия и опасная болезнь в Эрфурте и Йене. – Датский поэт Баггезен и великодушие принца Августенбургского и графа Шиммельмана. – Занятия философией и «История Тридцатилетней войны». – Отношение к французской революции. – Путешествие на родину и свидание с родителями. – Рождение первого сына в Людвигсбурге. – «Письма об эстетическом развитии человека»
Никем не узнанный, никем не жданный, кроме г-жи фон Кальб, с которой он в тот же день и свиделся, прибыл Шиллер в только что опустевший Веймар. Гёте уехал в Италию, герцог Карл Август поступил на прусскую службу. Только Виланд и Гердер находились еще в городе. Оба приняли Шиллера очень любезно, хотя, как оказалось, Гердер, например, не читал ни одного из произведений молодого поэта.
Всю первую зиму в Веймаре Шиллер неутомимо работал: он продолжал издавать журнал «Thalia», писал статьи в виландовском «Немецком Меркурии», написал роман «Духовидец» и, кроме того, «Историю отпадения нидерландских провинций». Эта первая большая историческая работа Шиллера имела большой успех. Виланд говорил даже, что она дает Шиллеру право стать на один уровень с английскими историками – Юмом, Робертсоном и Гиббоном. Только Кернер выражал недовольство другу и огорчался тем, что он, вместо того чтобы заняться большим поэтическим произведением, тратит силы свои на посторонний его призванию предмет. В письмах Кернер при каждом удобном случае напоминает Шиллеру, что он создан быть поэтом, а не ученым. Вот почему его очень обрадовало известие друга, что последний вновь побыл хоть несколько дней «в стране поэзии». В мартовском номере «Меркурия» Виланд непременно рассчитывал напечатать Шиллера, и тогда последний «в испуге», как он шутливо сообщает Кернеру, написал большое стихотворение; это была знаменитая его элегия «Боги Греции», красноречивый апофеоз того мировоззрения, который потом Гегель так метко характеризовал названием «религия красоты».
В том же «Меркурии» появилось в следующем году и другое известное стихотворение Шиллера – «Художники». В этом произведении, чисто лирическом, мы видим в зародыше почти все основные взгляды поэта на красоту и искусство, разъясненные им в ближайшие годы в целом ряде статей об эстетике. Как серьезно, с какой неутомимой усидчивостью и трудолюбием, с каким отчетливым сознанием садился Шиллер писать стихи – видно, например, из писем его к Кернеру. В противоположность Гёте, творившему всегда в уединении и державшему до поры до времени произведение свое в тайне от всех, Шиллер не мог ничего хранить в себе. В натуре его была потребность изливаться, делиться своими планами, мыслями и впечатлениями, он должен был увлекать и нуждался в сочувствии других. Вот почему он любил поэтические начинания свои обсуждать с друзьями. Замечания их никогда не уменьшали пыла его вдохновения. При всей присущей ему силе чувства и фантазии он, работая, всегда все взвешивает, обдумывает и ничем легко не удовлетворяется. Многое он изменяет – исправляет отдельные стихи, выбрасывает целые длинные строфы, добавляет новые, если все это кажется ему необходимым для гармонии и единства основной мысли.
«Отпадение нидерландских провинций» наделало, как мы говорили, много шума и имело то благоприятное для поэта следствие, что ему предложили занять только что освободившуюся в Йене кафедру истории, – впрочем, без жалованья. После некоторого колебания Шиллер принял предложенную ему на таких условиях профессуру. В Йенском университете насчитывалось в ту пору 800 студентов; число это впоследствии возросло. 26 мая Шиллер, как он сообщает Кернеру, пережил удачно и мужественно столь страшившее его «приключение на кафедре», то есть он с большим успехом прочел свою вступительную лекцию. Темой для нее избрал он «Значение всеобщей истории и цель ее изучения». Эта первая лекция Шиллера составила целое событие в Йене. Толпами бежали студенты, чтобы скорей заручиться местом в аудитории. Жители городка испуганно высовывали головы из окон, думая, не пожар ли где. Аудитория была битком набита, соседняя зала, лестница и двор тоже были забиты студентами. Шиллера встретили восторженно, успех его лекции был блестящий, и по окончании ее студенты проводили его криками «Виват!» и устроили под его окном ночью серенаду, что ими никогда не делалось ни для кого из профессоров.
Решив принять профессуру и отказаться для нее от «золотой свободы», Шиллер хотел упрочить себе положение, чтобы быть в состоянии добывать средства для содержания семьи. Давно уже в нем таилось желание устроить себе «домашнюю и семейную обстановку». Еще в письме к Рейнвальду из Мангейма Шиллер, жалуясь на тысячи ежедневных забот, мучающих его, восклицает: «Если бы я имел подле себя кого-нибудь, кто бы снял с меня эту долю беспокойства и с сердечным, теплым участием занимался бы около меня, я бы мог опять стать человеком и поэтом». А Кернеру он пишет в январе 1788 года, когда шли переговоры о профессуре: «Я должен быть в состоянии содержать жену, – еще раз повторяю: я непременно женюсь. Если бы ты мог читать в моей душе, то не колеблясь сам бы посоветовал мне сделать это же самое. Я веду несчастную жизнь, – несчастную вследствие внутреннего моего состояния. Я должен иметь подле себя существо, которое принадлежало бы мне, которое я бы мог и должен был бы осчастливить, около которого освежалось бы и мое собственное бытие. Дружба, красота, правда и все изящное сильнее влияли бы на меня, если бы непрерывный ряд тонких, благодетельных семейных ощущений настроил меня к радости и согрел бы окоченевшее мое существо. До сих пор я в мире блуждал одиноким, чужим человеком, у которого нет ничего своего, собственного. Все те, к кому я привязывался, имели кого-нибудь, кто был им ближе и дороже меня, а этим сердце мое не может удовлетвориться. Я стремлюсь к домашней, семейной жизни».
Покажется несколько странным, но, тем не менее, достоверно, что великий немецкий идеалист смотрел как нельзя более трезво на брак и на условия, нужные для семейного счастья. По его мнению, жена должна прежде всего обладать веселым ровным характером и обеспечивать домашнее спокойствие и мир. «Выдающаяся, гениальная женщина не осчастливит меня, или же я себя никогда не знал», – пишет он Кернеру, и в другой раз:
«Когда я вступлю в вечный союз, страсть должна отсутствовать при этом».
Влечение поэта к семейной жизни еще более усилилось после знакомства его с сестрами фон Ленгефельд. В первую же зиму, проведенную им в Веймаре, приятель Шиллера Вильгельм фон Вольцоген повез его к «ученейшим своим кузинам» в Рудольфштадт. В этом маленьком, живописно расположенном на берегу реки Заалы городке жила с двумя дочерьми г-жа фон Ленгефельд, вдова ландегермейстера, умершего в 1775 году, когда старшей дочери, Каролине, было 13, а младшей, Шарлотте, которую в семье звали Лоттхен, Лоло, – 10 лет. Обе девушки, выросшие в тишине и уединении, были очень образованны и начитанны, – между прочим, им были знакомы Руссо, Плутарх и Шекспир. Совершив вместе путешествие в Швейцарию, сестры еще теснее сдружились. Каролина, на три года старше Лотты, но меньше ее ростом, не одаренная красотой, обладала все же весьма симпатичной наружностью. Она прекрасно играла на фортепьяно и была причастна к литературе. Роман ее «Агнесса фон Лилиен», написанный ею позже, имел даже большой успех. Легко увлекающаяся и очень впечатлительная, она вся была чувство. Шестнадцати лет вышла она, по желанию матери, замуж за фон Бельвица и жила в бездетном и довольно безрадостном браке в родительском доме. Лотта, которую домашние шутя называли «Мудростью», была совсем иная натура. Вот как описывает ее Каролина в своих «Воспоминаниях»: «Сестра была весьма миловидна; черты ее оживлялись выражением чистейшей душевной доброты, а взор блистал невинностью и правдой. Неспособная увлекаться, она отличалась верностью и постоянством чувства и казалась созданной для того, чтобы дарить счастие и самой наслаждаться им. Обладая талантом к рисованию пейзажей, глубоким и тонким пониманием природы, она также и в стихах умела изливать волнующие ее ощущения, и некоторые из этих стихотворений грациозны и полны нежного чувства».
В переписке Шиллера с сестрами фон Ленгефельд в 1788 и 1789 годах, в этой, как мы увидим ниже, довольно спутанной драме любви и дружбы нетрудно отметить разность характеров и взглядов Каролины и Лотты.
В письмах последней обрисовывается более спокойный, кроткий, ровный, даже холодный на вид характер. Она болтает мило, пишет просто, как говорит, – а говорит, как Корделия: лучше меньше, чем против своего убеждения или так, для виду. Но всякий деспотизм: в политике, в вере или в обществе, – вызывает ее негодование. Каролина же философствует смело и является более увлекающейся, страстной натурой. Это – женщина даровитая, проникнутая живым стремлением к добру, правде и красоте, высокообразованная, с тонким чувством и тактом и с возвышенным мировоззрением.
При первом же знакомстве с семьей фон Ленгефельд, в которой умственное, духовное всегда стояло на первом плане, милые образованные сестры и их дружная семейная жизнь произвели на Шиллера глубокое впечатление. Следующим летом он переселился в Фолькштадт, ближайшую окрестность Рудольфштадта, и проводил все вечера в обществе Каролины и Лотты, болтая, рассуждая с ними, читая им свои произведения и с удовольствием слушая музыку, которую всегда особенно любил. Музыка настраивала его на творчество, подобно тому, как не понимавший музыку Гёте вдохновлялся скульптурой и живописью, в которых Шиллер, по словам его, в свою очередь, ничего не смыслил.
Многих биографов Шиллера занимает вопрос, сразу ли понравилась ему будущая его жена, Лотта, влюбился ли он сначала в Каролину, или же, судя по его переписке с ними, он увлекался одновременно обеими сестрами? Нужно думать, что, сам не отдавая себе в том отчета, Шиллер таил в душе страсть к одной сестре под видом пламенной дружбы с обеими. Страсть его, отличаясь отвлеченностью и витая в сфере духа, потеряла и для него самого свою ясность и исключительность. Во всяком случае, зная чистоту своих чувств, Шиллер не боялся суда света. «Нужно было ожидать, – пишет он Лотте, – что непременно начнут болтать о наших отношениях. Всякий судит чужие действия по своим собственным. Нужно иметь высокую, свободную от оков обыденного душу, чтобы понять разные оттенки наших отношений. Люди сейчас же ищут для всего слов и потом сами же ими и обманывают себя. Каждое чувство существует только один раз в мире, и исключительно в том человеке, который испытывает его». В начале же знакомства с сестрами, 18 ноября 1788 года, Шиллер пишет Кернеру так: «Я ослабил чувства мои, разделив их, и потому отношения наши остались в границах сердечной разумной дружбы».
Может быть, поэт и действительно разделил свои чувства, но не ослабил их этим; по крайней мере, он не может представить себе жизни без обеих сестер и в страстном письме к ним от 24 июня говорит об «искре огня», зароненной в него сестрами, о «прекрасных надеждах» и о «несчастных мелочах», препятствующих осуществлению этих надежд. Не вдаваясь глубже в дебри странной психологической загадки дуализма любви поэта, мы, со своей стороны, спешим сообщить читателям, что дело разъяснилось наконец как нельзя лучше к общему удовольствию, по-видимому, не без содействия, однако, великодушной Каролины. Очень вероятно, что и она любила втайне Шиллера, но решила пожертвовать своим счастьем для счастья горячо любимой сестры и дорогого друга.
После двухлетнего знакомства с сестрами Шиллер объяснился в любви младшей, через посредство, впрочем, старшей, как видно из следующего его письма: «Так ли это, дорогая Лотта, – пишет ей поэт, – могу ли я надеяться, что Каролина действительно читала в Вашем сердце и ответила верно на вопрос, который я долго не осмеливался ставить себе? Подтвердите надежду, данную мне Каролиной. Скажите, что Вы хотите быть моей и что доставить мне счастье не будет жертвой для Вас. Все радости жизни отдаю я в Ваши руки. Ах, давно уже не мечтал я о них иначе, как в этом виде…»
И Лотта отвечает поэту: «Каролина читала в душе моей и ответила из моего сердца». И тут чувство Лотты было богаче содержанием, чем словами. Вслед за тем Шиллер получил и согласие г-жи фон Ленгефельд. «Chère mère», как называли дочери свою мать, была добрейшая женщина, впрочем, капельку ханжа и несколько зараженная стремлением к светскости. Долго мечтала она о том, чтобы сделать из Лотты фрейлину при Веймарском дворе. «Как хорошо, – пишет Шиллер Лотте, – что ты не сделалась фрейлиной. Вспоминая о доброй твоей матери, я не мог не рассмеяться: фрейлина и моя жена! Хуже этого не мог решиться ни один план».
20 февраля 1790 года Шиллер и Лотта были повенчаны в деревенской церкви близ Йены. Брак этот, основанный не на страсти и пламенной любви, а на нежной, сердечной симпатии, развившейся мало-помалу, оказался очень счастливым. «Страсть улетучивается, любовь остается», – как говорил сам поэт. Женитьбой кончается весь романтизм в жизни Шиллера. Чувство долга было очень сильно развито в нем, и благородная, чистая жизнь теперь должна была наступить сама собой. Возлюбленной была ему отныне лишь муза, – для нее хранил он самый чистейший восторг своей души, самые пламенные ее порывы. В Лотте Шиллер нашел то, что искал, – семейное счастье. Дней через десять после свадьбы он пишет Кернеру: «Я вполне счастлив, и все убеждает меня, что и жена моя счастлива и останется счастливой через меня». Два года спустя он снова пишет Кернеру о Лотте: «Даже когда я занят, я счастлив мыслью, что она со своею любовью тут, около меня. Детская чистота ее души и глубина ее чувств ко мне дают мне самому ту гармонию и спокойствие, которых иначе, при моем ипохондрическом состоянии, почти невозможно было бы сохранить. Если бы мы оба были здоровы/мы бы ни в чем другом не нуждались, чтобы жить, как боги». А через восемь лет он опять пишет другу в Дрезден: «Ты, Гумбольдт, и жена моя – единственные лица, о которых я охотно вспоминаю, когда пишу, и которые меня так прекрасно вознаграждают за это».
Вскоре после своей женитьбы Шиллер стал работать изо всех сил, намереваясь уплатить долги, доставить некоторые удобства любимой жене и совершить поездку на родину для свидания с родителями. Достаточно сказать, что обыкновенно он проводил за письменным столом по четырнадцати часов в сутки. Непомерной работой он надорвал свои силы и месяцев восемь спустя опасно заболел. В Эрфурте, куда они с женой уехали на несколько дней, поэт простудился в концерте 2 января и там же с ним сделался такой сильный припадок катаральной лихорадки, что его на носилках отправили домой. Но на этот раз он скоро поправился и вернулся в Йену, где опять стал читать в университете лекции. Вскоре и в Йене повторился с ним припадок лихорадки, осложнившийся воспалением легких и брюшины. Поэт чуть не умер, а когда стал выздоравливать, то это пошло теперь очень медленно. Состояние его груди не позволяло больше читать лекции, и с этих пор Шиллер остается лишь номинально профессором. С этого времени и до самой своей смерти он уже не перестает болеть, и письма его к Кернеру содержат беспрерывные бюллетени о болезни.
В течение целых четырнадцати лет страдания Шиллера прекращались весьма редко; но с беспримерной энергией и силой воли поэт заставлял болезненное тело служить духу. Он искал и находил утешение и мужество в работе: «Мне дивно хорошо, – пишет он, – когда я занят и работа удается».
Болезнь – для всех несчастье, а тем более для людей с утонченными нервами, для талантливых и даровитых натур, которым именно за эти их превосходства, как будто чаще и в самых ужасных видах, посылается болезнь. Шиллер вооружился против своего недуга единственным действительным противоядием – энергичным решением не обращать на него внимания. Заболев, он с той же неуклонной энергией продолжал великое дело всей своей жизни. Как только он чувствовал малейшее облегчение, тотчас же возвращался к своим умственным занятиям и часто в пылу поэтического творчества совершенно забывал о своих недугах. Таким мужественным и твердым поведением отнял он у болезни худшее ее жало. Тело болело, – но дух сохранил нетронутым всю свою силу. Поэт не потерял способности восхищаться всем добрым, великим, прекрасным в разнообразных проявлениях; он продолжал любить друзей своих как и до того, и написал лучшие и высшие произведения, когда потерял здоровье. Быть может, ни в один период жизни он не проявлял столько героизма, как в этот.
В следующем 1792 году новый припадок болезни, к которому присоединились сильная астма и кашель, снова привел поэта на край могилы. «Представь себе, – пишет он Кернеру, – для внутренней моей жизни этот ужасный припадок был даже полезен. Я не раз смотрел тогда смерти в глаза, и мужество мое окрепло». Эти простые слова показывают героическую душу. Близких своих поэт старался успокоить, говоря: «Мы должны спокойно отдать себя в руки всесильного Духа природы и действовать, пока длится данный нам срок».
Во время этого опасного припадка его болезни слухи о смерти Шиллера разнеслись повсюду и достигли Копенгагена. Здесь восторженный почитатель Шиллера, датский писатель Баггезен, узнав печальное известие, устроил в честь поэта поминальное торжество, длившееся три дня. Шиллер, между тем уже поправившийся, находился по предписанию докторов в Карлсбаде. Узнав здесь о происшествии в Копенгагене, он, и в особенности жена его, были крайне тронуты. Когда же Баггезену сообщили о «воскресении не умиравшего бессмертного», как он выразился, то он тотчас же написал в Йену профессору Рейнгольду, с которым был дружен, прося его сообщить ему о дальнейшем состоянии здоровья Шиллера. Рейнгольд ответил, что, может быть, Шиллер и мог бы поправиться, если бы хоть временно имел возможность перестать работать. Но этого не позволяют ему его обстоятельства. Имея лишь двести талеров в год содержания, он, в случае заболевания, должен быть в нерешительности, посылать ли эти деньги в аптеку или отдать их на кухню. С письмом Рейнгольда Баггезен тотчас же поспешил к 26-летнему принцу Гольштейн-Августенбургскому и датскому министру графу Шиммельману. Эти достойные люди в самых лестных и благородных выражениях, чтобы «сохранить человечеству одного из его учителей», предложили поэту на три года пенсию по 1000 талеров в год. От души поблагодарив их, Шиллер пишет Кернеру: «Наконец случилось то, чего я так пламенно желал. Надолго, может быть, навсегда, освободился я от забот и имею давно желанную независимость духа. Сегодня получил я письмо из Копенгагена от принца Августенбурга и графа Шиммельмана, которые предлагают мне на три года пенсию в тысячу талеров, с полной свободой жить где я хочу, так как цель их одна только: чтобы я совершенно поправился после болезни. Благородство и деликатность, с которыми принц делает мне это предложение, тронули меня более, чем сам его подарок. Можешь представить себе, в каком я счастливом настроении духа. Я получил возможность совершенно устроить свои дела, уплатить долги и, независимо от забот о насущном хлебе, жить вполне для ума. Наконец я имею свободное время учиться, собирать сведения и работать для вечности».
Окончив «Историю Тридцатилетней войны», имевшую большой успех, Шиллер погрузился в изучение философии Канта. Результатом этого изучения были многочисленные статьи, в которых Шиллер излагает свои философские взгляды. Этими статьями восхищались Кант и Рейнгольд, а Фихте говорит, что, если бы поэт внес в свою философскую систему столько же единства, сколько проявляет в чувстве, то и тут он дал бы больше, чем кто-либо другой, и сделал бы эпоху. Хотя в разговоре с Эккерманом Гёте жалеет о времени, потраченном Шиллером на такой непроизводительный для него труд, все же исторические, критические и философские занятия поэта не остались без влияния на общий его умственный характер. Пять лет, проведенные им за этими трудами, все же значительно расширили область его духа и мысли.
Теперь на очереди вопрос, как относился историк Шиллер – автор «Дон Карлоса» и пророк свободы – к тогдашним событиям во Франции? Как и некоторые другие выдающиеся немецкие деятели той эпохи – за исключением Гёте, – Шиллер сначала долгое время следил с большим интересом за французской революцией и ожидал от нее многого. Потом у него мелькнула мысль отправиться в Париж и выступить там адвокатом несчастного Людовика XVI. Поэт писал в пользу короля защитную речь и этим путем хотел сказать правительствам много «горьких правд».
Когда же король погиб на эшафоте и кровь залила Францию, Шиллер с негодованием отвернулся от революции, не доросшей еще до более чистых идеалов поэта. Сам же он как раз в то время был уже «citoyen français». 26 августа 1792 года Национальное собрание, решившее дать права французского гражданства Вашингтону, Кошуту, Песталоцци и другим, приняло вместе с тем предложение одного из своих членов даровать таковое же право и «sieur Gille, publiciste allemand». Шиллеровские «Разбойники», переведенные на французский язык, но сильно искалеченные, давались тогда в Париже. Диплом был приготовлен Клавьером, подписан Роланом и Дантоном, но долго пролежал в Страсбурге, – никто не догадывался, кто такой Gille; только пять лет спустя, в 1798 году, замечательный документ наконец попал через издателя Кампе в руки поэта, и именно, – как Шиллер писал о том Кернеру, – «совершенно из царства мертвых», так как Клавьера, Ролана и Дантона не было уже в живых: всех их поглотил кровавый поток революции. По просьбе герцога Карла Августа, Шиллер передал ему интересную бумагу, и она находится в публичной библиотеке, в Веймаре.
Осенью 1793 года Шиллер исполнил давнишнее свое желание побывать в Штутгарте и повидаться с родителями. 70-летнего отца он застал еще бодрым и здоровым, также и мать и сестер. Свиделся он здесь и со старыми друзьями – Шарфенштейном, профессором Абелем, Петерсеном, Цумштегом, Даннемакером. Последний вылепил с него бюст, который он переработал после смерти Шиллера в мраморе. Бюст этот находится в библиотеке в Веймаре. Тогда же Шиллер познакомился в Штутгарте с издателем Котта, знакомство с которым должно было иметь важное значение для будущности семьи поэта.
В бытность Шиллера в Людвигсбурге, 14 сентября 1793 года, у него родился первый сын. «Маленькая моя мышь, – пишет Шиллер Кернеру, – сделала мне большой подарок – родила сына». Самому же поэту опять пришлось всю эту зиму тяжело страдать: воздух родины не облегчил его недуга.
Новый припадок болезни совсем измучил его. «Дай Бог, – пишет он Кернеру, – чтобы терпение мое выдержало подольше и жизнь, которая так часто прерывается настоящею смертью, сохранила для меня всю свою цену». От мрачного состояния духа он спасался, садясь писать «Эстетические письма» и разрабатывая план задуманной им трагедии «Валленштейн». 6 мая 1794 года Шиллер распростился с родителями и родиной, которую ему больше не суждено было увидеть, и затем с женой и ребенком вернулся в Йену. Туда он привез с собой «Письма об эстетическом воспитании», посвященные принцу Августенбургскому. Письма эти – в такой же мере политическая публицистика, как и философия искусства; там встречаются, например, такие места: «Политическая и гражданская свобода есть и навсегда останется самой священной драгоценностью, самой благородной целью всех человеческих стремлений и великим центром всякой культуры».
Глава V
Дружба Шиллера и Гёте. – Письмо к Кернеру о первом знакомстве с Гёте в Рудольфштадте. – Благодетельное влияние двух великих поэтов друг на друга. – Издание журнала «Horen», «Musenalmanach» и «Xerien».– Поездка Кристофины в Солитюду. – Смерть младшей сестры и отца Шиллера. – «Жалоба Цереры» и другие лирические стихотворения. – Год баллад. – Трилогия «Валленштейн». – Успех пьесы на сцене. – Письмо к Гёте и «Мария Стюарт». – Переезд в Веймар. – «Песня о Колоколе». – «Орлеанская Дева». – Мнение об этой драме Гёте и Карлейля.
Вскоре после возвращения Шиллера в Йену случилось одно из важнейших событий в его жизни – сближение с Гёте, перешедшее затем в тесную дружбу. Еще за шесть лет до того он уже однажды встретился с Гёте и провел с ним целый день в доме сестер Ленгефельд в Рудольфштадте. Но тогда встреча эта не повела к сближению. Шиллер пишет о ней Кернеру так: «Личное знакомство с Гёте не изменило в общем моего действительно высокого представления о нем. Но я не думаю, чтобы мы когда-либо сошлись с ним очень близко. Многое, что пока еще имеет для меня интерес, чего я еще желаю, на что надеюсь, уже пережито им. Он так далеко опередил меня, не столько годами, сколько жизненным опытом и развитием, что мы навряд ли когда-нибудь сойдемся на нашем пути. Впрочем, трудно правильно судить по одной встрече. Дальнейшее покажет время».
И вот, после того, как Шиллер вернулся из путешествия на родину, счастливый случай свел двух великих поэтов и сблизил их. Незадолго перед тем в Иене устроилось общество естествоиспытателей, почетными членами которого были избраны Гёте, Шиллер и Гердер. Выходя с одного из заседаний этого общества, посещаемых им очень аккуратно, Гёте встретился с Шиллером; они разговорились и заспорили. Увлеченный спором, Гёте зашел на дом к Шиллеру и провел у него несколько часов. Хотя согласия в мнениях и не последовало, но чарующая сила Шиллера, действовавшая притягательным образом на всех, кто к нему приближался, повлияла теперь и на Гёте. Бросив более глубокий взгляд на ум и дух автора «Дон Карлоса», Гёте заинтересовался им и пожелал с ним сблизиться. Они виделись после того часто, обменивались многими «добрыми и великими» словами, и дружба их имела самые благодетельные последствия. В то время Гёте, как нередко случалось с ним, находился в периоде «колебания и остановки» поэтической «производительности». И как раз тогда встретился он с Шиллером, который со своей железной силой воли мужественно противопоставлял всякому влиянию на дух и настроение, даже влиянию болезни, неустанное стремление к творчеству, к умственной деятельности. Между прочим, он именно тогда старался соединить лучших людей под знаменем одного задуманного им литературного предприятия. «Особенно для меня, – заключает Гёте свой рассказ о встрече с Шиллером, – наш союз был наступлением обновленной весны, когда все во мне радостно распустилось и зацвело». Но если Шиллер повлиял на Гёте, ободрив его к новой поэтической деятельности, то и для него дружба с Гёте имела громадное значение; он был возвращен ею от философии к поэзии. Союз их оказался для обоих друзей плодотворным периодом.
В одном из своих писем к графине Шиммельман Шиллер, говоря о том, как высоко он ставит Гёте не только как поэта и исследователя, но и как человека, сознается ей, что и теперь, шесть лет спустя после начала более близкого, личного знакомства с Гёте, он считает это знакомство «самым благодетельным событием всей своей жизни». Вильгельм фон Гумбольдт говорит: «Влияние этих двух великих людей друг на друга было прекрасно и велико. Благодаря ему каждый из них чувствовал себя возбужденным, подкрепленным и более мужественным на своем пути. Никто из них не перетянул другого на собственную дорогу, но каждый правильнее и яснее видел, как, идя по разным путям, их соединяет и воодушевляет одна и та же цель».
Литературное предприятие, затеянное Шиллером, было издание нового журнала «Horen» («Часы»). Несмотря на разочарования, уже встреченные им на поприще журналистики, поэт снова носился с блестящими надеждами.
«Наш журнал сделает эпоху, и все, кто имеет вкус, будут нас покупать и читать», – пишет он Кернеру. Шиллеровская «Thalia» окончательно перестала выходить в 1794 году, в это же время прекратилась получаемая из Дании пенсия в 1000 талеров. Поэтому нужно было придумать новый план, как прокормить свое семейство.
Штутгартский книгопродавец Котта предложил издавать журнал и обещал Шиллеру платить весьма высокий для тех времен редакторский гонорар, – тысячу талеров в год. По просьбе Шиллера и Гёте сделался сотрудником «Ноren». Впрочем, журнал просуществовал недолго, – в 1798 году он перестал выходить, так как подписка, в первый год весьма значительная, потом все более и более падала.
Занявшись с 1795 года изданием журнала, Шиллер стал одновременно готовить на 1796 год сборник «Musenalmanach» («Альманах муз»), в котором сотрудничали Гёте, Гаук, Гердер, Конц, Гёльдерлин и другие. Возвратившийся к поэзии Шиллер включил в альманах и массу собственных лирических произведений. Но переход Шиллера к поэзии совершился не сразу. В начале года появилась еще одна историческая статья поэта – «Осада Антверпена». Зато во второй половине 1795 года он пишет множество стихов. До конца этого года им написаны около сорока больших и коротких стихотворений, несмотря на частые перерывы вследствие новых припадков его «malum domesticum», как он шутя называл свою болезнь. Среди новых стихотворений отметим мимоходом лишь некоторые, – например, «Могущество поэзии», где таинственное происхождение поэзии сравнивается с прорывающимся из ущелий скалы, пенящимся и шумящим потоком горной реки. Контрастом к торжественному тону этой оды является веселый, шутливый тон стихотворения «Пегас в ярме». Достойны внимания также и следующие прекрасные стихотворения: «Достоинство женщин», «Идеалы и жизнь», «Танец», «Прогулка», «Вечер», «Раздел земли», «Идеалы» и так далее.
В 1796 году Шиллер написал массу эпиграмм, так что в поэтической его деятельности этот год может быть назван «годом эпиграмм». Они были написаны им совместно с Гёте и вызваны отчасти неблаговидными или раздражающими нападками современных авторов и критиков, обрушившихся на «Horen» тотчас при появлении этого журнала; отчасти же эти эпиграммы изображали собой суд поэтов над всем низменным, нехорошим, вычурным, претенциозным в литературе и жизни. Гёте и Шиллер решили сначала написать тысячу таких полемических эпиграмм, но остановились на двухстах. Поэты назвали эти свои произведения «Xenien», то есть «подарки гостям», заимствовав название у Марциала, который наименовал так серию своих эпиграмм.
Вместе с сатирическими колкостями в «Xenien» излагаются также основные эстетические взгляды и правила двух поэтов. Вообще же названные эпиграммы – весьма замечательные произведения, настоящие перлы поэзии. При появлении своем «Xenien» наделали много шума. Гёте пишет Шиллеру, что пущенные ими брандеры сразу произвели пожар. Удивлению и разговорам не было конца. Один из затронутых «Xenien», Николаи, переименовал «Музенальманах» в «Фуриенальманах». Полемическая эта война была прервана тяжелым припадком болезни Шиллера, а также другими заботами и огорчениями. Французское войско, под предводительством Журдана и Моро, только что проникло в Южную Германию. В общем несчастии пострадал сильно и родительский дом поэта. Младшая его сестра заразилась тифом и вскоре умерла. Слегли и другая сестра Луиза, и мать поэта, отец же его давно уже хворал подагрой, припадки которой теперь страшно усилились. Шиллер рвался помочь родителям. Ему хотелось бы самому поехать к ним и ходить за ними, но сделать это было бы безумием ввиду состояния его собственного здоровья. Тогда он предложил ехать сестре Кристофине и послал ей денег на дорогу. Кристофина поспешила исполнить желание брата и свое собственное. Она провела все лето в Солитюде, куда не раз проникали французские мародеры и все, что можно было, обобрали. Сестра и мать поэта поправились, а отец его умер 7 сентября 1796 года, 73-х лет от роду. Шиллер приглашал мать приехать к нему, но она предпочла остаться с дочерью Луизой, вскоре затем вышедшей замуж за пастора Франка.
Именно с этим событием – смертью сестры и отца – совпадает прекрасное стихотворение Шиллера «Жалоба Цереры». По мнению Кернера, Церера, будучи богиней, не погибает от горя; с дивной женственностью она борется против него и побеждает его творчеством.
Это уже более объективное поэтическое произведение и не такое чисто метафизическое, как «Идеалы и жизнь». Переход от идейной поэзии к объективной составляют также «Девушка с чужбины» – аллегорическое представление поэзии, «Геркулан и Помпея», отличающееся легкостью языка и прелестною законченностью образов, и многие другие.
1797 год сам Шиллер назвал годом баллад. Он начал писать целый ряд прекрасных баллад: «Водолаз», «Перчатка», «Кольцо Поликрата», «Рыцарь Тоггенбург», «Ивиковы журавли» и, наконец, «Фридолин». Кроме этих баллад, Шиллер тогда же написал целую группу лирических стихотворений, из которых особенно удались «Встреча», «Тайна» и «Ожидание». В следующем году поэт написал еще две баллады: «Сражение с драконом», самую длинную из всех и одну из лучших баллад, и «Порука» – прелестное изображение верности в дружбе.
В октябре 1796 года поэт серьезно занялся драмой «Валленштейн», задуманною им, по-видимому, еще в Эрфурте в 1791 году. Другие дела, занятия и работы, а также болезнь, не давали ему подолгу останавливаться на выполнении своего драматического замысла. «История Тридцатилетней войны» Шиллера была, так сказать, мостом, по которому он перешел к «Валленштейну».
Для своих драм Шиллер решил брать исторические мотивы; он считал себя способным скорее «идеализировать реальное, чем реализовать идеальное». Между появлением «Дон Карлоса» и окончанием «Валленштейна» прошел промежуток в целых двенадцать лет. Это было время, когда Шиллер почти что отвернулся от поэзии, годы пытливости мысли и ума, после которых, обогатившись и созрев, он снова вернулся к драме. В письме к Кернеру поэт сообщает, что после многих совещаний с Гёте и по совету последнего он решил из «Валленштейна» сделать трилогию: «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна». «Без этой операции, – пишет он, – „Валленштейн“ по объему сделался бы чудовищем и не мог бы быть годным для театра. В трилогии же каждая часть составляет целое сама по себе, а последняя – „Смерть Валленштейна“ – и есть настоящая трагедия».
Поэт ушел теперь весь в свою драму, на которую положил немало труда, как видно из письма его к Кернеру: «Как я буду благодарить небо, когда наконец из моих рук и с письменного стола исчезнет „Валленштейн“. Он все еще лежит передо мной, словно целое море, которое мне предстоит испить, и я не предвижу этому конца». По отметке, сделанной в записной книжке поэта, видно, что он серьезно засел за драму 22 октября 1797 года и закончил ее для театра 17 марта 1799 года, то есть в общем употребил лишь двадцать месяцев для написания трех больших пьес.
«Валленштейн» – величайшая национальная немецкая драма и одно из лучших произведений Шиллера.
В первой части трилогии, «Лагере Валленштейна», обрисована с художественным мастерством пестрая жизнь солдат и выведены разные типы. Знакомство Шиллера в его юности с солдатской жизнью, по-видимому, сослужило ему теперь службу. Выведенные им фигуры солдат очерчены с точностью личных наблюдений. Здесь, в этой шумной многотысячной армии, предводительствуемой Валленштейном и служащей ему орудием для его честолюбивых замыслов, собраны бесшабашные буйные головорезы со всей Европы. Крайне умело и кое-где со счастливым юмором характеризованы в одноактном «Лагере» главные представители всей пестрой военной ватаги.
Но, кроме солдат, «Лагерь Валленштейна» полон и другими элементами, неутомимо преследующими свои цели: тут и крестьяне, и новобранцы, и игроки, и капуцины, – и все это движется взад и вперед. Между прочим, проповедь капуцина в своем роде нечто неподражаемое, это смесь текстов, игры слов, прозвищ, пустого словопрения – и все это склеено вместе нелепыми суждениями и пылким католическим энтузиазмом. Намереваясь изобразить в «Лагере Валленштейна» внутреннее состояние Германии около середины Тридцатилетней войны, Шиллер думал усилить эффект последующих частей трагедии, указав здесь, что не только судьба одного Валленштейна, но и судьба целой армии, если не целой нации, зависит от исхода борьбы, затеянной им против императора. Это та серьезная нота, которая слышится в веселом лагере и подготавливает к трагедии.
Типы солдат, выведенные Шиллером в «Лагере», подготавливают к типам их предводителей, которые и появляются на сцене во второй части трилогии – «Пикколомини». Здесь, перед нашими глазами, подводят они свои мины и контрмины. Из тщеславия и вследствие дурных советов Валленштейн мало-помалу решает изменить долгу и заключить союз с врагами, а Октавио Пикколомини тайно вкрадывается в доверие к вождям армии и, подкапываясь под Валленштейна, роет ему яму, в которую могучий полководец и попадает в последней части трагедии, «Смерти Валленштейна».
«Смерть Валленштейна» – центр трагедии. Мы видим здесь внутреннюю борьбу могучего полководца.
Последняя сцена, где является Валленштейн, – одна из прекраснейших во всей трагедии. Он всматривается в звезды; смутные тени суеверного страха урывками мелькают в его уме, когда он созерцает эти источники света и сравнивает их славное вековое существование с быстротечною, горестною жизнью человека. Астролог Валленштейна умоляет его быть осторожным; один из раскаявшихся заговорщиков делает то же; собственные ощущения твердят ему о том, чтобы он был настороже и отступил. Но Валленштейн противится всему этому, – он не хочет изменить принятому решению; он не обращает внимания на все предостережения и в веселом настроении идет спать, с радужными мечтами и надеждами, не подозревая, что меч убийцы уже поднят над его головой и что ему так скоро суждено перейти в вечный сон без сновидений. Смерть Валленштейна не вызывает у нас слез, мы не можем жалеть о нем, потому что, даже погибая, он кажется слишком великим для нашего сострадания. Но тень ужаса, веяние какой-то беспощадной, неотразимой судьбы носится над этой заключительной сценой и еще усугубляет действие того пламенного, поэтического языка, которым она написана.
Из всех действующих лиц наиболее выдающееся – сам Валленштейн. В «Истории Тридцатилетней войны» Шиллер изобразил Валленштейна человеком свободомыслящим, не имевшим религиозных предрассудков и вследствие этого сделавшимся жертвою церковного фанатизма. А в драме императорский полководец Валленштейн стремится добыть себе богемскую корону и погибает вследствие этого стремления. Тут он является типом практика-реалиста, его тянет к земному; только в кипучей деятельности находит он удовлетворение, высшие блага для него – власть и могущество. Но вместе с тем Шиллер и идеализировал своего героя, изобразив его с «чистой любовью художника»; он старался придать ему много нравственных достоинств: Валленштейн – образец великой души, великого человека, преобладающая страсть которого – честолюбие.
Другое выдающееся действующее лицо трагедии – Октавио Пикколомини. Он скорее царедворец, чем воин; его оружие – интрига, а не храбрость. Октавио – очень искусный, осторожный, понимающий свои выгоды государственный деятель, он принадлежит к числу тех, кого друзья, быть может, и неискренне, но зато громко восхваляют, а враги глубоко ненавидят. Быть может, и цели его законны и даже похвальны, но пути к ним – самые окольные. Мы тем менее его любим, чем более не можем указать, за что, собственно, его бранить.
Октавио Пикколомини и Валленштейн – как бы две противоположные силы, приводящие в движение всю военную политику кругом них.
Но среди всей этой шумной толпы отчетливо вырисовываются две поражающие своей душевной красотой фигуры: это Макс Пикколомини, сын Октавио, и Текла, дочь Валленштейна. Светлые лучи падают от них на всю трагедию.
Трилогия имела выдающийся успех на сцене. Когда 10 апреля 1799 года в Веймаре впервые шла в первый раз «Смерть Валленштейна», все в театре, даже актеры, плакали. Сам Шиллер пишет: «„Валленштейн“ имел необычайный успех, все в один голос восхищаются им». И в войске имя Шиллера сделалось очень популярным после его новой драмы. Прусские офицеры устроили в честь него пир, приглашение на который было принято поэтом. Гёте уже позже сказал про «Валленштейна»: «Драма эта, как хорошо выстоявшееся вино, тем больше нравится, чем становится старше». Подобно другим произведениям Шиллера, «Валленштейн» был переведен на все европейские языки, – а один из английских переводов этой драмы принадлежит поэту Кольриджу.
Ободренный успехом «Валленштейна», Шиллер радостно убедился теперь в том, что призвание его – драма, и решил шесть лет кряду всецело посвятить себя писанию драм. К несчастью, эти шесть лет были последними в его жизни. Как будто предчувствуя, что ему осталось уже так недолго жить, поэт проникается теперь каким-то нетерпеливым стремлением к творчеству, которое неутомимо гонит его от одного произведения к другому. Окончив что-нибудь, Шиллер страшится минуты, возвращающей ему свободу, и не успокаивается до тех пор, пока тревоги новой работы опять не охватят его всего. Так, закончив «Валленштейна» 19 марта 1799 года, он пишет Гёте:
«Я долго боялся минуты, которую вместе с тем нетерпеливо ждал, – минуты, когда я закончу свою драму. И действительно, при теперешней моей свободе чувствую себя хуже, чем при тогдашнем рабстве. Та масса, которая меня до сих пор притягивала и поддерживала, – исчезла вдруг, и мне кажется, что я, потеряв сознание, вишу где-то в безвоздушном пространстве. Я не успокоюсь до тех пор, пока мысль моя снова не остановится с надеждой и любовью на определенной драматической теме».
Уже 26 апреля Шиллер решил писать драму «Мария Стюарт». Еще в уединении Бауернбаха, почти шестнадцать лет тому назад, тема эта впервые увлекла его и он начал изучать историю шотландской королевы, но тогда бросил все, занявшись «Дон Карлосом». Теперь же снова фигура несчастной королевы воскресла в фантазии поэта и вдохновила ее многими драматическими моментами, представляющимися и в судьбе Марии, и в ее отношениях к «царственной лицемерке», как называет Шиллер английскую королеву Елизавету. Как всегда, Шиллер и теперь прежде всего с величайшим рвением занялся подготовительными работами к своей новой драме. Садясь за «Марию Стюарт», Шиллер пишет: «Не мешало бы многим скороспелым литературным судьям и легкомысленным дилетантам знать, сколько нужно положить труда на то, чтобы создать порядочную вещь».
Драма начинается осуждением на смерть Марии Стюарт и кончается исполнением этого приговора и тщетными усилиями Елизаветы снять с себя ответственность за кровавое дело. В «Марии Стюарт» – прекраснейшее драматическое положение, интересное действие и интересные, истекающие из этого действия, диалоги. Характеры обеих королев, особенно Марии Стюарт, хорошо очерчены. Раскаяние восхищенной, хотя и жестоко согрешившей женщины, перенесенные ею страдания, которые очистили ее душу и вернули первоначальное, присущее душе ее благородство, – все это естественно располагает нас в пользу Марии Стюарт. Мы вынуждены все ей простить и полюбить ее. Она так очаровательна, так несчастна, одарена столь возвышенным образом мыслей! Притом и ее преступления, какую бы они ни носили мрачную окраску, искуплены ею долгими годами слез и горя. Да и совершены были эти преступления не из расчета, а под импульсом слепой страсти, и потому они во всяком случае кажутся нам менее ненавистными, чем хладнокровное, преднамеренное злодейство, жертвой которого является Мария. Английская королева – эгоистична, бездушна, завистлива, она не нарушает законов, – но зато в ней нет и добродетели, а торжество на ее стороне. Ее сухой лицемерный характер контрастом своим только усиливает нашу симпатию к ее одинокой, обладающей теплым сердцем несчастной сопернице. Из других лиц трагедии интерес наш возбуждает характер Мортимера, как по своей стремительности и смелости, не знающей границ, так и по необузданной страстности и горячности его темперамента.
В «Марии Стюарт» Шиллер хотел, собственно, создать, как он сам говорит, трагедию на манер Эврипида, то есть трагедию психологическую, где на первый план выдвигается сила страсти. Вот что пишет поэт о своей трагедии в письме к Гёте: «Работа моя, хотя медленно, а все же подвигается, и nulla dies sine linea (не проходит дня, чтобы я не написал хоть строки). Вполне овладев материалом, я все более и более убеждаюсь, сколько в нем истинного трагизма, – в особенности уже то, что катастрофа видна тотчас же в первых сценах. Моя Мария Стюарт не будет вызывать нежного, мягкого настроения, и сама она не чувствует его и не вселяет его в других. Судьба ее – испытывать самой и возбуждать в других пламенную страсть». По отношению же к исторической верности можно сказать, что в «Марии Стюарт» поэт, вообще говоря, стоит на довольно строго выдержанной исторической почве. Незначительные же изменения, сделанные им, не изменяют правдивости общего исторического фона, на котором так ярко обрисованы фигуры двух главных героинь – Елизаветы Английской и Марии Стюарт.
14 июня 1800 года «Мария Стюарт» прошла на сцене с громадным успехом, что очень ободрило Шиллера.
И эта пьеса немецкого поэта переведена на французский, английский, итальянский и другие языки. По мнению г-жи Сталь, это – самая трогательная и цельная изо всех немецких драм.
И на этот раз творчество Шиллера было прервано многими припадками его болезни. Бессонница, астма, судороги желудка часто мучили поэта; за каждый день счастливого творчества приходилось расплачиваться несколькими днями страданий. К тому же ему теперь мешали еще и другие заботы и огорчения: Лотта опасно заболела после рождения третьего ребенка, дочери, в 1799 году. К великой радости поэта, она совершенно поправилась через месяц. Так как, по мнению докторов, резкий горный воздух Йены был вреден для Шиллера, он со всей семьей перебрался теперь в Веймар. Туда влекли его, впрочем, еще и другие соображения, – он желал быть ближе к театру; кроме того, в Веймаре он мог найти более приятное и разнообразное общество. Между прочим туда переселилась и сестра Лотты, Каролина, с Вильгельмом фон Вольцогеном, за которого она, после развода с Бельвицем, вышла замуж в 1794 году.
Занимаясь «Марией Стюарт», Шиллер написал также и несколько лирических стихотворений, между которыми наиболее значительное «Песнь о Колоколе». Долго, целых десять лет, как и «Марию Стюарт», вынашивал в себе Шиллер это произведение. Еще во время первого пребывания в Рудольфштадте (в 1788 году) он часто ходил на завод, где отливали колокола, чтобы хорошенько ознакомиться с этим делом. В июле 1797 года Шиллер пишет Гёте: «Я занялся „Песней о Колоколе“; это стихотворение близко моему сердцу, но отнимет у меня времени несколько недель, потому что требует много работы и весьма разнообразных настроений». Болезнь заставила поэта временно отложить свое намерение заняться «Колоколом».
«Сознаюсь, – сообщает он снова Гёте, – что раз это иначе быть не может, то я готов примириться с необходимостью. Буду обдумывать сюжет еще год, и тогда он получит свою настоящую зрелость». Разные технические подробности, нужные ему для его стихотворения, Шиллер вычитал из энциклопедии и оттуда же взял прекраснейший эпиграф, отчеканенный на большом колоколе в Шафгаузе: «Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango» («Живых зову, мертвых оплакиваю и молнии раздробляю»).
В 1799 году Шиллеру удалось наконец закончить «Песнь о Колоколе»; это стихотворение принадлежит к культурно-историческому роду эпохи. Рядом с реалистическим рассказом о том, как выливают колокол, идут поэтические картины сначала из семейной, а потом из государственной жизни. В первом отделении бегло рисуется детство и очень задушевно изображена юношеская любовь. Затем мы видим прелестные картины семейной жизни счастливой парочки. Деятельность вне дома и заработок отца противопоставляются здесь разумной бережливости матери и ее руководству хозяйством и детьми. Контраст этой картины внутреннего мира и внешнего благосостояния, основывающих семейное счастье, составляет картина двойного несчастия. Пожар истребляет благосостояние, а смерть матери разрывает семейные узы. Во второй части стихотворения проходят перед нашими глазами великолепные картины государственной жизни, порядка и мира, войны и революции. «Песня о Колоколе» – истинно национальная поэма; германский народ знает ее наизусть. Тут поэтом изображены жизненные идеалы, и теперь еще глубоко трогающие немецкий народ, несмотря на все происшедшие с тех пор в его жизни перемены. Здесь с поэтически возвышенной точки зрения изображена картина жизни, наиболее дорогая для среднего уровня немца с его трезвой любовью к жене и детям, с его привязанностью к домашнему очагу, к мирной, упорядоченной свободе и к отечеству.
Тотчас же после первого представления «Марии Стюарт» Шиллер писал Кернеру: «Мое здоровье лучше последние два месяца. Я никогда не чувствую себя так хорошо, как тогда, когда интересуюсь особенно живо какой-нибудь работой. И потому я уже задумал новую». Эта новая работа, задуманная Шиллером, была «Орлеанская дева», начатая им 1 июля 1800 года. В первые же месяцы нового столетия поэт перевел для сцены шекспировского «Макбета», впрочем, не особенно удачно. Об «Орлеанской деве» Шиллер сообщает Кернеру, что сам сюжет вдохновляет его, что все его сердце отдано новой драме.
И действительно, поэт всей душой своей встает на сторону Жанны, выступающей из деревенской идиллии в шумный политический мир и ведущей отечество к независимости. Шиллер изображает ее трогательной фигурой со святой детской верой, делающей Жанну великой. Драма эта – исповедь поэта: безусловная преданность человека идее, вера в себя и в свою миссию дают ему силу двигать горами и делать чудеса. Бедствия и разорение страны зажгли в пылком, смелом сердце Жанны искру, которую ее уединенная жизнь и глубокая религиозность все сильнее и сильнее питали и раздули в яркий, священный огонь. Жанна уверилась, что она призвана свыше освободить родную Францию; миссию она блистательно приводит к концу, – все преклоняется перед мощью ее веры и ее воли. У Шиллера Жанна д'Арк – соединение ангела и ребенка. Но земная любовь низводит ее с пьедестала. Она проникла в сердце «орлеанской девы», и ее душевное спокойствие нарушилось. В ней просыпается женщина; она перестает быть ребенком, и чары ее исчезают. Она полюбила врага родины, которого должна была убить, и сердце ее раздирается противоречивыми чувствами. На нее обрушивается обвинение; молча, как ниспосланное ей небесное испытание, принимает она его. Осужденная скитаться одинокой изгнанницей, она здесь ночью в непогоду и бурю обретает наконец душевный покой. Ее берут в плен. Искушению, которого она страшилась, она не поддается теперь: человек, взволновавший ее сердце, для нее теперь лишь враг ее народа. Тогда к ней возвращается ее геройская сила и совершается новое чудо: с ее рук спадают цепи, она бросается в битву, освобождает короля, побеждает, умирает, и перед ней разверзаются врата неба.
15 апреля 1801 года Шиллер послал готовую рукопись «Орлеанской девы» Гёте, который вернул ее ему через пять дней с пометкой: «Так хорошо, мужественно и прекрасно, что я ничего не могу сравнить с этим». По мнению Гёте, эта драма Шиллера была лучшей из всех его драм. И действительно, здесь виден большой прогресс поэта в драматическом искусстве. Замечательна группировка характеров, выбор картин. Карлейль говорит, что, хотя в «Валленштейне» более знания и мысли, зато «Орлеанская дева» – олицетворение идеализма. Кого уже она не растрогает – тот, несомненно, лишен фантазии, тот обладает чересчур холодным сердцем.
Глава VI
Свидание с Кернером в Дрездене. – Блестящие овации в Лейпциге. – Покупка дома и смерть матери. – Возведение Шиллера в дворянство. – Стихотворение «Кассандра». – Драма «Мессинская невеста». – «Вильгельм Телль». – Приезд г-жи Сталь. – Ее высокое мнение о Шиллере. – Успех «Телля» на сцене. – Поездка в Берлин. – Наружность и характер Шиллера. – Мнения о нем Тёте и Гумбольдта. – Неоконченная драма «Дмитрий Самозванец». – Последние дни и смерть Шиллера. – Печаль Гёте и отчаяние Лотты. – Перенесение останков Шиллера через двадцать два года в семейный склеп веймарских герцогов. – Влияние Шиллера на русское общество. – Заключительные слова о высоком значении Шиллера.
Окончив «Орлеанскую деву», Шиллер снова колебался в выборе между несколькими драматическими сюжетами. «Только деятельность, направленная к известной цели, – пишет он Кернеру, – делает еще жизнь выносимой». Но пока он не останавливается ни на одной из многочисленных драматических тем, которых у него всегда было достаточно в запасе, а пишет лишь балладу «Геро и Леандр» и несколько новых стихотворений. Затем, с целью повидаться с Кернером, он совершает путешествие в Дрезден, где проводит около месяца; это было его последнее свидание с другом. На возвратном пути в Веймар, проездом через Лейпциг, поэт впервые увидел восторг публики, возбужденный представлением «Орлеанской девы». Когда, после первого действия, упал занавес, вдруг заиграла музыка и воздух огласился криками: «Да здравствует Фридрих Шиллер!» По окончании представления все бросились к выходу, чтобы еще раз взглянуть на любимого поэта. Плотная толпа стояла перед театром, и, когда Шиллер вышел, все бывшие там, в почтительном молчании, с обнаженными головами пропустили его мимо себя. А в задних рядах толпы родители поднимали детей на руки, говоря им шепотом: «Вот он, вот он!» Что должен был перечувствовать в это время поэт, с каким счастьем должен был он осознать, что вера в людей не обманула его!
29 апреля 1802 года Шиллер перебрался в собственный дом, купленный им за месяц перед тем. Денежные его дела заметно поправились: он получал уже за свои сочинения 1400 талеров в год, а профессорская пенсия его была увеличена с 200 до 400 талеров. Однако переезд в новый дом совершился невесело: оказалось, что мать Шиллера умерла как раз в самый день переезда. Ее похоронили на кладбище в Клеверзульцбахе, где много лет спустя, в 1839 году, тогдашний пастор местечка, поэт Мерике, украсил могилу ее каменным крестом с надписью: «Здесь покоится мать Шиллера».
Примерно в это же время веймарский герцог, желая оказать приятное семье Шиллера, выхлопотал возведение поэта в дворянское достоинство. Веймарское общество, конечно, считало великою честью причисление к дворянству Шиллера – того самого, которому французская республика поднесла свое почетное гражданство. Как смотрел сам Шиллер на этот факт, видно из письма его к Гумбольдту: «Вы, верно, смеялись, услыхав о нашем сословном повышении. Это – идея герцога, и, так как дело сделано, то из-за Лоло и детей мне ничего другого не оставалось, как принять предложенное». И Лотта, в свою очередь, пишет: «Каждый может видеть, что Шиллер совершенно неповинен в случившемся, и эта мысль успокаивает меня. Я считала бы недостойным его искать такую почесть».
В 1802 году Шиллер опять написал несколько лирических стихотворений, из которых особенно выделяется «Кассандра». Дочь Приама является здесь представительницей всех тех, кто смотрит слишком глубоко на жизнь и теряет свою жизнерадостность. Ее предостережения встречают глумление, пророческие речи вызывают недоверие и смех, – но не это делает ее несчастной. Жизненную бодрость отнимает у нее именно ясное предвидение будущего, предвидение тяжких судеб.
Еще весной 1801 года задумал Шиллер драму «Мессинская невеста», но болезнь и обстоятельства, на которые мы уже указывали выше, мешали выполнению его намерения. Он занялся драмой вплотную в феврале 1802 года и закончил ее в течение года. Драма эта очень нравилась Гёте, но по основной своей мысли – неизбежности судьбы, фатализму – она менее симпатична нам, чем остальные произведения Шиллера.
Здесь тот же мотив, что и в «Разбойниках»: враждующие братья, дон Мануил и дон Цезарь – сыновья покойного короля Мессины, – с детства ненавидят друг друга, потому что проклятье лежало на браке их матери, и брак этот не мог дать хороших плодов. Начинается драма, собственно, радостным просветом: наконец-то смертельная вражда двух юных принцев утихла, благодаря усилиям их матери, вдовствующей королевы Изабеллы; между ними состоялось примирение. Чтобы радость этого примирения была полная, королева посылает за своей дочерью Беатрисой, которую она с колыбели тайно ото всех скрывала за монастырскими стенами, так как девочке уже при рождении угрожала гибель. Король Мессинский, испуганный предсказаниями, что эта дочь погубит его сыновей и все ее потомство, велел ее убить. Изабелла спасает малютку не только из чувства материнской любви, но также и потому, что монах растолковал приснившееся уже ей сновидение и в хорошую сторону, – а именно так, что Беатриса соединит впоследствии братьев любовью к себе. Эта надежда заставляет мать сыграть старую греческую игру с оракулом, постараться обмануть его – в то же время глубоко веря ему. И вот двойной смысл предсказания совершается. Не ведая, что они творят, оба брата втайне друг от друга и ото всех видятся с сестрой и пылают к ней страстью. Она же любит Мануила и дала ему слово. После радостного примирения с братом дон Цезарь спешит к Беатрисе, чтобы сделать ей предложение, но, застав ее в объятиях брата, убивает последнего.
Не зная истины, Изабелла проклинает убийцу Мануила. Хор тщетно старается удержать поток ее отчаяния. В заключение дон Цезарь, чтобы выйти из состояния обуявшего его невыносимого стыда и безнадежности, находит один лишь путь – самоубийство.
Не тронувшись просьбами и слезами матери, он казнит себя собственною рукою; при этом хор восклицает:
«Одно я сознаю вполне, Что жизнь еще не высшее из благ, — Но худшее из бедствий преступленье…»В «Мессинской невесте» слишком мало действия, но зато лирические места трогательны, нежны и временами удивительно прелестны. Несмотря на то что в пьесе много объективности, и тут все-таки проглядывает любимый мотив поэта – борьба против деспотизма. Как в «Марии Стюарт» беспощадно раскрывается деспотизм Елизаветы, как в «Орлеанской деве» Жанна восстает против гнета чужеземного завоевателя, – так и в «Мессинской невесте» изображена гибель деспотического рода, который не мог пустить корней в завоеванной стране. На веймарской сцене «Мессинская невеста» была дана впервые 19 марта 1803 года. Пьеса произвела сильное впечатление, особенно восторгались студенты, прибывшие в большом количестве из Йены. И в театре, и по выходе из него они шумно приветствовали Шиллера.
Осенью 1803 года Шиллер засел за новую драму «Вильгельм Телль». Еще в 1801 году распространился неизвестно кем пущенный слух, что Шиллер пишет «Телля». Ничего подобного не приходило ему до тех пор в голову. Но новые и новые запросы по этому поводу обратили его внимание на указанный сюжет. Еще в марте 1802 года, до окончания «Мессинской невесты», Шиллер выписал себе «Chronicon Helveticum» Чуди и, прочитав его, пришел в восторг.
Как всегда, поэт прежде всего занялся обширными историческими и географическими подготовительными работами, и пьеса, хоть медленно, но стала подвигаться вперед. В декабре явилась новая задержка. Знакомство с известной французской писательницей, г-жой Сталь, автором романа «Дельфина», отняло у Шиллера много времени. Высланная из Франции Наполеоном I, г-жа Сталь явилась в Веймар, где она оставалась до весны в ореоле политической изгнанницы. Сопровождал ее известный французский политический и литературный деятель Бенжамен Констан. Г-жа Сталь желала хорошенько изучить Германию, все еще остававшуюся для французов «terra incognita». Книга «De I'Allemagne» – результат ее наблюдений, – появившаяся в 1810 году, представляет в общем, несмотря на заключающиеся в ней в частностях ошибки, первый удачный с французской стороны опыт изобразить Германию. Г-жа Сталь очень восхищалась Шиллером. С первого разговора с ним о французской драме он так очаровал ее умом и простотой обращении, что с тех пор она почувствовала к нему преданную дружбу. Ее характеристика Шиллера «La conscience est sa muse» («совесть – муза его») так же правдива, как и то, что он поэт свободы. И Шиллеру г-жа Сталь, оживлявшая своим умом и красотой веймарское общество, тоже понравилась; но слишком подвижный ее темперамент, ее многоречивость, готовность спорить целыми Днями несколько утомляли его, а главное – ее продолжительное пребывание мешало ему усидчиво работать.
Несмотря, однако, на все помехи, Шиллер успел-таки закончить «Телля» 18 февраля 1804 года. Восстание свободных горных жителей против чужеземного ига – содержание пьесы. Она словно заказана поэту самим народом для поднятия его духа. Тут заговор, как в «Фиеско», освобождение, как в «Орлеанской деве». Шиллер хорошо знал, что свобода не может быть подарком, что она должна быть завоевана самим народом. Отдельные личности: Телль, Баумгартен, Мельхталь, – должны были показать, какой мужественный дух живет в них; масса – собрание в Рютли – должна была показать, что ее охватило одно общее стремление – жажда свободы. Швейцарский народ жил в идиллии, и вдруг на него обрушивается гнет деспотизма, который он победоносно сбрасывает с себя. Телль убивает Геслера, и заговорщики одобряют Телля. Поэт украсил своего традиционно прославленного национального героя всеми свойствами великого человека. Шиллер, стоявший в «Орлеанской деве» на стороне Жанны, и в «Телле» берет всем сердцем сторону притесненных.
Возглас хора в «Мессинской невесте»: «На горах свобода!» – мог бы быть взят девизом Телля. В противоположность основной идее в «Мессинской невесте» – фатализма, неизбежности судьбы, – основная идея новой драмы – великая, почти чудесная сила личной, индивидуальной воли и восстание мужественного, честного народа, поднявшегося для противодействия невыносимому гнету и притеснению. Принижающая и тяжелая мысль о непреодолимости судьбы, против которой бессильны самые благие, самые упорные людские усилия, отстранена здесь, и вся драма озарена радостной уверенностью не только в красоте, но и в силе добродетели, и в конечном ее торжестве.
Не успел Шиллер закончить свою прекрасную народную драму, как его уже занимает новый трагический сюжет.
10 марта 1804 года он отмечает в записной своей книжке: «Решил писать „Дмитрия Самозванца“». Нужно думать, что внимание поэта обратилось на русскую историю вследствие пребывания его друга Вольцогена в Петербурге, куда тот отправился в свите веймарского наследного принца для обручения последнего с русскою Великой княжной.
Впрочем, поэт не тотчас же занялся новой драмой, а сначала поехал с женой и детьми в Берлин. По дороге оттуда его всюду встречали с участием и восторгом. В Берлине он свиделся со многими старыми приятелями – Гуфеландом, Фихте, Иффландом и другими. И тут, в театре, где с высшим сценическим совершенством были поставлены его пьесы, повторилась такая же восторженная сцена, как и в Лейпциге. Когда Шиллер вошел в ложу, зрители поднялись со своих мест и встретили шумными аплодисментами глубоко тронутого поэта. По выходе же из театра его провожали громкими и радостными криками. Берлинские друзья и почитатели поэта звали его сюда, надеясь, что он останется среди них и что им удастся выхлопотать для него у короля содержание в 3000 талеров и место в Берлинской академии. Из всего этого, однако, не вышло ничего, и Шиллер предпочел жить в Веймаре, куда он вернулся в июне 1804 года и где герцог удвоил его пенсию с 400 до 800 талеров. Вскоре по возвращении из Берлина поэт предпринял с женой экскурсию в Йену, но простудился на прогулке и слег в постель. Болезнь так сильно разыгралась, что лечивший его врач не думал, чтобы он мог еще выжить. Однако крепкая натура поэта взяла верх, и он остался жив. Пока он лежал больным в Йене, у него родился четвертый ребенок – дочь. Вернувшись в Веймар, Шиллер долго не мог поправиться и только уже в октябре стал приходить немного в себя; написал несколько стихотворений. Жить и не работать было для него невозможно. Не имея сил взяться теперь за оригинальную работу, он занялся переводом трагедии Расина «Федра» и закончил этот перевод в 26 дней.
Печально подходил для него к концу 1804 год. Сильные катаральные припадки мучили его, силы заметно слабели… Шиллер никогда не отличался цветущим видом. Его симпатичное лицо с высоким лбом, кротким, нежным, задумчивым взглядом, с несколько ввалившимися щеками и висками было худо и бледно, – теперь же оно приняло землисто-серый цвет. Что касается его настроения и характера, то под конец жизни Шиллера они стали еще более мягкими и добрыми.
Выпадавшими ему на долю хорошими минутами поэт наслаждался радостно и счастливо, как ребенок, действовал как мужчина и страдал, как герой. Одевался и держался он как нельзя более просто; отличительными его чертами были скромность, простота, отсутствие всякой вычурности. Из симпатий и антипатий его дошли до нас только три: он ненавидел пауков и очень любил лиловый цвет и лилии. Уже после смерти Шиллера, 9 ноября 1830 года, Гёте писал о нем Цельтеру: «Он обладал Христовым даром облагораживать даже все низменное, до чего он прикасался. Ему свойственно было преисполненное Богом стремление всюду бросать семя правды, подобно сеятелю в Евангелии, не беспокоясь, для птиц ли оно или для плодородной нивы…» А за два года перед тем Гёте говорил Эккерману: «Шиллер всегда и всюду являлся тем, чем он был на самом деле, – великим. Таким же сидел он за чайным столом, каким явился бы в государственном совете. Ничего не стесняло его, не сужало его кругозора, не тянуло к земле высокий полет его ума. Жившие в нем великие мысли он высказывал везде и всегда свободно, ничем не стесняясь, не обращая ни на что внимания. Это был настоящий цельный человек, такими нужно быть всем».
Следующие строки Гумбольдта, обращенные к Шиллеру из Рима в 1803 году, относятся к нему в равной мере как к человеку и как к поэту: «Наивысшее стало Вашей сферой, и обыденная жизнь не только не в силах мешать Вам в этом, но Вы еще и в нее вносите оттуда такую доброту, мягкость, ясность и теплоту, которые не могут скрыть своего высокого происхождения. Для Вас нужно просить одного только у судьбы – жизни».
Но судьба была неумолима: Шиллеру оставалось жить еще только недолгие месяцы. Когда Гёте 1 января 1805 года писал другу поздравительные строки, как-то неожиданно для него подвернулись ему под перо слова: «…и с последним Новым годом». Гёте поспешил написать другое поздравление, но, дойдя до роковой фразы, с трудом удержался, чтобы снова не написать того же.
Несмотря на высокий и ясный ум, Гёте не был свободен от предрассудков. Он испугался и за себя, и за друга. В тот же день сказал он г-же Штейн, что, наверное, он или Шиллер умрет в этом году. Однако сначала Шиллер опять несколько поправился. Он не думал, что смерть его так близка, хотя и относился к ней всегда со спокойствием мудреца. Разговор на эту тему с Каролиной Вольцоген он как-то раз закончил словами: «Смерть не может быть злом, так как это – нечто общее, универсальное».
В последнем письме к Кернеру, от 24 апреля, Шиллер говорит, что надеется дожить хотя бы до 50-ти лет. Несколько оправившись, он начинает строить планы различных путешествий; так, например, ему особенно хотелось побывать в Швейцарии, на родине Телля. Говорят, будто подобные желания путешествовать знаменуют у опасно больных приближение последнего великого их путешествия на тот свет. С Шиллером это так и было. В марте месяце он почувствовал некоторое облегчение; поэт ревностно занялся оставшейся неоконченной драмой «Дмитрий Самозванец». Она имеет общее сходство с «Орлеанской девой». И тут основной мотив – победное шествие в сознании доброго права. Но внезапно возникает сомнение, и следствием его является внутренний раздор и внешняя гибель. Претендент, считающий себя настоящим потомком Романовых, узнает, что он ошибался. Тем не менее он продолжает играть взятую на себя роль, и дело кончается тем, что он падает мертвым к ногам мнимой матери, которая отрекается от него. Шиллер заканчивал второй акт, когда его похитила смерть.
В его бумагах нашлась еще масса новых поэтических произведений и более 25 сюжетов трагедий и драм.
Между тем незримый посол, которого ничем нельзя ни задержать, ни умолить и который по своему произволу отрывает того или другого из людей от их занятий или удовольствий, стоял уже у дверей Шиллера. 29 апреля Гёте зашел вечером повидать друга. Вскоре явилась и Каролина фон Вольцоген, чтобы вместе с Шиллером ехать в театр. Внизу, у дверей дома Шиллера, два великих поэта простились, – как потом оказалось, навсегда. По дороге в театр Шиллер говорил Каролине о странном ощущении в левом боку, столько лет болевшем, – теперь он в нем решительно ничего не чувствует. Причина этого явления оказалась печальная: левое легкое перестало болеть, потому что совершенно вышло из строя. В театре с Шиллером сделался озноб. Вернувшись домой, он слег и больше не вставал. Тщетна была помощь докторов, напрасен неутомимый уход близких, любивших его людей. 9 мая утром (1805 года) поэт впал в бессознательное состояние и к вечеру скончался тихо, без страданий, 45-ти лет и шести месяцев от роду.
Никто не имел мужества сообщить печальное известие Гёте, не выходившему из дому по причине нездоровья. Когда несколько дней перед тем он узнал о серьезном положении Шиллера, он сказал: «Судьба неумолима, и человек значит мало», – и скорей перешел к другому разговору. «Шиллер очень болен?» – спрашивал он окружающих, заметив какое-то особенное смущение и недомолвки вечером, в день смерти Шиллера. Ночью слышали, как он плакал. Утром, на другой день, он спросил Христиану Вульпиус: «Шиллер был очень болен вчера?» Та разрыдалась в ответ. «Он умер?» – твердо произнес тогда Гёте и удалился, закрыв лицо руками. Через несколько дней он писал Цельтеру: «Я думал, что сам умру; я потерял друга, и в нем – половину моей жизни».
В минуту первого отчаяния Лотта писала: «Я пережила самое ужасное – я видела, как умирал Шиллер. Мир для меня теперь ничто, нигде не найду я покоя». Через несколько месяцев она пишет тому же лицу: «Я должна призвать всю свою силу, чтобы переносить эту жизнь. Но мужеством и покорностью судьбе хочу я показать, что сумела укрепить дух свой примером Шиллера». Воспитывая детей и свято храня память мужа, прожила бедная женщина до 1826 года, любимая и уважаемая всеми. Перед смертью она ослепла и умерла в Бонне несколько дней спустя после сделанной ей здесь глазной операции.
Известие о смерти Шиллера произвело ошеломляющее впечатление, – не только в Германии, но и во всей Европе. Особенно же горевали о нем в Веймаре, где одна дама сказала так: «Все оплакивают утрату великого писателя, мы же горюем, кроме того, о потере прекрасного, доброго человека». По местным обрядам поэта похоронили ночью в общем склепе, но 22 года спустя, в декабре 1828 года, останки его были перенесены в семейный склеп веймарских герцогов. 26 марта 1832 года присоединился к ним и прах только что умершего Гёте. Эти два темных дубовых гроба стоят рядом, с надписью металлическими буквами: на одном – «Шиллер», на другом – «Гёте». В Штутгарте образовалось общество, ежегодно торжественно поминавшее день смерти Шиллера, а 8 мая 1838 года, по почину этого общества, был поставлен на городской площади памятник поэту – его бюст работы Торвальдсена.
Из всего сказанного нами видно, что влияние Шиллера на умы его соотечественников было глубоким и захватывающим. Что же касается влияния его на русское общество, на нас, – то хоть и не в такой мере, а все же оно было весьма значительным. Да иначе и не могло быть. Такое благородство души и сердца, выраженное в таких прекрасных, неувядающих образах и символах, – это сокровище, которое принадлежит не одному только народу, а всем. С именем Шиллера, этого, как он сам себя называет, «современника всех эпох», и мы, русские, привыкли соединять все благородное, возвышенное, и мы тоже привыкли и ценить и любить этого великого поэта, жизнь которого была постоянной борьбой за идеал, постоянным стремлением к нему, к самым высшим нравственным и эстетическим целям. Мы привыкли ценить и любить его, – и даже более всего именно любить. Перед всеми другими великими писателями преклоняешься и благоговеешь, а Шиллера нельзя не полюбить. Значительное влияние поэта на русское общество явствует из многочисленных фактов: все произведения Шиллера неоднократно переводились и переводятся на русский язык. Так, например, между лирическими стихотворениями имеются такие, которые переведены до восьми и десяти раз. К сожалению, нельзя сказать, чтобы большинство этих переводов могли быть названы удачными. И тут, как почти всегда, когда дело идет о величайших писателях, в большинстве случаев известное итальянское изречение «Traduttori – traditori» (переводчики – предатели) сохраняет вполне свою силу. Но отрадным исключением являются переводы таких писателей, как, например, Жуковский, Л. Мей, А. Майков, И. Козлов, Ф. Тютчев, Струговщиков, М. Достоевский и другие.
Драматические произведения Шиллера тоже все переведены на русский язык и тоже все по нескольку раз.[1]
Из исторических работ Шиллера у нас имеются переводы «Истории отпадения Нидерландов от испанского владычества» и «Истории Тридцатилетней войны». Из философских, эстетических и критических трудов немецкого поэта переведены также весьма многие, а именно: «Философские письма», «Письма о Дон Карлосе», «О современном немецком театре», «Театр как нравственное учреждение» и другие.
Значительным фактом является также сам успех переводов сочинений Шиллера, – так, «Полное собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей» под редакцией Н. В. Гербеля, имело, например, уже шесть изданий. Стихотворения Шиллера вошли также в программы всех русских учебных заведений. И на нашей сцене драмы Шиллера имели большой успех. При первом же появлении своем «Разбойники» и «Коварство и любовь» пользовались у нас значительным успехом. Но затем они были запрещены и только недавно вновь разрешены для сцены. Также и «Дон Карлос» давался и теперь еще дается у нас. Лучшие русские артисты выступали в шиллеровских пьесах, – так, одной из лучших ролей Мочалова была роль Карла Мора. Лучшей ролью Щепкина была роль Миллера в «Коварстве и любви», а Ермолова и теперь с большим успехом играет «Орлеанскую деву» и «Марию Стюарт».
Со своей стороны, и русская критика отдавала должное великому немецкому поэту. Укажем, например, на статью Н. К. Михайловского «О Шиллере и о многом другом» (Сочинения, т. III, с. 190). Г-н Михайловский особенно высоко ценит в немецком поэте то употребление, которое он делает из своего таланта, его идейную тенденцию, то, что он никогда не «отделял своей поэтической способности от жажды познания и выработки нравственно-политического идеала». «Этот мировой гений, – говорит г-н Михайловский, – один из величайших поэтов, каких видел род людской, просто не понял бы эстетической теории уединения, обособления прекрасного от истинного и справедливого… Он вечно стремился растворить эстетическое наслаждение, подчинить его, отдать на службу нравственно-политическим целям. Это замечательно выдающаяся, характернейшая черта Шиллера – и как мыслителя, и как поэта, и как человека».
Наконец, когда в 1862 году Германия праздновала столетнюю годовщину рождения Шиллера, – и русское общество принимало живое участие в этом событии, – тогда же, при стечении громадной публики и под гром аплодисментов, было прочитано Я. П. Полонским написанное им прекрасное стихотворение, из которого мы приводим несколько строф:
Лучших дней не скоро мы дождемся: Лишь поэты, вестники богов, Говорят, что все мы соберемся Мирно разделять плоды трудов, Что безумный произвол свобода свяжет, Что любовь прощеньем свяжет грех, Что победа мысли смертным путь укажет К торжеству, отрадному для всех. Знаем мы, как чутко наше время. Как шпион, за всем оно следит И свободы золотое семя От очей завистливых таит. Но встает вопрос – народы ждут ответа.. Страшно не признать народных прав И для мысли, как для воздуха и света, Невозможно выдумать застав. Сколько раз твердила чернь поэту: Ты, как ветер, не даешь плода, Хлебных зерен ты не сеешь к лету, Жатвы не сбираешь в осень. Да,— Дух поэта – ветер; но когда он веет, В небе облака с грозой плывут, Под грозой тучней родная нива зреет, И цветы роскошнее цветут.Если часто жизнь великого писателя бывает более печальной и бурной, чем жизнь обыденных людей, пересказ такой жизни нередко может повлиять на душу читателя возбуждающим образом. Горько, конечно, видеть несчастье, а иногда, что еще хуже, – унижение стольких даровитых людей; но, с другой стороны, вдвойне ободрительно размышлять о тех немногих, кто среди жизненной грязи, искушений и огорчений шел, не запятнав себя, в сиянии мужественного и добродетельного величия. «Кто пишет героические поэмы, – говорит Мильтон, – должен был бы стараться, чтобы и жизнь его была такой же героической поэмой». Шиллер принадлежит именно к такому разряду. Чтобы достойно оценить поэта Шиллера, необходимо узнать поближе великого, благородного человека Шиллера. Чарующая сила поэзии его кроется, главным образом, в благородстве его сердца и в величии его характера. В Шиллере соединялось все то, что у большинства лиц является врозь. Он был одновременно прекраснейший, добрый человек, сильный, энергичный характер, глубокий мыслитель и великий поэт.
С внешней стороны жизнь его – мы это видели, – не была особенно счастлива. Родился он в бедной, скромной семье, рано узнал нужду и горе, молодость его была богата страстями и приключениями. Искать счастья явился он в Веймар, но достиг немногого – незначительной профессуры, позже – безбедного существования. Ко всему этому скоро присоединилась неизлечимая болезнь. Но три великих дара дала ему судьба: дружбу Гёте, ненарушимую любовь хорошей женщины с простым сердцем и, что ценнее всего этого, ценнее счастия в дружбе и любви, – непоколебимое величие души. Не в том главная заслуга Шиллера, что он писал прекрасные драмы и стихи, а в том, что он вливал в них часть своего духа и действовал, или хотел действовать, на мысль читателя или зрителя облагораживающим образом, хотел воспитывать и возвышать ее над уровнем низменной трезвости и обыденности. Почитая поэзию своею священною обязанностью, он считал, что высшее назначение поэта – воспитывать людей посредством красоты для свободы. Мстителем за правду вступил он в свой век: его стихотворения – военные песни в битвах прогресса. Он борется в них против всякой неправды, зла, лжи и торгашества.
Отличительная черта поэзии Шиллера – кроющееся в ней нечто «вечно юное», вызывающее деятельность и зарождающее мужество. Произведения немногих лишь избранников хранят такие никогда не блекнущие чары. Эти редкие писатели – настоящие герои человечества, потому что они – его воспитатели. Идеалист Шиллер старался преобразовать народный дух великими гуманными идеями. Он был поэт, пророк и ясновидец в самом высоком смысле, – в смысле неутомимого развития в своем народе и во всех народах стремления к прекрасному, доброму, великому и человечно-свободному.
Шиллер умер рано, слишком рано, – но к нему, как говорит Карлейль, можно применить слова шведского короля Карла XII: «Не довольно ли он прожил, если завоевал целые царства?» Завоеванные им у власти тьмы царства не запятнаны ни кровью солдат, ни слезами сирот и вдов, а увеличивают достоинство, счастье и могущество людей. Смело можно назвать великими тех деятелей, которые прославились такими бескровными победами над мраком и мглой, которые духовными приобретениями и духовным светом обогатили человеческий род. «Vivos voco» («Зову живых») – эти слова были лозунгом всех поэтических подвигов Шиллера. И с каждым из последующих подвигов он все громче и громче звал «живых», чтобы они сбросили с себя оковы низменного и поднимались бы выше и выше на ту ступень, на которой только человек получает значение для самого себя и для человечества. И не напрасно пронесся клик поэта, и не напрасно прозвучит он для тех, кому суждено увидеть в будущем свет солнца, суждено высоко поднять знамя истины и добра.
Источники
1. Emil Palleske. Schillers Leben und Werke. 1879 (Эмиль Паллеске. Жизнь Шиллера и его литературные произведения).
2. I. Scherr. Schiller und seine Zeit. 1865 (И. Шерр. Шиллер и его время).
3. Н. Viehoff. Schillers Leben, Geistesentwickelung und Werke. 1874 (X. Фихоф. Жизнь, духовное развитие и произведения Шиллера).
4. С.Нерр. Schillers Leben und Dichten. 1885 (Xenn. Жизнь и поэтическая деятельность Шиллера).
5. Thomas Carlyle. The life of Friedrich Schiller (Карлейлъ. Жизнь Фридриха Шиллера).
6. Wilhelm Scherer. Geschichte der deutschen Litteratur. 1883 (В. Шерер. История немецкой литературы).
7. Henry Nevinson. Life of Friedrich Schiller. 1889 (Невинсон. Жизнь Фридриха Шиллера).
Примечания
1
«Разбойники», переведенные в 1793 году Сандуновым, вновь переведены в 1828 году Кетчером и в 1857 году М. Достоевским; «Фиеско» появился в переводах Кетчера и Гербеля; «Коварство и любовь» – Смирнова; «Дон Карлос» – П. Ободовского, М. Лихонина и М. Достоевского; «Лагерь Валленштейна» – С. Шевырева и Л. Мея; «Пикколомини» – А. Шишкова и В. Лялина; «Смерть Валленштейна» – А. Шишкова и К. Павловой; «Мария Стюарт» – А. Шишкова. «Орлеанская дева» переведена Жуковским; «Мессинская невеста» – Ф. Тютчевым и Ф. Миллером; «Вильгельм Телль» – тоже Тютчевым и Миллером и, наконец, неоконченная трагедия «Дмитрий Самозванец» переведена Л. Меем. Из беллетристических вещей Шиллера переведены «Духовидец», «Ожесточенный», «Игра судьбы», «Великодушный поступок», «Прогулка под липами».
(обратно)



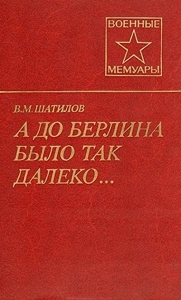

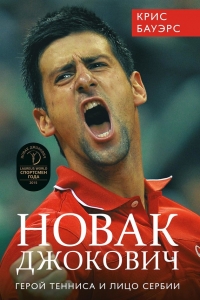
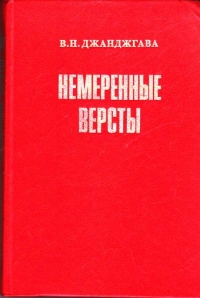
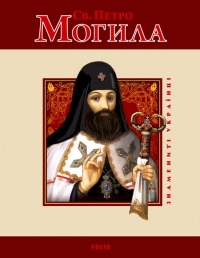


Комментарии к книге «Фридрих Шиллер. Его жизнь и литературная деятельность», Мария Валентиновна Ватсон
Всего 0 комментариев