А. И. Цокмакион Сервантес. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк А. И. Цомакион
С портретом Сервантеса, гравированным в Лейпциге Геданом
Глава I
Сервантес – отверженец судьбы. – Биографы Сервантеса. – Его родина. – Его семья. – Бедность.—Воспитание. – Любовь к природе и поэзии. – Учителя. – Хуан Лопес де Ойос. – Лопе де Руэда. – Состояние испанского театра в то время. – Взгляд Сервантеса на Лапе де Руэда, – Сервантес-юноша. – Его наружность. – Его любовь к военному делу. – Отъезд в Италию. – Священная лига. – Дон Хуан Австрийский. – Лепанто. – Наварин. – Галета. – Отъезд в Испанию.
«Не было в жизни моей ни одного дня, когда бы мне удалось подняться на верх колеса Фортуны; как только я начинаю взбираться на него, оно останавливается». К такому печальному выводу приходит Сервантес, приближаясь уже к концу своего жизненного пути, усталый, но не побежденный в двойной борьбе, с одной стороны, – за торжество своих идей с окружающими условиями жизни, с другой, – за свое личное существование с вечной материальной нуждой. «Слышал я, – говорит один из его излюбленных героев, простодушный Санчо Панса, – что эта называемая нами судьбой баба – причудливая, капризная, всегда хмельная и вдобавок слепая; она не видит, что творит, и не знает, ни кого унижает, ни кого возвышает». Эти приведенные нами слова на каждом шагу невольно вспоминаются биографу Сервантеса; на каждом шагу приходится ему убеждаться, что по отношению к великому испанскому писателю хмельная и слепая баба неизменно оказывалась более чем когда-либо причудливой и капризной и решительно не хотела знать, кого так упорно унижает. Нет никакого сомнения, что если Сервантес не был в конце концов побежден своими несчастьями, то только благодаря счастливым свойствам своей натуры, которыми щедро наделила его более благосклонная к нему природа и обладая которыми он являлся человеком вполне приспособленным для успешной борьбы со всевозможными невзгодами. Следя за ним шаг за шагом, начиная с молодых его лет, мы постоянно присутствуем при различных фазах этой нескончаемой борьбы, и часто невольно вспоминается нам известная сказка Гримма, где сходятся у колыбели ребенка две феи – добрая и злая – и решают его будущность, причем первая разрушает чары второй. Гениальный ум Сервантеса, раскрывавший перед ним обширные горизонты, уносил его в сферу широких идей и ставил выше мелких интересов личного существования; несокрушимая, в полном смысле слова железная воля позволяла ему стойко проводить в жизнь дорогие ему идеи правды, добра, справедливости и милосердия, всегда сохраняя таким образом душевную гармонию; глубокая, непоколебимая вера в добро и добродетель поддерживала его в те тяжкие минуты, когда великодушные мечты его разбивались о действительность; горячее, любящее сердце делало его способным жить и чувствовать себя счастливым чужим счастьем, а здоровая веселость нрава заставляла быстро забывать личные страдания и неудачи. Благодаря этим неоценимым свойствам, страдания и борьба только закаляли Сервантеса, сохранившего до последней минуты неприкосновенной веру в свои идеалы. Заканчивая твердыми шагами тяжелый жизненный путь, на котором судьба щедрою рукою нагромоздила терниев, тщательно убрав с него цветы, он все еще видел перед собою свою путеводную звезду и, озаренный ее тихим сиянием, мог высоко нести свою гордую седую голову, не умевшую склоняться ни перед людьми, ни перед обстоятельствами. Перелистывая страница за страницей его биографию, мы встречаем в ней много несчастий, но не встречаем минорных нот, и лебединая песнь его заканчивается могучими аккордами quito e energico.[1]
Первым обстоятельным биографом Сервантеса был испанец Наварет, живший в начале текущего (XIX. – Ред.) столетия и написавший сочинение под заглавием «Жизнь Сервантеса» на основании достоверных источников и собственных показаний творца «Дон Кихота». До тех пор многие пытались по возможности восстановить факты его жизни, но за неимением достоверных сведений эти попытки не давали никаких результатов. Так, например, первый по порядку биограф Сервантеса, Грегорио Маянс, составивший его жизнеописание в начале XVIII века (в 1738 году), простодушно заявляет, что обстоятельства жизни Сервантеса достоверно не известны. Толчок, данный Наваретом, вызвал ряд исследований, которыми занималась с тех пор целая плеяда испанских писателей. Эти изыскания продолжаются и сейчас, внося новый свет в изучение как жизни, так и творений великого испанского гения. В текущем столетии появилось немало биографий Сервантеса также и на иностранных языках; среди них биографии Виардо во Франции и Роско в Англии. Но главным источником для биографии Сервантеса продолжает служить до сих пор добросовестная работа Наварета.
Мигель де Сервантес Сааведра родился в 1547 году в небольшом, но цветущем городке Алькала де Энарес, в двадцати милях от Мадрида. Он был младшим членом бедной, но знатной семьи идальго. Отца его звали Родриго Сервантес, мать – Леонора Кортинас. Кроме Мигеля, в семье были две дочери, Андреа и Луиза, и сын Родриго. Фамилия Сервантес насчитывала уже пять столетий рыцарства и общественной службы и была не только широко распространена в Испании, но имела своих представителей в Мексике и в других частях Америки. «Семья эта, – говорил историк, – является в испанских летописях в течение пяти столетий окруженною таким блеском и славою, что относительно происхождения ей нет основания завидовать какой бы то ни было из наиболее знатных фамилий Европы». Сааведра были первоначально горцами Северной Испании, но в XI столетии, вооружившись на защиту христианства против мавров, они прошли всю Испанию, затем с течением времени частью переселились в Новый Свет, частью же рассеялись по всему полуострову, продолжая строго держаться традиций гордых идальго и постепенно все более и более впадая в крайнюю бедность. Путем брачных уз фамилия Сааведра соединилась в XV веке с фамилией Сервантес, которая в XVI веке пришла, по-видимому, в крайний упадок.
На последнее обстоятельство, вероятно, намекает Сервантес в своем «Дон Кихоте», заставляя сказать своего героя: «Есть два рода дворянства и родословных. Одни происходят от королей и принцев, но мало-помалу значение их умалилось, и, вышедши из широкого основания, роды эти окончились, как пирамида, едва заметною точкою; другие же, напротив, происходя от скромных и безызвестных предков, мало-помалу стяжали себе известность и блеск. Так что, Санчо, одни становятся тем, чем они не были, а другие были тем, чем перестали быть».
Гордые своим происхождением дед и отец Сервантеса старались утешить себя в настоящей бедности, часто вспоминая о прежнем величии своей фамилии. Рассказам о подвигах Сааведра не было конца в доме Родриго Сервантеса, и они составляли любимую тему для разговоров у его семейного очага. Таким образом, одним из первых впечатлений, которые легли на душу маленького Мигеля, была гордость своим происхождением и славою своих предков. Он никогда не забывал, что был членом семьи Сааведра. Но рядом с этими воспоминаниями о безвозвратно угасшем величии входили в душу ребенка другие, совершенно противоположные впечатления, вызванные крайней бедностью окружавшей его обстановки. Можно думать, что первая страница «Дон Кихота», знакомящая нас с домашним бытом бедного испанского идальго, носит характер автобиографический, подобно многим другим страницам этого романа, и что описание это почерпнуто Сервантесом из отдаленных воспоминаний детства.
«В небольшом местечке Ламанча, – говорит он, – жил недавно один из тех идальго, у которых можно найти старинный щит, копье на палке, тощую клячу и гончую собаку. Кусок отварной баранины, изредка говядины к обеду, винегрет вечером, кушанье скорби и сокрушения по субботам[2], чечевица по пятницам и пара голубей, приготовлявшихся сверх обыкновенного в воскресенье, поглощали три четверти его годового дохода. Остальная четверть расходовалась на платье его, состоявшее из тонкого суконного полукафтанья с плисовыми панталонами и такими же туфлями, надеваемыми в праздник, и камзола из лучшей туземной саржи, носимого им в будни».
И, несмотря на такие скудные средства к жизни, рассказывает далее Сервантес, свободное время его героя состояло чуть ли не из 365 дней в году. Описание это довольно яркими красками рисует нам гордую бедность испанского идальго, готового скорее переносить недостаток, нежели унизиться до непривычного труда, пятнающего, по его мнению, память великих предков. Еще характернее строки, встречаемые нами во второй части романа:
«О бедность, бедность! – восклицает Сервантес. – К чему ты гнездишься по преимуществу между идальго и дворянами? К чему ты заставляешь их класть заплаты на башмаки свои и на одном и том же камзоле носить пуговицы всякого рода: шелковые, костяные, стеклянные? Почему воротники их большею частью измяты, как цикорные листья, и не выкрахмалены? О, несчастный идальго, с твоею благородной кровью! Затворивши двери, питаешься ты лишь своею честью; и к чему, выходя из дому, лицемерно употребляешь ты зубочистку, не съевши ничего такого, что могло бы тебя заставить чистить себе зубы. Несчастны эти щекотливо самолюбивые люди, воображающие, будто все видят за милю заплатку на их башмаке, вытертые нитки на их плаще, пот на шляпе и голод в желудке».
В такой или, во всяком случае, очень похожей обстановке родился и воспитывался Мигель Сервантес. День рождения его в точности неизвестен; достоверно, однако, что крещение он принял 9 октября 1547 года, а так как у католиков был обычай совершать этот обряд вскоре после рождения, то предполагают, что родился Сервантес в тот же день или накануне. Другие биографы относят день рождения его на 29 сентября, то есть день св. Михаила, на основании существовавшего у испанцев обыкновения давать ребенку имя того святого, в день которого он родился. О детстве Сервантеса мы имеем лишь очень скудные сведения. Почти единственными источниками для ознакомления с этой первой порой его жизни служат некоторые указания, часто только намеки, разбросанные там и сям в его сочинениях. Известно, что первое воспитание он получил в родном городке Алькале. В своем «Разговоре собак», написанном уже в старости, Сервантес с любовью вспоминает о начальном училище, которое он посещал, будучи ребенком; но нигде из его слов нельзя заключить, чтобы кто-нибудь особенно интересовался его образованием в это время. В той среде, в которой пришлось расти Сервантесу, больше всего заботились о том, чтобы воспитать в ребенке чувства настоящего идальго, верного унаследованным от предков традициям; на образование же смотрели как на предмет маловажный, о котором особенно хлопотать нет надобности. Между тем Сервантес родился и вырос, так сказать, в центре испанской образованности того времени.
В описываемую эпоху город Алькала переживал свой расцвет благодаря учрежденному здесь кардиналом Хименесом де Циснеросом университету. Расположенный среди цветущей мирной равнины, недалеко от столицы и вместе с тем в стороне от суеты и шума большого центра, город Алькала привлекал к себе учащуюся молодежь из Каталонии, Андалусии и Кастилии. Здесь встречали радушный прием как искусства, завезенные сюда из Италии, так и точные науки, занесенные с юга Испании арабами. Тем не менее, родившийся в этом центре просвещения Сервантес никогда не был причастен к Алькальскому университету. Родители его были настолько бедны, что не имели средств дать ему высшее образование. «Сыновья разбогатевших купцов, – говорил он впоследствии, – посылали своих детей в школы. Но сын семьи Сааведра был лишен возможности следовать по пути, который ведет к почестям». Однако склад окружающей жизни все же оказал свое влияние на ум Сервантеса; в нем рано пробудились любознательность и та чрезвычайная вдумчивость, которая так заметно отражалась впоследствии на всей его деятельности. Живой и впечатлительный юноша, мало знакомый со школьной наукой, учился главным образом по двум книгам. Первою из этих книг была природа, которую он любил всей душою, второю – сама окружающая его жизнь, которую он рано научился наблюдать и из которой умел выносить полезные для себя уроки. Услуги, оказанные ему этими двумя книгами, были во всяком случае не хуже тех, которые он мог ожидать от схоластической науки XVI века. Сервантес обожал родной город и, уже будучи ребенком, хорошо ознакомился с ним.
Часто впоследствии описывал он берега и свежие струи своего Энареса, и эти воспоминания, живые и отчетливые, заставляют думать, что нередко школьные занятия мальчика приносились в жертву ради загородных прогулок, ради возможности подышать чистым воздухом на берегу реки и насладиться видом окрестных холмов, окаймляющих равнину.
Но не только природу любил Сервантес. По его собственному свидетельству, у него рано проявилась также и любовь к чтению, и он читал все попадавшееся ему под руку, подбирая даже клочки исписанной бумаги, валявшиеся где-нибудь в грязи на улице. В книгах нравилось ему все, что рождало плодотворную мысль, что вызывало живое впечатление. «С первых лет нежного детства моего любил я столь сладостное искусство изящной поэзии, – говорит он впоследствии в своем „Путешествии на Парнас“, обращаясь к Аполлону, – и посредством ее всегда старался нравиться тебе». Эти ранние занятия поэзией не остались без последствий для Сервантеса; хотя он и не сделался выдающимся поэтом, – для этого он был слишком философ, – тем не менее, его изящная, свободная проза, его живой образный язык носят на себе следы его юношеских стихотворных опытов.
Судя по некоторым имеющимся данным, Сервантес продолжал свое образование в Мадриде и провел два года в Саламанкском университете, изучая юриспруденцию, но не получил ученой степени, что не раз ставилось ему на вид его врагами и служило для последних постоянным оружием против него.
Хотя первыми учителями молодого Сервантеса были природа и поэты, но имелись у него также и другие наставники, оказавшие громадное и неизгладимое влияние на его умственное развитие. Один из них был священник, живший в Мадриде, другой – странствующий народный актер. Священник по имени Хуан Лопес де Ойос преподавал риторику и составил себе славу тем, что содействовал развитию молодых талантов, заставляя их заниматься сочинением небольших поэтических произведений и с любовью руководя этими работами молодежи. В 1569 году, по случаю смерти Изабеллы Валуа, несчастной супруги Филиппа II, печальная судьба которой изображена Шиллером в его «Дон Карлосе», Ойос предложил своим ученикам написать на конкурс хвалебное стихотворение в честь покойной королевы. Между стихотворениями, напечатанными им по этому случаю, особенной похвалы удостоились шесть вариантов, написанных Сервантесом, его, как он выражался, «дорогим и возлюбленным учеником», которому он поспешил публично выразить свое уважение. Таким образом, этот первый дебют на литературном поприще молодого Сервантеса, которому было тогда 22 года, увенчался блестящим успехом. Однако на самом деле его стихотворения не отличались достоинствами, в достаточной степени оправдывающими восторженные похвалы учителя. Тем не менее, достоверно установленный факт, что одна из элегий Сервантеса была издана от имени всей школы, доказывает, каким уважением пользовался он со стороны товарищей своих.
Другим учителем Сервантеса был, как сказано, кочующий актер Лопе де Руэда. По ремеслу золотых дел мастер, он по неизвестным нам причинам оставил как свое занятие, так и свое местожительство, Севилью, и сделался одновременно актером и драматическим писателем. Это был самородок, одаренный необыкновенным комическим талантом. Он собрал небольшую труппу из нескольких актеров, исполнявших и мужские, и женские роли, так как в то время женщины не допускались на подмостки. Репертуар составляли пьесы его собственного сочинения: четыре комедии, два пастушеских coloquis[3], десять диалогов в прозе и два диалога в стихах. Пьесы эти разыгрывал он на площадях Севильи, Кордовы, Валенсии, Сеговии и по всей вероятности еще и других городов, приводя в восторг своих нетребовательных слушателей, между которыми одним из самых восторженных был молодой Мигель Сервантес.
Во времена Лопе де Руэда испанский народный театр находился в периоде зарождения и своим возникновением обязан этому странствующему актеру-драматургу. До тех пор драматические представления в Испании ограничивались религиозными пантомимами, которые устраивались для народа в церквах под наблюдением духовенства, и доступными для немногих избранных частными спектаклями, исполнявшимися при дворе или во дворцах вельмож. Здесь разыгрывались пьесы первых испанских драматических писателей: Хуана Энцины, Хиля Виценте, Торреса Нахаро и других, из которых только последний сделал попытку придать театру более или менее народный характер.
Лопе де Руэда первый вынес эти представления на площадь и приспособил их к пониманию, вкусам и нравам толпы. Главною целью разнообразных по форме драматических произведений, созданных Лопе де Руэда, было желание позабавить публику низшего класса. При этом средства, которыми он располагал для своей цели, были так мизерны, что они не могут идти в сравнение даже с теми приспособлениями, которыми обыкновенно обставляются в наше время кукольные комедии. Переходя со своею труппой из города в город, из селения в селение, он устраивал свою незатейливую сцену в первом удобном для этого месте. В 1558 году мы застаем его в Сеговии, где он дает представления в новом соборе в течение недели, следовавшей за его освящением. В 1560 году он располагается на одной из площадей города Алькалы. Здесь на скамье для зрителей можно было видеть молодого мальчика, явившегося чуть ли не первым занять место на представление любимца уличной публики. Огненные глаза мальчика, не пропускавшие ни одного движения актеров, вздрагивавшие от внутреннего волнения тонкие подвижные ноздри и вместе с тем неподвижная поза, в которой он, казалось, застыл при первых словах, сказанных со сцены, – все обличало в нем в высшей степени напряженное внимание и страстный интерес к происходившему. Этот прелестный, симпатичный мальчик был Мигель Сервантес, которому мы обязаны самыми подробными сведениями о народных представлениях Лопе де Руэда и об их авторе.
«Во время этого знаменитого испанца, – говорит автор „Дон Кихота“ в прологе к своим комедиям, – все бутафорские принадлежности умещались в одном мешке и состояли из четырех белых пастушеских курток с кожаными отворотами и с позолотою, четырех бород, коллекции париков и четырех или более посохов. Пьесы наподобие эклог состояли из разговоров между двумя или тремя пастухами и пастушкою. В них вставлялись две или три интермедии, где появлялись негр, негодяй, шут, а иногда и бискаец. Все эти четыре роли и многие другие исполнял сам Лопе де Руэда с неподражаемым искусством». Комедии разделены были на сцены не длиннее обыкновенных фарсов, с которыми они вообще сходны по характеру. «В это время, – продолжает Сервантес, – не употребляли никаких машин, не прибегали к привидениям, выходящим как бы из центра земли… Не были в ходу также и спускающиеся с неба облака, на которых приносились ангелы или души усопших… Сцена состояла из четырех скамеек, образующих четырехугольник, устланный досками, и возвышалась над поверхностью земли не более как на четыре пяди… Старое одеяло, отдергивающееся с помощью двух веревок, отделяло от публики так называемую уборную, где помещались музыканты, которые пели старинные баллады, не имея даже гитары для аккомпанемента».
При такой незатейливой обстановке разыгрывал Лопе де Руэда свои комедии, интермедии и диалоги. Последние представляли небольшие бойкие сценки без интриги и развязки, предназначенные позабавить на несколько минут праздную публику. Так, например, сюжетом двух диалогов служат проделки обжор вроде слуги, который «нечаянно» съедает вкусный пирог, посланный его господину в подарок от его возлюбленной, и после долгой мистификации наконец простодушно сознается в своем проступке. В других диалогах происходят сцены между трусами и мошенниками. Вообще сюжеты их взяты из обыденной жизни и обработаны очень остроумно. Не менее забавны и комедии. В одной из них, под заглавием «Оливки», двое супругов доходят до крайних пределов раздражения и избивают до полусмерти свою ни в чем неповинную дочь, споря о том, по какой цене будут они продавать оливки, собранные с деревьев, для посадки которых еще не вскопана земля.
Представления начинались, когда собиралось достаточное количество зрителей. Они происходили до полудня и после полудня. Так, например, по окончании одной из своих пьес Лопе де Руэда просит своих слушателей разойтись покушать, а потом снова возвратиться на свои места. Как сам антрепренер, так и вся его маленькая труппа пользовались большою симпатией публики, несмотря на то, что они принадлежали к отверженному в то время сословию комедиантов. Что же касается Сервантеса, то он до конца жизни сохранил во всей силе и свежести впечатление от наивных пьес народного актера. Сценический талант последнего, его наблюдательность и здравый смысл представлялись автору «Дон Кихота» чем-то настолько выходящим из ряда, что даже за год до смерти своей он писал о нем хвалебный отзыв, глубоко сожалея, что не может во всех подробностях воспроизвести запечатлевшиеся в памяти воспоминания о Лопе де Руэда.
«В пастушеской поэзии, – говорил Сервантес, будучи уже стариком, – он был неподражаем; в этом роде поэзии ни раньше, ни после никто не превзошел его, и хотя (будучи тогда ребенком) я не мог правильно оценить достоинства его стихов, тем не менее, когда теперь, находясь в зрелом возрасте, я вспоминаю сохранившиеся у меня в памяти некоторые строфы, то прихожу к заключению, что вынесенное мною впечатление было совершенно правильно».
Сообщенными нами сведениями исчерпывается все, что известно о детстве Сервантеса. Неудивительно после всего сказанного, что из него выработался юноша более умный, нежели ученый, вооруженный для будущей деятельности в большей степени способностью наблюдать окружающую жизнь, нежели начитанностью. К двадцати годам это был молодой идальго, дорожащий знатностью своего имени и славою предков, гордый, несмотря на свою бедность, с характером, закалившимся в борьбе с материальными лишениями, независимый, свободолюбивый, смелый и страстно жаждущий полезной и самоотверженной деятельности. Его мужественная красота как нельзя более гармонировала с внутренним содержанием. На сохранившихся портретах его мы видим человека с лицом энергичным и выразительным, с высоким лбом, с откинутыми назад волосами, с правильной дугообразной линией бровей. Орлиный нос с тонкими подвижными ноздрями, изящная извилистая линия губ, огненные, проницательные, широко открытые глаза с легким оттенком иронии во взгляде, – все это резко, определенно и изобличает натуру прямую и цельную, человека деятельного и положительного, не имеющего ничего общего с мечтателями.
Если мы припомним строй тогдашнего испанского общества, где согласно национальным чертам характера, выработанным в вековой борьбе с маврами, идальго неизбежно должен был быть или военным, или духовным лицом, то для нас не останется никакого сомнения, что такой юноша, каким был Сервантес, не мог не стремиться к военной карьере. Брат его, Родриго, находился в то время уже в рядах войск, посланных во Фландрию; младшему брату естественно было оставаться при семье, но он и слышать не хотел о какой-либо мирной деятельности, тем более духовной. Военные доблести представлялись ему выше всех возможных добродетелей. Он находил, что среди невзгод и лишений военной жизни лучше всего должны вырабатываться все высокие качества души, что удел натур добрых и великодушных – постоянно бороться с опасностями на пользу ближних. Эти взгляды юноши-Сервантеса сохранились в неприкосновенной силе и для Сервантеса-старца. В его бессмертном «Дон Кихоте», написанном им на склоне жизни, часто, встречается сравнение деятельности воина с деятельностью людей других профессий, причем всегда отдается предпочтение воину, поднявшему оружие на защиту слабых и угнетенных.
Между тем обстоятельства складывались, по-видимому, неблагоприятно для стремлений молодого Сервантеса к военной карьере. По случаю смерти Изабеллы Валуа папа послал в 1570 году к Филиппу II кардинала Аквавиву, которому поручено было вручить королю письмо с выражением соболезнования. Дурно принятый Филиппом II, менее всего нуждавшимся в соболезнованиях, Аквавива как любитель поэзии обратил особое внимание на стихотворения, обнародованные в честь покойной королевы, и на поэтов, писавших эти стихотворения. В особенности заинтересовал его Мигель Сервантес, заслуживший такие горячие похвалы со стороны своего учителя. Желая содействовать развитию молодого таланта, Аквавива увез его с собой в Рим в качестве своего дворецкого. Таким образом, вместо давно желанного меча юноша очутился с пером в руках. Но призвание ждет только благоприятного случая, чтобы пробить себе дорогу; так случилось и с Сервантесом, для которого военное дело было истинным призванием в той же степени, как и поэзия. «Верь мне, Санчо, – говорит Дон Кихот, – никогда еще ни меч не притуплял пера, ни перо – меча». Со дня отъезда в Рим перо и меч составляют оружие, которым попеременно и одинаково успешно сражается Сервантес, смотря по тому, что более пригодно ему в данном случае. Очутившись в Италии в звании дворецкого или камергера знатного кардинала, гордый испанец не мог помириться со своим зависимым положением и решил так или иначе покинуть папский двор.
Обстоятельства на этот раз благоприятствовали его намерению. Раздававшийся кругом шум оружия снова пробудил в нем на время усыпленную страсть к военным подвигам. В это время, то есть в 1571 году, весь юг Европы поднялся на защиту христианства против неверных. Турки господствовали на Средиземном море, победоносно заняв его своим флотом; всюду сновали их корсары, наводя страх и ужас на мирных торговцев. Прочно укрепившись на берегах Греции, они безнаказанно грабили прибрежное население двух остальных полуостровов и уводили в плен людей, нисколько не смущаясь угрозами возмущенных испанцев. Вынужденные положить предел дерзости мусульман папа Пий V, Филипп II и Венеция заключили против турок Священную лигу. По всей Италии раздавался военный клич и слышался лязг оружия; на верфях Генуи вооружали галеры; на римских площадях испанские офицеры производили смотр войскам. Когда же командование союзным флотом поручено было пользовавшемуся громадной популярностью побочному брату Филиппа II, сыну Карла V, дону Хуану Австрийскому, тогда всеобщее возбуждение достигло крайних пределов. Радостная весть пронеслась по всему Средиземному морю; со всех сторон стекались солдаты; студенты побросали свои книги, многие поэты вступили в ряды испанских войск. Особый престиж, окружавший имя дона Хуана, объяснялся как его выдающимися личными качествами, так и главным образом тем, что стремления его совпадали с господствующим настроением общества. Все надежды угрожаемого христианства обращены были на него; в нем одном видели все спасение. Сервантес оставил свои занятия поэзией и поступил волонтером в качестве простого рядового. «Лучшие воины – те, которые оставили науку ради войны, – писал он незадолго до смерти, – хороший студент всегда будет храбрым солдатом». Для Сервантеса, увлеченного сначала только перспективою военных подвигов и желанной славы, вскоре выяснилась серьезная сторона вопроса – политическое значение данной минуты и роль дона Хуана как защитника веры. С этих пор идея эмансипации христиан, находящихся во власти неверных, служит на долгое время руководящей идеей его жизни, составляя вместе с тем тему значительной части его поэтических произведений.
15 сентября 1571 года союзный флот вышел в море. Молодой Сервантес, волнуемый наплывом непривычных чувств и мыслей, не выдержал слишком сильных впечатлений. Наэлектризованный окружающей напряженной атмосферой, он до того поддался общему настроению, что заболел сильнейшей нервной лихорадкой. Между тем флот, направляемый отважным двадцатилетним генералиссимусом, смело шел к берегам Греции. 8 октября в виду Лепанто произошла встреча его с турецкой флотилией и завязалась горячая схватка. Сервантес лежал совсем больной на своей койке. Услышав еще до начала битвы на палубе корабля необыкновенный шум и движение, он догадался, что настал час сражения. Не теряя ни минуты, он вскочил с койки, взбежал наверх и потребовал, чтобы ему немедленно назначили пост. Капитан без дальнейших объяснений приказал ему удалиться с палубы; друзья уговаривали его укрыться в безопасном месте, там, где находилась его койка. При этих увещаниях краска стыда залила бледное лицо больного. «До сих пор, – воскликнул он, – я служил как бравый солдат; теперь, как бы я ни был болен, я предпочитаю умереть, сражаясь за Бога и короля, вместо того чтобы постыдно укрываться в безопасном месте». Сервантес потребовал вторично, чтобы его назначили на почетный пост. Настойчивость его одержала верх; ему указали место в шлюпке, привязанной сбоку корабля; здесь помещались кроме него еще двенадцать его товарищей. В смысле грозившей опасности это было то же, что стоять в первом ряду.
По знаку, поданному доном Хуаном, оба флота начали бой. Столкновение их было ужасно. Битва длилась все утро. Каждое судно обратилось в арену отчаянной схватки. Презирая грозившую опасность, с распятием в поднятой руке, дон Хуан переезжал на шлюпке от судна к судну, возбуждая к бою сражающихся. События этого дня запечатлели в памяти Сервантеса долго жившие в ней образы, следы которых нередко встречались впоследствии в его сочинениях. К концу боя у него оказалось четыре раны. Левая рука его так сильно была разбита, что он навсегда перестал владеть ею. Битва закончилась победою союзного флота; 15 тысяч рабов, служивших гребцами на турецких галерах, получили свободу, и победителям в пылу опьянения успехом казалось, что дело освобождения христианства уже совершилось. Общее ликование не знало пределов. Сервантес был отвезен в Мессину и провел зиму в госпитале, откуда выписался только в апреле 1572 года. Чувствуя себя в силах снова взяться за оружие, он поступил весною в отряд адмирала Колонны, в рядах которого принял участие в битве при Наварине. Поражение дона Хуана в этом сражении глубоко задело за живое его молодого поклонника; Сервантес почувствовал себя как бы униженным после этой неудачной травли неприятельских судов. Но дон Хуан не терял надежды одолеть врага и, вернувшись в Италию, составил новый план нападения. К этому времени умер папа Пий V, и священная лига близилась к окончательному распаду. Дон Хуан решил действовать самостоятельно; он задумал основать либо в Греции, либо на берегу Африки независимое испанское королевство и таким путем вести систематическую борьбу с исламом. Взоры его обратились к Тунису и Голете, которою уже пытался овладеть Карл V. Но, к несчастью, новый поход дона Хуана стал знаменит лишь в смысле огромного бедствия: Голета сделалась могилою трех тысяч христианских воинов. Сервантес, принимавший вначале участие в этом предприятии, вернулся в Сицилию с доном Хуаном, когда последний был отозван Филиппом II.
Вместе с падением Голеты упал в значительной степени и престиж дона Хуана. Его послали во Фландрию, где он вскоре умер. Испанские войска, участвовавшие в кампании, были по большей части распущены. Жизнь в Италии не представляла теперь для Сервантеса ничего привлекательного. Служба в жалком гарнизоне имела слишком мало общего с его юношескими романтическими грезами. Он решил вернуться на родину и подал в отставку. Уезжая в Испанию, Сервантес пожелал заручиться рекомендацией своих начальников. Дон Хуан снабдил его письмами, в которых свидетельствовал о его безупречном поведении. Добыв этот документ, юноша воспользовался первым удобным случаем, чтобы покинуть Италию, и в сентябре 1575 года на корабле «Эль-Соль» отплыл из Неаполитанского залива. Четыре-пять лет военной службы Сервантеса в Италии не прошли бесследно для его развития. Много суровых уроков пришлось ему выдержать за это время, многое видеть, многое узнать, о многом передумать. Благодаря походам и экспедициям, в которых он принимал участие, ему удалось побывать во многих местностях Италии и прожить в Неаполе более года. Это близкое знакомство с чужою страной дало ему критерий для более трезвого и правильного суждения о своей родине, обогатило его ум новыми наблюдениями и выводами. Несмотря на вынесенные лишения и страдания, несмотря на то, что он остался навсегда калекой после своих походов, Сервантес никогда не жаловался на этот период своей жизни. Напротив того, сорок лет спустя, с гордостью вспоминая все перенесенное за эти годы, он говорил, что, если бы ему предоставлено было выбрать себе жизненное поприще, он снова бы избрал свои раны, которые считал легким искуплением за славу быть участником такого великого дела. «Друг мой, – говорит Дон Кихот, наставляя бывшего пажа, – если старость застанет тебя под оружием, то хотя бы ты был изувечен, хром, покрыт ранами, ты будешь вместе с тем покрыт славою, и никакая бедность не омрачит того блеска, которым озарит тебя слава».
Глава II
Сервантес взят в плен алжирскими пиратами. – Его рабство в Алжире. – Жестокость его неволи. – Попытки к бегству. – Деятельность Сервантеса среди пленных. – Освобождение. – Приезд на родину. – Отчаянное положение. – Поступление на военную службу. – Жизнь в Португалии. – Изабелла. – «Галатея». – Женитьба. – Переселение в Мадрид. – Литература делается главным занятием Сервантеса.
С восторгом вступил Сервантес на корабль «Эль-Соль», который должен был привезти его на родину. Но судьба распорядилась иначе. 26 сентября «Эль-Соль» был окружен целой эскадрой алжирских корсаров и после долгого, отчаянного сопротивления признал себя побежденным. В качестве пленного судна он был отведен неприятелем в Алжир. Когда грабители, прибыв в алжирский порт, приступили к дележу добычи, Сервантес достался свирепому ренегату-греку, носившему арабское имя Дали-Мами, но известному большинству под кличкою Хромой. «Я очутился, – писал впоследствии Сервантес, – под тяжелым игом неволи». Рабство его продолжалось пять лет. В течение этого времени ему удалось в подробностях изучить положение пленных христиан на берегу Африки, и наблюдения эти послужили впоследствии материалом для значительной части его литературных произведений. Что же касается подробностей его пребывания в неволе и деятельности в Алжире в качестве утешителя и заступника товарищей по несчастью, то, по удачному выражению Френцеля, это лучший перл в жизни Сервантеса.
Картина, которую увидел Сервантес, сойдя на берег Африки, явилась поразительным и совершенно новым для него зрелищем. Участвуя до сих пор в борьбе христианства с исламом только на море, он не мог составить себе и слабого понятия о том, что творилось в Алжире, этом притоне турецких корсаров, этой метрополии контрабандистов, где находили себе приют и гостеприимство все подонки Европы. Об этих пиратах, населяющих северный берег Африки, ходили по ту сторону моря страшные, наводящие трепет слухи; рассказывали, между прочим, что эти грозные разбойники похищают молодых девушек с берегов Италии и Испании и населяют ими турецкие гаремы. Сервантес почувствовал себя как бы очутившимся у подножия Вавилонской башни, до того поразило и оглушило его при вступлении на берег пестрое смешение всевозможных рас и национальностей, людей, говоривших на каком-то неслыханном жаргоне, составленном из смеси всех языков без определенных правил произношения. Тут, на берегу, в невообразимой сутолоке толпились арабы рядом с евреями, греками и турками; среди иноверцев суетились христиане; были между последними и рабы, служившие здесь в качестве садовников, ремесленников или гребцов; были и свободные, по большей части купцы, явившиеся под защитою охранных листов с разнообразными товарами, начиная от английского железа и испанских крашеных тканей и кончая русскими финифтяными изделиями. Между купцами сновали покупатели; алькады, янычары, свирепые военачальники толпились на пристани в невообразимом хаосе. У моря кипела работа: там строились, снаряжались и оснащались галиоты – все руками христиан-рабов. Гребцами служили также исключительно пленные христиане.
Тяжелые думы овладели Сервантесом, когда он окинул взором этот берег, где некогда, еще не так давно, в царствование Фердинанда Католика, развевалось кастильское знамя. Ему вспомнились экспедиции Карла V, мечтавшего основать свой военный пост на африканском берегу.
«В тот день, – говорит он, – когда я прибыл побежденным на этот берег, о котором так много говорят все и который служит местом встречи и центром для стольких пиратов, я не мог удержаться от слез. Не знаю, каким образом, неожиданно для самого себя, я почувствовал, что лицо мое смочено слезами. Мысленному взору моему представились река, гора, откуда снялся с якоря великий Карл, распустив по ветру свое знамя; представилось и море, которое, завидуя великому предприятию и славе короля, показало себя на этот раз сердитее, чем когда-либо. Пока эти мысли носились в уме моем, из глаз моих лились слезы, понятные при виде такого вопиющего разгрома».
Вскоре Сервантесу пришлось убедиться, как твердо держались турки на северном берегу Африки. Относительно правильная организация Алжира, казалось, служила гарантией прочности их владычества. Заняв место мавров, они стали здесь полными хозяевами; пленные христиане служили им бессловесными рабами и работали на них до истощения сил. Государство кормилось двойными разбоями: набегами внутрь страны и грабежом на море. Вскоре после того, как Сервантеса привезли в Алжир, ему пришлось увидеть возвращение сухопутных грабителей и ликование города при дележе добычи. Он увидел также прибытие в алжирскую гавань экспедиции пиратов; немного времени спустя ему стали в подробностях знакомы неизменно повторявшиеся здесь приемы разгрузки судов. Прежде всего собирались все весла и уносились в соседний склад для хранения. Раньше этого никто из турок не смел ступить на землю из опасения, чтобы гребцы-христиане не воспользовались малейшим недосмотром и не ушли в море. Потом уже происходила разгрузка награбленного добра. Церемония эта неизменно сопровождалась шумным выражением восторга со стороны не только толпы, но и самого дея. Когда добыча бывала снесена на берег, начинался осмотр пленных. Их обыскивали и распределяли по категориям: богатых и знатных отделяли от бедных и от простых граждан. Первые представляли высокую денежную ценность: за них можно было получить большой выкуп, и в ожидании его с ними обращались бережно, часто даже подобострастно. Зато на бедных смотрели как на рабочий скот; им тотчас надевали кандалы, назначали тяжелые работы, их запирали в тюрьмы и всячески тиранили. Тут же на пристани начинался возмутительный торг человеческим товаром, элементарная борьба за существование. Между тем как пленные старались скрыть свое общественное положение на родине и свое состояние, чтобы понизить цену выкупа, хозяева, напротив, старались возможно более почтительно обращаться с ними, чтобы поднять цену своего товара в глазах покупщиков. Часто превращали они простого солдата в генерала, матроса – в кабальеро, аббата – в епископа.
Подобно другим пленным, был обыскан и Сервантес. У него нашли письма дона Хуана и герцога Созы. Это было истинным несчастьем для героя Лепанто. Несмотря на энергичные его протесты, из простого солдата его сделали важным генералом, за которого можно получить богатый выкуп. Попав по воле злой судьбы в категорию привилегированных пленных, Сервантес мог близко видеть, каким образом, начав с коленопреклонений и подобострастно-льстивых выражений высокого почтения, турки резко переходили к угрозам и кончали кровавой расправой, когда жертва обмана или недоразумения не оправдывала их надежды на богатый выкуп. Редкие из пленных имели мужество твердо и стойко переносить жестокие истязания; большинство из них прибегали к единственному в этом случае спасению – принятию магометанства. Сервантес не мог обвинить их в малодушии, зная хорошо, как жестоки ожидавшие их страдания, но сердце искренно убежденного католика надрывалось от боли при виде тех почестей, предметом которых немедленно становился недавний раб, изменивший своей вере. С пышною торжественностью совершался обряд обрезания, и все двери к почету и наживе широко раскрывались перед ренегатом. Так, не брезгуя ничем, пуская в ход то самые жестокие пытки, то щедрые благодеяния, турки вербовали прозелитов исламу. Но в противовес их варварскому насилию христиане со своей стороны старались оказать посильное сопротивление в защиту своей веры и свободы. Они составляли корпорации с целью облегчать участь своих более стойких единоверцев и давать им средства выкупиться из неволи. Такую корпорацию представляли так называемые «отцы искупители», по мере сил и возможности расточавшие как денежную, так и нравственную поддержку несчастным.
Сделавшись очевидцем этой борьбы не на жизнь, а на смерть, Сервантес вскоре понял все значение ее для христианства и оценил всю опасность для него со стороны быстро растущих сил противника. Политика, на его взгляд, не играла здесь никакой роли: это была борьба двух религий, и слабейшей оказывалась христианская. Под влиянием тяжелых сцен, на которые он наталкивался на каждом шагу, Сервантес задался целью употребить все свое старание, чтобы обратить внимание Испании на невероятные успехи ислама и во что бы то ни стало подвинуть ее на систематическую борьбу с быстро растущим злом. Не теряя ни минуты, он приступил к делу. Но что мог бы сделать простой испанский солдат, несчастный пленник, раб, закованный в цепи и не видевший конца своей неволе? Сервантес, однако, нашел возможность сделать очень многое. Вынужденный своим положением скованного невольника действовать пока в узком кругу пленных товарищей, он употребляет все свое нравственное влияние, чтобы удерживать слабеющих от перехода в магометанство, ободряет и утешает их, великодушно делится с ними последними крохами, кормит одних, работает за других. Историограф Алжира, современник Сервантеса патер Гедо неистощим в описании тех мук, которые выпадали на долю пленных. Это бесконечный, непрерывающийся ряд палочных ударов, пинков, наказаний плетью, томлений голодом и жаждой и других бесчеловечных истязаний. Все это видел Сервантес, от всего этого обливалось кровью его сердце, и он искал средства не только положить предел варварскому обращению с пленными, но и вовсе отнять власть у мучителей. Мысль его мало-помалу стала останавливаться на проекте поголовного возмущения всех пленных, и вскоре такая задача перестала казаться ему химерой. Преследуя свой смелый план, он твердыми шагами пошел к намеченной цели, вооружившись всем своим терпением, настойчивостью и энергией. Первым делом его было сойтись с теми из товарищей по неволе, которые казались ему наиболее смелыми и решительными. Выбор его пал на маленькое тесно сомкнутое общество, состоявшее из офицеров и нескольких человек, принадлежавших к испанской знати. Это был кружок людей гордых и непокорных, постоянно составлявших заговоры, ненавистных ренегатам и терпимых турками только потому, что они надеялись выручить за них большие деньги.
Эти пленники жили своей обособленной жизнью, в сфере идей, разделяемых только ими, и с презрением относились ко всему остальному. Особенно выделялись из прикрытой лохмотьями толпы гордые кавалеры ордена Иоаннитов. Один из них приобрел громкую известность в Алжире после того, как повторил великий подвиг Регула: поехав на время в Испанию с обещанием вернуться обратно, он честно сдержал свое слово. Это был Франциск де Менезес, один из новых друзей Сервантеса. Другой его друг, Бельтран де Сальто-и-Кастильо, был взят в плен при осаде Голеты. Сервантес очень дорожил дружбою этих двух людей, видя в них надежных союзников.
Уже в продолжение сорока лет повторялись в Алжире периодические возмущения испанцев. Список доблестных мужей, захотевших скорее умереть, нежели терпеть неволю, составлял длинный мартиролог, который был наизусть выучен Сервантесом. Последний не успел еще осмотреться в Алжире, как уж стал замышлять бегство, имевшее, конечно, целью освободить впоследствии товарищей. Перебирая в уме всевозможные способы, он остановился наконец на плане бежать в Оран, где стоял испанский гарнизон. Этот план одобрили и его друзья и вскоре общими силами отыскали мавра, который согласился служить им проводником. То была отчаянная попытка, за которую виновные могли поплатиться жизнью. Всякому в Алжире была знакома история итальянца, повешенного за подобное бегство; всем также была известна участь нескольких испанцев, умерших под градом палочных ударов за тот же проступок. Но рассказываемые ужасы не остановили новых беглецов. Смело пустились они в путь, не подозревая, что вскоре добровольно вернутся обратно. Заставив их целый день брести под палящим зноем солнца, вероломный проводник неожиданно скрылся. Несчастные принуждены были возвратиться в свои тюрьмы. Неизвестно, каким образом случилось, что они избегли казни; но несомненно, что с этих пор Сервантес приобрел громадный нравственный авторитет среди пленных. Каждый из них с доверием обращался за помощью к «однорукому», как звали в Алжире Сервантеса; он помогал кому мог; популярность его росла с каждым днем. Всем были известны его постоянные сношения с самыми знатными пленниками; с ним одинаково охотно сближались священники, монахи, кабальеро, военачальники и ученые. Среди «отцов искупителей» он пользовался широким доверием и большой симпатией; их двери всегда были открыты для веселого собеседника и деятельного помощника в их добром деле. Вскоре Сервантес стал во главе вновь организованного общества взаимопомощи среди пленных. Деятельность этого общества заключалась главным образом в сборе денег для выкупа и в содействии тем или другим способом бегству того или другого пленного. Не раз приходилось Сервантесу видеть, какое глубокое чувство благодарности питали к нему товарищи. Первый пленный, получивший деньги для выкупа, предложил ему собрать для него в Испании такую сумму, какую потребует Дали-Мами. Сервантес дал ему письмо к своей семье. В этом письме он сообщал родным о несчастии, постигшем его и Родриго. Весть эта как громом поразила ничего не подозревавшего отца. Не задумываясь долго, старик заложил свой клочок земли, присоединил к полученным деньгам приданое обеих дочерей и таким образом сколотил значительную сумму, с помощью которой надеялся выкупить сыновей.
Итак, свобода обоих братьев покупалась ценою благосостояния целой семьи. Старик Сервантес, и прежде терпевший недостаток, стал теперь, безусловно, бедняком. Но даже путем такой тяжелой жертвы не удалось ему купить себе счастье увидеть детей своих свободными на родине. Когда Мигель принес Дали-Мами присланные деньги и сказал, что это выкуп за него и за брата, хозяин расхохотался: «Я вас ценю подороже!» – заметил он и наотрез отказался от какой бы то ни было уступки. С тех пор неволя стала для Сервантеса еще тяжелее прежнего. Вид принесенного золота убедил Дали-Мами, что его надежда выручить большую сумму за пленного испанца не совсем потеряна, и он стал прижимать его где только мог, чтобы вынудить «такое значительное лицо» внести за себя хороший выкуп. Но ему пришлось убедиться, что «однорукий» не похож на обыкновенных пленных. Мигель Сервантес не знал, что значит – опустить руки. Всякая неудача, напротив, еще сильнее возбуждала его к борьбе, и Бог весть откуда рождались у него новые силы, возникали новые планы один смелее другого. Быстро созрел у него проект вторичного бегства. Деньгами, полученными из Испании, он решил выкупить Родриго. Как всегда, так и в данном случае, у него без всякой борьбы и колебаний над прочими соображениями взяло верх природное великодушие. Сервантес принадлежал к разряду людей, у которых во всех случаях жизни прежде всего и как бы независимо от них самих, но в силу их особенного склада, возникает мысль о других. Выкупая брата, он даже не представлял себе, что можно было поступить иначе. Согласно новому плану бегства Родриго, получив свободу, должен был прислать с Майорки или из Барселоны корабль, который, лавируя у берегов Алжира, мог бы увезти Сервантеса и намеченных им товарищей.
Не раз уже алжирские пленные пробовали давать подобные поручения своим более счастливым товарищам, возвращавшимся на родину; но обыкновенно последние, получив свободу, забывали о томившихся в неволе. Сервантес же был твердо уверен в своем брате и не сомневался, что помощь не замедлит явиться. Между тем, не теряя времени, он занялся приготовлением всего необходимого. В трех милях от Алжира, у самого берега моря, был у ренегата Ясана обширный сад. Здесь находилось убежище наподобие пещеры, которым рассчитывал воспользоваться Сервантес. Бедный уроженец Наварры по имени Хуан служил садовником у Ясана. Познакомившись с ним, Сервантес предложил ему разделить все опасности задуманного бегства, обещая, что в случае удачи он увезет его с собой на родину. Хуан согласился: конечно, свобода манила и его. В глубине грота вырыл он в земле нечто вроде комнаты, где свободно могли укрыться несколько человек. Заручившись этим приютом, Сервантес вошел в сношения с ренегатом, известным под именем Позолотчик. Он знал, что этот Позолотчик, по-испански Дорадор, жаждет вернуться в лоно христианской церкви, и обещал ему свое содействие, убедившись в его расположении, он вступил с ним в переговоры относительно продовольствия для беглецов. Дорадор взялся снабжать их съестными припасами и всем необходимым. Все это происходило в январе 1577 года. Уверившись, что можно рассчитывать на удачу, Сервантес немедленно отправил в приготовленный приют четырнадцать своих товарищей, сам же остался пока в Алжире, чтобы закончить кое-какие необходимые приготовления. Так прошли февраль, март и апрель, не принеся с собой ничего нового; пираты настолько свирепствовали в это время на море, что о бегстве нечего было и думать.
Между тем несколько изменившиеся условия жизни в Алжире еще менее прежнего благоприятствовали замышляемому бегству. Управление Алжиром должно было в скором времени перейти в другие руки, а подобные перемены никогда не совершались здесь без народных волнений. Но в 1577 году возбуждение народа в Алжире было сильнее обыкновенного, и вот по какому случаю: мусульмане узнали, что жертвою одного из аутодафе в Валенсии сделался их единоверец – мавританский корсар. Ярость народа при этом известии не знала пределов. Оскорбленные правоверные потребовали жертвы за жертву. Выбор освирепевшего народа пал на валенсийского священника Мигеля де Аранда, и несчастный был побит камнями, а затем сожжен на костре при громадном стечении ликующей толпы. Нужно ли говорить о том, какой ужас навела эта дикая расправа на пленных христиан? В душе Сервантеса поднялась целая буря. Но не только ожесточенных мусульман винил он в ужасном несчастии. Воображение рисовало ему другой костер, за морем, куда он привык с любовью обращать свои взоры, на благословенной родине, – костер, окруженный такою же, в сущности, дикой, такою же ликующей толпой, между криками зверского злорадства шептавшей имена Христа и Святой Девы! Оно рисовало ему служителей церкви с выражением святости на суровых лицах, строгих и педантично-исполнительных, но забывших главное, завещанное им в словах: «Возлюби ближнего своего как самого себя». И от этого зрелища еще больше содрогнулось его сердце. Сервантес решил, что рано или поздно укажет своим соотечественникам, каким образом откликаются мусульмане на испанские аутодафе и каким образом одни казни вызывают другие. За свою участь он не боялся и продолжал обдумывать свой план освобождения. Он отправил к вице-королям Валенсии и Майорки письма за подписью двух кавалеров ордена Иоаннитов, прося их прислать за беглецами галеру к тому месту, где находился сад Ясана, и жил теперь надеждою на близкую помощь.
Между тем 29 июня прибыл в город новый правитель Алжира, человек-зверь, венецианский ренегат Гассан Паша, одно имя которого наводило всеобщий трепет. В несколько месяцев, захватив в свои руки всю торговлю, конфискуя в свою пользу пятую часть добычи корсаров, переплавляя звонкую монету и тайно продавая ее в Турцию как свою собственность; грабя направо и налево, он разорил своих подданных и довел население, жившее только грабежом, до полной нищеты и голода. За голодом не замедлили явиться вечные спутницы его – эпидемии. Смертность с каждым днем возрастала; на улицах Алжира валялись груды трупов. Видя, что творится вокруг, Сервантес решил торопиться во что бы то ни стало. В августе он выкупил Родриго и, снабдив его рекомендательными письмами, отправил в Испанию, а 20 сентября сам бежал из Алжира и присоединился к своим товарищам, скрытым в пещере Ясана. Жалкое зрелище представляли последние после столь долгого томления в сыром и темном гроте, откуда могли они выходить на воздух только ночью. Сервантес, насколько мог, ободрял их перспективою близкой свободы. Для него это слово имело магическое значение. «Свобода, – писал он впоследствии, – это сокровище, дарованное человеку небесами; за свободу, так же, как и за честь, нужно рисковать жизнью, так как высшее зло – это рабство».
Ночью 28 сентября подошел к берегу бригантин под начальством капитана Вианы; это было судно, пришедшее за беглецами. Но сигнал, данный с корабля, был услышан несколькими маврами, занятыми в это время рыбной ловлей, и они не замедлили поднять тревогу. Бригантин удалился. Пытался ли он еще раз подойти к берегу – неизвестно; но люди, скрывавшиеся в гроте, остались в своем убежище, хотя и ненадолго. 31 сентября они услышали в саду бряцание оружия. Это Дорадор привел сюда стражу: он выдал заговорщиков. Сервантес успел только шепнуть своим товарищам: «Единственное средство спасения для всех вас – свалить всю вину на одного меня». И, не ожидая, чтобы стража ворвалась в пещеру, он сам пошел встретить ее начальника. «Я заявляю, – сказал он с обычною твердостью в голосе, – что ни один из этих христиан не виновен. Я один составил заговор и уговорил их бежать».
Заявление Сервантеса было в точности доложено дею. Среди криков и ругательств толпы беглецы были отведены обратно в Алжир и заключены в тюрьму Гассан Паши. Один Сервантес был потребован к дею на допрос. Он немедленно смекнул, чего добивается от него свирепый Гассан: дею нужно было обвинить в заговоре Георга Оливара, чтобы захватить хранившиеся у него деньги братства; давно уже точил он зубы на священника. Сам Оливар знал об этом и теперь считал себя погибшим. «Не бойтесь, – говорил Сервантес встречавшимся по пути христианам, – я спасу вас всех». Весь город с волнением ждал конца допроса; Сервантеса никто не надеялся увидеть в живых. Между тем, допрашивая его, Гассан употреблял все свое умение, всю свою хитрость, чтобы вырвать у Сервантеса желаемое показание. Но напрасно: все уловки его были безуспешны; не смущаясь его гневом, Сервантес неизменно повторял одно и то же: «У меня не было никаких сообщников». Видя его упорство, Гассан пришел в неописуемую ярость. Никто из присутствующих не сомневался в неизбежности кровавой расправы. Один Сервантес оставался по-прежнему спокоен. И действительно, вскоре дело приняло совершенно неожиданный оборот: ярость Гассана внезапно улеглась, и, к общему удивлению, вместо ожидаемых истязаний он приказал отвести обвиняемого обратно в тюрьму. Что вызвало такое решение дея, об этом никто никогда не узнал. Гассан купил Сервантеса у Дали-Мами. Из рук ренегата-грека пленник перешел в руки ренегата-венецианца; трудно решить, кто из них по своему зверскому нраву заслуживал пальму первенства. Из всех попавшихся в заговоре наиболее пострадал несчастный садовник Хуан: он был повешен. Дорадор был помилован деем, но казнен общественным мнением: спустя два года он умер, преследуемый всеобщим презрением. Между тем Георг Оливар все еще оставался на свободе, продолжая свою самоотверженную деятельность среди пленных, а Гассан не прекращал допрашивать Сервантеса, получая все тот же неизменный и нежелательный ответ.
Рассказанные нами до сих пор факты из жизни Сервантеса известны достоверно и подтверждены неоспоримыми документами. Но были в его жизни в Алжире еще и другие факты, не менее, если не более свидетельствующие о его нравственной силе и высоте, на которые существуют только слабые, отрывочные намеки. Трудно сказать, где выказал Сервантес более мужества: в своих ли попытках к бегству, на допросах ли дея или в кругу своих несчастных товарищей по заключению, которых старался ободрить всеми средствами, прибегая даже к притворной веселости. Замышляя в тиши грандиозный заговор – поголовное восстание всех пленных, он между тем придумывал для заключенных в тюрьме всевозможные развлечения. Ему во что бы то ни стало надобно было поддержать в них бодрость духа, – непременное условие для успешного выполнения задуманного. Нелегка была его миссия. Безотрадное зрелище представляла тюрьма Гассана. Это был ничем не застроенный, огороженный стеною четырехугольник, в котором скучены были плохо одетые и праздные люди, – совершенное подобие скотного двора, где каждая голова была оценена особо. Общее уныние царило в этом жалком притоне; люди изнывали от тоски и безделья, сосредоточивая все свои помыслы на одной и той же idée fixe – на мысли об ожидаемом выкупе; здесь это был единственный предмет разговора. Страстная жажда свободы в этом сборище полуманьяков разжигалась еще сильнее бесчеловечным обращением стражей, их постоянными придирками и щедро расточаемыми палочными ударами. Горячий поклонник свободы, – «высшего блага для человека», – Сервантес страдал более других. Болезненно отзывалась на его деятельной натуре подневольная, томительная праздность. Мысль о родных не покидала его, и опасение, что может быть ему не суждено увидеть ни близких, ни Испании, вызывало на глазах его слезы. Но всего этого не должны были не только видеть, но даже подозревать товарищи; для них он всегда был весел и казался беспечнее тех ласточек, которые пролетали над их головами, не защищенными даже навесом. Он старался завязать общую беседу, предлагал им вспоминать вместе о прежних войнах, воспевать минувшие битвы, говорил с ними о поэзии, истории, писал массу стихов, которые потом прочитывал вслух, и подбивал других подражать его примеру. Однажды, на Рождество, он разыграл в тюрьме по памяти рождественское ауто, сочиненное Лопе де Руэда. Так назывались драматические представления духовного содержания, обыкновенно разыгрываемые в Испании в церквах в большие праздники. Зрителями были не только обитатели тюрьмы, но и многие пленные из христиан. Сторожа охотно пускали публику за небольшую входную плату, которую взимали в свою пользу. Но среди этих праздничных забав, по-видимому, поглотивших все его внимание, Сервантес продолжал мысленно разрабатывать свой план поголовного восстания христиан. Теперь этот план принял у него уже более определенные очертания. Он был убежден, и не без основания, что флот Филиппа II в союзе с оранским гарнизоном и 25 тысячами пленных в силах совершить дело освобождения.
События, казалось, говорили в пользу этого проекта. Филипп II с целью, остававшеюся тайною для всех, сосредоточил сухопутное войско и флот у южного берега Испании. Ходили слухи, будто бы он готовит экспедицию в Африку. Слухи эти были на руку королю, тщательно скрывавшему свои настоящие намерения, и он старался по возможности поддерживать общее заблуждение. В ожидании нападения испанцев Гассан Паша заставил пленных восстановить алжирские стены. Работа эта была изнурительна, и тягость ее увеличивалась бдительностью стражи, приставленной к строителям. На Сервантесе новые условия отразились немедленно: на него снова надели оковы. Обаяние, производимое его личностью, беспокоило Гассан Пашу: на дея он наводил страх. «Стерегите крепче этого калеку-испанца, – сказал он своим приближенным, – тогда и моя столица, и мои невольники, и мои галеры – все будет цело».
Мало полагаясь на искренность намерений Филиппа II, Сервантес обратился к королевскому секретарю, Матео Васкесу, человеку во всех отношениях почтенному. Он послал ему поэму в стихах, в которой умолял повлиять на короля в пользу алжирских христиан. Как было принято это письмо – неизвестно; но король, занятый всецело мыслью подчинить себе Португалию, не думал нападать на дея. Единственным результатом двусмысленной политики Филиппа явилось крайнее возбуждение страстей в столице пиратов и, как следствие последнего, еще большее обострение отношений между господствующим населением и христианами. Теперь, более чем когда-либо, на последних смотрели как на врагов, их тиранили, морили голодом, изнуряли на работе. Новые зверства Гассана превосходили всякие описания.
«Голод и нужда, – говорит Сервантес, – могли, конечно, иногда отнимать у нас бодрость и даже постоянно отнимали, но ничто до такой степени не лишало нас сил, как те неслыханные жестокости моего господина по отношению к христианам, которых часто мы бывали очевидцами и о которых слышали на каждом шагу». «Всюду, – рассказывает историк, товарищ Сервантеса, аккуратно заносивший в свою летопись каждую казнь своих единоверцев, – в тюрьмах, на галиотах, в церквах, – встречаю я людей с отрезанными носами или ушами, переломанными руками или ногами, выколотыми глазами. Все это – внешние знаки отличия исповедуемой ими религии».
Но ничто не в состоянии было смутить Сервантеса. Напрасно рассказывали ему об ужасных казнях, которым подвергались всякий раз все пробовавшие поднять возмущение. Где бы он ни находился, он никогда не расставался со своей любимой мыслью. Идя на работу, он внимательно осматривал порт, окидывал испытующим взором сушу и море и все запоминал. Он старался ближе знакомиться с людьми, с которыми случайно встречался, ища между ними таких, которые могли бы быть ему полезны; он со свойственною ему наблюдательностью подмечал у мусульман минутные проблески сострадания к гонимым, у ренегатов подсматривал желание вернуться к христианству и все это принимал в соображение. Мало-помалу удалось ему отыскать среди ренегатов и мавров тех двух людей, которые оказали ему содействие в его третьей и четвертой попытках к бегству. Мавр, намеченный Сервантесом, взялся отнести коменданту Оранской крепости письмо, в котором узник сообщал ему, что намерен прибыть сюда с четырьмя товарищами, и просил прислать ему надежный конвой. Посланный достиг Орана, но здесь был схвачен, приведен обратно в Алжир и посажен на кол. Сервантеса присудили к двум тысячам палочных ударов. Но и в третий раз он был помилован и не понес никакого наказания за проступок, который во всех других случаях наказывался смертью. Предполагают, что ему вымолил прощение его друг, ренегат Матранильо. Это предположение имеет достаточные основания, так как с этих пор Сервантес вступил в частые сношения с алжирскими ренегатами, единственными людьми, имевшими возможность помочь ему.
За третьей попыткой вскоре последовала и четвертая. Сервантес познакомился с бывшим гренадским вольноотпущенным Абдель-Рахманом, известным под именем вольноотпущенника Жирона. Уговорив его снова вернуться в католицизм, Сервантес составил вместе с ним новый план бегства. Решено было приобрести и вооружить корабль, который должен был увезти Сервантеса и шестьдесят человек его товарищей. Деньги на покупку корабля доставили двое валенсийских купцов. Все складывалось, по-видимому, благоприятно, но и в этот, четвертый, раз Сервантесу не посчастливилось. Каким-то образом намерение его стало известно испанскому монаху Бланке де ла Пасу, человеку бесчестному, честолюбивому и к тому же завистливому. Бланко не мог вынести популярности Сервантеса и при первом удобном случае выдал его властям. Перепуганные купцы умоляли Сервантеса выкупиться и даже приготовили необходимую сумму денег, которую предложили ему в дар. Он отказался от денег, но дал обещание, что скорее позволит замучить себя и умрет, нежели выдаст своих сообщников. Затем он бежал из тюрьмы и скрылся у бывшего товарища своего, Диего Кастеллано. Гассан разослал глашатаев объявить всему населению, что всякий, кто даст убежище Сервантесу, будет казнен. Узнав, какая опасность грозит его укрывателю, беглец предал себя властям. Гассан приказал связать ему руки, надеть на шею петлю и в таком виде заставил стоять на допросе. Каждую минуту несчастный мог ожидать, что его вздернут на виселице. Но и на этот раз, как и прежде, Гассан Паша пощадил его. Чем руководствовался дей, обращаясь так милостиво с непокорным рабом, что заставляло его испытывать перед Сервантесом невольный страх, – это так и осталось неизвестным. Быть может, нравственная высота испанского идальго приводила в смущение его низкую душу, рождая в ней недоумение, как бы перед чем-то недоступным его пониманию, пожалуй, казавшимся ему сверхъестественным. Об этом никогда никому не сказал ни слова свирепый поклонник Магомета.
«Один только пленник умел ладить с ним, – писал впоследствии сам Сервантес в „Дон Кихоте“, – это был испанский солдат Сааведра; с целью освободиться из неволи он прибегал к таким средствам, что память о них будет долго жить в том краю. И, однако, Гассан-Ага никогда не решался не только ударить его, но даже сказать грубое слово, между тем как мы все боялись – да и сам он не раз ожидал, что его посадят на кол в наказание за его постоянные попытки к побегу».
Велико между тем было разочарование злобного испанского монаха: его пресмыкания перед властью не принесли ему желанных выгод. Бланко де ла Пас получил за свои труды всего один червонец и кувшин с маслом. Вольноотпущенник Жирон был сослан в Фес, а Сервантесу назначили тяжелую работу в ожидании отъезда в Константинополь, куда собирался увезти его Гассан Паша.
Дни проходили за днями в томительном ожидании. Неволя Сервантеса продолжалась. Напрасно хлопотали о выкупе его родные и друзья. Отец его умер, не добившись ничего. После того как все собранные деньги ушли на выкуп одного Родриго, старик обратился к придворному алькаду с просьбою навести справки относительно службы и личности Мигеля де Сервантеса. Но судебные проволочки так затянули дело, что бедняга не дождался его конца. Он уже решил было представить свидетельство о бедности, когда смерть избавила его от этого унижения. Вдова его, сын Родриго и дочь Андреа кое-как сколотили 300 червонцев и вручили их «отцам искупителям». Но Гассан-Ага и слышать не хотел о такой ничтожной сумме. Сервантесу, казалось, не суждено было выйти из неволи. Между тем хозяин его готовился к отъезду в Константинополь, и, раз попав в столицу султана, пленник должен был навсегда проститься с надеждой на получение свободы. Он уже был прикован к галере, которой предстояло отвезти его с господином в Константинополь, когда внезапно явилось давно ожидаемое спасение. Благодетелем Сервантеса оказался монах ордена Св. Троицы Хуан Гиль. Этот добрый человек набрал среди купцов значительную сумму, прибавил к ней еще часть денег братства, вверенных ему на хранение, и уговорил Гассана отпустить наконец пленника на свободу.
19 сентября 1580 года Сервантес покинул Алжир с твердым намерением всеми силами бороться против ислама и объяснить Испании, какого рода политики следует ей впредь держаться относительно турок.
Весь горя нетерпением, Сервантес вступил на родную землю еще в одежде алжирского раба. Но недолго продолжалось радостное состояние очутившегося на свободе пленника. На родине ему пришлось считаться с нового рода невзгодами. Вскоре он убедился в совершенной невозможности завоевать себе в Испании прочное социальное положение. Отца его, как известно, не было в живых; мать доживала свои последние дни, брат служил в армии. Прежние друзья рассеялись; о нем все забыли. Сервантес почувствовал себя беспомощным и одиноким. Недолго думая, он решил поступить солдатом в тот же полк, где служил прежде и где теперь находился на службе Родриго. Полк этот был в то время послан в новоприобретенное Португальское королевство для поддержания власти короля Испании. Сервантес очутился в Лиссабоне, служившем главною квартирою его полка. В течение своей службы в полку он участвовал под командою маркиза Санта Крус в экспедициях 1581 и 1582 годов и выдержал сражение у Азорских островов. Правда, он не был теперь уже тем ловким молодым солдатом, который с таким воодушевлением сражался при Лепанто: разбитая в тот день рука сильно давала себя знать. Тем не менее, имя братьев Сааведра прогремело в Испании и в Португалии. Мигель Сервантес начинал приобретать популярность. На зимних квартирах в Лиссабоне его охотно принимали в лучшем обществе. Превосходство его ума, благородная манера держать себя, веселый нрав и интересная, изящная беседа заставляли каждого забывать о его солдатском камзоле. Дамы ухаживали за ним. К этому периоду его жизни относится связь его с одной знатной донной, от которой он имел дочь, Изабеллу де Сааведра. Сервантес страстно привязался к своей девочке и оставил ее у себя даже тогда, когда отношения его с ее матерью совершенно прекратились.
Пребывание в Лиссабоне и вообще в Португалии имело большое значение в развитии писательского таланта Сервантеса. Здесь он впервые познакомился с португальской литературой, и она, несомненно, имела влияние на направление первых серьезных литературных его трудов. Прозаические пасторальные романы, где пастушки являлись принцессами, а пастухи – поэтами, были любимой формой романтической литературы в Португалии, и вероятно чтение этих романов побудило Сервантеса испробовать свои силы в этом новом для него роде поэтических произведений и заодно познакомить с ним Испанию. Тогда же, в Португалии (1584 год), он написал свой первый роман «Галатея» – произведение, всецело принадлежащее к пастушеской литературе.
Литературные достоинства «Галатеи» нельзя считать выдающимися; для нас она может иметь только литературно-исторический интерес; но в свое время она понравилась публике. Это идиллическая картина жизни изящных и образованных пастушков, проводящих свое время в философских разговорах о любви в прелестной местности на берегу «светлоструйного» Энареса. Подобно всем пастушеским романам, эта первая, так сказать, проба пера Сервантеса страдает крайней аффектацией, и даже еще в большей степени, нежели романы, служившие ей образцами. Сам Сервантес осознал впоследствии все свои промахи и не раз иронизировал над своим увлечением пастушеской литературой, в которой видел теперь только манерность. Он говорил открыто, что его действующие лица выражаются слишком утонченно, что его произведение, подобно своим образцам, страдает искусственностью «так же, как и эклоги древних».
12 декабря 1584 года Сервантес вступил в брак с донной Каталиной Воцмедиана, с которой познакомился в небольшом кастильском городке Эскивиас, по соседству с Мадридом, куда он переселился за несколько месяцев до своей женитьбы. Брак этот был именно таким, какого можно ожидать от человека с нравственным складом Сервантеса: очень почетным, но без малейшего намека на материальный расчет. Невеста принадлежала к чрезвычайно знатной, но столь же бедной семье. Обнародованные Пелиссером подробности брачного контракта показывают, до чего доходила бедность жениха и невесты: в числе предметов, составлявших приданое Каталины Воцмедиана, значилось полдюжины кур! Зато от дяди своего, дона Франциско де Саласари, она получила хорошее воспитание – капитал, который в глазах ее будущего мужа стоил дороже всякого приданого. По-видимому, между семьями Сааведра и Воцмедиана существовали старинные фамильные связи, ибо мать невесты была душеприказчицей отца Сервантеса в то время, когда последний находился в плену.
Сервантес прожил со своею женой более тридцати лет и умер на ее руках. По-видимому, эта более чем тридцатилетняя совместная жизнь супругов была счастливой. По крайней мере, вдова Сервантеса перед смертью выразила желание быть похороненной рядом с мужем. Этим последним сведением исчерпывается все, что известно о взаимных отношениях Сервантеса и его жены. Но если даже супружеская жизнь их не всегда текла ровным потоком, если встречались на пути их иной раз и шероховатости, то, зная взгляд Сервантеса на взаимные обязательства супругов, можно с достоверностью сказать, что он не придавал серьезного значения случайным невзгодам у семейного очага. В своих сочинениях он часто возвращался к вопросу о супружеском счастье и взаимных отношениях супругов. Этому вопросу придавал он капитальную важность в деле человеческого счастья вообще, останавливаясь иной раз в недоумении перед его крайнею сложностью, но всегда твердо держась на почве неразрывности брачных уз. Так, в одной из своих остроумных интермедий, озаглавленной «Судья по бракоразводным делам», он выводит перед зрителями целый ряд пререкающихся супругов, настойчиво требующих у судьи развода, между тем как судебное разбирательство всякий раз обнаруживает ничтожность взаимных придирок расходящихся супругов, и судья неизменно отказывается дать развод. Интермедия заканчивается появлением мужа и жены, просивших развода год тому назад, но подобно другим не получивших его и теперь пришедших благодарить судью за то, что он удержал их от безрассудного поступка. Счастливую пару, снова обретшую мир и любовь у семейного очага, сопровождает веселый хор певцов, напевающий нравоучение: «Худой мир лучше доброй ссоры», которое служит Сервантесу конечным выводом. Во второй части «Дон Кихота» Сервантес устами своего героя развивает свою теорию супружеских отношений.
«Законная жена, – говорит он, – не вещь, которую можно продать, переменить или уступить, а часть нас самих, неотделимая от нас до конца нашей жизни; это – узел, который, будучи однажды завязан на нашей шее, становится новым гордиевым узлом, которого нельзя развязать, а можно только рассечь смертью… Один древний мудрец, – продолжает Дон Кихот, – говорит, что в целом мире есть только одна прекрасная женщина, и советует каждому мужу для его спокойствия и счастья видеть эту единственную женщину в своей жене».
Обзаведясь семьей, Сервантес решил расстаться с превратностями военной жизни и избрать себе определенное и постоянное местожительство, а также и более спокойную деятельность, которая давала бы ему и близким его верный кусок хлеба. К тому же военная служба и сопряженные с нею труды и неудобства были ему теперь не под силу: тяжелое прошлое, исполненное лишений, надорвало его здоровье. Он променял меч на перо, которым надеялся не менее успешно содействовать осуществлению давно задуманных планов.
С этих пор начинается новый период в жизни Сервантеса. Он переселяется в Мадрид, в то время резиденцию испанского короля, где вокруг двора группируются лучшие литературные силы Испании, и становится заправским литератором.
Глава III 1584-1598
Литературные знакомства в Мадриде. – Начало известности в литературе. – Взгляд Сервантеса на испанскую политику; его единомышленники. – Театр как орудие политической пропаганды. – Состояние испанского театра до Сервантеса.– Его нововведения. – «Алжирские нравы». – «Нумансия». – Лопе де Вега. – Переселение в Севилью. – Государственная служба. – Поездки по Гренаде и Андалусии. – Близкое знакомство с населением Испании и его нравами. – Отражение этого знакомства на литературной деятельности Сервантеса. – Перемена занятий. – Отлучение от церкви. – Процесс с правительством; тюрьма. – Мечты о переселении в Америку. – Следы литературной деятельности за последнее десятилетие.
Вскоре после переселения своего в Мадрид Сервантес сблизился с некоторыми из современных ему поэтов, например с Хуаном Руфо, Педро Падильей и другими. Его «Галатея» открыла ему доступ в круг литераторов. Поэты Испании зачислили в свои ряды этого пришельца из дальних краев, который уже своим дебютом ввел в испанскую литературу новый жанр, до сих пор ей неизвестный. Всех заинтересовала личность гениального поэта-воина и его прошлое, исполненное приключений, в которых жизнь его тысячу раз подвергалась опасности. Но поэт-воин менее всего был занят собою в это время. Он внимательно присматривался к Испании, изучал ее, сравнивал все, что видел здесь, с тем, что наблюдал на чужбине. Прежде всего интересовало его отношение испанского общества к магометанству. Его намерение указать своим соотечественникам, какую задачу предстоит им выполнить, оставалось в прежней силе; ужасы, виденные и испытанные в неволе, все еще стояли перед его мысленным взором; впечатления не утратили своей свежести. Он сравнивал оба народа – испанцев и турок – и к огорчению своему приходил к выводу, что мусульманское общество хранит в себе более задатков для успешного развития и победы. Этот вывод, сделанный им не опрометчиво, но на основании десятилетних наблюдений, начиная с битвы при Лепанто и кончая жизнью его в алжирской тюрьме, казался ему еще более основательным и безошибочным, когда он вспоминал, что встречал на своем пути немало единомышленников и не был, следовательно, одинок в своих заключениях. В алжирских тюрьмах, в королевстве обеих Сицилий, наконец в провинциях самой Испании, омываемых Средиземным морем, – морем, служащим главным театром борьбы обеих сторон, – он встречал людей самого различного общественного положения: солдат, священников, моряков – людей, глубоко опечаленных ролью Испании как данницы варваров, у него были друзья, вполне разделявшие его взгляды, готовые со своей стороны бороться за ту же идею. Но, превосходя их всех своей энергией и умением действовать, Сервантес опередил их на поле брани и сделался выразителем и открытым проповедником их сокровенных мыслей и стремлений.
Главною виною испанской политики эти люди признавали ее самомнение, ее самоуверенность, ее убеждение, вопреки очевидности, что победа уже одержана и нет надобности в дальнейшей борьбе с врагом. Стоя близко к тому, что творилось в противном лагере, они могли убедиться, насколько смелы стали турки при Филиппе II на Средиземном море, наводненном их пиратами. Для них было ясно, что теперь снова повторяется импульс, данный некогда исламом восточным народам. Они не могли не видеть, как надвигались и давили на цивилизованный мир эти варварские орды. С удивлением и возрастающим страхом следили они за быстро развивавшимся турецким флотом, за усилением отлично дисциплинированного турецкого войска и с ужасом сознавали, что сама Европа содействует этому процессу постепенного роста, с одной стороны, – платя туркам дань, с другой, – своим бездействием позволяя грабить себя пиратам. Сервантес первый взял на себя задачу разбудить Испанию и указать ей на опасность, которой, по-видимому, она не замечала в своем самодовлеющем ослеплении. Как искренний и убежденный христианин, чуждый педантизма в своих верованиях, он не мог простить ей ее политики, ее борьбы не на жизнь, а на смерть во Фландрии с диссидентами, которые не могут считаться врагами, в Португалии – с единоверцами; между тем как в то же время она безнаказанно отдавалась в руки магометанам. Но как мог этот калека-солдат Хуана Австрийского умолить его царственного брата держаться политики диаметрально противоположной? Чтобы питать хотя бы слабую надежду на успех, нужно было иметь, по крайней мере, сильного союзника. Сервантес хорошо понимал это, но считал себя обеспеченным в этом отношении. Такого союзника видел он во всей испанской нации, которую думал склонить на свою сторону с помощью пера. Из всех форм литературной деятельности более всего соответствовала его целям драматическая, как могущая в более короткое время достигнуть результата при той медленности, с которой расходились тогда книги, и захватить наиболее обширную сферу действия. На этом основании он выбрал театр орудием распространения своих идей. Но как несовершенно было это орудие в то время, сколько труда и умения нужно было вложить в него, чтобы оно могло сослужить требуемую службу!
После Лопе де Руэда, этого идола, которому поклонялся Сервантес в своей ранней молодости, испанский театр мало подвинулся вперед в создании национальной драмы. Правда, последователи Лопе де Руэда: его друг и издатель его произведений Хуан Тимонеда и бывшие члены его драматической труппы Алонзо де ла Вега и Антонио Сиснерос, – все трое одновременно актеры и драматические писатели, – имели на развитие театра влияние настолько сильное, что с их легкой руки краткие драматические произведения навсегда сделались популярны на испанской сцене; но, тем не менее, национальная драма все еще пребывала в периоде своего младенчества. Кроме пьес, сочиненных Лопе де Руэда и его последователями, репертуар испанского театра наполнялся и другими пьесами, разыгрываемыми в различных местах страны и пользовавшимися иногда успехом, иногда же совсем не имевшими его. Особенно славилась в этом отношении Севилья, главная поставщица танцовщиц, исполнявших на сцене испанских театров до страсти любимые народом сарабанды (так назывались в Испании танцы, сопровождаемые пением куплетов). Некоторые попытки создать нечто вроде народной драмы делались также и в Валенсии. Таким образом, весь репертуар испанского театра до появления в числе драматургов предшественников Сервантеса, Архенсолы и Бермудеса, ограничивался небольшим количеством фарсов. Бермудес и Архенсола старались придать театру более серьезный характер и шли с этой целью по стопам знаменитейших драматургов Греции. Но пьесы Архенсолы, самые популярные в свое время, пользовались лишь эфемерным успехом и вскоре были забыты точно так же, как было забыто и имя их автора.
Долгое время пьесы эти приписывались Сервантесу. Оба названных драматурга важны в истории литературы лишь постольку, поскольку творчество их послужило прямым переходом к блестящему периоду испанской драмы, который открывается знаменитыми и бессмертными именами Сервантеса и Лопе де Вега. Как видно из всего сказанного, к тому времени, когда начал писать свои драмы Сервантес, публика, хотя уже и подготовленная предшествующими писателями к появлению серьезной драмы, отражающей в себе характер и нравы испанского народа и говорящей о злобе дня, имела еще очень мало настоящего опыта в этом отношении.
Если мы теперь от внутреннего содержания испанской драмы того времени обратимся к внешней обстановке, которой приходилось ей довольствоваться, то встретим, пожалуй, еще более неприглядную картину, и, конечно, прежде всего придется нам припомнить остроумное замечание Сервантеса, что все бутафорские принадлежности труппы вместе с костюмами могли быть уложены в несколько мешков. Актеры продолжали кочевать из города в город. Во второй части «Дон Кихота» Сервантес рисует нам забавную картинку переезда такой вечно гастролирующей труппы.
«На повороте дороги, – рассказывает он, – неожиданно показалась повозка с разными странными фигурами. Существо, исправлявшее должность кучера, походило на чорта, и так как повозка была открыта, поэтому можно было легко рассмотреть все находившееся внутри нее. Прежде всего взоры Дон Кихота поразил образ Смерти в человеческом виде. Рядом со Смертью восседал Ангел с большими разноцветными крыльями. По правую руку ее помещался Император, украшенный венцом, казавшимся золотым, а у ног Смерти сидел Купидон со своими атрибутами: колчаном, луком и стрелами, но без повязки на глазах. На заднем плане виднелся украшенный всевозможными доспехами Рыцарь, не имевший только шлема, но взамен его шляпу с разноцветными перьями. Затем еще несколько странных фигур завершали собою описанную нами группу».
На вопрос Дон Кихота, кого он везет в этой телеге, похожей больше на лодку Харона, кучер-чорт отвечает: «Вы видите актеров труппы Ангуло Злого. Нынче утром мы разыграли позади вот этого холма, который виден отсюда, одну духовную трагедию и сегодня вечером собираемся представить ее в соседней деревне. И так как нам предстоит недалекий переезд, поэтому мы и не заблагорассудили переодеваться». Как видно, к тому времени, о котором говорит здесь Сервантес, гардероб актеров обогатился новыми костюмами, которые укладывать в мешок было уже не так удобно, как пастушьи куртки.
В 1568 году мы впервые встречаемся в Испании с чем-то вроде постоянного театра, да и то не в настоящем смысле этого слова. Театр этот обязан своим существованием сделке, или соглашению с церковью. Согласно этой сделке, правительство объявило, что в Мадриде актеры могут давать свои представления только в определенных местах, указанных двумя религиозными братствами, непременно под условием арендной платы в пользу братств. После 1583 года этим правом пользовался и городской госпиталь по особо изданному указу. В силу этого указа, начиная с 1583 года, то есть приблизительно с того времени, когда стал писать свои драмы Сервантес, в Мадриде открылись публичные представления в некоторых определенных братствами помещениях без крыши, без мест для зрителей и с уже известными нам сценическими приспособлениями. Благочестивые братства предоставляли актерам по своему усмотрению то тот, то другой двор, пока наконец в 1586 году для этой цели не были отведены в постоянное их пользование задворки при двух домах. Тут уже было впервые устроено нечто вроде грубой сцены, а для зрителей были поставлены скамейки; но кровли, или крыши, все еще не хватало.
Зрители помещались или под открытым небом, или в окнах дома, к которому примыкал двор. Актеры играли под плохоньким навесом. Спектакли происходили днем по воскресеньям или в праздники, да и то в случае благоприятной погоды. Женщины стояли отдельно от мужчин. Зрителей было так немного, что прибыль двух братств и госпиталя не превышала 40—50 франков с каждого представления. Сообразно с этим не мог быть велик и гонорар драматического писателя. Такое несовершенное состояние испанского театра было истинным несчастьем для Сервантеса. Оно не позволяло ему получать достаточное вознаграждение за свою работу, бывшую для него единственным источником дохода. Но материальные расчеты составляли последнее, с чем обыкновенно сообразовывался Сервантес. Задачи более широкие, планы более серьезные всецело поглощали его внимание.
Прибегая к услугам театра для своей политической проповеди, он параллельно с этим задался еще и другою целью: вывести театр из его жалкого положения – и настолько в этом успел, что через тридцать лет считал себя вправе публично гордиться своими успехами. Направляясь к этой цели, Сервантес сразу пошел вразрез с народными вкусами как в отношении принципа, на котором были построены до него драматические представления в Испании, так и в отношении подробностей постановки их на сцене. Вместо прежнего назначения драмы – служить для увеселения народа, он сделал ее орудием поучения. Эта коренная реформа, само собой разумеется, повела за собой множество других, второстепенных и менее существенных. Сервантес удалил со сцены сарабанду, несмотря на пристрастие к ней испанской публики, распростился с традиционными пастухами и пастушками, исключил из своих пьес любимца публики gracioso (забавный плут). Все легкое, игривое и шутовское должно было уступить свое место серьезному, важному и высокому. Но главное нововведение Сервантеса в драме заключалось в том, что он вставил сюда воспоминания о своих странствованиях и страданиях, то есть наблюдения над действительной жизнью и действительно случившимися событиями, и таким образом ввел в нее принцип жизненной правды, которого она не знала до тех пор. Хотя сам Сервантес не придавал особенного значения последнему обстоятельству, и жизненная правда явилась в его произведениях не преднамеренно, а как следствие употребляемых им приемов, тем не менее он здесь бессознательно пошел по стопам писателей, которые впервые изобрели эти представления в Европе. Здесь мы имеем дело с одним из тех случайных и непредвиденных открытий, которые так часто встречаются в жизни гениальных людей. Действующие лица Сервантеса – не карикатуры, как, например, у прародителя испанской национальной драмы Лопе де Руэда, а действительные, реальные, цельные характеры, иногда возвышающиеся до значения общечеловеческих типов. Не внешняя интрига занимала Сервантеса, а внутренняя жизнь, психология его героев. Сервантес первый, как сам это признавал, вывел на испанскую сцену сокровенные движения человеческой души.
Остальные нововведения, сделанные им в области драмы, имеют уже значение второстепенное и не всегда служат к ее усовершенствованию. Так, например, он ввел в драму аллегорические фигуры, такие, как война, моровая язва, голод, болезнь, слава, страх, отчаяние, ревность и даже Испания и Дуэро, играющие у него некоторым образом роль древнего хора. Собственно говоря, это нововведение не было шагом вперед, а скорее являлось возвращением к изжитым уже мотивам религиозной драмы. Кроме того, он уменьшил количество актов до трех, что, однако, было уже раньше сделано драматургом Авенданьо, но этого не знал Сервантес. Сервантес написал, как сам свидетельствует, от двадцати до тридцати пьес, принятых с одобрением, – число, до которого не доходил ни один из его предшественников. Ни одна из этих пьес не была издана при его жизни. Он оставил нам название десяти пьес. Остальные пьесы едва ли не потеряны безвозвратно, и среди них «La Confusa», которую Сервантес сам считал одною из лучших народных пьес. Вообще говоря, нет никакой возможности восстановить хронологический порядок драматических произведений Сервантеса. Они долго оставались в рукописях и таким образом постепенно терялись. То же самое должно сказать и о многих других произведениях Сервантеса.
Из дошедших до нас драм его первая: «Алжирские нравы» – именно та пьеса, при помощи которой Сервантес надеялся обратить внимание Испании на врага, надвигающегося на нее с Востока. Эта пьеса – самое выдающееся из всего написанного Сервантесом против ислама. Впоследствии она послужила отчасти сюжетом для одной из драм царя испанского театра, Лопе де Вега. Сервантес рисует нам здесь яркие картины тех мук и тех соблазнов, которым подвергались несчастные христиане, попавшие в руки мусульман. Он приводит пример сильной натуры, торжествующей над искушениями, невзирая на предстоящие страдания, и пример натуры слабой, малодушной и неустойчивой, доведенной непосильной борьбой до падения. Он выводит на сцену детей ренегатов, которые отказываются узнать своих родственников-христиан. Устами своих действующих лиц он умоляет зрителей заботиться о выкупе пленных. Он вводит в свою пьесу рассказ о сожжении священника Мигеля де Аранды, этой искупительной жертве за мусульманина, погибшего на аутодафе в Валенсии, и этим рассказом наводит присутствующих на смелый вывод о необходимости уничтожить ужасы инквизиции.
Говоря о театре Сервантеса, нельзя обойти молчанием другую его трагедию – «Нумансия», написанную в 1586 году, в которой автор старается действовать на испанское общество иными средствами, пользуясь наиболее благородными чертами испанского национального характера и заставляя звучать лучшие его струны. Он указывает, какие задатки величия и славы хранит в себе Испания, напоминает своему народу его блестящее прошлое, побуждает его поддержать честь испанской нации, исправить сделанные промахи. В этой пьесе он дает полную волю своему патриотизму и своей любви к славе оружия, служащего для защиты слабых и угнетенных, – чувствам, так ярко выразившимся в его молодые годы. Между всеми сочинениями подобного рода «Нумансия» особенно выдается своими достоинствами. Пьеса крайне эффектна. Героем ее является все население небольшого городка Нумансия, осажденного римлянами под начальством Сципиона. Сервантес пользуется этим сюжетом, чтобы провести параллель между народным характером испанцев и римлян, – параллель, которая явно говорит в пользу первых. Упорное сопротивление осажденного испанского городка погружает Сципиона в глубокую задумчивость. Он видит, что может победить Нумансию, только победив предварительно самого себя, то есть отказавшись, с одной стороны, от своих проконсульских привычек, своего барства и изнеженности, с другой, – оторвав своих солдат от служения Венере и Бахусу, изгнав из лагеря куртизанок и начав войну мужественную – такую, какие вели римляне в первый период жизни своего государства. Все соединенные усилия Мария, Югурты и Сципиона не могут принудить к сдаче мужественных защитников Нумансии. Город их образует ворота, замыкающие долину Дуэро. Сделавшись добычей неприятеля, он откроет последнему доступ внутрь страны; но жители Нумансии решают защищаться до последней крайности. Когда же они убеждаются, что не в силах более противостоять осаждающим, то убивают друг друга, умертвив перед тем своих жен и детей. «Боже правый!» – воскликнул Марий, победоносно вбежав на стены Нумансии и увидев за ними только груды трупов. Впрочем, в живых остался еще один юноша; он показывается на одной из башен и, крикнув Сципиону: «Один я могу вручить тебе ключи от города!», бросается вниз и разбивается о скалы. «Ты победил победителя!» – восклицает Сципион, склоняясь над бездыханным трупом.
Если трагедия «Алжирские нравы» задевала за живое испанскую публику, разоблачив перед нею темные стороны испанской современности, то трагедия «Нумансия», напротив, льстила самолюбию общества, воспроизводя перед ним исторический эпизод, где ярко обрисовывались выгодные стороны испанского народного характера, хотя бы даже и в прошедшем. «Нумансия» была встречена всеобщим одобрением. «Несмотря на несовершенство драматической композиции и сценической техники, – говорит историк испанской литературы Тикнор, – пьеса эта в целом отличается оригинальностью; некоторыми своими эпизодами она способна сильно трогать наше сердце и служить доказательством высоких поэтических дарований ее автора и его смелых и благородных усилий поднять современное ему драматическое искусство». Рассказывают, что при осаде Сарагосы в начале текущего столетия в городе была разыграна трагедия Сервантеса. Народ, восторженно приветствуя геройское мужество защитников Нумансии, тем самым выражал одобрение своей собственной стойкости. Следя за развитием действия на сцене, он черпал новые силы для продолжения борьбы. Таким образом, по прошествии двух с лишком столетий Сервантесу удалось еще раз вызвать в своих соотечественниках те чувства, которые он стремился разбудить в них, создавая свою драму.
Первые успехи на поприще драматической литературы дали Сервантесу надежду обеспечить себе и своим домашним верный кусок хлеба. Он писал пьесу за пьесой и, казалось, начинал входить в моду. Но не успел отверженец судьбы и подумать о том, что начинает подниматься на верх колеса Фортуны, как, по обыкновению, оно остановилось. Новое светило взошло на горизонте испанского театра и своим ослепительным блеском быстро затмило скромные успехи Сервантеса. Лопе де Вега, этот владыка театра, как называл его сам Сервантес, с самого начала своей литературной карьеры быстрыми шагами шел по пути к славе. Молодой писатель, казалось, был создан для театра; его пьесы, рассчитанные исключительно на вкусы большой публики, написанные необыкновенно горячо и талантливо, без малейшей претензии на нравственное воздействие на общество, – эти блестящие, но легковесные драмы-новеллы, скоро наводнили сцену. Видя, до чего нравятся они публике, актеры перестали ставить пьесы других драматургов. Для Сервантеса это было равносильно разорению. Пробившись кое-как три года в Мадриде и Эскивиасе и убедившись, что и вторая выбранная им карьера ускользает от него подобно первой, и перед ним снова открывается печальная перспектива гнетущей бедности, он покорился необходимости искать средства в другом месте. Он переселился в Севилью – главный рынок торговых сношений с Америкой, этот, по выражению его, «приют для бедных и убежище для несчастных», к числу которых причислял себя теперь и Сервантес. Ему минуло уже сорок лет, он был калекою, а между тем ничем еще не успел обеспечить свою семью. В Севилье Сервантес был некоторое время агентом у Антонио Гевары, королевского комиссара по делам американского флота. Тяжелым испытанием стала для него эта новая жизнь; он должен был совершенно оставить свои любимые литературные занятия и чтение, служившее ему отдохновением от работы; он только изредка мог видеть свою семью. Его время проходило в разъездах по селам и деревням Андалусии и Гренады, где он закупал масло, зерновой хлеб и прочие продукты для снабжения флота. Эти занятия совершенно не соответствовали его наклонностям, и он решительно страдал, чувствуя себя не на своем месте. Тем не менее, Сервантес полюбил Севилью, свою главную квартиру, где он поселил родных, где встретил несколько лиц из семьи Сааведра. Ему нравилось, что здесь никто не знал его, что он мог по желанию замешаться в толпе, которую с любопытством наблюдал его опытный глаз. «Там, – говорил он, – маленькие незаметны, и даже великие стушевываются». Как ни тяжелы были новые обязанности Сервантеса, они давали ему, хотя скромные, но верные средства к жизни. Кроме того, его частые поездки, благодаря которым он во всех направлениях изъездил Гренаду и Андалусию, доставляли ему громадный и крайне интересный и разнообразный материал для наблюдения. Из этих поездок он вынес такое глубокое знание испанских нравов и общественного строя своей родины, какого не могут дать никакие кабинетные занятия. Это знание блестящим образом отразилось на перлах его литературной деятельности – бессмертном «Дон Кихоте» и прелестных новеллах.
За десять лет, проведенных Сервантесом в Севилье, город этот сделался для него второй родиной; многие даже предполагали, основываясь на близком знакомстве с ним автора «Дон Кихота», что здесь действительно родился Сервантес. Он в подробностях изучил каждый уголок Севильи, нравы и состав его населения. Все, что встречал здесь знаменитый писатель, он сравнивал с виденным в остальной Испании, которую также наблюдал и изучил в течение своей беспокойной кочующей жизни на родине, будучи то солдатом, то драматургом, снабжая припасами ее флот или томясь в ее тюрьмах. В творениях Сервантеса, как в пестром калейдоскопе, проходят перед нами люди всевозможных классов. Здесь встречаем мы и молодого, еще неопытного воришку, и слугу, продувного плута, и носильщика, зорко высматривающего, где что плохо лежит, и астурийского водоноса, и андалусского погонщика мулов, и молодых людей из высшего круга, добровольно ушедших в этот странный мир, куда их влекла перспектива привольной жизни вне всяких сословных предрассудков, и собравшихся со всего света шулеров; встречаем разносчика, продающего священные буллы крестового похода против мавров, оконченного сто лет тому назад; пройдоху, нарядившегося в одежду священника, но лучше знакомого с картами, чем с латинским языком, обирающего неопытных приезжих, обманутых выражением святой кротости на его лице; всевозможных бродяг, завсегдатаев игорных домов и таверн, словом – все население трущоб и притонов, весь мир воров и мошенников, составляющих организованное, крепко сплоченное общество, так называемую «hampa», подчиненную единодержавному главе с неограниченной властью. Здесь, в Испании, эти плуты не подходят под общую мерку других стран; на них лежит яркий отпечаток своеобразия, особый национальный колорит. Они гордятся своим ремеслом, с достоинством носят свои жалкие лохмотья, для них лень – символ благородства, труд – унижение. Они открыто признают за собою право на чужую собственность, когда терпят нужду. И как разнообразны были в то время эти типы в Испании, где в каждом городе можно было встретить другие костюмы, другие нравы и часто другой диалект!
Этот мир плутов, или picaros, задолго до Сервантеса завоевал себе место в литературе. В Испании первенство в этого рода произведениях принадлежало до тех пор Диего Уртадо де Мендоза, который и теперь считается основателем так называемого gusto picaresco, то есть романа в плутовском стиле. Его гениальный роман «Ласарильо де Тормес», содержание которого составляют похождения плутоватого и смешливого слуги, – злейшая сатира на все классы общества. Сервантес делается соперником Мендозы, до него не имевшего себе равных в этом новом роде испанской литературы. Он ревниво отстаивает свое первенство, обогащает наличный запас типов двумя десятками новых, рисует забияк и драчунов, каких еще не рисовал никто, пишет с таким огнем и силою, обнаруживает такое богатство вымысла, что вскоре становится вне всякой конкуренции. Он списывает с голой и неприкрашенной натуры, работает самостоятельно, не справляясь ни с какими образцами. Да и кто же мог соперничать с ним в этом деле, кто так внимательно присматривался к этим любопытным типам, кто видел так много, столько слышал и наблюдал? Кого так глубоко возмущал позор, клеймивший этих отверженцев человеческого общества, и вместе с тем так трогала их ужасная нищета? Сервантес обладал всеми средствами для самых точных наблюдений. Он изучил все разнообразные провинциальные диалекты в Испании; ему был хорошо знаком язык поселян; он знал языки цыганский и каталанский, знал, кроме того, в совершенстве специальный жаргон каждой общественной категории – жаргон воришек, нищих, двуличных продажных дуэний и так далее. Он тщательно изучил жизнь испанских цыган, так называемой богемы, и, сравнивая их нравы с культурным обществом, часто отдавал предпочтение первым. В сочинениях его hampa и богема являются двумя самостоятельными группами, жизнь которых он рисует яркими красками. Где бы он ни находился, на городской ли площади, на улице, в трактире, в ущелье ли Сьерра-Невады, в бедном ли поселке Ламанчи, в обществе ли цыган, – он всегда прислушивался, все примечал и всякое свое наблюдение тщательно классифицировал и запоминал. Плодом этих наблюдений явился впоследствии ряд сочинений в плутовском жанре: «Ложная тетка», «Ринконете и Кортадильо», «Цыганочка», «Педро де Урдемалас» и другие.
После каждой из своих поездок Сервантес имел привычку заходить в мастерскую своего друга художника Пахеко, учителя знаменитого Веласкеса. С ним он любил делиться впечатлениями и наблюдениями, вывезенными из объездов страны, и в этой дружеской беседе находил отдохновение от своей прозаической деятельности.
Когда работы по снабжению флота были закончены, Сервантес взял на себя обязанность, по-видимому, еще более тяжелую и неблагодарную. Он сделался правительственным сборщиком недоимок и частным адвокатом по денежным делам. Трудно сказать, сколько неприятностей пришлось ему пережить, служа в этих обеих должностях, со сколькими мошенниками и негодяями прийти в столкновение. Лично для него новая скудно оплачиваемая служба имела следующие результаты: он был отлучен от церкви и попал в тюрьму. Однажды, защищая интересы государства, Сервантес конфисковал по праву реквизиции хлеб, принадлежавший какому-то монастырю. Озлобленные монахи прибегли к мести, наиболее им доступной: они отлучили его от церкви.
В последние годы службы в Севилье Сервантес благодаря своей доверчивости и непрактичности сделался должником правительства и был обвинен в растрате. Ему поручено было собрать в Гренаде недоимки на сумму в два миллиона мараведи.[4] Часть этой суммы он доверил негоцианту Симону Ферейре Лима, который обещал доставить эти деньги в Мадрид и передать их в казну. Вследствие банкротства Ферейре Лима Сервантесу пришлось предстать перед судом. Хотя растраченная сумма была незначительна, но Сервантес был так беден, что не мог восполнить ее, и отправился в тюрьму, из которой был выпущен 1 декабря 1597 года, пробыв в заключении три месяца. По выходе из тюрьмы ему пришлось постепенно выплачивать свой долг правительству. При недостаточности его материальных средств этот долг был для него тяжелым бременем, и денежные счеты его с правительством тянулись до 1608 года.
Сервантес пробыл в Севилье до 1598 года, так что время его пребывания в этом городе охватывает десятилетний период. В течение этих десяти лет тяжелой борьбы с нищетою он не раз обращался к королю с просьбою дать ему место в Америке, где, подобно некоторым друзьям своей молодости, надеялся найти себе средства к более сносному существованию, чем на родине. Но просьбы его не были удовлетворены; король Филипп отказывал в куске хлеба своему гениальному подданному, слава которого спустя несколько лет прогремела по всему цивилизованному миру.
Насколько нуждался Сервантес – об этом достаточно красноречиво говорит его решение переселиться в Америку, в это, по его выражению, «скопище негодяев», в страну, служившую для Испании как бы стоком, куда сплавлялись по большей части недоброкачественные элементы ее населения.
Хотя, как сказано было выше, пребывание в Севилье значительно обогатило Сервантеса новыми наблюдениями, но следов его литературной деятельности этого времени осталось очень немного. Сохранился, между прочим, курьезный договор, заключенный Сервантесом с каким-то Родриго де Оссорио в Севилье 5 сентября 1592 года. В силу этого договора Сервантес обязался написать шесть пьес по 50 дукатов за каждую, с непременным условием, что написанные им пьесы будут одни из лучших в Испании; в противном случае он не получит ничего. Из этого договора видно, как недостаточно было вознаграждение Сервантеса в то время, когда он занимал место агента по заготовлению запасов для правительственных учреждений в Андалусии, так как договор относится именно к тому периоду его жизни.
Предполагают, что к этому же периоду жизни Сервантеса принадлежит новелла «Ринконете и Кортадильо», в которой Сервантес рисует нам нравы подонков Севильи, этого отчасти уже знакомого нам мира мошенников, воров и бродяг, где так странно уживается религиозность, доведенная до крайнего ханжества, с преступлением и пороком во всем ужасающем его разнообразии. Свое недоумение перед таким поразительным противоречием Сервантес высказывает устами двух детей, Ринконете и Кортадильо, случайно попавших к главарю шайки. Сервантес вводит нас в жилище Мониподио, «отца всех», господина, защитника и главы братства, – в небольшой дом, где происходят по воскресеньям сборища шайки. Это севильский «двор чудес», послуживший Виктору Гюго образцом для одной из глав «Собора Парижской Богоматери». Здесь решаются дела шайки. Единодержавный повелитель ее заносит здесь в свои списки новых членов, распределяет между собравшимися работу на завтра, делит вчерашнюю добычу. По окончании делового «заседания» затевается дикая пляска под звуки ударяемых друг о друга женских туфель и черепков битых тарелок: шайка веселится. Но вот среди разгара бешеной пляски подается сигнал: мимо проходит ночная стража. Точно по волшебному мановению дом мгновенно пустеет, пропустив сквозь неведомые лазейки этих странных гостей, которые вернутся снова, когда удалится стража: они строго чтят святое воскресенье и не работают в этот день, но завтра отправятся на свой тайный промысел под прикрытием темной южной ночи.
Глава IV 1598-1606
Отсутствие биографических сведений о Сервантесе за период времени с 1598 по 1603 год. – Заключение в аргамасильской тюрьме. – Переезд в Вальядолид. – Расцвет литературной деятельности Сервантеса. – Его жилище в Вальядолиде. – Его бедность. – Выход в свет первой части «Дон Кихота». – Успех этого романа. – Его цель. – Рыцарские романы. – Увлечение ими в Испании. – Протесты передовых людей против этого увлечения. – Правительственные меры. – Влияние «Дон Кихота» на рыцарскую литературу. – Содержание первой части романа. – Свидетельство самого автора о популярности его книги. – Свидетельство Тикнора. – Французское войско в Тобосо. – Убитый на улице. – Тюрьма.
После смерти Филиппа II, последовавшей в 1598 году, Сервантес покидает Севилью. Глубоким мраком покрыта его жизнь до 1603 года, когда он появляется снова уже в Вальядолиде. Мы не имеем никаких определенных сведений за этот пятилетний важный период его жизни, непосредственно предшествовавший изданию первой части «Дон Кихота», никаких документов, на основании которых можно было бы восстановить какие-либо факты.
Удрученный своим процессом с правительством, отлученный от церкви, по-прежнему преследуемый нуждой, Сервантес попеременно является на допрос то в Севилью, то в Мадрид, то в Вальядолид. И вместе с тем он продолжает работать по мере сил, исполняет то те, то другие поручения частных лиц. Это все, что о нем известно. Он сам считал это время печальным периодом своей жизни, как видно из его слов в «Прологе» к «Дон Кихоту». Наконец теряются и всякие следы его существования; он как бы тонет в безбрежном море своих бедствий. Известно только, что где-то в Андалусии или в Ламанче находится тюрьма, где, томясь в заключении, поэт-воин предается одиноким размышлениям и в тишине творит своего бессмертного «Дон Кихота».
Этот период жизни Сервантеса, как предполагают, совпадает с промежутком времени между 1598 годом, когда автор «Дон Кихота» покидает Севилью, и 1603 годом, когда он поселяется в Вальядолиде. Предание о заключении его в ламанчской тюрьме отчасти подтверждается показанием самого Сервантеса, что «Дон Кихот» начат в тюрьме, что, впрочем, может относиться также и к первому его заключению в Севилье.
В 1603 году мы застаем Сервантеса в Вальядолиде, куда он переезжает вслед за двором короля Филиппа III. Здесь опять начинается новый период его жизни, – период возврата к литературной деятельности. Бродячая жизнь утомила его, признаки наступающей старости давали себя знать, и с ними явилось стремление к относительному покою. Литературная работа, это неудовлетворенное его призвание, влекла к себе с новой силою. Сервантес поселяется в Вальядолиде с намерением завоевать по праву принадлежащее ему место среди своих молодых и более счастливых сотоварищей. С этих пор он работает неустанно. Все последние годы своей жизни посвящает он приведению в порядок своих прежних произведений и созданию новых, неизмеримо превышающих старые своими достоинствами. В течение двадцати лет, протекших со времени напечатания «Галатеи», Сервантес ничего более не печатал. Теперь он как бы спешит вознаградить потерянное, как будто торопится высказать своей стране все то, что передумал за столько лет тяжелых испытаний. Лучшие перлы его пера – обе части «Дон Кихота» и его прелестные новеллы – относятся к этому позднему периоду его жизни. Он пишет, кроме того, «Путешествие на Парнас», роман «Персилес и Сихизмунда» и издает свои драматические произведения. Все силы его гения, все богатство его пылкой, поистине юношеской фантазии, все чуткие струны его отзывчивой души, казалось, напряглись теперь в последнем дивном усилии, чтобы роскошно расцвести в его шедеврах, озаренных ровным светом глубокой критической мысли зрелого возраста, как те поздние цветы, которые пышнее расцветают осенью под мягкими лучами удаляющегося солнца.
Сервантес явился в Вальядолид прежним бедняком, привезя с собою жалкие пожитки разорившегося идальго: свой вытертый плащ, камзол, поражающий разнообразием пуговиц, башмаки, покрытые заплатами, дырявые зеленые чулки, заштопанные черным шелком, и рядом с ними свой роскошный, бесценный подарок для Испании – чудную книгу, написанную в тюрьме захолустной деревушки.
Но пока еще не была издана эта бессмертная книга, никто не обратил внимания на возвратившегося к литературе поэта-воина, и он продолжал тянуть тяжелую лямку бедняка, которому не обеспечен кусок хлеба на завтра.
«В Вальядолиде, – рассказывает новейший биограф Сервантеса, Эмиль Шаль, – можно видеть маленький, низенький, невзрачный домик, затерянный в предместье среди постоялых дворов у глубокого оврага, на дне которого когда-то протекал ручей, называемый Эгева. Здесь в 1603 году поселился пятидесятисемилетний Сервантес. С волнением, которое передать я не в силах, – продолжает Шаль, – я посетил это жилище на Растро, на выезде из города. У входа в него нет ни камня, ни надписи в отличие от других домов. Ветхая лестница ведет к двум скромным комнатам, где жил Сервантес: одна из них, без сомнения служившая ему спальней, представляет квадратное помещение с низким потолком и выступающими наружу стропилами; другая комната – нечто вроде темной кухни – выходит окнами на крыши соседних пристроек; в ней сохранился еще cantarelo, то есть камень с круглыми отверстиями, в которые ставились кувшины с водой (cantaros). При Сервантесе жила его жена донна Каталина, дочь Изабелла, которой было теперь двадцать лет, сестра донна Андреа, племянница Констанца и дальняя родственница донна Магделена, кроме того служанка, игравшая роль метрдотеля в маленьком хозяйстве. Где помещались все эти люди?.. как бы то ни было, а работали все сообща. Женщины добывали средства к жизни, вышивая придворные костюмы».
/
Со всех концов Испании стекались теперь в Вальядолид, эту временную резиденцию молодого короля и его министра герцога Лермы, дворяне, гранды и генералы. Беднота жила за счет этого внезапного наплыва в город людей со средствами; он же служил источником заработка и для женщин, живших в доме Сервантеса. Известно, например, что, вернувшись ко двору из Алжира, маркиз Виллафранка поручил семье Сервантеса, с которой был знаком, сшить ему парадный костюм. Этому сохранилось даже документальное доказательство – счет заказов по шитью. Сам автор «Дон Кихота» попеременно вел счета маленькой швейной мастерской или заведовал делами какого-нибудь магната, или же заканчивал последние хлопоты по своей тяжбе с казной. По вечерам, в то время как быстро мелькала игла работниц, склонившихся над куском материи, Сервантес вооружался пером, садился в конце стола и заносил на бумагу свои мысли. Таким образом, пользуясь минутами досуга, написал он знаменитый «Пролог» к своей книге, к тому роскошному подарку для Испании, который, полный страха и надежды, он вез в Вальядолид, сознавая, что эта книга – лучшее из всего им созданного.
Так, в убогой комнате, в обществе шести работающих женщин, на кончике стола была приготовлена к печати первая часть «Дон Кихота»! Гений не нуждается ни в роскошных палатах, ни в мертвой тишине, ни в большом досуге; тихо, без видимых усилий, незаметно для других, среди житейских бурь и борьбы из-за насущных потребностей непрерывно совершается великая его работа, и только когда он кончит и подарит нам свое творение, мы узнаем, что это – работа гения, и спрашиваем себя, какие нужны были условия, чтобы явилось такое чудное создание человеческой мысли? Условие одно: прирожденный гений.
Теперь Сервантесу оставалось еще найти человека, способного оценить его книгу и взять ее под свою защиту. Выбор его остановился на герцоге Бехарском. «Я направляю ее к Вашему Превосходительству, – писал он ему, – потому что Вы не покровительствуете вещам, написанным в угоду толпе». Но герцог, узнавши, что это сатира, услыхав, кроме того, от своего полкового священника, что автор – несчастный бедняк, сочинитель комических фарсов, отказался ввиду своего высокого сана от посвящения, которое обессмертило его имя. Однако Сервантесу удалось испросить позволение прочесть герцогу из своей книги хотя бы одну главу. Восторг слушателей при этом чтении был так велик, что автор должен был читать главу за главой, пока, увлекшись, не прочел всей книги. Тогда герцог принял посвящение.
В 1604 году первая часть «Дон Кихота» была разрешена к печати, а в 1605 году вышла в свет из типографии Хуана де ла Кевеста. Это была книга в четвертую долю листа, имевшая 312 страниц. Успех ее был необыкновенный: в один год она выдержала три издания.
Но оставим на время Сервантеса, снова мысленно поднимающегося на верх колеса Фортуны, в его скромном жилище на Растро, забудем и о колесе, пока оно еще не остановилось, и перенесемся на несколько лет назад, в помещение еще менее приветливое, в тюрьму Аргамасилии, где некогда томился злополучный ходатай по делам ордена св. Иоанна. Лишенный возможности работать для семьи, оторванный от внешнего мира, который так привык наблюдать его зоркий глаз, Сервантес уходит в себя и предается размышлению. За плечами у него теперь долгая жизнь, исполненная бурных стремлений, тревог, волнений и борьбы. Он подводит ей итог, и в итоге стоит слово «разочарование». «Каждый сам виновен в своих удачах и неудачах», – говорит Сервантес устами своего Дон Кихота. Значит, и он виновен в том, что жизнь обманула его. Он ищет в себе самом причину своих разочарований. Шаг за шагом припоминает он свою молодость, свое двадцатилетнее служение родине, свои юношеские мечты. О чем были эти мечты? С юных лет они были неразрывны со славою Испании, которую с тех пор он не переставал любить. Он любил ее, когда писал свои первые вирши для сборника Ойоса, любил, когда мечтал сделаться воином, когда сражался при Лепанто и Голете, когда видел позор ее в Африке, когда служил в Португалии, когда писал свои драмы, когда хотел влиять на политику короля. Почему же так часто встречал он разочарования? Что такое были его мечты? Блестящие химеры, не оправдываемые действительностью. Вот где причина разочарования. Но мысль Сервантеса убегает дальше. Он ищет источник этих химер, этой оторванности от действительности и замечает, что он не один предавался несбыточным мечтам, что имя ему легион, что погоней за химерой заражено все испанское общество с его надутыми понятиями о величии Испанки, с его надменной самоуверенностью. Сервантес видит в себе жертву исторических причин, духа своего времени; он убеждается, что страдает общей болезнью своего века. Но какому веку принадлежит Сервантес? Большинство обыкновенно заблуждается, относя его к XVII веку, так как в этом веке появился «Дон Кихот»; между тем и сам автор, и его творение всецело принадлежат XVI столетию. Родившись в 1547 году, Сервантес жил и действовал в XVI столетии, питал его надежды, скорбел его скорбями, разделял его заблуждения. В XVII он только подводил итог истекшему столетию и произносил ему приговор. XVI век, названный испанцами «золотым», был для их отечества веком блестящего расцвета и – непосредственно вслед за тем – быстрого увядания. «Золотой век Испании, – говорит Шаль, – был также ее глиняным веком». Не было в Европе государства славнее и могущественнее Испании в тот год, когда явился на свет автор «Дон Кихота». Всюду гремела слава ее оружия, пышно расцветала ее блестящая литература, и изящные искусства находили здесь богатую почву для успешного развития. Много славы и величия обещали Испании впереди особенности характера ее народа: рыцарская верность, беззаветная преданность королю и твердая религиозная убежденность, – черты, развившиеся и окрепнувшие в вековой борьбе с маврами. В течение половины столетия до рождения Сервантеса удача за удачей способствовали возвышению его родины. Испания достигла единства, приобрела свои владения в Америке и в царствование Карла V – право называться империей. Филипп II получил в наследство от отца корону, под которой кроме Испании соединялись Нидерланды, Неаполь, Милан, Сицилия и необозримые пространства в Новом Свете. Вместе со своим народом он мечтал о создании всемирной монархии.
Такова была Испания в молодые годы Сервантеса. Но что же представляла она теперь? Разорительные войны Филиппа II отняли у нее прежний престиж и силу; изгнание мавров и евреев – ее торговлю и благосостояние; лишение различных областей их старинных прав и привилегий подавило дух независимости; недостойное управление двух Филиппов и ужасы инквизиции исказили черты народного характера: преданность королю постепенно вырождалась в приниженное заискивание перед властью; религиозная убежденность – в показное ханжество; дух рыцарской верности, не находя себе приложения, выражался в бессмысленных и вредных бреднях, усердно поощряемых модною средневековою литературой. Прекрасное здание испанского величия, подрытое у самого фундамента, давно рухнуло, но в глазах народа эти жалкие развалины сохраняли еще очертания прежнего великолепного дворца. Надменная самоуверенность испанцев не исчезла вместе со своим raison d'être[5]; осталась и привычка гнаться за химерами, носиться в эмпиреях, не видя под собой земли.
То, что в себе самом казалось теперь Сервантесу смешным и наивным, то, что вызывало у него улыбку, когда он вспоминал свое стремление приобщиться к блестящей модной литературе века, сочиняя свою изящную, но искусственную «Галатею», свое желание быть советником Филиппа II, свой поход против инквизиции – словом, свои молодые, чистые, великодушные мечты, то самое испугало его, когда он увидел те же черты мечтательности во всем испанском обществе, но на подкладке менее благородной, менее искренней и менее чистой. Всюду видел он ту же страсть к небывалым подвигам и приключениям, ту же сумасбродную мечтательность: в полной случайностей жизни picaros, считающих себя свободными под ультрадеспотическим правлением испанских королей; в ленивом бездействии дворян, гордившихся своей бесполезностью; в мечтаниях женщин и юношей, принимавших утонченное ухаживание за идеал любви. Все это представляло богатую почву для всяческих разочарований. Вот где коренится, думает Сервантес, и мое разочарование. Но мысль Сервантеса убегает еще дальше. Он ищет, чем поддерживается у испанцев такое странное искажение фантазии, что дает такое ложное направление общественной мысли и препятствует развитию трезвых взглядов и правильных понятий, и находит причину зла в излюбленной в данное время форме литературы, в наводнивших Испанию рыцарских романах, в которых химеры испанцев находят верное отражение и обильную пищу.
Придя к такому заключению, Сервантес задается мыслью уничтожить зло в самом корне и предпринимает свой поход против рыцарских романов, – поход вместе с тем против духа времени, составляющий главную цель и содержание «Дон Кихота». В подробностях задача Сервантеса сводилась к следующему: уловить ложные взгляды, неестественные чувства и заразительные заблуждения; придать им осязательную форму и возможно большую рельефность, вывести их напоказ и предать осмеянию. Затем поставить крест на мире чудес, на всякой лжи, на платонической любви, которая не что иное, как лицемерие, на искусственно-чувствительном романе – чистейшем яде для общества, на феодальной гордости и мании к рыцарским похождениям, которые являются анахронизмом.
Таков был широкий план, начертанный Сервантесом. Немудрено, что при близком и всестороннем знании Испании, при громадном запасе накапливавшихся годами наблюдений, разрабатываемых гениальным умом, книга его дала блестящую картину всей Испании XVI века, знакомящую нас с ее нравами, обычаями, учреждениями и литературой. В ней мы встречаем массу намеков на известных людей и ходячие идеи того времени, а также и на средневековую литературу, воспитавшую этих людей и породившую эти идеи. Кроме того, всякому проследившему вместе с нами историю возникновения этой книги – конечного вывода из жизненного опыта Сервантеса, – должно быть ясно, что она должна заключать в себе и богатый автобиографический материал, на чем неоднократно настаивает сам автор.
Сервантес выступил против рыцарских романов, основательно изучив то зло, с которым ему предстояло бороться. Будучи вполне сыном своего века, он в молодости, по примеру всех своих современников, сильно увлекался подобной литературой. Читая «Дон Кихота», на каждом шагу приходится удивляться начитанности автора в этой области и настолько близкому знакомству его с рыцарскими романами, что на основании нравственных свойств их героев он бойко рисует нам наружность каждого из них, вдаваясь в такие подробности, которые показывают, как сильно занимали его в свое время эти герои. Подвергая беспощадной критике рыцарскую литературу, он осмеивает не только дух этих романов, но также их высокопарную манеру изложения, их торжественный, напыщенный слог, который иной раз весьма удачно пародирует.
Рыцарские романы проникли в Испанию во второй половине XIV века из Франции, где они отчасти возникли самостоятельно, отчасти же были занесены из Бретани. Романы эти основаны были на сказаниях о короле Артуре и Круглом столе, Карле Великом и его двенадцати пэрах. Появившись в Испании, они не замедлили оказать влияние на литературу страны, где в то время именно чувствовался недостаток в подобных произведениях, и заполнили пробел между старинными романсами, достоянием низших классов общества, и учеными скучноватыми историческими хрониками, интересными только для серьезных, образованных людей, – двумя группами произведений, составлявшими до того времени все литературное богатство Испании. Раньше, чем стали переводиться на испанский язык или перелагаться стихами иноземные рыцарские романы, они успели уже породить многочисленные подражания в Испании, представлявшей для их распространения донельзя благоприятную почву. Вследствие специальных исторических причин, например вековой борьбы с маврами, обратившей всю Испанию в военный лагерь, а каждого испанского солдата – в воина, вследствие свободного духа городских общин и, наконец, наплыва в Испанию провансальских трубадуров, бежавших сюда после альбигойского погрома и нашедших здесь новую родину, нигде рыцарские идеи не привились так прочно, как в Испании. Здесь рыцарская идея служения дамам не только наполняет собою старинные романсы и хроники, но и проникает даже в законодательные памятники. Так, например, живший в XIII веке законник короля Альфонса Мудрого предписывал рыцарям перед битвой призывать имя своей дамы с целью возбудить в себе мужество и предохранить себя от поступков, несовместных со званием рыцаря.
При таком предрасположении к рыцарской литературе немудрено, что в Испании быстро возникло множество рыцарских романов. Романы эти повествовали о небывалых подвигах сказочных героев и вскоре распространились по всему миру, затмив собою славу произведений, служивших им образцами. Между ними наибольшей популярностью пользовалась особая группа, целая необычайная семья романов, имевшая, по выражению Сервантеса, многочисленное потомство и считавшая своим родоначальником «Амадиса Галльского», часто упоминаемого в «Дон Кихоте». «Амадис Галльский» – переделка романа, написанного первоначально на португальском языке на сюжет, занесенный из Франции. Португальский подлинник этого романа, который относят к 1390 году, вскоре был потерян, и славою своей «Амадис» обязан больше испанской переделке, явившейся в конце XV века. В короткое время – в течение полувека – он выдержал тринадцать изданий и был переведен на французский и итальянский языки.
Роман этот не лишен достоинств; он дает верную картину духа и нравов рыцарских времен, и наряду с самыми дикими фантазиями в нем встречаются места, полные естественности, красоты и нежности. Вслед за этим романом, самым популярным из всех, явилась целая туча ему подобных.
Романы настолько пришлись по вкусу испанцам, что вытеснили у них остальные роды литературы. Оригинальные испанские романы насчитывались десятками; кроме того, было много переводов и переделок с французского. Появились также и религиозные романы. Это случилось по инициативе церкви, видевшей широкое распространение этой формы литературных произведений и желавшей воспользоваться им для своих целей.
Весьма распространенные уже в XV, рыцарские романы чрезвычайно размножились в XVI и усердно читались даже в XVII веке, так что их влияние на испанский народный характер до появления в 1605 году первой части «Дон Кихота» продолжалось уже в течение двух столетий. Эта неслыханная популярность рыцарских романов в Испании объясняется, как сказано выше, отчасти тем, что еще до появления первых из них Испания была привилегированной страной рыцарства. Странствующие рыцари, столь беспощадно осмеянные Сервантесом в его романе, действительно существовали в Испании. Вот почему воспроизведение их в рыцарских романах встречалось с восторгом. Мало того, нелепости, рассказываемые в рыцарских романах, так мало превосходили то, что совершалось на самом деле, что им верили как действительным фактам. Сам Карл V зачитывался рыцарскими романами, а сын его Филипп II, будучи инфантом, постоянно являлся в придворных процессиях в костюме странствующего рыцаря и, как рассказывают, вступая в брак с Марией Тюдор, дал обещание в случае появления короля Артура беспрекословно уступить ему английский престол.
Такое увлечение романами стало наконец возбуждать тревогу в более рассудительных людях, и многие из выдающихся писателей XVI века заговорили о несчастных его последствиях.
Вера многих в нелепости, рассказываемые в рыцарских романах, прекрасно характеризуется анекдотом из «Arte de Galanteria», написанной до 1632 года: «Один рыцарь, вернувшись домой с охоты, услышал вопли жены, дочерей и их служанок. Удивленный и опечаленный, он спросил их, не умер ли кто из детей или родственников? „Нет“, – отвечали они рыдая. „Так отчего же вы так плачете?“ – снова спросил он, еще более удивленный. „Ах, – отвечали они, – Амадис умер“. До этих пор они дочитали».
Наконец эти книги были сочтены столь вредными, что в 1553 году запретили их печатание и продажу в американских колониях, а в 1555 году кортесы добивались того же запрещения относительно самой Испании.
Стоя в одном ряду с передовыми умами своего времени, Сервантес задался целью единственно силою своей сатиры уничтожить зло, с которым тщетно боролась сила правительственной власти. Удалось ли Сервантесу достигнуть поставленной цели? Вот что говорит об этом историк испанской литературы Тикнор:
«Всего более достойно удивления, что цель Сервантеса увенчалась таким успехом, в котором невозможно сомневаться. После появления „Дон Кихота“ в 1605 году не было написано ни одной рыцарской книги; с того же времени перестали перепечатываться, за одним или двумя неважными исключениями, даже те книги, которые уже пользовались величайшею популярностью, так что с тех пор и до нашего времени они постоянно исчезали и составляют теперь величайшую библиографическую редкость. Здесь мы имеем единственный в своем роде пример силы гениального ума, который одним хорошо рассчитанным ударом уничтожает цветущую и популярную область литературы великой и гордой нации».
План, принятый Сервантесом, настолько же прост, насколько оригинален. Он рисует всего три фигуры: странствующего рыцаря, его даму сердца и оруженосца. В небольшом местечке Ламанча жил некогда вместе со своей племянницей небогатый идальго по имени Кихана. По обыкновению людей своего класса, Кихана считал не соответствующим своему достоинству идальго заняться каким бы то ни было полезным делом. На этом основании он употреблял 365 дней в году исключительно на чтение рыцарских романов. В конце концов это чтение так воспалило мозг бедного идальго, так болезненно настроило его фантазию, что ему приходит в голову сумасбродная мысль как для собственного блага, так и для блага и славы своей родины сделаться странствующим рыцарем и, «рыская по свету на коне, с оружием в руках, ища приключений, карая зло, восстановляя правду, защищая гонимых и сирых, пускаясь, наконец, в самые ужасные приключения, покрыть себя неувядаемой славой». Из забытого пыльного угла своего дома он вытаскивает прадедовское оружие, наставляет картоном старый шлем, от которого оставался один шишак, приводит в порядок сбрую своего еле живого верхового коня, которому после долгих размышлений дает имя Росинант, и, преобразившись таким образом в странствующего рыцаря, называет себя Дон Кихотом Ламанчским или Рыцарем Печального Образа. Совершенно снарядившись, Кихана, или Дон Кихот, приглашает к себе в оруженосцы мирного и простодушного поселянина соседней деревушки по имени Санчо Панса, которого соблазняет следовать за собой обещанием за его будущие услуги подарить ему в полное владение целый остров. Точно так же, как и рыцарь, оруженосец его представляет тип, взятый из средневековой литературы. Это простолюдин или земледелец, заимствованный автором из старинных народных романсов. Но «рыцарь не влюбленный – незаконный сын рыцарства, дерево без листьев и плодов, тело без души». Дон Кихот выбирает предметом своих воздыханий первую пришедшую ему на ум даму, простую, грубую и, кстати сказать, безобразную крестьянскую девушку Альдонсо Лоренсо, которую называет «несравненной Дульсинеей Тобосской», так точно, как себя называет Дон Кихотом Ламанчским. Он никогда не видел этой soi-disant[6] Дульсинеи Тобосской, но в последнем он и не нуждается: то, чего не видит его телесное око, дорисовывает око мысленное. Его пылкое воображение рисует ему его даму сердца несравненной красавицей: «Она олицетворяет собою все, чем фантазия поэтов наделяет их героинь. Волосы ее – это нити золота, брови подобны радугам, чело – Елисейским полям; ее розовые щеки, коралловые губы, солнцу подобные глаза, жемчужные зубы, алебастровая шея, беломраморная грудь и прочее в этом роде ставят ее вне всяких сравнений».
Полные радужных надежд, заранее предвкушая один – всемирную славу, другой – привольное житье на доходном острове, отправляются в путь длинный, тощий, сухой, как тростник, рыцарь верхом на столь же тощем Росинанте и его кругленький, большеголовый, бородатый оруженосец на своем выхоленном и откормленном любимце-осле, – две фигуры, точно вынырнувшие, как говорит Шаль, из глубины Средних веков. Представляя комичный контраст по своему наружному виду, рыцарь и оруженосец настолько же диаметрально противоположны и по нравственному складу. Между тем как Дон Кихот соединяет в себе все типичные черты странствующего рыцарства, как положительные, так и отрицательные, – это странное сплетение чувства чести, рыцарской верности, готовности стать на защиту страждущих и угнетенных с непомерным тщеславием и сумасбродным стремлением к небывалым подвигам, цель которых приобрести славу и заставить возможно больше говорить о себе, – Санчо Панса олицетворяет собою наивную непосредственность некультурного человека, руководящегося в своих действиях громадным запасом старинных пословиц и поговорок, преподносящих ему в готовом виде всю житейскую мудрость, – человека, живущего в полной гармонии с действительностью и теми незамысловатыми интересами, которые определяет ему его узенький кругозор, и почти не знающего других побуждений, кроме чисто шкурных. В то время как орлиный взор Дон Кихота постоянно витает в облаках, – большая, тяжелая голова Санчо Пансы по большей части опущена к земле, зорко высматривая, нельзя ли чем-нибудь поживиться.
Желая воскресить золотой век рыцарства, Дон Кихот всецело живет в прошедшем, и Сервантес рисует нам на протяжении всего своего романа, каким образом разбиваются его воздушные замки о действительность, для которой он вместе со всеми своими стремлениями не более чем анахронизм. В погоне за воображаемыми подвигами, всюду ища приключений, которые разгоряченное воображение рыцаря создает на каждом шагу, принимая ветряные мельницы за великанов, шинок – за дворец, стадо овец – за целое войско, они то и дело наталкиваются на неприятности, терпят неудачу за неудачей. Всюду их бьют не на шутку, всюду над ними издеваются, справедливо принимая их за безумцев. Наконец друзья рыцаря, сильно обеспокоенные его сумасбродством, решаются с помощью хитрости снова водворить его у семейного очага. Они отыскивают его где-то в горах, в пустынном месте, и после долгих попыток одурачить рыцаря и заставить его таким образом добровольно вернуться домой наконец теряют терпение, крепко связывают его во время сна, сажают в клетку, которую взваливают на телегу, запряженную волами, и пускаются в обратный путь. За ними, понуря голову, следует на своем осле и Санчо Панса, потерявший надежду получить в награду остров. В таком виде, помятые и телом, и душой, въезжают наши искатели приключений в родную деревню к великому удивлению своих земляков и к не менее великой радости своих домашних. Этим комическим въездом заканчивает Сервантес первую часть «Дон Кихота», обещая вторую часть «этой большой и истинной истории».
Впечатление, произведенное романом, было поразительно. «Пародия, – говорит Шаль, – оказалась такой веселой, такой приятной для всех, что общий взрыв хохота встретил три фигуры, нарисованные Сервантесом… Во Фландрии поспешили перепечатать книгу, во Франции перевели ее; вся Европа стала ее читать. Это был один из тех великих успехов, популярных и всемирных, которые разрушают все преграды; словом – это была революция».
Во второй части «Дон Кихота» Сервантес говорит, что книга его разошлась уже в количестве 30 тысяч экземпляров, и прибавляет, что она разойдется еще в количестве в тысячу раз большем. Каждый из нас знает, что автор «Дон Кихота» не ошибся. Рассказывают, что Филипп III, стоя однажды на балконе своего дворца, увидел на берегу Мансанареса студента, который с удивлением читал какую-то книгу, постоянно прерывая чтение неудержимым смехом; король сказал тотчас же: «Этот человек или дурак, или читает „Дон Кихота“».
Тикнор в своей «Истории испанской литературы» рассказывает, что во время своего путешествия по Испании он не встретил ни одного человека, который не был бы знаком с «Дон Кихотом». Он же приводит следующий любопытный рассказ.
«Когда один отряд французских войск вступил в Тобосо, – совершенно верно, по его словам, описанный Сервантесом, – они так были увлечены воспоминанием о Дулъсинее и Дон Кихоте, пробужденным этим местом, что сразу вошли в хорошие отношения с его жителями, и Сервантес сделался причиною взаимного доброжелательства, которое не только удержало жителей от бегства, как они делали в подобных случаях, но и побудило солдат обращаться с ними и с их домами с необычайным уважением».
Вслед за изданием первой части «Дон Кихота» биографические сведения о Сервантесе снова прерываются. Мы знаем только, что он продолжает вести в Вальядолиде свою жизнь пролетария. Книга, обогатившая книгопродавцев, не принесла своему автору даже малого дохода; он должен был продать ее за бесценок. В то время как она печаталась, бедность и страдания, напротив, удвоились в доме Сервантеса. Он имел несчастье снова попасть в тюрьму, и на этот раз за ним последовали его жена и дочь.
Вот каким образом это случилось. Однажды вечером, 27 июня 1605 года, в то время как в Вальядолиде еще продолжались празднества, устраиваемые по случаю крестин Филиппа IV, Сервантес, не принимавший участия в увеселениях толпы, мирно сидел у себя дома за работой. Работал также и сосед его, ученый Эстебан де Гарибэ, живший в соседнем доме. Внезапно оба они услыхали крик умирающего на улице. В то время закон и обычай запрещали частным лицам поднимать мертвых на улице. Не подумав об этом, Гарибэ и Сервантес выбежали из своих домов и в конце моста, перекинутого через Эгеву, нашли лежащего на земле смертельно раненного на дуэли дворянина. Оба старика подняли умирающего и принесли в дом Сервантеса, где тщетно старались возвратить его к жизни. На следующий день судебные власти распорядились об аресте Сервантеса и живших в его доме женщин; все они были отведены в тюрьму. Колесо Фортуны, очевидно, остановилось.
Глава V 1606-1613
Переезд в Мадрид. – Отношение к Сервантесу остальных литераторов. – Критика современной драмы. – Лопе де Вега. – Хвалебный сонет Сервантеса. – Разноречие между Сервантесом и Лопе де Вега. – Нападки противников. – «Разговор собак». – Усиление религиозности и вступление в духовное братство. – Издание «Новелл». – «Путешествие на Парнас». – Театр Сервантеса. – Причины его неуспеха.
Каким образом случилось, что Сервантес вскоре был выпущен из тюрьмы, – об этом нет никаких сведений; но известно, что уже в 1606 году он переехал в Мадрид вслед за двором Филиппа III. Необычайный успех «Дон Кихота» заставил его теперь обратить более серьезное внимание на литературу, нежели прежде. У него явилось желание войти в круг литераторов, как и он, последовавших за двором в Мадрид. С этой целью Сервантес познакомился с Лопе де Вега, Эспинелем, обоими Архенсола, Кеведо и другими. Судя по мемуарам того времени, Сервантес, казалось, пользовался теперь большим почетом в литературном мире. Писатели чествовали его талант, его записывали в члены модных в то время религиозных братств, венчали на поэтических турнирах, раскрывали перед ним двери академий… Сервантес платил любезностью за любезность. Он старался завязать дружеские отношения с некоторыми из своих товарищей по профессии, хвалил в их произведениях то, что считал достойным похвалы, писал хвалебные стихи в честь Мендозы, Лопе де Вега и других. Но, несмотря на все расточаемые внешние знаки уважения, в отношениях к Сервантесу его сотоварищей не было и тени искренности. Они не доверяли его любезности, не верили в его доброжелательство, смотрели на него с предубеждением, как на человека, не разделявшего их взглядов, и многие из них питали к нему вражду. Им досадно было сознавать, что своим блестящим успехом он обязан исключительно самому себе; их коробила независимость его литературных и политических воззрений, самостоятельный образ действий в течение всей его жизни. Они поняли, что этот старик всегда будет держаться в стороне от всяких партий, что мысль его свободна и независима и никогда не подчинится ни ходячему заблуждению, ни всеобщему увлечению, ни моде; что он всегда будет стоять выше всего, что может составить силу сплотившихся посредственностей. Мало того, почти каждый из них таил в душе частичку личной злобы против Сервантеса. Оно и понятно: в первой части своего романа автор «Дон Кихота» не только восставал против рыцарских романов, но и громил также все те роды литературных произведений, в которых видел ложь и искусственность. Рядом с критикой средневековой литературы в роман вставлено множество несомненных намеков на современную. Это было равносильно открытому объявлению войны отрицательным сторонам испанской литературы того времени; немудрено, что Сервантес вооружил против себя всех, кто прочел свой приговор на страницах его новой книги. Но так как сатира автора направлена была не столько против отдельных писателей, сколько вообще против новых модных течений в литературе, то обиженными оказались все, и великие, и малые, начиная от такого корифея, как Лопе де Вега, и кончая самыми бесталанными и малоизвестными. Оглушенные шумным эффектом, сопровождавшим появление в свет «Дон Кихота», они не решались в первое время вступить с ним в открытый бой. Но сдерживаемое вначале раздражение с тем большею силою прорвалось наружу впоследствии и перешло в нескрываемую вражду. Сервантес оставался до самой смерти жертвою этой вражды и мишенью для мелочных, придирок со стороны литературных котерий.[7]
«Жизнь Сервантеса в Вальядолиде и в Мадриде в начале XVII столетия, – говорит Шаль, – представляет непрерывную войну. Каждый день он дает сражение или плохой литературе, или плохо организованному обществу». Он критикует театр – и вооружает против себя драматургов; критикует поэзию – и возбуждает ненависть к себе поэтов. Но ничто не останавливает его: смело высказывает он свои честные, разумные взгляды, смело ведет свою неустанную борьбу с искусственностью и ложью за торжество правды в литературе, с прислуживанием вкусам толпы – за воспитательную роль искусства.
В описываемые годы испанский театр мог считаться самым блестящим, самым плодовитым, но вместе с тем и наименее совершенным в Европе. Ему недоставало той чистой формы, той тщательной и строгой обработки, которая делает произведения человеческой мысли долговечными. Сервантес хорошо понимал это. Своим проницательным, вещим оком предвидел он близкое и неизбежное падение национального театра и находил единственное для него спасение лишь в немедленной и коренной реформе. Он говорил об этом открыто; он старался напомнить литераторам, что только произведения чистого, высокого искусства могут рассчитывать на бессмертие, и не только указывал недостатки испанского театра, но сравнивал его с остальными театрами Европы и настаивал на превосходстве последних. В то время законодателем испанского театра, властителем сцены, руководящим драматическим писателем был Лопе де Вега. Его поразительная плодовитость, бесконечное разнообразие его пьес, драматизированных новелл, в которых прежде всего наблюдался интерес фабулы в ущерб не только исторической правде, но и всякому правдоподобию и самым элементарным требованиям искусства; заимствование для этих пьес любимых и популярнейших старинных народных романсов, наконец, прелесть поэтического стиха и умение автора угодить вкусам публики, нисколько не справляясь с тем, какие уроки извлекает последняя из своих посещений театра, – все это завоевало Лопе де Вега любовь и славу на родине и громкую известность во всей Европе. Против такого систематического несоблюдения не только основных законов искусства, но и элементарных требований логики, против стремления во что бы то ни стало угодить вкусам невежественной толпы явно в ущерб ее пользе, против унижения великой роли искусства энергично восстал Сервантес.
Лопе де Вега не мог не понять, что вызов относится прямо к нему. Таким образом, борьба между ним и Сервантесом начинается уже в период между 1598 и 1603 годами, то есть в то время, когда последний пишет первую часть своего «Дон Кихота». Любимец публики, баловень судьбы, именем которого назывались модные материи и женские драгоценные уборы, которого носило на руках все испанское общество и прославляла вся Европа, чувствовал, что счастье его помрачается одним только спокойным, испытующим взглядом Сервантеса. «Однорукий», приводивший в смущение свирепого алжирского дея, заставлял идола испанской публики испытывать неловкость; такова была нравственная сила поэта-воина. Отношения между Сервантесом и Лопе де Вега долго составляли спорный вопрос для их биографов. Наварет утверждает, что их связывали взаимная дружба и уважение; но не к такому выводу приводят более тщательные исследования. Гораздо большего доверия заслуживают историки, говорящие, что отношения этих двух великих людей были таковы, какими должны быть отношения между баловнем судьбы и идолом своего времени, с одной стороны, и горемыкой и презираемым человеком, – с другой. Частная переписка Лопе де Вега свидетельствует о его затаенной злобе к Сервантесу. Со своей стороны и Сервантес не оставался в долгу. В похвалах его модному драматургу сквозит то легкая ирония, то непреклонное правосудие серьезного и убежденного критика. Эти отзывы, всегда исполненные достоинства, не оставляют ни малейшего сомнения насчет того, что Сервантес не заблуждался относительно модного корифея. Он называет его moonstruo de naturaleza, что может означать по желанию и чудный гений, и чудовищный гений. Значение слова «вега» (равнина) дает ему повод к написанию прелестного сонета, в котором он воспевает равнину, приносящую по нескольку раз в год жатвы, неслыханные по своему обилию и разнообразию…
На первый взгляд, что может быть выше этой похвалы? А между тем, вчитавшись внимательнее в стихотворение Сервантеса, читатель усматривает и здесь своего рода критику, – критику путем умолчания. Сервантес ослеплен количеством, но ровно ничего не сказал о качестве, и сквозь это намеренное умолчание довольно ясно просвечивает ироническая улыбка знатока, совершенно чуждого общему увлечению баловнем судьбы. Вполне отдавая справедливость гению Лопе де Вега, Сервантес строго порицал то, как употреблял его любимец публики, и этого никак не мог простить ему Лопе, признававший себя главою новой литературной школы. Не могли эти люди чувствовать взаимное расположение при том глубоком разноречии, которое существовало между ними. Это были два крайние полюса как в отношении характера, таланта и взглядов каждого, так и в отношении внешних условий и событий жизни. Сервантес был участником славного сражения при Лепанто, Лопе де Вега принимал участие в пустой и вздорной затее с «Непобедимой Армадой». В политике Сервантес шел вразрез с общим настроением, глубоко сочувствуя сближению Испании с прочими нациями и видя в таком сближении громадную пользу для своей родины; Лопе, наоборот, поддерживал, сколько мог, комичное самообольщение и самовосхваление испанцев, их преднамеренную обособленность и гордое пренебрежение ко всему, что не принадлежало Испании. Этим он привлекал к себе их симпатии. Лопе де Вега не гнушался ролью инквизитора и принял деятельное участие в сожжении одного помешанного францисканского монаха; Сервантес всю жизнь как истинный христианин проповедовал идею прощения, милосердия, свободы совести и тем далеко опередил свой век, еще не знавший веротерпимости.[8] В царствование такого ярого поклонника инквизиции, как Филипп II, он не задумался бросить ему смелый вызов, восклицая в своих «Алжирских нравах»: «Долой аутодафе!»
В области литературы взгляды их, как мы уже видели, расходились не менее. Между тем как Лопе был покорным рабом толпы и, поняв, что публике мало нравится строгое искусство и создания классиков, не замедлил провозгласить свободу фантазии, не стесняемой никакими законами, и создал свое arte nuevo, то есть новейшее искусство, не знавшее никаких правил, кроме ходячей моды, – Сервантес искал для искусства также свободы, но свободы разумной, вытекающей из условий и требований самого искусства, а не из прихоти публики. Прямой и честный Сервантес не довольствуется одними намеками; он прямо и открыто указывает на Лопе: «Разве мы не были свидетелями, – говорит он, – как один из самых изящных, самых редких умов этого королевства в угоду актерам не потрудился дать последнюю отделку своим сочинениям, которые он мог сделать превосходными, но не сделал?» На эти слова Сервантеса Лопе отвечает, что пишет ради денег, «por dinero». В ответ на великолепную главу о драме, помещенную Сервантесом в первой части «Дон Кихота», Лопе, подстрекаемый доброжелателями, сочинил свое «Arte nuevo de hacer comedias» («Новейшее искусство сочинять комедии»), в котором открыто заявляет, что пишет всегда намеренно против правил.
«Я писал иногда, – говорит он, – руководствуясь правилами, но я видел, как сбегался народ и женщины на чудовищные комедии, потому что они были приучены к вульгарному варварами-авторами, мысли которых пользовались кредитом. Кто в настоящее время будет следовать теории искусства, тот умрет с голоду и не заслужит славы; рассудок всегда неправ перед модой. С тех пор, когда я пишу пьесу, я запираю на три запора все правила… В конце концов, за нелепости платит публика; значит, нужно сообразовываться с ее вкусами». Далее Лопе де Вега кое-как, наскоро излагает некоторые принципы своего «Arte nuevo»: он советует соблюдать ясность, использовать движение и некоторые очень удобные механические приспособления. «Конечно, – говорит он, – это не чистое искусство, но в здешнем мире нравится именно то, что идет вразрез с законами; и именно потому, что они грешили против искусства, пользовались таким успехом четыреста восемьдесят три пьесы варвара Лопе».
С этих пор Лопе, по-видимому, не обращает внимания на Сервантеса и с обычной развязностью принимается вновь за литературное ремесло. Но, в сущности, он никогда не спускал глаз со строгого соперника и где только мог вооружал против него свою многочисленную свиту из литературных посредственностей. Подстрекаемые Лопе де Вега литературные котерии не упускали случая кольнуть Сервантеса. Нет никакой возможности перечислить все те уколы, жертвою которых был последний, но достаточно ясное представление обо всех остальных дает следующая выходка недоброжелателей автора «Дон Кихота». Против Толедо, у самого въезда в город, стоят еще до сих пор развалины бывшего замка Сан-Сервантес. Говорят, что, живя одно время в Толедо, Мигель Сервантес случайно поселился в бедной лачуге как раз против старого замка. Этого факта было достаточно, чтобы вызвать ряд оскорбительных сопоставлений известного всей Испании разрушенного замка с носящим такое же имя знаменитым писателем-калекой, который был назван при этом обломком Лепанто. Таких недостойных намеков на увечье Сервантеса можно было бы указать немало.
Состарившийся среди тяжелых испытаний, не избалованный судьбою, Сервантес многое снес в своей жизни, но не мог снести презрения своих врагов. Под влиянием их преследований явилось у него желание произнести свой приговор обществу, подвергавшему его столь обидному и несправедливому остракизму. Приговор этот он обнародовал под заглавием «Разговор собак». Однажды ночью в Вальядолиде увидел он двух собак, несущих шест с приделанными к концам его фонарями и привешенной к нему корзиной, заменяющей собою деревянную чашку, в которую нищие обыкновенно собирают милостыню. Это были собаки Воскресенского госпиталя; они обходили дома в сопровождении вожатого, собирая подаяния для больных, и сами останавливались у домов, где им обыкновенно подавали. Сервантес числился в списке их друзей. Эти собаки, работающие в ночной темноте для своих хозяев и для всех нуждающихся, напоминали ему людей, служащих обществу, но отвергнутых им.
«За собаками так же, как и за бедными, – рассуждал Сервантес, – признано право служить, но у них отнято право мыслить. Однако они все же обладают некоторыми качествами: у них есть память, благодарность, верность; на алебастровых могилах ставят лепные изображения собак, считая их символом привязанности, и, быть может, их природный инстинкт, их сметливость, чуткость и восприимчивость доказывают, что они обладают некоторой неуловимой долей ума и рассудка».
Сервантесу приходит в голову наделить даром слова двух собак, из которых одну зовут Сципионом, а другую – Берганцею (Сервантес в произношении одного из испанских наречий). В беседе своей с товарищем бедный Берганца перечисляет все свои злоключения, начавшиеся в Алькале и кончающиеся в Вальядолиде. Он исходил всю Испанию, ознакомился с алькальским университетом, где из пяти тысяч студентов две тысячи избрали медицинскую карьеру, что заставляет его предполагать или невероятное количество больных в стране, или же множество практикующих врачей, осужденных умереть с голоду; он служил в армии, но ушел оттуда, потому что развращенность, дерзость и отсутствие дисциплины среди солдат показались ему неслыханными в цивилизованной стране. Он служил на бойне в Севилье и был поражен тем, что делается в ее бедных кварталах, которых не в состоянии покорить даже сам король. В ужасе бежал Берганца из города и поступил в услужение к пастухам; но и здесь ему пришлось увидеть, что пастухи поедают овец. Тогда он сделался сторожевым псом, но за ревностное исполнение своих обязанностей был посажен на цепь и отравлен. Он поступил в помощники полицейского, но последний оказался сообщником воров и мошенников. Тогда, пожив некоторое время у цыган, Берганца пришел в Вальядолид и поселился в больнице. Здесь он увидел множество погибших людей и убедился, что нечестные женщины составляют общественную язву; он отправился к судье, чтобы высказать ему свое мнение, но слуги швырнули ему в голову графин. В конце концов он настолько вооружил против себя знатных господ и прекрасных дам, что однажды комнатная собачка укусила его до крови. «Послушай, – возразил Берганце Сципион, – у каждого свое ремесло. Никогда совет бедняка не принимается, будь он даже и хорош; никогда приниженный бедняк не должен быть самонадеянным и давать советы великим мира – тем, которые думают, что знают все».
«Разговор собак», эта красноречивая защита униженных и оскорбленных, есть конечный вывод Сервантеса из наблюдений его над общественным строем Испании. Вместе с тем он рисует нам и политические идеалы автора. Сервантес настойчиво требует здесь гуманного обращения с самыми приниженными, самыми отверженными членами общества. Он требует от своих современников настолько глубокого уважения к личным качествам отдельных людей, чтобы всякий трудящийся человек мог подняться до высших государственных должностей. Эта проповедь ставит его неизмеримо выше того века, к которому она обращена. Он предвидит в будущем эмансипацию бедняка как необходимый прогресс, к которому роковым образом приведет постепенная эволюция идей в течение целого ряда веков и разумная воля отдельных выдающихся по уму передовых людей.
Но пока войско бедняков насчитывало в отечестве Сервантеса по меньшей мере сотни тысяч, и он несомненно должен был причислить себя к этой большой общественной группе. В Мадриде так же, как и в Вальядолиде, материальные его средства оставались, по обыкновению, более чем скудными. В течение своей десятилетней жизни в столице он семь раз менял местожительство, и всегда вследствие недостатка средств. Этим исчерпывается почти все, что известно о его частной жизни за указанный период времени. В 1609 году Сервантес поступил в одно из модных тогда религиозных братств, к которому принадлежали уже Кеведо и Лопе де Вега. Чем более чувствовал Сервантес приближение старости, тем более становился он религиозным. Испытания, встреченные им на жизненном пути, постепенно привели его к скептицизму относительно большинства людей; но глубокая вера в добро, страстная жажда справедливости, неудовлетворенное стремление осуществить свои идеалы на деле заставили старика искать утешения в религии.
«Властители земли, – говорил он, – сильно отличаются от властителей неба; первые, принимая к себе служителя, расследуют его происхождение, подвергают испытанию его ловкость, знакомятся с его поступью и хотят знать даже, какие есть у него одежды. Но для поступления в услужение к Богу самый бедный богаче всех».
В 1613 году Сервантес издал том своих «Новелл», состоящий из двенадцати повествований. Говорят, будто «Новеллы» написаны отчасти в поучение дочери Сервантеса, Изабелле. Предполагают также, что он писал их в течение своей кочевой жизни, служа агентом по продовольствию флота. В то время Сервантес убедился уже во всей фальши таких произведений, как «Галатея», и искал новых путей для литературы. Он обратил внимание на вошедшие тогда в моду итальянские новеллы, и эта легкая и привлекательная форма литературных произведений показалась ему желательной для Испании. Итальянские и французские новеллы переводились на испанский язык, но никому еще в Испании не приходило в голову подражать им. Первая мысль об этом принадлежит, следовательно, Сервантесу, который задумал, воспользовавшись своеобразною пикантностью французских сюжетов, внести в них героический дух старой Испании, облечь это содержание в изящную, свободную форму итальянских новелл и таким образом создать оригинальную испанскую новеллу. Прежде всего он изучил стиль и тон произведений нового жанра, то есть скорее образцы итальянские, нежели французские. Его путешествия и поездки в молодости по Италии дали ему возможность хорошо ознакомиться с языком и литературою страны. Он тщательно изучил тогда Ариосто, Боярдо, Танзило и теперь, вдохновляясь ими и своими воспоминаниями о Неаполе, который он называл самым прелестным городом в мире, стал писать свои новеллы, намеренно обогащая испанский язык большим количеством итальянизмов. Первые его новеллы явно подражательны, но чем дальше, тем становятся оригинальнее и тем более проникаются национальным духом. Большая часть их основана на личном опыте и личных наблюдениях. Вообще «Новеллы» представляют самые удачные после «Дон Кихота» произведения Сервантеса и носят на себе отпечаток индивидуального гения автора и национального характера народа. Последнее свойство служит объяснением их неувядаемой славы в Испании и меньшей популярности в других странах, нежели они того заслуживают. Как произведения творческой фантазии они, повторяем, должны быть поставлены непосредственно за «Дон Кихотом», но по правильности и изяществу стиля стоят выше его. «Новеллы» имели большой успех: в девять лет они выдержали десять изданий и до сих пор составляют недосягаемые образцы такого рода произведений.
В 1614 году вышла в свет сатирическая поэма Сервантеса «Путешествие на Парнас». Мы говорили выше о войне, которую вел Сервантес с плохим театром; теперь нам предстоит говорить о сражении, которое он дал плохим поэтам. В то время в Испании развелась целая толпа мелких бесталанных поэтиков, – толпа, осаждавшая академические конкурсы, ломившаяся в двери грандов, ища для себя покровителей и кормильцев. Это была настоящая корпорация попрошаек, изнеженных, болтливых и дерзких, так же явно выставлявших напоказ свою нищету, как и свои негодные произведения. Сервантес окрестил эту голодную толпу поэтов именем «poetambre» (от «hambre» – голод). В промежуток времени между 1610 и 1612 годами вся эта poetambre пришла в необычайное волнение: уезжая в Неаполь, граф Лемос объявил, что увезет с собою лучших поэтов. Желающих оказалось целое войско. Братья Архенсола, которым было поручено сделать выбор, теряли голову. Сервантеса не приглашали: он был презираем всеми, о нем говорили, что время его прошло; прошло то время, когда все заслушивались речами какого-то Санчо Пансы, и настал час для настоящих поэтов. Сервантес стар и беден; он никогда не умел сочинить ни одного стиха и к тому же не принадлежит к новейшей школе. Так рассуждала молодежь, вся целиком придерживавшаяся нового стиля, «с помощью которого, – говорил Сервантес, – взбираются на Парнас».
Очутившись совершенно одиноким в виду многочисленного лагеря противников, Сервантес, увлекаемый, с одной стороны, своим природным юмором, с другой, – видя с сокрушением сердца, как постепенно унижается истинная поэзия, не мог противостоять искушению рассказать стихами в смехотворной форме об осаде Парнаса многочисленной poetambre и одновременно выступить на защиту истинной поэзии против возмутительной профанации. Он задался мыслью сделать еще раз обзор всей современной литературы с целью доказать молодежи, что вне бескорыстия нет поэзии. Сознавая, какую ошибку совершил он некогда, слишком лестно отозвавшись в «Галатее» о своих сотоварищах по профессии, и собираясь загладить, сколько возможно, старые промахи, он вооружился теперь всем своим запасом иронии, всею силою своей критической мысли. В своем «Путешествии» он рассказывает, каким образом, прослышав однажды, что один из поэтов совершил на муле путешествие на Парнас и был милостиво принят Аполлоном, он вздумал предпринять такое же путешествие. Но так как у него не было никаких средств, то ему пришлось отправиться пешком. У берега моря Сервантес встречает Меркурия, который, по-видимому, хорошо знаком как с его произведениями, так и с обстоятельствами его жизни. Меркурий любезно предлагает ему взойти вместе с ним на галеру, снаряженную Аполлоном с целью привезти ему необходимый полк поэтов. К великому удивлению Сервантеса, галера оказывается оснащенной всевозможными родами поэзии: большая рея представлена длинной элегией, легкие стихотворения служат флагами, корма составлена из сонетов, изящно отточенных, и так далее. Меркурий предлагает Сервантесу выбрать поэтов по своему усмотрению, говоря, что только таким образом можно спасти Парнас. Сервантес делает выбор так же, как делал его граф Лемос. Он поочередно называет всех поэтов Испании, как знаменитых, так и малоизвестных, и к каждому названному имени прибавляет или ироническое восхваление, или хвалебную иронию. Наконец выбор сделан; избранники являются к Аполлону. Бог очень любезно встречает гостей и предлагает места всем, кроме Сервантеса. Последний обижен и заявляет об этом хозяину. «Смирись, – говорит Аполлон, – сложи свой плащ и садись на него». Но у Сервантеса нет даже плаща, чего в рассеянности не заметил бог. На следующий день начинается война. Poetambre осаждает Парнас; ее оттесняют. Удары наносятся за ударами, туча книг летит во все стороны, заменяя собою бомбы. Наконец на помощь Аполлону приходит Нептун и швыряет в море расходившихся поэтов. Через минуту все они всплывают на поверхность, но уже превращенные в тыквы. Здесь веселый тон Сервантеса достигает крайних пределов, остротам и шуткам его нет конца. Но смех внезапно смолкает перед чудесным видением: поэту являются Ложная Поэзия в виде вакханки и Ложная Слава в образе пленительной девушки. В сладких звуках их голосов, в выражении их красивых лиц сквозят лицемерие и коварство. Сервантес поражен и смотрит на них с недоумением честного и прямого человека. Тогда Аполлон и Меркурий показывают ему вдали Истинную Славу, окруженную тихим сиянием; рядом с нею видна Истинная Поэзия, простая и божественная.
Поэзия сходит с Парнаса с приветливой и искренней улыбкой; она пришла, чтобы благодарить сражавшихся и отпустить их.
Этот последний вызов Сервантеса попрошайкам скрывает под видом шутки серьезное негодование и протест во имя чести поэзии целомудренной, благородной и бескорыстной. Его смелая выходка испугала и раздражила поэтов. Те, которых он называл в своей поэме, рассердились на него; рассердились и те, которых он не называл.
Нет никакого сомнения, что шутки Сервантеса, его игривые остроты прикрывали собой горькое чувство человека, с каждым днем все более и более убеждающегося, насколько начинает он расходиться с веком, каждый день сильнее и глубже чувствующего свое полное и безотрадное одиночество.
В следующем году Сервантес издал свои пьесы, которых было теперь уже восемь, как и восемь интермедий. Не без труда удалось ему найти издателя. Литературные котерии были удивительно настойчивы в своем заговоре против неудобного критика, и книгопродавец, решившийся издать его пьесы, как рассказывает в предисловии к ним сам автор, получил от какого-то благородного писателя предостережение, что проза Сервантеса подает большие надежды, но поэзия – никаких.
Здесь нам приходится присутствовать при одном из многочисленных бедствий Сервантеса. История его новых пьес представляет едва ли не самую печальную страницу его жизни, где Сервантес на минуту изменяет себе под давлением тягостных условий существования и идет на компромисс со своими взглядами на задачи искусства. Это единственный известный нам факт его жизни, нарушающий цельность его безупречной личности, единственная страница, которую хотелось бы вычеркнуть из его биографии. Вообще отношения Сервантеса к театру были незавидны. За 30 лет, которые прошли теперь с тех пор, как он начал писать для театра, его первые 20 или более пьес были забыты. Всякий доступ к театру оказывался для него закрытым благодаря Лопе де Вега и толпе его подражателей. Актеры не признавали никаких пьес, кроме пьес a la Лопе де Вега. Сезон для такого театра, как понимал его Сервантес, истек или не наступал еще для Испании, и работать для театра ему не следовало. Но Сервантес, этот гордый Сервантес, высоко несущий свою почтенную седую голову, был теперь нищим; вместе с ним бедствовала и семья его; друзей, которые могли бы помочь ему, около него не было: их рассеяла беспощадная правда, всегда говорившая устами поэта-воина. Совершенное одиночество, безысходная нужда и, быть может, жалость к своим близким заставили в первый раз в жизни склониться эту гордую голову. Сервантес, нуждавшийся в насущном хлебе, вооружился пером, пересмотрел и издал свои восемь пьес и восемь интермедий, написанных в духе Лопе де Вега!
Эти новые пьесы носят на себе заметный отпечаток модного вкуса того времени. Одна из них, «Блестящий испанец», очень живая, полная движения комедия; в ней главное действующее лицо Фернандо Сааведра, независимый в своих суждениях, пылкий и отважный солдат, защитник Орана. Эта комедия представляет собою диаметральную противоположность тому, что нужно было ожидать от Сервантеса: образец рыцарской литературы со всеми ее волшебствами и переодеваниями.
Все эти пьесы обработаны крайне небрежно, что делается понятным, когда знаешь их историю. Вообще по этим пьесам видно, что Сервантес теперь отказался от всех тех принципов, которые считал обязательными для драмы, которые горячо защищал десятью годами раньше в первой части «Дон Кихота». Мало того, не только в пьесах, но и в своего рода предисловии ко второму акту «Rufian Dichoso» он вполне сознательно принял драматические теории Лопе. Что касается интермедий, то они лучше, нежели пьесы; это веселые фарсы в прозе с легкой интригой, предназначенные занимать публику в антрактах.
Не следует, однако, приписывать неудачи Сервантеса на театре исключительно преследованию его врагов и противодействию его модным вкусам. Было обстоятельство более серьезное, составлявшее неодолимое препятствие успеху его на драматическом поприще: он не имел ни драматического таланта, ни достаточно ясного представления о том, какими средствами могут быть достигнуты драматические эффекты. Ему вредила уверенность, что все истинное и поразительное может быть с успехом представлено на сцене. Таким образом, главною причиною его неудач в области драматического искусства служили, во-первых, особое направление его гения, во-вторых, – жалкое состояние испанского театра в начале его деятельности и полное отсутствие в то время выработанных для театра формул.
Глава VI 1614-1616
Авельянеда. – Вторая часть «Дон Кихота». – Критики этого романа. – Его философия. – «Персилес и Сихизмунда». – Пролог и посвящение к этому роману. – Смерть Сервантеса. – Его могила. – Художественные произведения в память Сервантеса.
В 1614 году разразилась наконец адская машина, давно подготовлявшаяся для Сервантеса его литературными врагами: вышло в свет сочинение под заглавием «Вторая часть изобретательного идальго Дон Кихота Ламанчского, содержащая рассказ о его третьем выезде и пятую книгу его приключений». Книгу эту при первом ее появлении каждый должен был счесть за сочинение Сервантеса; однако подписана она была не его именем. Внизу более мелким шрифтом значилось: «Сочинено лиценциатом Алонсо Фернандес де Авельянеда, уроженцем города Тордезилла. – Таррагона. Напечатано Филиппе Роберто, 1614 год».
«Прежде всего, – говорит Шаль, – это был дурной поступок». Какой-то неизвестный присваивал себе право продолжать чужую книгу и вместе с этим правом также и выгоду от продажи сочинения, популярность которого была обеспечена; таким образом он лишал Сервантеса надежды выйти наконец из своего бедственного положения. Под псевдонимом Авельянеды скрывался неизвестный автор, имя которого до сих пор не удалось открыть. Касательно этого вопроса было сделано много более или менее остроумных предположений, из которых самым основательным признано мнение, что автором названной книги был, по всему вероятию, падре Луис де Альяга, человек низкого происхождения, успевший сделаться любимцем графа Лермы и духовником Филиппа III. Кто бы ни был, однако, таинственный недоброжелатель Сервантеса, из предисловия, предпосланного его книге, ясно следует, что он служил в данном случае орудием целой тесно сплоченной партии литературных посредственностей, составивших заговор против творца «Дон Кихота». Пролог Авельянеды представляет с начала до конца непрерывный ряд грубых оскорблений по адресу обличителя литературных ремесленников. Это целая серия недостойных намеков на старость Сервантеса, на его бедность и увечье; здесь встречаем мы уже упомянутое выше низкое сопоставление великого писателя с разрушенным замком Сан-Сервантес. «Теперь Мигель Сервантес стал стар, как замок Сан-Сервантес, и так истрепан годами, что вся и все становится ему в тягость». Далее ставятся Сервантесу в упрек его нападки на «одного из инквизиторов» – намек на Лопе де Вега – и высказывается заботливое опасение, как бы, удалившись теперь от литературного поприща, он не стал нападать на церковь и святыню. «Сквозь эту плоскую смесь коварных инсинуаций и грубого зубоскальства, искусной лжи и бессовестных обид, – говорит Шаль, – виднеется маленькое, едва занимающееся пламя возможного костра». Но и этим не довольствовались враги Сервантеса. Желая вконец уничтожить своего противника, они задумали поистине жестокое дело – отнять у него исключительное право на главную заслугу его перед обществом. С удивительной развязностью Авельянеда заявляет, что оба они, Сервантес и он, стремятся к одной цели – «бороться до крайности с пагубным чтением плохих рыцарских книг, столь распространенных между поселянами и праздными людьми». По его словам выходило, что не одному Сервантесу принадлежит честь победы над рыцарской литературой, что он является лишь одним из ее победоносных противников. Больнее уколоть не было возможности. Но Авельянеда не останавливается даже и перед такой попыткой. В своей поддельной второй части «Дон Кихота» он намеренно коверкает созданные Сервантесом типы, превращая их в орудие насмешки над самим автором. По всему вероятию, ему каким-нибудь образом стал известен план Сервантеса, и он бессовестным образом воспользовался им, чтобы в карикатурном и смехотворном виде представить жизнь и деятельность своей жертвы. Его «Дон Кихот» – злобная и низкая карикатура на Сервантеса. Авельянеда рисует испанского дворянина, который только и делает, что произносит напыщенные речи о военном искусстве и военной славе, беспокойного фантазера, который то предлагает королю сражаться с турками, то затевает нелепую ссору с актерами, причем последняя, конечно, оканчивается позорно для Дон Кихота. Актеры издеваются над ним и, повалив его на землю, в наказание разыгрывают перед ним пьесу Лопе де Вега. Это завистливый, подозрительный и несчастный бедняк, не имеющий ничего общего с умным и благородным героем Сервантеса, горемыка, выпущенный из тюрьмы, которому предстоит умереть на соломе. В конце рассказа он сходит с ума, и его сажают в дом умалишенных. Но и на этом не останавливается Авельянеда: он находит, что еще мало унизил своего противника, и поэтому заставляет Дон Кихота выздороветь, выписаться из больницы и отправляет его просить подаяние на улице.
Сервантес узнал об этой наглой подделке уже тогда, когда сильно продвинулся в сочинении второй части своего романа; он приступал в это время к 59-й главе и, начиная от этой главы до последней, 74-й, не перестает на каждом шагу преследовать, пробирать и стыдить Авельянеду.
Все, что касалось обидных намеков на его личность, мало задевало Сервантеса; он настолько свыкся теперь с ненавистью к себе своих сотоварищей, настолько ставил себя выше их жалких придирок, что они перестали огорчать его; но он не мог ни спокойно вынести, ни забыть искажения созданных им типов и пародирования столь дорогого для него «детища ума его». Вот почему эпизод с поддельным Дон Кихотом не мог не иметь большого влияния на судьбу настоящего. Он подзадорил Сервантеса поскорее закончить начатую книгу, что и объясняет, почему конец ее второй части носит характер спешной работы. Уже в феврале 1615 года книга была издана. С тех пор мы больше ничего не слышим об Авельянеде, несмотря на его обещание написать продолжение того же романа, выставить Дон Кихота героем другого ряда приключений – в Авиле, Вальядолиде и Саламанке. Опасаясь главным образом этого продолжения, Сервантес и поспешил с изданием своей книги. При этом первоначальный план его был несколько изменен. Чтобы предотвратить всякую возможность для кого бы то ни было продолжать историю Дон Кихота, Сервантес заставил его умереть во второй части. Дон Кихот заболевает изнурительной лихорадкой, быстро сводящей его в могилу, и к концу этой болезни излечивается от сумасшествия, отказывается от всех безумств странствующего рыцарства и как мирный христианин умирает в своей постели, поместив в своем духовном завещании между прочим следующий параграф:
«Прошу еще находящихся здесь моих душеприказчиков, если придется им встретить когда-нибудь человека, написавшего книгу под заглавием „Вторая часть Дон Кихота Ламанчского“, убедительно попросить его от моего имени простить мне, что я неумышленно доставил ему повод написать столько вздору; пусть они скажут ему, что, умирая, я глубоко сожалел об этом».
Кто был человек, к которому обращал Дон Кихот эти сожаления и соболезнования, – этого, по-видимому, не знал, наверное, и сам Сервантес, но во всяком случае можно сказать, что великий испанский романист вышел с честью из затруднения, в которое поставили его интриги его врагов. К концу романа, как уже сказано, герой его отказывается от пагубного чтения, причинившего ему столько бед, и автор заканчивает свою книгу словами, в которых явственно слышится нравственное удовлетворение человека, успешно выполнившего поставленную задачу: «Единым моим желанием, – пишет он, – было передать всеобщему посмеянию сумасбродно-лживые рыцарские книги, и, пораженные насмерть истинной историей моего Дон Кихота, они тащатся уже пошатываясь и скоро падут и вовеки не поднимутся». «С появлением „Дон Кихота“, – говорит Шаль, – рыцарство умерло, а Сервантес стал бессмертен».
Как приведенные выше слова Сервантеса, так и написанные им на десять лет раньше, при выходе первой части его романа, казалось бы, достаточно ясно определяют его задачу и тот смысл, который он хотел придать своей книге. Тем не менее, еще до сих пор критика не пришла к единодушному заключению по этому вопросу. Разногласие, существующее между отдельными мнениями, должно казаться тем более странным, что «Дон Кихот» Сервантеса, более чем какое-либо другое произведение всемирной литературы, останавливал на себе критическую мысль. В числе критиков этого романа мы встречаем таких ученых, как Сисмонди, Прескотт, Тикнор и другие; таких мыслителей, как Шеллинг и Гегель; таких художников, как лорд Байрон, Гете, Вордсворт, Гейне, Виктор Гюго и Тургенев. Говоря о «Дон Кихоте», каждый из них высказывал свой оригинальный, самостоятельный взгляд, по большей части мало походивший на взгляды остальных. В своей статье под заглавием «Философия Дон Кихота» («Вестник Европы», сентябрь 1885 г.) профессор Стороженко берет на себя труд, ввиду общего несогласия критиков относительно главной мысли произведения Сервантеса, если не примирить их взгляды, то, по крайней мере, выяснить причину этой разноголосицы. Этой части статьи своей он предпосылает краткий обзор истории мнений, высказанных о «Дон Кихоте» в нашем столетии, которая представляет, говорит он, любопытную страницу в истории критики.
«Писатели XVII и XVIII веков (С. Эвремон, Бодмер и другие) судили о произведении Сервантеса по непосредственному впечатлению и видели в его герое тип хотя и симпатичный, но все-таки отрицательный. Они высоко ценили искусство автора, умевшего соединить в одном лице столько мудрости и безумия, восхищались мастерски очерченными характерами Дон Кихота и его знаменитого оруженосца, из которых один прекрасно оттеняет другого, от души смеялись над забавными похождениями и трагикомическими неудачами Рыцаря Печального Образа, но им и в голову не приходило отыскивать затаенный смысл в произведении Сервантеса и негодовать на автора за то, что он постоянно ставит своего героя в смешные положения. С начала XIX века, преимущественно под влиянием Канта, в критику вторгается философский элемент, и главной задачей ее с этих пор становится выяснение основной тенденции художественного произведения, определение идеи, лежащей в основе всякого характера и т. п.».
Последователь Канта, Бутерверк, а за ним также и Шлегель держались мнения, что сущность произведения Сервантеса состоит в противопоставлении поэтического энтузиазма, олицетворенного в Дон Кихоте, житейской прозе, воплощенной в лице Санчо Пансы. Сисмонди развил эту мысль и расширил ее значение, определив задачу «Дон Кихота» как изображение вечного контраста между поэтическим и прозаическим в человеческой жизни, как иллюстрацию того, каким образом характер героя, кажущийся возвышенным, если смотреть на него с возвышенной точки зрения, может показаться смешным, если на него взглянуть, как взглянул Сервантес, с точки зрения здравого смысла и житейской прозы. Мнения Бутерверка, Шлегеля и Сисмонди оказали сильное влияние на последующую критику; так, Гегель находил, что в «Дон Кихоте» осмеяна идея рыцарства в своих самых возвышенных проявлениях; Гейне признавал, что «Дон Кихот» есть величайшая сатира на человеческую восторженность вообще, а Шеллинг – что в романе Сервантеса изображен конфликт идеального с реальным, что, в сущности, равносильно перефразировке мнения, высказанного Сисмонди и Шлегелем.
«Замечательно, что мнения философствующих критиков, – продолжает профессор Стороженко, – превративших произведение Сервантеса в какую-то аллегорию, нашли отголосок главным образом в сердцах поэтов. Почти все великие поэты нашего столетия, за исключением разве Гете, признавали Дон Кихота типом положительным и горячо приняли его сторону против его автора, будто бы желавшего осмеять в лице своего героя энтузиазм к справедливости и добру и героизм в проведении своих идеалов в жизнь».
В этом осмеянии героя, стремившегося водворить правду на земле, имевшего целью наказать злых и сражаться с притеснителями за слабых и несчастных, они видели печальный нравственный урок и потому называли книгу Сервантеса печальнейшей книгой на свете.
Самый горячий обличитель Сервантеса, лорд Байрон, утверждает, что со времени выхода в свет «Дон Кихота» Испания произвела мало героев. «Успех его, – говорит он о Сервантесе, – был куплен дорогой ценой нравственного упадка его родины».
Гюго, соглашаясь с другими критиками в вопросе о скрытом смысле «Дон Кихота», думает, однако, что за смехом Сервантеса скрыты слезы и что в глубине души он так же на стороне Дон Кихота, как Мольер на стороне Альцеста.
Тургенев в своей статье «Гамлет и Дон Кихот» так выражается о герое Сервантеса:
«Дон Кихот весь проникнут преданностью идеалу, для которого он готов подвергаться всем возможным лишениям, жертвовать жизнью. Самую жизнь он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины и справедливости на земле. Жить для себя, заботиться о себе Дон Кихот счел бы постыдным. Он весь живет (если можно так выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для противодействия враждебным человечеству силам – волшебникам, то есть притеснителям».
Этот преобладающий в наше время взгляд на Дон Кихота оспаривался Галламом, Сент-Бевом и Тикнором, глубже изучившими Сервантеса и его эпоху. Тикнор энергично восстает против критиков, навязывавших автору цели, которых он не имел, и делавших его ответственным за них. Но взгляды Тикнора и его единомышленников не оказали должного влияния на критику, которая по-прежнему продолжает судить Дон Кихота с точки зрения отвлеченно-философской.
Главную причину недоразумения автор упомянутой статьи видит в двойственности нравственной личности героя Сервантеса, крайне симпатичного по своим личным качествам, нелепого и карикатурного, когда он отдается влиянию своей idée fixe. В первом случае это человек умный, гуманный и благородный, во втором – сумасброд с болезненно настроенным воображением, фантазер, мечтающий воскресить давно отжившее странствующее рыцарство, честолюбец, жаждущий покрыть себя неувядаемой славой, часто не справляясь с тем, какие последствия повлекут его поступки для окружающих, воплощенный анахронизм, постоянно приходящий в столкновение с действительностью, которой он не понимает, вследствие чего его подвиги храбрости не только не полезны, но часто вредны и уж во всяком случае никому не нужны. Сама по себе задача Сервантеса – показать, как вредно действует на его современников чтение рыцарских романов, – требовала от автора внесения в сознание его героя упомянутой двойственности. Изобрази Сервантес Дон Кихота одним из тех простаков и невежд, веривших в басни, рассказываемые в рыцарских романах, каких было много в Испании, – картина, нарисованная им, страдала бы отсутствием рельефности, от читателя требовалось бы слишком большое усилие, чтоб отделить случайное от необходимого и разобраться в каждом отдельном случае, почему Рыцарь Печального образа оказался несостоятельным. В силу этого соображения Сервантес остановился на герое, нравственная личность которого составлена из ряда положительных черт и только одной отрицательной – извращенной под влиянием рыцарской литературы фантазии, на почве которой развивается целый ряд несообразностей в его поступках.
Упростив таким образом свою задачу, он мог с чрезвычайной очевидностью показать, каким образом человек умный, благородный, великодушный, храбрый и просвещенный, сделавшись рабом своей расстроенной фантазии, может быть вовлечен в поступки, не соответствующие ни его уму, ни его великодушию, ни его чувству собственного достоинства. Его герой, задавшись целью бороться со злом и насаждать добро, по большей части или причиняет зло другим, или ставит себя в смешное и унизительное положение, потому что живет идеями прошлого и не понимает, что ему приходится действовать в такое время, когда слабые и угнетенные стоят не под покровительством странствующих рыцарей, а под защитою законов и учреждений. Лиценциат, сломавший себе ногу по милости Дон Кихота; стража, избитая освобожденными им каторжниками; Санчо, принужденный странствовать пешком, потому что осел его украден теми же каторжниками; пастушок, до полусмерти избитый своим хозяином; содержатель корчмы, лишенный всего своего запаса вина, и многие другие – все это жертвы неудачно направленного энтузиазма и полного непонимания того, что подвиги оцениваются столько же по достигнутым результатам, сколько по тем побуждениям, которыми они вызваны.
В других случаях Сервантес показывает, каким образом стремление покрыть себя во что бы то ни стало небывалой славой и разыграть с фотографической точностью странствующего рыцаря подвигает его героя на поступки диаметрально противоположные общепринятому понятию о гуманности, самопожертвовании, истинной храбрости и чести. Дон Кихот отказывается помочь хозяину корчмы, избиваемому собственными постояльцами, на том только основании, что считает ниже своего достоинства сражаться с простыми людьми; он подвергает опасности все окрестное население, заставив отворить клетку со львами, с которыми собирается сразиться исключительно для того, чтобы приобрести славу; он совершенно хладнокровно подвергает всевозможным лишениям своего верного Санчо, преследуя единственную цель – как можно более походить на странствующего рыцаря, и готов собственноручно отсчитать ему 6600 плетей, веря, что может способствовать этим освобождению воображаемой Дульсинеи от чар волшебника; он не задумывается, наконец, согрешить против истины, сочинив рассказ о виденном им в Монтесиносской пещере только ради того, чтобы возвеличить себя в глазах окружающих.
Все эти поступки и многие другие не дают ему права считаться энтузиастом идей добра, справедливости и самоотвержения на пользу общую, как принято понимать его обыкновенно.
«Нет, не энтузиазм к добру и правде осмеян автором „Дон Кихота“, – говорит профессор Стороженко, – а нелепая форма проявления этого энтузиазма, карикатура, навеянная рыцарскими романами и не соответствующая духу времени… Поскольку Дон Кихот – странствующий рыцарь, постольку он фантазер и мономан, но лишь только ему удается выйти из заколдованного круга своей idée fixe, он становится настоящим мудрецом и из уст его льются золотые речи, в которых так и хочется видеть взгляды самого автора».
Такими речами изобилует в особенности вторая часть романа, которая является постольку же философскою, как первая сатирическою. Насколько взгляды, высказываемые Дон Кихотом, можно приписывать самому автору, видно из следующих слов Сервантеса: «Перо – язык души: что задумает одно, то воспроизводит другое. Если поэт безупречен в своей жизни, то он будет безупречен и в своих творениях», и далее в конце второй части: «Да, для меня одного родился Дон Кихот, как я для него. Он умел действовать, а я – писать. Мы составляем с ним одно тело и одну нераздельную душу». Наставления, которые дает Дон Кихот своему оруженосцу, отправляющемуся в качестве губернатора на остров Баратарию, представляют образец политической мудрости и высокогуманных взглядов.
«Все те, – говорит Дон Кихот, – которые достигают высоких званий из низкого состояния, должны соединять с важностью своего сана мягкость характера; украшаемая мудростью, она предохранит их от яда злословия, от которого не в силах спасти никакой сан, никакой почет.
Гордись, Санчо, своим скромным происхождением и не стыдись говорить, что ты – сын крестьянина. Если ты сам не устыдишься его, тогда никто не пристыдит тебя им. Гордись лучше тем, что ты – незнатный праведник, чем тем, что знатный грешник…
Если ты изберешь добродетель своим руководителем и постановишь всю славу свою в добрых делах, тогда тебе нечего будет завидовать людям, считающим принцев и других знатных особ своими предками. Кровь наследуется, а добродетель приобретается и ценится так высоко, как не может цениться кровь…
Не отдавай никакого дела на суд другому, что так любят невежды, претендующие на тонкость и проницательность.
Пусть слезы бедняка найдут в сердце твоем больше сострадания, но не справедливости, чем дары богатого.
Старайся открыть во всем истину; старайся прозреть ее сквозь обещания и дары богатых и сквозь рубище и воздыхания бедных.
И когда правосудие потребует жертвы, не обрушивай на главу преступника всей кары сурового закона; судия неумолимый не вознесется над судьею сострадательным.
Но, смягчая закон, смягчай его под тяжестью сострадания, но не подарков.
И если станешь ты разбирать дело, в котором замешан враг твой, забудь в ту минуту личную вражду и помни только правду. Да никогда не ослепит тебя личная страсть в деле, касающемся другого…
Не оскорбляй словами того, кого ты принужден будешь наказать делом; человека этого и без того будет ожидать наказание, к чему же усиливать его неприятными словами.
Когда придется тебе судить виновного, смотри на него, как на слабого и несчастного человека, как на раба нашей греховной натуры. И, оставаясь справедливым к противной стороне, яви, насколько это будет зависеть от тебя, милосердие к виновному, потому что хотя богоподобные свойства наши все равны, тем не менее, милосердие сияет в наших глазах ярче справедливости».
Чтобы оценить по достоинству приведенные строки, достаточно вспомнить, что они писались в эпоху разгара инквизиции, когда слово «милосердие» менее всего пользовалось правом гражданства. Под влиянием этих речей Санчо, мечтавший до сих пор только о том, как бы нажиться и руководившийся в своих действиях изречениями и пословицами вроде следующих: «Никогда не проси того, что можешь взять», «Околевай курица, но только сытой», «Одно на лучше двух я дам», – этот самый Санчо совершенно преображается, делается действительно мудрым и гуманным правителем, уничтожает массу несправедливостей и злоупотреблений, заботится об участи несчастных и покидает остров, с гордостью сознавая, что уезжает таким же бедняком, каким приехал сюда.
Чем далее подвигается Сервантес в своем романе, тем ярче выступают симпатичные, привлекательные стороны его героев, тем яснее и яснее начинает Дон Кихот сознавать свои заблуждения и становится постепенно истинным мудрецом, высказывающим светлые мысли относительно литературы, религии, социальных вопросов и нравственности. Чем дальше, тем более блещет добродушный Санчо своеобразным остроумием и находчивостью, тем более располагает он читателя в свою пользу.
«Сервантес действительно под конец стал любить эти создания своей чудной фантазии, – говорит Тикнор, – как будто они были действительными и близкими ему лицами, стал говорить о них и обращаться с ними с такой серьезностью и участием, которые много способствуют иллюзии читателей. И Дон Кихот, и Санчо являются вследствие этого перед нами до такой степени реальными личностями, что до сих пор образы худощавого, помешанного, но проникнутого достоинством рыцаря и его кругленького, эгоистичного и в высшей степени забавного оруженосца живут в воображении всех сословий христианского мира более чем какое-либо другое создание человеческого гения. Величайшие из великих поэтов – Гомер, Дант, Шекспир, Мильтон – парили без сомнения выше, затрагивали могущественнее благороднейшие стороны нашей природы, но Сервантес, творя постоянно под непреодолимым побуждением собственного гения и бессознательно перенося в свое творение все наиболее оригинальные черты своего народа, стал родным для всех времен и для всех народов, одновременно стоящих как на низшей, так и на высшей ступени цивилизации, и поэтому более, чем всякий другой писатель, получил взамен заслуженную дань симпатии и удивления всего человечества».
Нет никакой возможности перечислить в этом коротком очерке все перлы высокой мудрости, разбросанные на страницах «Дон Кихота». Здесь мы находим цельную литературную теорию Сервантеса, которую он так энергично защищал против современных писателей-ремесленников; находим проповедь веротерпимости, обличение господствующих суеверий, поход против лицемерия духовенства того времени, благодаря которому книга Сервантеса была включена в список сочинений, запрещенных инквизицией (Index expurgatorius), собственные воспоминания автора о несчастьях, перенесенных в плену и на родине, и так далее. Ничтожные недостатки этого романа – известная сбивчивость плана, некоторые малозначащие противоречия и погрешности против хронологии – не могут заметно влиять на общее впечатление, между тем как достоинства его – блестящий своеобразный юмор и светлая вера в добро и добродетель – выступают еще резче, если вспомнить, что творение Сервантеса не есть плод юношеской фантазии, но написано в глубокой старости и окончено незадолго перед смертью.
Как ни враждебно относился Сервантес к модной литературе своего времени, он, тем не менее, вполне понимал, как выгодна для писателя сама по себе форма романа, дающая неограниченный простор его творческой фантазии и способная более всякой другой отражать человеческую жизнь в ее разнообразных проявлениях.
«Порицая немилосердно эти книги, – говорит он о рыцарских романах в первой части „Дон Кихота“, – я нахожу в них одно хорошее, именно канву: блестящий талант мог бы развернуться и выказать себя на ней во всем блеске. Они представляют обширное поле, в котором перо может двигаться совершенно свободно, описывая бури, кораблекрушения, битвы и прочее. И если подобное сочинение будет умно задумано, написано чистым, приятным слогом и приблизится, насколько это возможно, к истине, тогда данная автору канва украсится разнородными драгоценными узорами и сочинение его представит столько красот, что оно достигнет высочайшей степени совершенства, до которой может возвыситься поэтическое произведение, предназначенное, услаждая, поучать читателя. Свобода, предоставленная писателю в создании и развитии подобного рода произведений, дает возможность ему попеременно являться в них лириком, эпиком, трагиком, комиком, соединяя в себе все красоты приятной и сладкой науки, поэзии и красноречия, потому что эпопея может быть написана прозой так же удобно, как и стихами».
Основываясь на приведенном взгляде на роман как на наиболее благодарную форму изящной литературы, Сервантес задумал написать произведение, которое было бы для серьезного романа таким же образцом, каким был для комического «Дон Кихот». По крайней мере, такое заключение можно вывести из слов самого автора и его друзей. В посвящении ко второй части «Дон Кихота» он говорит: «В числе моих книг эта будет или худшею, или лучшею на нашем языке».
Однако план серьезного романа не удался Сервантесу. Его «Персилес и Сихизмунда» не вышел ни лучшею, ни худшею книгой в этом роде; но уже одна попытка его показывает, насколько он опередил свой век, насколько был выше общего уровня того времени. Серьезный роман только начинал развиваться, когда, посмертно изданное, вышло в свет произведение Сервантеса; из всех произведений европейской литературы ближе всего к роману стояли тогда его же собственные новеллы, в особенности некоторые из них. Образцов, которыми мог бы руководствоваться автор «Персилеса и Сихизмунды», в то время не было, если не считать «Мнимых Путешествий Лукьяна»[9] и нескольких греческих романов. Таким образом, ему приходилось почти что пробивать дорогу этому новому роду произведений. Но гений Сервантеса был склонен более к юмору, и потому его новый роман по своим достоинствам далеко уступает «Дон Кихоту». Сервантес назвал его «северным романом». Надо полагать, что сам автор не вполне был уверен в праве своего произведения называться «лучшею книгою» на его родном языке: роман-реформатор долго пролежал в его портфеле. Только в последние годы жизни Сервантес снова взялся за него и написал вторую его часть, но уже в совершенно другом тоне; он умер, не успев издать его. Смысл этого произведения великого писателя остался до сих пор неразгаданным. Одни видели в нем на каждом шагу намеки на современную политику, другие же нашли его скучным и не старались понять его основной мысли. Никто не заметил его значения как литературного произведения XVI века в совершенно новом, никем в то время не испробованном роде. Главный сюжет этого романа составляют страдания Персилеса, сына короля Исландского, и Сихизмунды, дочери Фрисландского короля. Он разделен на две части, очень мало похожие между собой. Первая часть написана в чисто рыцарском стиле; вторая, отделенная от первой тридцатилетним промежутком времени, – вполне философская. Первая много ниже второй, и по ней нельзя составить себе понятие о главной, руководящей мысли автора. Как первая, так и вторая части этого произведения Сервантеса поражают нас удивительной чистотой мысли и чувства. В лице Персилеса автор дает образец чистой бессознательно-платонической привязанности неиспорченного полуварвара, как бы сопоставляя ее с искусственно-лицемерным платонизмом рыцарских книг. Язык романа, в высшей степени изящный и поэтичный, составляет главную его прелесть, почему он много теряет в переводе. Богатство творческой фантазии поражает у писателя в возрасте Сервантеса. Во второй части встречаются черты автобиографические, воспоминания из путешествий автора по Италии и Испании, а также и следы горьких воспоминаний об Алжире. Несмотря на многие недостатки, для всемирной литературы роман «Персилес и Сихизмунда» имел значение громадное, послужив прообразом таким произведениям, как «Поль и Виргиния» Бернарден де Сен-Пьерра, «Телемак» Фенелона, «Эмиль» Жан-Жака Руссо, «Робинзон» Даниеля Дефо и «Дон Жуан» Байрона. Из всех творений Сервантеса роман «Персилес и Сихизмунда» имел наибольший успех у современников. В два года роман выдержал восемь изданий, а с 1618 по 1626 год он был переведен на языки итальянский, французский и английский.
Мы закончили краткий обзор литературных произведений Сервантеса и приближаемся к концу его биографии, так как литературная деятельность его кончается вместе с его жизнью, и умер он, так сказать, с пером в руках. «Персилес и Сихизмунда» был окончен в небольшом домике в Эскивиасе, приданом жены Сервантеса, куда нужда заставила его удалиться в последний год его жизни. В это время Сервантес сильно страдал от водянки и уже предвидел свой близкий конец. Свой роман подписал он, как подписывают духовное завещание. В прологе к нему он прощался с жизнью.
Заканчивает его Сервантес следующими трогательными словами: «Итак, прощайте, шутки, прощай, веселое настроение духа, прощайте, друзья: я чувствую, что умираю, и у меня остается только одно желание – увидеть вас вскоре счастливыми на том свете».
Сервантес не захотел удалиться из этого мира, не выразив своей признательности людям, которые поддерживали его в тяжелые минуты. «Я предлагаю то, что могу, – говорил он в одном из последних своих сочинений, – если я не в состоянии за добро заплатить тем же добром, то по крайней мере я его обнародую». Здесь он называет имена герцога Лемос, архиепископа Сандоваля и актера Педро де Моралеса, которые не дали ему умереть с голоду. Это публичное выражение признательности было последним актом, в котором выразилось благородство его чисто кастильского характера.
Ожидая со дня на день близкого конца, Сервантес сделал все необходимые распоряжения и вполне приготовился к смерти. Эту последнюю страшную минуту он встречал с таким же твердым спокойствием, как и все те, которых так много было в его жизни. За три недели до смерти он вступил в орден Францисканцев, рясу которых надел три года тому назад. 18 апреля он получил окончательное помазание, а на другой день написал посвящение своего последнего произведения графу Лемос, оставаясь до конца верным самому себе: при всем торжественном строе мыслей посвящение «Персилеса и Сихизмунды» дышит обычным добродушным юмором веселого горемыки.
23 апреля 1616 года, то есть в год смерти Шекспира, умер Сервантес на руках у своей жены. Его похоронили в монастыре Св. Троицы с непокрытой головой, как члена ордена. В 1633 году монастырь был оставлен монахами, и могила Сервантеса была забыта. Когда впоследствии ее хватились, все поиски оказались напрасными. Прошло более двух столетий по смерти великого испанского писателя: могила его оставалась навсегда потерянной, и в память его все еще не было поставлено никакого монумента. Но не нуждался автор «Дон Кихота» в монументе, сооруженном чужими руками. Недаром говорил он, что левая рука отказалась служить ему, предоставив правой позаботиться о его славе. Созданный собственным гением, памятник Сервантеса возносился теперь «выше пирамид» и был «тверже металлов»: он виден был отовсюду, всему цивилизованному миру, а будущность сулила ему бессмертие. Судьбе, как бы продолжавшей свои преследования и после смерти «отверженца», не удалось выйти победительницей и на этот раз.
В 1835 году испанцы поставили на Plaza del Estamento в Мадриде первый памятник Сервантесу – бронзовую статую более чем в натуральную величину, отлитую в Риме скульптором Сола из Барселоны. До 1835 года память Сервантеса была увековечена лишь выбитой в 1818 году в Париже бронзовой медалью и небольшим медальоном или бюстом, помещенным в 1834 году на средства частного лица над дверью дома по улице de los Francos в Мадриде, где он умер.
Около трех столетий отделяют нас от великого испанского гения, но этот длинный промежуток времени не сделал его чуждым нашему веку, и его «золотые речи» не стали для нас «забытыми словами». Близок и дорог должен быть каждому из нас этот «человек XVI века» с его высокими идеалами, с его сильной душой, с его чистым сердцем и безупречной совестью, благодаря которым, прощаясь с жизнью, преисполненной страданий и лишений, он не вспоминал о своих невзгодах и разочарованиях, но мог, напротив, накануне смерти произнести трогательные и милые слова: «Прощайте, шутки, прощай, веселое настроение духа!»
Источники
1. «Michel de Cervantes. Sa vie, son temps, son oeuvre politigue et littéraire». Par Emile Chasles. – Paris, 1866.
2. Джордж Тикнор. «История испанской литературы».
3. «Философия Дон Кихота» Н. Стороженко («Вестник Европы», сентябрь 1885).
4. «Мигель Сервантес Сааведра и его книга „Дон Кихот Ламанчский“». В. Карелин. (Биографический очерк, предпосланный его переводу «Дон Кихота»).
Примечания
1
Свободно и мощно (исп.).
(обратно)2
Похлебка, приготовленная из потрохов и конечностей животных, околевавших в течение недели.
(обратно)3
диалога (исп.)
(обратно)4
Мелкая испанская монета.
(обратно)5
разумным обоснованием (фр.)
(обратно)6
так называемой (фр.)
(обратно)7
Котерия (фр.) – кружок, сплоченная группа лиц, преследующих какие-либо своекорыстные цели (устар.).
(обратно)8
Единственное исключение составляет отношение Сервантеса к мавританскому вопросу; он считал изгнание мавров из Испании необходимой политической мерой.
(обратно)9
Быть может, автор очерка подразумевает роман Лукиана «Менипп, или Путешествие в подземное царство».
(обратно)



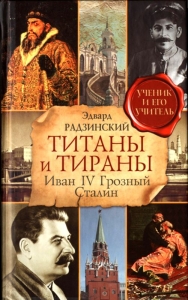


Комментарии к книге «Сервантес. Его жизнь и литературная деятельность», Анна Ивановна Цомакион
Всего 0 комментариев