А. Паевская Виктор Гюго. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк А. Н. Паевской
С портретом В. Гюго, гравированным в Лейпциге Геданом
Введение
Виктор Гюго умер в Париже 22 мая 1885 года, в час с половиною пополудни.
Всю предыдущую ночь, несмотря на дурную погоду, многочисленная толпа стояла перед его домом, ожидая сведений о больном, положение которого за последние дни волновало всю Францию. Время от времени кто-либо из домашних выходил на улицу, чтобы передать толпе ожидаемое известие, и оно тотчас разносилось по всему городу, несмотря на поздний час и не перестававший проливной дождь. Когда тысячам людей, окружавшим дом, сказали, что великого поэта и гражданина, великого «сторонника всепрощения» не стало,– послышались громкие рыдания. Печальная весть разнеслась с быстротою молнии и чуть не весь Париж столпился вблизи дома Виктора Гюго. На улицу вынесли два стола с книгами, куда каждый мог вписывать свое имя,– тут же поставили корзины для визитных карточек. Посетители нескончаемой вереницей направились в дом с намерением выразить свое сочувствие домашним; рядом с представителями прессы здесь были и правительственные лица, и простые рабочие, и светские люди, и члены муниципального совета, и художники...
Между тем в комнате умершего известный скульптор Далу делал гипсовый слепок с лица поэта, фотограф Надар ожидал своей очереди для снятия фотографии, живописец Бонна делал эскиз для портрета и Леон Глэз рисовал карандашом профиль покойного. В это же время мировой судья XV городского округа накладывал печати на все вещи, находившиеся в доме, как того требуют законы о наследстве во Франции.
Семейство Виктора Гюго, состоявшее из внуков его, Жанны и Жоржа Гюго, их матери, г-жи Локруа (во втором браке), и ее мужа, г-на Локруа, было погружено в глубочайшее горе. У покойного была также дочь, но она уже лет тридцать не жила с семьей, находясь в доме умалишенных.
Виктор Гюго лежал на кровати из черного дерева; смерть не изменила благородного лица поэта – казалось, что он только уснул. Руки его покоились на одеяле. Постель, так же как и вся комната и весь дом, была усыпана цветами, которые в несметном количестве приносились парижанами. Похороны решено было сделать за счет нации, так как вся Франция глубоко чувствовала постигшую ее потерю. Палата депутатов вотировала для этой цели кредит в 20 тысяч франков. На основании законного постановления день похорон был провозглашен днем народного траура: все места общественных служб были закрыты, так же как и все учебные заведения. Когда в палате депутатов и в сенате узнали о смерти Виктора Гюго, то в знак траура заседание было прекращено; то же сделала Академия во всех своих пяти отделениях одновременно. Такой чести еще никто не удостаивался во Франции.
Набальзамированное тело покойного было на сутки выставлено среди весьма торжественной обстановки под Триумфальною аркою на Елисейских полях, чтобы дать всем желающим возможность поклониться ему.
Вот письмо, написанное президентом республики депутату Локруа:
«Любезный г-н Локруа! Прошу Вас, так же как г-жу Локруа и всех членов семейства Виктора Гюго, принять выражение моего живейшего участия. Если что-либо может смягчить Ваше горе, то это единодушное сожаление всей Франции и всего цивилизованного мира, это бессмертие гения, который не перестанет парить над теми, кто был ему близок. Верьте, прошу Вас, любезный г-н Локруа, моим чувствам дружеской преданности.
Жюль Греви».
Муниципальный совет, изыскивая средства воздать наиторжественнейшие почести человеку, бывшему одновременно французским Шекспиром, Ювеналом и Вергилием, выразил желание, чтобы снова вступил в законную силу декрет Учредительного собрания от 2 апреля 1791 года или, во всяком случае, первые два пункта этого декрета, гласящие:
«1) Новое здание, построенное во имя Св. Женевьевы (Пантеон), предназначается для принятия бренных останков великих людей эпохи французской свободы.
2) Законодательный Корпус один будет иметь право решать, кому должна быть оказана эта почесть».
Министерство, поговорив об этом, не решалось сделать подобного предложения, боясь протеста со стороны духовенства. Тем не менее предложение было внесено в палату Анатолем де ла Форжем, и декрет, подписанный президентом и министрами, появился в официальном журнале 28 мая. И действительно: у Англии есть Вестминстер, где похоронены Шекспир, Байрон и Ливингстон; у Италии есть Санта-Кроче, где почивает Микеланджело, есть и грандиозный храм Агриппы, где покоятся останки Рафаэля и Каррачи,– теперь и Франция снова вернула подобное же назначение своему Пантеону.
Глава I
Родословная Гюго.– Семья Гюго.– Рождение поэта.– Первые его воспоминания.– Домашнее воспитание В. Гюго.– Путешествие в Испанию.– Возвращение в Париж.– Дружба с Аделъ Фуше.– Вступление союзной армии во Францию.– Падение империи.– Разлад в семье Гюго.– Жизнь и воспитание В. Гюго в пансионе Декотт.– Первые литературные попытки.
Во французском гербовнике, составленном Гозье в прошлом столетии, помещена родословная фамилии Гюго. Она происходит от Жана Гюго, капитана в войсках Рене II, герцога Лотарингского. Сын Жана, Жорж Гюго, получил 14 апреля 1535 года потомственные дворянские грамоты от кардинала Иоанна Лотарингского. От Жоржа Гюго, в седьмом колене, рожден был отец поэта, Жозеф-Леопольд-Сигисберт Гюго, имевший право на графский титул, как все генералы империи. Людовик XVIII впоследствии утвердил его в маршальском звании. Титула графа он сам не хотел носить. Некоторые из лиц, занимавшихся историческими исследованиями родословных французского дворянства, оспаривали, впрочем, происхождение Виктора Гюго от Жана Гюго, указывая на то, что дед поэта был простым рабочим. В числе предков и родственников Виктора Гюго следует упомянуть о Шарле-Луи Гюго, умершем в 1739 году. Будучи доктором и профессором богословия, он устроил типографию в своем премонстранском монастыре и под конец жизни получил звание епископа Птолемаидского. Мать поэта была дочерью богатого нантского арматора. Ее строго католическая семья отличалась преданностью Бурбонам. Граф Константин-Франсуа де Шассебеф, под псевдонимом «Вольней» написавший «Развалины» («Les ruines»), был двоюродным братом г-жи Гюго.
Отец поэта, Леопольд Гюго, поступил на службу кадетом в 1788 году, будучи четырнадцати лет от роду. В семье было семь братьев. Пятеро было убито в начале войн, последовавших за Великой французской революцией; шестой, «дядя Луи», дослужился до чина пехотного майора. Отец поэта получил звание генерала. Он воевал в Вандее; в 1795 году его отряд разбил и взял в плен Шаретта. В это время Леопольд Гюго познакомился со своей будущей женой. Свадьбу отпраздновали в Париже. Виктор родился 26 февраля 1802 года, после того как семья переселилась в Безансон. Отец не особенно радостно встретил его появление на свет – ему хотелось иметь дочь, так как, помимо Виктора, у него уже было два сына. Вот что пишет о рождении поэта «один из свидетелей его жизни»:
«Я много раз слышал рассказ о том, как родился Виктор Гюго. Он был, по выражению окружающих, „не длиннее столового ножа“. Когда его спеленали и положили на кресло, то он занял так мало места, что рядом с ним могло бы поместиться еще с полдюжины таких же крошек. Позвали его братьев взглянуть на него. Он был так жалок и некрасив и так мало походил на человеческое существо, что полуторагодовалый толстяк Эжен, едва начинавший говорить, вскрикнул увидев его: „Ай, зверюшка, зверюшка!“»
Несмотря на малоутешительные предсказания врача, «зверюшка» поднялся на ноги и вырос, хотя был сначала очень слабого здоровья. Ему не было еще и года, когда генерала Гюго перевели на остров Эльбу; здесь будущий поэт начал лепетать первые слова свои на итальянском языке. В течение зимы 1805 года генерал Гюго последовал за Жозефом Бонапартом в Неаполь, а семью отослал в Париж. К дому, где она поселилась, относятся первые сознательные воспоминания Виктора Гюго. Он помнит, что во дворе была коза и колодец под ивой,– здесь он часто играл. Живя в этом доме, он ходил в школу на улицу Монблан. Особенно врезалось ему в память, как он исполнял там роль «ребенка» в пьесе под заглавием «Женевьева Брабантская», где участвовала также дочь его учителя, мадмуазель Роза.
Вскоре отец его предпринял экспедицию против знаменитого калабрийского «Фра Дьяволо», окончившуюся поимкою этого легендарного разбойника, перешедшего впоследствии в область оперных либретто. Затем генерала Гюго назначили командиром полка «Рояль-Коре» и губернатором Авеллино. Он уже два года находился в разлуке со своими домашними и тотчас призвал их к себе. Но только-только семья успела устроиться на новом месте, как Жозеф Бонапарт перешел в Испанию, и генерал Гюго должен был последовать за ним. Мать и дети вернулись в Париж и поселились здесь в Фейльянтинском переулке.
Дом, где они жили, остался навсегда в памяти Виктора Гюго. Обширная квартира семьи была на первом этаже, в глубине двора, отделенного от улицы красивою чугунною решеткою; из большой и очень высокой гостиной балкон вел в сад, полный цветов, любимых г-жою Гюго. Налево к саду примыкал большой пустырь, где были глубокие ямы, кучи мусора и высохший бассейн, на дне которого маленький Виктор устраивал западни для тритонов.
Вот как поэт в 1875 году описывает свое жилище и жизнь семьи в нем:
«В начале этого столетия маленький мальчик жил в большом уединенном доме, окруженном обширным садом, среди одного из самых пустынных кварталов Парижа. Этот дом до революции назывался Фейльянтинским монастырем. Ребенок жил там с матерью, двумя братьями и старым священником, дрожавшим при воспоминании о девяносто третьем годе; это был почтенный старец, некогда подвергавшийся преследованиям и теперь снисходительный; он учил детей – много по-латыни, немного по-гречески – и ничего не говорил им об истории. В глубине сада росли очень высокие деревья, среди них пряталась старинная, полуразрушенная часовня. Детям было запрещено ходить так далеко. В настоящее время эти деревья, эта часовня и этот дом исчезли. Улучшения, свирепствовавшие в Люксембургском саду, дошли до Валь-де-Граса и уничтожили этот скромный оазис – там проходит теперь большая, довольно бесполезная улица. От Фейльянтинского монастыря осталось немножко травы, да часть стены с обвалившейся штукатуркой, еще виднеющаяся между двумя новыми постройками... На все это стоит смотреть только глубоким взором воспоминаний. В январе 1871 года прусская бомба упала в этот уголок, продолжая улучшения, и г-н Бисмарк окончил то, что было начато Гаусманном.
В этом доме росли во время Первой империи три маленьких брата. Они играли и трудились вместе, начиная жить, не зная будущности, наслаждаясь весною жизни и природы, полные внимания к книгам, к деревьям, к облакам, прислушиваясь к щебетливым хорам птиц, под наблюдением нежной материнской улыбки. Бог да благословит тебя, матушка!
На стенах сада, среди полусгнившего и обвалившегося шпалерника, виднелись ниши для статуй Мадонны, остатки крестов и кое-где надпись: „Национальное имущество“.
...Этот дом в настоящее время существует только как дорогое и священное воспоминание младшего из братьев... и живет в его душе, как нечто прекрасно-туманное и безлюдно-молчаливое. Там, среди роз, при блеске солнечных лучей, совершался в ребенке таинственный рост духа. Ничто не могло быть безмолвнее этой высокой, увитой цветами постройки, которая была монастырем когда-то, уединением – теперь и убежищем – всегда. Шум империи, однако, достигал и сюда. По временам в этих обширных монастырских покоях, среди этих развалин, под этими сводами, в промежутке между двумя войнами, отголоски которых долетели и сюда, мальчик видел возвращение из армии и отъезд в армию молодого генерала-отца и молодого полковника-дяди; милая ему, полная движения и веселого шума жизнь, вносимая в дом отцом и дядей, на минуту словно ослепляла его; потом раздавался призыв военных труб, султаны и сабли исчезали, и покой и безмолвие возвращались в монастырские развалины, где тихо подготовлялась новая заря.
Так, вдумываясь в то, что он видел, жил шестьдесят лет тому назад мальчик, и этот мальчик был я».
Г-жа Гюго вела очень уединенный образ жизни и вся отдалась воспитанию своих детей, которые обожали ее и беспрекословно ей повиновались. В саду было много фруктовых деревьев, но жильцы не имели права брать плоды.
– А те, что падают? – спросил однажды по этому поводу маленький Виктор.
– Вы их оставите на земле.
– А те, что гниют?
– Пускай гниют.
И плоды продолжали гнить на земле.
Дети в то же время прилежно учились. Старший, Абель, был в коллегии, Эжен и Виктор занимались под руководством добрых и простых людей, супругов Ларивьер. Виктор делал быстрые успехи во всем: по прошествии первого полугодия ученья он писал почти без ошибок под диктовку. Ученье шло вперемежку с играми, борьбою и гимнастикой. Ум работал, и тело крепло. Ларивьеры стремились развивать как мыслительные способности, так и здоровье своих учеников.
Виктору Гюго с самого детства приходилось непосредственно знакомиться не только с прекрасными, но и с тяжелыми сторонами жизни. Самым потрясающим впечатлением, испытанным им в течение этого, вообще мирного периода его существования, был арест и казнь его крестного отца, генерала Лагори. Его Виктор Гюго никогда не мог забыть. Вот что он сам говорит об этом:
«Виктор Фанно де Лагори был бретонский дворянин, примкнувший к республике. Он находился в дружеских отношениях с Моро, также бретонцем. В Вандее Лагори познакомился с моим отцом, бывшим моложе его на двадцать пять лет. Позднее они подружились, когда служили в Рейнской армии; между ними возникли и упрочились те братские чувства, при которых воины жертвуют друг за друга жизнью.
В 1801 году Лагори был замешан в заговоре Моро против Бонапарта; голову его оценили; он не имел пристанища; мой отец принял его в свой дом; старая фейльянтинская часовня годилась на то, чтобы служить убежищем этой второй развалине – побежденному. Лагори отнесся с тою же простотою к услуге, оказанной ему моим отцом, с какою и сам, при случае, оказал бы ему подобную,– и стал жить у нас, скрываясь в тени развалин и деревьев. Отец мой и мать одни знали, что он там.
Появление его очень удивило нас, детей. Что касается старика-священника, то он в своей жизни подвергался стольким преследованиям, что разучился удивляться чему бы то ни было. Тот, кто скрывался, был для этого добряка просто человеком, знавшим, в какое время живет; скрываться – значило: понимать.
Мать велела нам молчать, а дети молчать умеют. С этого дня незнакомец перестал прятаться от домашних. К чему могла служить таинственность, когда он уже раз показался. Он обедал с нами, гулял в саду, иногда работал там вместе с садовником; он давал нам разные советы, и его уроки прибавились к урокам священника... Я не знал его имени. Матушка говорила ему „генерал“, я звал его „крестным“.
Он жил в глубине сада, в развалине, не обращая внимания ни на дождь, ни на снег, которые зимою попадали к нему сквозь лишенные стекол окна; он в часовне продолжал свою бивачную жизнь. Позади престола помещалась его походная кровать, в уголке лежали пистолеты и Тацит, которого он меня заставлял переводить...»
В 1811 году Лагори был арестован и посажен в тюрьму.
Однажды, в октябре 1812 года, г-жа Гюго, проходя с Виктором мимо церкви Св. Якова, показала сыну большую белую афишу, прибитую к одной из колонн портика. «Прохожие,– говорит Виктор Гюго,– как-то боком смотрели на эту афишу, точно со страхом, и, мельком взглянув на нее, ускоряли шаги».
Мать остановилась и сказала ребенку: «Читай!»
Он прочел следующее: «Французская империя. По приговору первого военного суда на Гренельской равнине были расстреляны за преступный заговор против империи и императора три экс-генерала: Малэ, Гвидаль и Лагори».
Понятно, что на мягкую душу ребенка эта экзекуция произвела глубокое и горькое впечатление.
К этим годам жизни Виктора Гюго относится и много приятных воспоминаний. К ним принадлежит всё, что касается возвращения дяди Луи. Он приехал из Испании, чтобы забрать с собою и перевезти туда весь большой и малый люд, принадлежащий к семье. Тотчас все принялись учиться по-испански и уехали, в 1811 году, в Мадрид, губернатором которого был сделан генерал Гюго, после того как победил партизана Хуана Мартина, прозванного Эмпесинадо.
Путешествие, полное всевозможных приключений, всяких страхов и неожиданностей, вперемежку с веселыми, приятными и вечно новыми впечатлениями, совершалось медленно, с долгими остановками и неизгладимо запечатлелось в воображении Виктора Гюго. Рассказ его о нем есть своего рода комментарий к известной части его сочинений, начиная с короткого пребывания в Эрнани до поселения во дворце Массерано.
Из этого дворца, полного блеска и величия, ребенок переходит в мрачные дворы и темные коридоры дворянской коллегии. Здесь мальчик воспитывается до 1812 года, когда французов принудили уйти из Испании.
Возвращение в Париж было печальным. Семья собралась опять в Фейльянтинском переулке, куда верный Ларивьер снова начал являться, чтобы давать уроки детям. Много произошло и здесь трагического и печального в семье Гюго, но не было недостатка и в радостных днях. Характеры детей были пытливые и веселые. Мальчики быстро развивались физически и нравственно и находились под сильным влиянием своей матери, всецело проникнутой монархическими принципами.
В декабре 1813 года семья Гюго переехала на улицу Шерш-Миди, в соседство со зданием Военного суда, где жил Фуше, хороший знакомый генерала Гюго. Здесь Виктор подружился со своей будущей женой Адель Фуше. Они играли и гуляли вместе, и Виктор в ее присутствии всегда краснел и трепетал. Впоследствии он воспел ее под именем испанки Пепиты. В сущности, он, однако, вовсе не был особенно скромен и еще менее сентиментален. Любимыми играми, как его, так и Эжена с их товарищами, мальчиками Фуше, было устраивать баррикады, лазать по крышам и бороться, что приводило г-жу Гюго в ужас, так как дело никогда не обходилось без шума и крика, а иногда случались даже драки.
В то время генерал Гюго вел отступающее французское войско из Испании, жители которой героически отстаивали свою независимость. По возвращении во Францию ему было поручено защищать Тионвиль от наступающих гессенцев. Он бился до последних сил, но под конец был принужден сдать крепость союзной армии, то есть Бурбонам. Защита Тионвиля против немцев послужила поводом к обвинению генерала Гюго в измене законным государям Франции, как титуловали себя Бурбоны. Дети знали обо всех событиях этого тяжелого и смутного времени. Мать позволила Виктору абонироваться в библиотеке, где он поглощал газетные статьи, стихотворения, романы, ученые трактаты – одним словом, всё, что ему попадалось под руку.
Между тем со вступлением во Францию союзной армии возвратились и Бурбоны, чтобы занять трон своих предков. Как взрослые, так и дети с лихорадочным вниманием следили за движениями войск. Семья Гюго была знакома с генералом Люкоттом, составившим замечательную коллекцию военных планов. Рассматривая их, Виктор прекрасно выучился географии.
Империя пала. Г-жа Гюго не могла скрыть своей радости. Виктор тоже с восторгом носил лилию в петлице. Нужно прибавить, что при всем этом он невольно восхищался Бонапартом как великим полководцем, и ему отчасти казалось обидным, что Франция, имевшая императора, должна будет теперь присягать только королю.
Политические события того времени сильно волновали мальчика еще и в другом смысле. В семейных отношениях супругов Гюго произошел полный разлад, в основе которого лежало различие политических убеждений: отец и мать поэта расстались.
Когда Наполеон вернулся с острова Эльбы, генерал Гюго, потерявший было свое положение, снова вошел в силу и настоял на помещении своих, живших при матери, сыновей полными пансионерами в учебное заведение Кордье и Декотт. Эжену в это время было пятнадцать, а Виктору – тринадцать лет. С печалью в сердце расстались дети с родительским домом; но нельзя сказать, чтобы жизнь их в пансионе была лишена всяких радостей. Оба брата вскоре сделались настоящими царьками среди своих товарищей, которые разделились на два лагеря. Одни, повиновавшиеся Эжену, называли себя «телятами»; другие, признававшие главенство Виктора, носили имя «собак». Виктор оказался страшным деспотом: он даже бил товарищей, когда они его не слушались. Музыкант и литературный критик Леон Гатей, умерший в 1877 году, талантливый и честный человек, был в то время в пансионе довольно вялым экстерном. Виктор Гюго ежедневно поручал ему покупать на два су итальянского сыра с непременным условием, чтобы кусок состоял наполовину из мякоти и наполовину из корки. Когда Леон возвращался с пармезаном, тиран осматривал покупку строгим взором и, если корки было мало, то на плечи и спину посланца градом сыпались кулачные удары, если корки было слишком много, то Виктор начинал лягаться и колотил его кулаками по ногам.
– Помните вы это доброе старое время? – говорил через пятьдесят лет Гатей поэту.– У меня до сих пор ломит ноги.
– Но ведь вы были на целую голову выше меня, зачем же вы не дали мне сдачи?
– Во-первых, я чувствовал свою виновность, а во-вторых, не смел. Вы говорили: «Я больше не буду давать тебе поручений»... и мне так хотелось плакать от этой угрозы, что я уже не думал о мщении.
Генерал Гюго намеревался отдать детей в политехническую школу. Помимо пансионских уроков, они слушали еще курсы философии, физики и математики в коллегии Луи-де-Гран. Способности их по последнему предмету не ускользнули от внимания преподавателей, и им на большом университетском конкурсе были выданы награды. Нужно, однако, добавить, что Виктор, решая задачи, мало придерживался общеизвестных классических способов; он, так сказать, предугадывал результаты и совершенно новым, своеобразным путем доходил до них – одним словом, он был «романтическим» математиком.
Эта дерзость раздражала профессоров точных наук, что, впрочем, мало заботило мальчика: х и у имели для него гораздо меньше обаяния, чем поэзия. Стихи Виктор начал писать с тринадцати лет. Темою первых из них служат Роланд и рыцарство. Мальчик тогда еще не учился стихосложению, но инстинктом угадывал его. В то время, впрочем, все писали стихи: из лиц, окружавших Виктора Гюго, этим занимался и Ларивьер, и директор пансиона Декотт, и Эжен Гюго, и целые десятки знакомых Виктору школьников. В пансионе писали не только оды, но и драмы, которые разыгрывались в старшем классе. Сдвигали столы – это изображало сцену. Под столами была уборная, там же актеры на корточках ожидали минуты своего выхода на сцену. Виктор Гюго, подобно Мольеру, исполнял в своих пьесах главные роли. Костюмы устраивались из картона, цветной бумаги и всего что Бог пошлет. По ночам мальчик, для собственного удовольствия, переводил на французский язык оды Горация и отрывки из Вергилия, задаваемые ему в классе. Однажды, во время прогулки в парижском предместье Отейль, между «собаками» и «телятами» произошло сильное сражение, и Виктору так ушибли ногу, что врачи заговорили было об ампутации. Мальчик отказался назвать «солдата», ранившего камнем «неприятельского генерала». К счастию, однако, оказалось, что резать ногу нет надобности,– раненый отделался тем, что несколько недель пролежал в постели, занимаясь сочинениями стихов. От этого времени мать поэта сохранила около десятка тетрадей, помеченных 1815 и 1816 годами. На последней странице последней тетради автор написал: «Вздор, который я делал до моего рождения». Под этим нарисовано яйцо, внутри его находится что-то похожее на птенца. Вообще, молодой поэт не всегда был доволен своими произведениями. Так, к одному стихотворению сделано следующее примечание: «Порядочный человек может читать всё, что не зачеркнуто»... при этом зачеркнуто всё. Несколькими страницами далее находится такая заметка: «Заглавие пусть поставит тот, кто сможет; что до меня, то я еще стараюсь догадаться, какую тему развивал». Тем не менее во многих из этих детских опытов мы уже встречаем многообещающие задатки. В общем, молодой поэт был всецело под влиянием классиков и вполне предан Бурбонам. Ему говорили, что они поборники свободы, и он любил их. убеждения его в это время представляют эхо монархических симпатий его матери и взглядов его первых воспитателей. Ему сказали, что Наполеон – деспот; он стал ненавидеть его, и в тринадцать лет восклицал, обращаясь к тирану:
Tremble! voici l'instant où ta gloire odieuse Subira du destin la main victorieuse... (Трепещи! Наступило время, когда твою ненавистную славу Низвергнет победоносная десница судьбы...)Глава II
Литературная деятельность молодого поэта с 1815 до 1818 года.– Материальные лишения, которые он переносит.– Королевская пенсия.– Женитьба поэта.– Переход В. Гюго к бонапартизму.– В. Гюго как драматический писатель.– Борьба с классицизмом и цензурой.
С 1815 до 1818 года, то есть с тринадцати до шестнадцати лет, Виктор Гюго выказал необыкновенную литературную плодовитость. Он писал оды, сатиры, послания, поэмы, элегии, идиллии, подражания Оссиану, переводы из Вергилия, Горация, Авзония, Мардиала, романы, басни, сказки, эпиграммы, мадригалы, логогрифы, акростихи, шарады, загадки, экспромты!.. Есть относящаяся к тому времени комическая опера; есть трагедия, написанная по поводу возвращения Людовика XVIII; другая, с египетскими именами, «Иртамена», навеяна чтением драматических произведений Вольтера.
Первый успех, которому молодой поэт порадовался вне кружка близких, относится к конкурсу на премию Академии в 1817 году. Была задана следующая тема: «Счастье, доставляемое умственными занятиями во всех положениях жизни».
Решившись принять участие в конкурсе, юноша испытывал только одно затруднение, состоявшее не в том, как написать поэму, а как отнести и подать ее. Он в то время был еще в пансионе. Академия удостоила его работу почетного отзыва; ему дали бы и премию, но судьи приняли за насмешку строки, где поэт упоминает о своем пятнадцатилетнем возрасте. Рейнуар, несменяемый секретарь Академии, даже заявил г-же Гюго, что он с удовольствием готов познакомиться с молодым поэтом, «если тот не солгал». Г-жа Гюго возмутилась при мысли, что кто-нибудь может считать ее сына лгуном и при помощи метрического свидетельства доказала Академии возраст Виктора. Что касается его самого, то он узнал о своем успехе во время игры в кегли с товарищами; он так был занят игрою, что не бросил ее, и едва выслушал сообщение брата, рассказавшего ему о том, что поэма его принята и заслужила награду.
В следующем году он послал два стихотворения на конкурс, известный под названием «Jeux Floraux» («Игры в честь богини Флоры»), и получил две премии. Наконец, он написал оду на смерть герцога Беррийского. Прочитав ее, Шатобриан выразил желание увидать нарождающегося поэта и назвал его «enfant sublime» (дитя с возвышенною душою). Виктор Гюго, познакомившись с ним, впоследствии, однако, более уважал, нежели любил старого легитимиста.
К этому же времени относится большое горе, испытанное молодым поэтом: мать его скончалась. Отец, с которым он был не особенно близок, не одобрял литературной карьеры из-за неопределенности ее результатов и хотел бы для своих сыновей «более положительной» профессии. Виктор, однако, оставался тверд в своем намерении сделаться писателем. Тогда генерал Гюго лишил его всякой денежной поддержки, думая этим путем заставить его покориться родительской воле. Но юноша более мужественно, нежели когда-либо, без средств, без нравственной поддержки со стороны семьи, продолжал неустанно работать в одном и том же направлении. Он впоследствии любил рассказывать о своих тогдашних лишениях и о том, как он одною котлетою питался три дня. У него в то время были две цели: достичь при помощи литературы положения и известности и жениться на Адель Фуше, которая была его невестою. Он зарабатывал пока только семьсот франков в год; этого было достаточно для одного человека, при самом скромном образе жизни, но никак не для семьи, как бы требования ее ни были малы. В «Отверженных» («Les Misérables»), говоря о бюджете Мариуса, он описывает свое собственное положение. Но вот, наконец, в печати появилась первая его книга «Оды и различные стихотворения». Совершенно неожиданно Виктор Гюго получил за нее ежегодную пенсию в 2 тысячи франков от короля. Поэт и его знакомые приписывали щедрость Людовика XVIII впечатлению, произведенному на него книгой, и тому, что в некоторых стихотворениях поэт высказывает глубокое уважение к своему монарху; это было справедливо только отчасти, и главную роль здесь играло другое обстоятельство, о котором Виктор Гюго узнал только впоследствии. В 1822 году был открыт Сомюрский заговор. В числе заговорщиков находился молодой человек по имени Делон, сын офицера, служившего некогда под командою генерала Гюго. Молодой Делон очень опекал Виктора в его раннем детстве, играл с ним и приобрел его полное расположение. Впоследствии семьи Гюго и Делон разошлись из-за того, что Делон-отец принял на себя обязанность докладчика на процессе генерала Лагори. Тем не менее, когда Виктор Гюго узнал об аресте, грозившем Делону, он тотчас написал его матери, предлагая ее сыну убежище в своем доме; у такого преданного, как он, роялиста, прибавлял молодой поэт, никто не вздумает искать государственного преступника. Письмо было распечатано в «черном кабинете» и доставлено Людовику XVIII, который, прочитав его, с улыбкой произнес:
– У этого молодого человека очень большой талант и доброе сердце; он здесь поступает вполне честно; я дарую ему первую свободную королевскую пенсию.
Несмотря на все свое великодушие, Людовик XVIII тем не менее приказал запечатать письмо и отправить его по назначению. И если бы Делон не догадался бежать за границу, а воспользовался бы предложением Виктора Гюго, то, без сомнения, был бы арестован и казнен. Спустя долгое время Виктор Гюго узнал обо всей этой истории от директора почт Роже, забытого теперь драматического автора. Услышав рассказ о происхождении своей пенсии, поэт убежал из кабинета Роже с восклицанием ужаса при мысли, что невольно мог оказаться предателем, получившим плату за кровь своей жертвы.
Пенсия в 2 тысячи франков была в то время для Виктора Гюго настоящим богатством. Все главные препятствия к женитьбе были устранены. Генерал Гюго, начинавший верить в призвание сына, изъявил полное согласие на его брак. Сам он был уже вторично женат и жил в городе Блуа. Перед свадьбою Виктор Гюго говел и исповедовался у знаменитого Ламеннэ. Свадьба поэта, обещавшая, по-видимому, быть радостным торжеством, оказалась весьма печальною. К концу обеда, за которым собралось много гостей – родственников и посторонних,– брат Виктора Гюго, Эжен, проявил впервые признаки умопомешательства.
Вскоре после женитьбы Виктор Гюго издал свой первый роман «Ган Исландский» («Han d'Islande»), но не подписал его своим именем. Критика приняла его неласково. Она удивилась и рассердилась. Действительно, это был первый шаг поэта по пути романтизма, и классический дух присяжных литературных критиков как бы предчувствовал наступающий переворот в умах писателей и вкусах публики. В числе немногих доброжелателей автора оказался Шарль Нодье. Отсюда проистекла крепкая дружба, продолжавшаяся до самой смерти Нодье.
Вслед за появлением «Гана Исландского» издатели начали обращаться к Виктору Гюго с заказами на статьи. Он сделался сотрудником «Французской Музы», вскоре, однако, прекратившей существование. Впрочем, он уже раньше писал в различных журналах и, между прочим, в «Литературном консерваторе», где познакомился с Ламартином.
В этом журнале, существовавшем с 1820 по 1821 год, был впервые напечатан «Бюг Жаргаль» («Bug Jargal»), рассказ, где автор выступал защитником угнетенных негров. «Бюг Жаргаль», не привлекший сначала внимания, был написан еще в пансионе. В 1825 году Виктор Гюго переработал его и издал отдельною книгою. После «Гана Исландского», напечатанного в 1823 году, он показался довольно бледным, но теперь читался с интересом благодаря имени автора, начинавшего приобретать известность. Все более или менее выдающиеся таланты в литературе и искусстве стремились познакомиться и сблизиться с Виктором Гюго. Он в то время написал довольно много критических статей, разбирая труды Ламеннэ, Вольтера, Вальтера Скотта и Байрона. В статье о Байроне он прямо высказывает, что, по его мнению, так называемая классическая французская литература отжила свой век, и горячо ратует за свободу литературного творчества. К этому периоду относится также изменение в политических взглядах Виктора Гюго. Восторженные рассказы его отца о Бонапарте и подвигах французской армии воодушевили поэта, и он становится певцом родного воинства. Переход его от роялизма к бонапартизму совершился с полнейшею искренностью внутреннего чувства. С тою же искренностью он впоследствии сделался защитником республиканских идей. Помимо названных выше романов и статей, «Оды и баллады» («Odes et ballades»), в состав которых вошли напечатанные раньше «Оды и различные стихотворения», появились новым изданием. Известный критик С.-Бёв написал о них пространную рецензию в газете «Globe». И вдруг, вслед за всеми этими произведениями, пропитанными монархическим духом, появляется совершенно чуждая им по направлению «Ода Колонне». Она была сочинена по следующему поводу. В феврале 1827 года австрийский посланник давал большой званый вечер. Слугам, докладывавшим о приезде гостей, было приказано называть французских маршалов, получивших дворянство при Наполеоне, не по их имперским титулам, а просто по фамилиям, с прибавлением военного чина. Эта демонстрация взбесила парижан, видевших в ней желание унизить французскую армию. Виктор Гюго также пришел в негодование и излил его в оде, которая наделала очень много шума.
Теперь для поэта наступает эпоха новой деятельности: он стремится испытать свои силы на поприще драматического творчества. Однажды Тейлор, директор, или, как он тогда именовался, королевский комиссар театра «Французская комедия», спросил Виктора Гюго:
– Почему не напишете вы чего-нибудь для театра?
– Я думаю об этом,– отвечал поэт.– Я даже начал драму из жизни Кромвеля.
– Ну так кончайте ее и отдайте мне. «Кромвель», написанный вами, может быть сыгран только Тальмою.
Устроили свидание поэта с трагиком, которому тогда шел шестьдесят шестой год. Встреча была дружеской, обменялись обещаниями. К сожалению, Тальма вскоре заболел и умер; драма вовсе не была поставлена на сцене – пугала ее длина. Только впоследствии, в восьмидесятых годах, пошла речь о том, чтобы дать ее в «Одеоне»; она была значительно сокращена, и это было сделано поэтом уже пятьдесят лет тому назад... Из-за невозможности появиться на сцене «Кромвель» вышел из печати с предисловием, похожим на объявление войны. Произошел необычайный переполох: классики скрежетали зубами. «Французская газета» злобно сравнивала Виктора Гюго с Д'Арленкуром и отдавала предпочтение последнему.
Некто Непомук Лемерсье восклицал: «Всякие Гюго безнаказанно пишут стихи!» Против молодого поэта в среде классиков разгорелась самая ярая вражда; но, умея также внушать горячую дружбу, он приобрел вскоре многих сторонников из числа непредубежденных людей. Составилось два лагеря, и завязалась известная борьба классиков с романтиками. Помимо различных неприятностей, исходивших из литературного мира, Виктору Гюго пришлось испытать в этот период своей жизни много семейных печалей: так, он получил почти одновременно известия о том, что скончались его отец, теща и брат Эжен, несколько лет уже страдавший душевной болезнью. Но горе для таких сильных натур является новым стимулом к труду. Поэт работал более, нежели когда-либо, и с мужеством перенес падение «Эми Робсар» на сцене; в это же время он задумал «Feuilles d'Automne» («Осенние листы») и написал «Les Orientales» («Восточные мотивы»), которые появились в печати в январе 1829 года. Со своей драмой «Марион Делорм» Виктор Гюго испытал первую серьезную неудачу как драматический писатель. Он создал эту замечательную по живости действия и страстности вещь в двадцать четыре дня, с первого по двадцать четвертое июня 1829 года. По окончании он прочел ее нескольким друзьям. Присутствовавший при этом Тейлор выпросил ее у автора для своего театра. Роли были тотчас розданы, а рукопись отослана в цензуру. Все дело зависело от министра Мартиньяка, но он покровительствовал Казимиру Делавиню, сам пописывал и принадлежал к лагерю, враждебно относившемуся к молодому автору. Пьесу запретили. Тогда Виктор Гюго лично отправился к Карлу X, который оказался снисходительнее своего министра и приказал отдать «Марион Делорм» на пересмотр Лабурдонне. Но это не помогло: пьеса была вторично запрещена, и постановку ее пришлось отложить до будущего, более счастливого времени. Королю стало жаль поэта, и он решил утешить его, дав ему еще пенсию в четыре тысячи франков. Виктор Гюго поблагодарил, но от пенсии отказался и занялся новою драмою – «Эрнани». В следующем октябре он прочел ее комитету «Французской комедии» и вызвал единодушный восторг. Лучшие актеры того времени, с г-жою Марс во главе, разобрали не только первые, но и второстепенные роли. Однако репетиции шли не совсем гладко. Г-жа Марс, сначала восхищенная, теперь капризничала, ссорилась со всеми и уверяла, что скромность не позволяет ей произносить некоторые из стихов Виктора Гюго. Дюма-отец с неподражаемым юмором рассказывает все, что происходило по поводу стиха:
Vous êtes, mon lion, superbe et généreux! (Вы, мой лев, прекрасны и великодушны!)Г-жа Марс ни за что не хотела сказать Эрнани: «Вы, мой лев»... и требовала права назвать его «монсеньером», что в конце концов и сделала, несмотря ни на кого и ни на что.
«Эрнани» давали в первый раз 28 февраля 1830 года. Зал был переполнен зрителями. Весь парижский высший свет, или, как его тогда называли, «бомонд», собрался в ложах, полный скептицизма и угрозы. В партере находились, главным образом, представители молодой Франции. Они решили во что бы то ни стало одержать победу, но победа одержалась сама собой. Развязка была своего рода опьянением,– не послышалось ни одного протеста. Пресса оказалась, однако, не столь благосклонною. За исключением «Journal des Débats», все журналы выказали фанатическую вражду к автору, и смелость вернулась к противникам Виктора Гюго.
Второе представление не было похоже на первое: «бомонд» насмехался, раздавались свистки; монолог Карла V вызвал громкий смех. И это повторялось на всех сорока пяти представлениях пьесы.
Чтобы утешиться от такого горького испытания, Виктор Гюго весь отдался «Собору Парижской Богоматери» («Notre Dame de Paris»). Уже с первых глав печаль его исчезла; он не чувствовал ни усталости, ни холода наступившей зимы; в декабре он работал с открытыми окнами. Он защищал в этом романе древние памятники народного искусства и дорогую ему старинную французскую архитектуру. Над этой гениальною вещью он работал не более пяти месяцев и окончил ее к январю 1831 года. Бутылка чернил, купленная в тот день, когда он начал писать, тоже была «окончена», и ему пришло было на ум озаглавить свою книгу следующим образом: «Что заключается в бутылке чернил».
Критика сильней прежнего напала на автора, но публика не обращала на нее внимания, и издание за изданием расходились так скоро, что издатель Госселен умолял Виктора Гюго дать ему еще что-нибудь. Поэт обещал два новых романа: «La Quiquengrogne» («Кикангронья» – собственное имя старинной башни) и «Le fils de la bossue» («Сын горбуньи»), которые, однако, никогда, даже и впоследствии, не были написаны.
Между тем исторические события шли своим чередом. Трон Франции перешел от старшей линии Бурбонов к младшей, именно к Людовику-Филиппу, причем установилась конституционная, так называемая Июльская, монархия. Она, между прочим, уничтожила цензуру, от которой столько приходилось терпеть Виктору Гюго. Теперь сделалась возможною постановка «Марион Делорм», и г-жа Марс начала просить пьесу у автора. Он, однако, колебался; он еще помнил манифестации публики, посещающей «Французскую комедию». В это время директор театра «Порт С.-Мартен», со своей стороны, просил у него драму, и Виктор Гюго отдал ему предпочтение. Роль Марион была поручена г-же Дорваль; но она сыграла ее неровно. Успех был неполный, последний акт приняли враждебно,– защита вышла слаба, прежние сторонники «Эрнани» отсутствовали. Народные беспорядки вообще отвлекали публику от театра, и драма не имела того успеха, которого заслуживала. Судьба «Le rois'amuse» («Король забавляется») была еще хуже. В день первого появления этой пьесы на сцене «Французской комедии» все были заняты разнесшимся по городу слухом о покушении на Людовика-Филиппа. Только поверхностное и насмешливое внимание было обращено на драму. Время от времени раздавались ропот, смех и даже свистки. Слышались и рукоплескания, но враждебные манифестации заглушали их. Когда представление окончилось, Виктора Гюго спросили, нужно ли назвать его имя публике.
– Милостивый государь,– отвечал поэт спрашивавшему,– я несколько больше верю в достоинства моей драмы с тех пор, как она пала.
На следующий день пьеса была запрещена, под предлогом ее безнравственности. Д'Аргу, министра торговли и общественных работ, в ведении которого в то время находился театр, уверили, что она невозможна в политическом отношении, так как в ней есть намеки на Людовика-Филиппа. Итак, цензура вдруг снова заявила о своем существовании. Начался процесс. Спорное дело было перенесено в Коммерческий суд, которому предстояло решить, имеет ли министр право, в виду хартии, уничтожавшей цензуру, применять ее к литературному произведению или конфисковать его. Виктор Гюго вел защиту лично при помощи Одиллона Барро, знаменитого юриста. Это была первая речь поэта перед публикой. Ему рукоплескали несколько раз, но суд признал министра правым. Тогда Виктор Гюго написал министерству внутренних дел, что отказывается от получаемой им правительственной пенсии в 2 тысячи франков.
Названные выше драмы Виктора Гюго были в стихах, но он для некоторых своих драматических произведений пользовался также прозой. Из них «Лукреция Борджиа» была дана в театре «Порт С.-Мартен». Г-жа Жорж играла роль Лукреции, и успех на этот раз был неоспоримым. Директор театра Гарель был вне себя от восторга и всюду повторял, что никогда еще не зарабатывал столько денег. Он тотчас заключил с Виктором Гюго условие на две другие вещи. Но директор этот был капризен. Когда была ему принесена «Мария Тюдор», он начал ссылаться на всевозможные затруднения, старался поссорить Виктора Гюго с Александром Дюма, уверяя, что должен сначала дать пьесу Дюма, и кончил тем, что сам устроил нечто вроде заговора против собственного театра. Как ни хорошо, однако, было подготовлено падение пьесы, оно далось не без труда: публика горячо протестовала против наемных свистков.
– Есть негодяи в зале! – крикнула г-жа Жорж автору, когда он вошел в ее ложу.
– В зале ли? – отвечал Виктор Гюго.
Он понес «Анжело» во «Французскую комедию». Ему нужны были две хорошие исполнительницы, и он избрал актрис Марс и Дорваль, которые согласились, но тотчас же завели нескончаемые распри одна с другою. Несмотря, однако, на все закулисные интриги, «Анжело» имел неоспоримый и большой успех.
«Эсмеральда», данная некоторое время спустя в опере, пала жертвою политических страстей журналистов. Г-жа Бертен, написавшая для нее музыку, была дочерью главного редактора журнала «Des Débats», органа либералов. Враги отца отомстили дочери: опера дошла только до восьмого представления, прерванного такой бурной и враждебной демонстрацией, что занавес упал, чтобы не подниматься более.
В это время Антенор Жоли хлопотал об открытии театра «Ренессанс». Здесь, среди неоконченных построек, происходили репетиции «Рюи Блаза», в толпе рабочих, под обваливающейся штукатуркой... Падающая полоса железа едва не убила Виктора Гюго. В день первого представления ничего не было окончено: печей не успели поставить, двери не затворялись; но пьеса согревала публику. Знаменитый Фредерик Лемэтр играл в ней. На этот раз успех был полный, как в театре, так и в прессе. Однако в следующие дни раздалось несколько враждебных голосов, но их принудили умолкнуть, и «Рюи Блаза» сыграли пятьдесят раз, что для того времени значило очень много.
Несмотря на все успехи Виктора Гюго, приверженцы псевдоклассицизма своими интригами добились того, что «Французская комедия» перестала давать его драмы, под предлогом цензурных затруднений. Вследствие этого в ноябре 1837 года Виктор Гюго начал в Коммерческом суде процесс с дирекцией театра, желая принудить ее либо исполнить свои обязательства, либо так или иначе вознаградить его за то, что его пьесы держались столько времени под сукном. Коммерческий суд признал справедливость иска и присудил «Французскую комедию» к уплате автору шести тысяч франков за убытки и к постановке на сцене «Эрнани», «Марион Делорм» и «Анжело». Высшие, инстанции утвердили приговор Коммерческого суда. «Эрнани» снова был дан и имел громадный успех, объясненный одним из классиков тем, что «автор переменил все стихи...»
Последняя пьеса, переданная Виктором Гюго театру, была «Les Burgraves» («Бургграфы»). Зрители остались совершенно холодны к этой эпопее, возбудившей опять много споров и даже неприязненных столкновений в прессе.
С тех пор, усталый от пятнадцатилетней борьбы с анонимными низостями, Виктор Гюго отошел от театра. В это время уже были написаны его «Близнецы» («Les jumeaux»), был начат «Меч» («L'Epée») и многое другое, с чем суждено познакомиться только настоящему поколению его поклонников.
Глава III
В. Гюго как лирический поэт.– Избрание его в Академию.– Король возводит его в звание пэра Франции.– Сближение поэта с Людовиком-Филиппом.– Переход к республиканскому образу мыслей.– Избрание В. Гюго в Учредительное собрание.– Июньские дни.– Деятельность в Законодательном собрании.– Переворот 2 декабря 1851 года.—Борьба В. Гюго с бонапартизмом.– Жизнь в Брюсселе.– Высылка из Бельгии.– Жизнь и деятельность на о-ве Джерсее.– Высылка из Джерсея.– Переезд на о-в Гернсей.– Готвилъ Гауз.– Жизнь и деятельность на о-ве Гернсее.– «Отверженные». Отношение к ним Ламартина.
Борьба в театре не мешала Виктору Гюго заниматься лирической поэзией. Он в этот период своей жизни написал: «Feuilles d'Automne» («Осенние листы»), «Chants du Crépuscule» («Песни сумерек»), «Voix Intérieures» («Внутренние голоса») и «Les Rayons et les Ombres» («Лучи и тени»). Но его привлекали также философские и политические вопросы. Не имея материальных средств, он не мог быть избран в палату депутатов; он не мог попасть и в палату пэров, так как не принадлежал ни к одной из тех категорий населения, откуда король имел право отбирать кандидатов на звание пэра. Академия же находилась в числе этих категорий, и Виктор Гюго решил выставить там свою кандидатуру. Ему четыре раза пришлось повторить это. Сначала ему предпочли Дюпати, Моле и Флуранса. Большая часть академиков принадлежала к псевдоклассической партии, и все они враждебно относились к Виктору Гюго. Среди них Алексис Дюваль не умел скрыть этой враждебности даже во время обычного визита, который кандидат в Академию делает перед своим избранием; он был почти груб с Виктором Гюго, когда тот явился к нему.
– Что вы сделали этому академику? – спросил поэта один из его друзей.
– Я ему сделал «Эрнани»,– с улыбкой отвечал Виктор Гюго.
В 1839 году Дюваль, парализованный, полумертвый, приказал нести себя в Академию, чтобы голосовать против Виктора Гюго. Ройе Коллар, видя этого несчастного, с потухшим взором, стонущего от боли в то время, когда слуги несли его по лестнице, воскликнул: «Назовите мне бессовестного, виноватого в том, что сюда несут умирающего. Скажите мне его имя, и я вечно буду класть ему черные шары!»
Он, однако, «не сдержал слова» и подал голос за Виктора Гюго.
Только с четвертой попытки двери Академии растворились перед поэтом. Он наследовал тому самому Непомуку Лемерсье, о котором упоминалось выше. Третьего июня 1841 года Виктор Гюго по обычаю произнес похвалу этой всеми забытой посредственности и избрал темою для своей речи независимость характера Лемерсье. Этот писатель, будучи настолько близок с Бонапартом, что говорил ему «ты», никогда не склонялся перед волею императора Наполеона. Во всей Франции только и насчитывалось в то время шесть таких независимых и твердых людей: Лемерсье, Дюсис, Делиль, г-жа Сталь, Бенжамен Констан и Шатобриан. Отталкиваясь от этих редких примеров, Виктор Гюго заключал, что задача литературы состоит в распространении цивилизации и в протесте против тирании и несправедливости.
Новый академик сказал впоследствии несколько других речей. Он произнес посмертную похвалу Казимиру Делавиню и отвечал критику С.-Бёву, также вступавшему в число «бессмертных». Этим он ограничился как оратор, но много работал со своими товарищами и не ленился прочитывать все книги, присылаемые на соискание различных премий. Виктору Гюго недолго пришлось ждать звания пэра, для получения которого он, собственно, и добивался избрания в Академию. Король возвел его в это достоинство 13 апреля 1843 года. Но испытанная поэтом радость была непродолжительной: вскоре он получил известие, что его дочь Леопольдина и муж ее Шарль Вакери утонули в Сене, катаясь на лодке. В «Contemplations» («Созерцания») мы встречаем отклики на это тяжелое несчастие, поразившее бедного отца.
Вообще, до той поры семейная жизнь поэта отличалась почти безмятежным счастьем. Жена была ему умной и преданной подругою, дети оправдывали все надежды любящего отца. Возле семьи группировался круг избранных друзей, утешавших и защищавших поэта от нападок врагов. В числе преданнейших был, между прочим, Эмиль де Жирарден, основавший газету «Пресса». Виктор Гюго написал статью, объявлявшую о ее выходе, где, высказываясь противником всяких крайностей, призывал все человечество под знамя прогресса. Ввиду подобного образа мыслей, поэт мог быть в совершенно искренних отношениях с Людовиком-Филиппом, который весьма ценил его лично, хотя скептически смотрел на искусство и литературу, как, впрочем, на все в мире. Журналы оппозиции вообще обвиняли двор в пренебрежении к величайшим литературным талантам. Упрек был до известной степени справедлив, и правительство начало делать попытки сближения. Во время праздников по поводу бракосочетания герцога Орлеанского Виктор Гюго был приглашен ко двору. Он сначала не хотел ехать, но герцог, по просьбе герцогини, написал ему такое любезное письмо, что отказ сделался невозможным. Поэт явился в Версаль и был представлен герцогине. Она следующими словами встретила автора «Собора Парижской Богоматери»:
– Милостивый государь, первое здание, которое я посетила в Париже, была ваша церковь.
С этого времени, то есть с июня 1837 года, начинаются постоянные встречи Виктора Гюго с Людовиком-Филиппом, который понимал, что люди подобного ума и развития могли быть ему весьма полезны. Однажды коронованный хозяин и гость-поэт до того заговорились, что забыли о позднем часе. Слуги вообразили, что король лег спать, потушили освещение и ушли к себе. Когда Виктор Гюго собрался домой, то везде было темно, и Людовик-Филипп, не желая никого будить, сам с канделябром в руке проводил поэта до выходной двери, причем разговор продолжался еще некоторое время на лестнице.
Виктор Гюго, сблизившись с королем, не скрывал от него правды, указывал ему на необходимость заняться положением крестьянского и рабочего сословий, настаивал на борьбе с развращенностью богатых классов общества, и если бы правительство Людовика-Филиппа сдержало свои обещания, то поэт остался бы тем, к чему предназначала его природа, то есть философом, наблюдающим жизнь и довольствующимся мыслью, что ему удается поучать и утешать человечество. Когда народ возмутился, вследствие ошибок, наделанных администрацией, то Виктор Гюго, помня, что присягал королю, предложил было регентство герцогине Орлеанской; но дух времени увлек его, и он кончил тем, что примкнул к республике.
Что касается политической деятельности Виктора Гюго в палате пэров, то нужно сказать, что в течение первых трех лет он совсем не решался подняться на трибуну оратора. Только в 1846 году он выступил в защиту права художественной собственности. Первая политическая речь его касалась Польши. Затем он поддерживал петицию Жерома-Наполеона Бонапарта, просившего палаты о позволении его семье вернуться во Францию. Здесь, как и всегда впоследствии, Виктор Гюго восставал против жестокости изгнания. Наконец, в 1848 году он поддерживал дело итальянского единства. Это было его последней манифестацией в звании французского пэра.
Скоро ему пришлось перенести свою деятельность в Учредительное собрание. Людовик-Филипп пал, была провозглашена республика. Пятого июня 1848 года Виктор Гюго был избран народным представителем большинством в 86965 голосов и сначала отказался примкнуть к какой бы то ни было группе, а занял выжидательную позицию. Он решил поступать согласно велениям своей совести, и первая речь его по поводу национальных мастерских показала окончательный разрыв писателя с реакцией.
Во время июньских дней он старается примирить враждующие партии; затем вырывает из рук Кавеньяка, сколько может, жертв, и предложением амнистии стремится смягчить жестокость репрессалий; наконец, он заставляет собрание отказаться от преследования Луи Блана и Коссидьера и делает всё, чтобы не было объявлено, что Кавеньяк «заслужил одобрение отечества».
Это было доказательством большого мужества. Избранный в Законодательное собрание Виктор Гюго разошелся со всеми своими бывшими друзьями, что с их стороны вызвало ожесточенные укоры. Его прозвали «перебежчиком».
Виктор Гюго не щадил себя. Везде он стоял в первом ряду. Вечер и утро он посвящал литературе, день проводил в Законодательном собрании. Он писал легко и говорил также без труда и совершенно свободно. Его не сбивало с толку, когда его прерывали. Если смелость его мыслей или их выражения вызывали гнев его противников, он молча прислонялся к трибуне, пережидал вспышку и затем спокойно продолжал. Быстрые возражения его жестоко бичевали противника. Его речь о бедности, законченная требованием принятия закона против нее, произвела глубокое впечатление. Правая партия возмутилась, раздались насмешки и ругательства. Он строго отнесся к римской экспедиции и был безжалостен к Пию IX, что вывело из себя Монталамбера, который резко упрекнул Виктора Гюго в «измене».
– Если мы теперь не вместе,– отвечал Виктор Гюго,– то это потому, что г-н Монталамбер перешел на сторону угнетателей, а я остался с угнетенными.
Закон Фаллу о свободе преподавания вызвал в нем горячие возражения. Виктор Гюго требовал, чтобы клерикальное образование имело целью небо, а не землю, чтобы церковь оставалась в своей области, а государство – в своей.
Когда министр юстиции Руэр предложил проект своего закона о ссылке, который комиссия, разрабатывавшая его, сделала еще более тяжелым, допустив, что действие закона может распространяться на прошедшее время, Виктор Гюго горячо восстал, резюмируя свое мнение следующим образом:
– Когда люди создают закон несправедливый, Бог влагает в него справедливость и бичует им тех, кто его придумал.
На другой день была организована сочувственная подписка для распространения речи Виктора Гюго по всей Франции. Эмиль де Жирарден требовал, чтобы была вычеканена медаль с изображением оратора и с надписью, передающей его слова. Правительство позволило выпуск медали, но запретило надпись. Оно было глубоко задето следующими словами в речи Виктора Гюго:
«Посмотрите и обдумайте: кто вступил на трон Фран ии в 1814 году? Гартвельский изгнанник! Кто царствовал после 1830 года? Изгнанник Рейхенауский, сделавшийся в настоящее время изгнанником Кларемонским! Кто управляет ныне? Узник Гама! После этого придумывайте законы для ссылки!»
Виктор Гюго искренно и горячо исповедовал республиканский образ мыслей и энергично боролся против всяких распоряжений, могущих, тем или другим путем, стеснить периодическую печать.
По поводу пересмотра конституции, предложенного президентом, он произнес свое известное выражение: «Европейские Соединенные Штаты».
«Это выражение,– говорит издатель „Actes et paroles“ („Дела и речи“), – вызвало всеобщее удивление. Оно было ново». Его в первый раз произнесли с трибуны. Оно привело правую партию в негодование и в то же время рассмешило ее. Раздался настоящий взрыв смеха, к которому примешивались разного рода восклицания. Депутат Бансель, что называется, на лету записал некоторые из них:
Монталамбер. Европейские Соединенные Штаты! Это уже слишком! Гюго с ума сошел.
Моле. Европейские Соединенные Штаты? Вот идея! Какое безрассудство.
Кантен-Бошар. Ну уж эти поэты!
Прения были ожесточенными. Виктору Гюго приходилось отражать нападения со всех сторон. Президентом был Дюпен. Он прекращал беспорядки только в том случае, если их производила левая партия. Между прочим Виктор Гюго сказал: «Не нужно, чтобы Франция в одно прекрасное утро нашла, что у нее, неизвестно почему, уже есть император».
Раздались новые возгласы, смех: «Император! Кто говорит об императоре?»
Но Виктор Гюго продолжал: «Неужели только потому, что был такой человек, который одержал победу при Маренго и потом царствовал, вы тоже хотите царствовать, вы, которые одержали победу только при Сатори!..»
Левая партия рукоплескала, правая – топала ногами.
«Неужели только потому, что после десяти лет безмерной славы, славы почти сказочной по своему величию, он уронил от истощения этот скипетр и этот меч, которые совершили столько великого, вы, в свою очередь, являетесь, вы хотите поднять их после него так, как он, Наполеон, поднял их после Карла Великого, и взять в ваши хилые ручонки этот скипетр титанов, этот меч гигантов! Для чего? Неужели после Августа – Августул! Неужели потому, что у нас был Наполеон Великий, нам нужен Наполеон .Малый!..»
Здесь шум сделался невообразимым. Речи и само заседание были прерваны. Ругательства сыпались отовсюду, сжимались кулаки. Все эти Лепики, де ла Москова, Бароши, Бриффо, Клари, впоследствии все более или менее причастные ко второму декабря, возмущались и ревели. Но Виктор Гюго не терял присутствия духа.
«Я продолжаю,– просто сказал он, когда буря на минуту утихла.– Нет, после Наполеона Великого я не хочу Наполеона Малого. Уважайте великое! Довольно пародий. Чтобы иметь право начертать орла на знаменах, нужен орел в Тюильри. Где он?»
Фоше и Аббатучи бесновались. С минуту можно было думать, что начнется рукопашная схватка: все вскакивали с мест, все бежали к трибуне. Министр иностранных дел кричал: «Вы знаете, что это неправда, мы протестуем!»
Министр внутренних дел не понимал, как дозволяют оскорблять «президента республики!»
Вдруг раздался возглас: «Цензуру, цензуру!»
Виктора Гюго призывали к порядку. Он удивился.
– Кто это сказал? – спросил он.
– Я! – отвечал один из членов правой партии.
– Кто – вы?
– Я! Мы не хотим больше слышать этого. Плохая литература ведет к дурной политике. Мы протестуем во имя французского языка и французской литературы. Отправьте всё это в театр «Порт С.-Мартен», господин Виктор Гюго.
Виктор Гюго отвечал:
– Вы, как оказывается, знаете мое имя, а я не знаю вашего. Как вас зовут?
– Бурбусон.
– Это больше, нежели я ожидал!
Заседание окончилось довольно мирно. Виктор Гюго очень спокойно настаивал на необходимости отказать в пересмотре конституции и предсказывал на 1852 год то, что случилось в конце 1851. Его совету, впрочем, последовали, и постановление утверждено не было. Понятно, сколько он в этот день возбудил ненависти к себе.
Когда наступил переворот второго декабря, Виктор Гюго уговаривал своих друзей взяться за оружие. Они же находили лучшим переждать и только поручили ему, вместе с Шарамолем и Форестье, сделать призыв к «легионам права» против нарушения права. Вместе с друзьями он поехал на бульвар дю-Тампль, где было назначено собраться. На углу улицы Мелей молодежь узнала его и с громкими приветствиями просила совета, как им поступать.
– Изорвите мятежные манифесты, кричите: «Да здравствует конституция!» и атакуйте Бонапарта! – сказал им Виктор Гюго.
– Говорите тише,– прервал его торговец, запиравший свою лавку.– Если вас услышат, то расстреляют.
– Ну, что же, вы пронесете мой труп по городу! Моя смерть будет прекрасна, если вызовет проявление Божией справедливости!
Толпа была готова следовать за Виктором Гюго, стремившимся увлечь ее, но Шарамоль удержал его ввиду артиллерии, выступавшей из-за Шато-д'О. Убедившись, что они ничего не могут сделать с теми, которые намерены выжидать, делегаты вернулись в свой комитет и ограничились прокламацией.
Виктор Гюго диктовал прокламацию; Боден писал ее. За нею была составлена другая, к армии, и подписана именем поэта. После этого прения в комитете продолжались. Кто-то пришел сказать о появлении войск, и в минуту патриотического порыва решение бороться с целою армией за неприкосновенность республики было провозглашено единодушно. Но нужно было организоваться, устроить баррикады. Все выбежали на улицу, говорили народу речи, призывали к отпору. Виктор Гюго был из самых неутомимых. Голову его оценили: обещали 25 тысяч франков тому, кто арестует или убьет его. Скоро сделалось очевидным, что всякая надежда потеряна и что преступление торжествует. Виктора Гюго уговорили искать убежища. Он с трудом нашел его, и то у старого роялиста, который и скрывал его у себя до двенадцатого декабря. В этот день переодетый поэт бежал из Парижа в Брюссель, куда вскоре переехала и г-жа Гюго. Что касается сыновей поэта, то они, вместе с некоторыми из своих друзей, также занимавшихся литературою, уже сидели в это время в тюрьме за проступки против законов о печати.
На следующий же день по приезде в Брюссель, т.е. 14 декабря 1851 года Виктор Гюго принялся писать свою «Историю преступления». Каждое утро прибывавшие в город изгнанники являлись к нему и сообщали о событиях новые факты. Дюма-отец уже некоторое время жил в Брюсселе не как изгнанник, а для того чтобы иметь возможность спокойно работать. Он часто виделся с поэтом и под впечатлением его речей, дал слово не знаться с Наполеоном III; слово это он свято сдержал. В это время он писал свои «Мемуары» и приводимые там подробности о детстве и юности Виктора Гюго писаны почти что под диктовку поэта. В Брюсселе собралось вскоре множество изгнанников; в числе их были лучшие представители французской литературы, искусства и науки. Как только сыновья Виктора Гюго отбыли свои сроки в тюрьме, они приехали к отцу. Бельгия сначала приняла поэта очень гостеприимно; народ любил его; брюссельский бургомистр навещал его ежедневно и выслушивал ходатайства писателя о смягчении положения бедных изгнанников. Вдруг появился «Наполеон Малый» («Napoléon le petit»), и бельгийское правительство, из боязни Наполеона III, решило изгнать Виктора Гюго. Но этого нельзя было сделать – это было бы противозаконно. Тогда создали новый закон, позволявший нарушать бельгийское право убежища. Изгнанный из Брюсселя поэт отправился в Англию, но недолго пробыл там и вскоре переехал на остров Джерсей, куда прибыл 5 августа 1852 года. На берегу его встретила и приветствовала небольшая группа французских изгнанников.
На Джерсее Виктор Гюго поселился близ моря, в доме, известном под именем «Марин-Террас». У него было в то время около семи тысяч франков дохода, на которые нужно было содержать семью из девяти человек. Во Франции сочинения его не приносили ему ничего. Постановка на сцене его драматических произведений была запрещена. Считалось предосудительным и опасным читать что-нибудь, подписанное его именем, которое даже боялись произносить; «Наполеон Малый», расходившийся в несметном количестве экземпляров, обогащал только брюссельских издателей, как позднее «Les Châtiments» («Кара»).
На Джерсее Виктора Гюго приняли очень радушно. О его приезде говорилось во всех местных газетах. Впрочем, джерсейцы уважали не столько поэта, сколько пэра Франции, и в этом качестве он, по законам острова, имел право не наблюдать за тем, чтобы пространство, находящееся перед его домом, было подметено и трава на нем вырвана дочиста. Но зато он был обязан ежегодно платить английской королеве дань, состоящую из двух куриц, и сборщик податей каждый год неукоснительно взыскивал их стоимость с поэта.
Жители титуловали Виктора Гюго «милордом», и губернатор острова, на основании местных законов, пользовался меньшими правами, чем изгнанник – пэр Франции. Джерсей находится под протекторатом Англии, которая с полным уважением относится к его средневековым законам и патриархальным обычаям. Джерсейцы до того религиозны и так чтут «день субботний», что когда однажды королева Англии приехала на остров в воскресенье, то возмущенные жители даже не кланялись ей,– только один Виктор Гюго снял шляпу при встрече с нею. Джерсейцы трудолюбивы, трезвы и зажиточны. Сам остров представляет настоящий земной рай, с прекрасным мягким климатом и замечательно живописным местоположением.
И на Джерсее Виктор Гюго не был бездеятелен, но словом и пером продолжал борьбу с реакцией. Его надгробные речи на могилах изгнанников Жана Буске, Луизы Жюльен и Феликса Бонн доказывали, что он не умиротворился. Он написал Наполеону письмо в виде прокламации, которую французский император мог прочесть на всех стенах Дувра во время своей поездки в Англию для посещения королевы Виктории. К этому прибавилась ещё «Les Châtiments» («Кара»). Книга читалась во Франции всеми, несмотря на строгий запрет, и вызвала .слезы скорби и негодования. Наполеон III был глубоко оскорблен этой бичующею сатирой и уговорил королеву Викторию изгнать поэта из Джерсея, на что жители острова, за немногими исключениями, изъявили полную готовность.
Коннетаблю де С.-Клеману было поручено передать Виктору Гюго приказ о выезде. Он был бледен как смерть, исполняя свою тяжелую обязанность, и, уходя, спросил изгнанника, в какой день тот думает ехать.
– Зачем вам нужно знать это? – сказал Виктор Гюго.
– Чтобы прийти сюда в этот день и выразить вам мое уважение,– отвечал коннетабль.
2 ноября 1855 года Виктор Гюго переехал на Гернсей.
Остров Гернсей меньше Джерсея – там не более тридцати тысяч жителей. Климат также прекрасен, но место положение отличается более суровым видом. Напротив острова, на французском берегу, виднеются скалы С.-Мало, где находится могила Шатобриана. Гернсей, подобно Джерсею, состоит под протекторатом Англии и управляется собственными старыми законами и местными обычаями. Язык островитян представляет смесь одного из нормандских наречий со множеством иностранных и в особенности английских слов. Высшие классы говорят на чистом английском языке. Обычаи здесь более сходны с французскими, чем на Джерсее. Интересно, что между жителями обоих островов с давних пор существует враждебность. Благодаря этому изгнанный из Джерсея поэт был с распростертыми объятиями принят на Гернсее. Здесь Виктор Гюго купил дом – «Готвиль-Хауз». Говори ли, что он прежде принадлежал женщине, окончившей в нем жизнь самоубийством, и что тень ее является каждую ночь и ходит из комнаты в комнату; вследствие этого никто уже девять лет не жил в «Готвиль-Хаузе». Дом стоит в самом конце города, на скалах, откуда открывается прекрасный вид на море. Виктор Гюго три года работал над перестройкой и украшением его по своему вкусу. Для этого ему пришлось быть самому и архитектором, и рисовальщиком, и живописцем, и обойщиком. Он придумывал, указывал и объяснял то, что нужно сделать, иногда собственноручно помогал рабочим. Можно по справедливости сказать, что «Готвиль-Хауз», в полном смысле слова, его создание.
Жизнь Виктора Гюго и его семьи на Гернсее известна. Все трудились. Дочь поэта занималась музыкой и сочиняла музыкальные пьесы. Старший сын писал романы и драмы. Меньший переводил Шекспира. Г-жа Гюго готовила книгу, где рассказана жизнь ее мужа. Огюст Вакери, живший в семье Гюго, собирал материалы для своих «Крошек истории» («Les miettes de l'histoire») и «Профилей и гримас» («Profils et grimaces»).
«Готвиль-Хауз» представлял своего рода убежище. Всякий, являвшийся туда, мог быть уверен, что его встретят гостеприимно. Рядом с рабочим кабинетом Виктора Гюго находилась комната, где каждый французский писатель, желавший в тишине и покое создать какое-нибудь литературное произведение, мог найти себе приют. Здесь жили в разное время Жерар де Нерваль, Урлиак, Бальзак, Глатиньи и некоторые другие. Была также комната, предназначавшаяся для Гарибальди, но ему не пришлось воспользоваться гостеприимством Виктора Гюго; тем не менее она всегда называлась «Комнатою Гарибальди». Вся семья Гюго очень любила животных. Огюст Вакери описал некоторых из этих четвероногих друзей дома: Понто, прекрасного, но не очень верного испанского сеттера; Шунью, сторожевую собаку, с ее бурною и грубоватою ласковостью; Лукса, любимую собаку Шарля Гюго; Мушку, белую кошечку с черными пятнами, недоверчивую и молчаливую; и Сената, красивую борзую, привезенную г-жою Гюго из Бельгии.
Что касается самого Виктора Гюго, то он и в «Готвиль-Хаузе» оставался верен себе и своему правилу – работать с утра и до вечера. Теперь он совершенно предался поэтическому творчеству и окончил «Созерцания» («Les Contemplations»), начатые еще на острове Джерсее. Эта книга передает многое из пережитого и прочувствованного им в течение последних двадцати пяти лет – «от жалобы полевой былинки до рыданий отца».
Живя еще на Джерсее, поэт начал также «Легенду веков» («La Légende des Siècles»). На Гернсее он закончил первую часть поэмы, и она появилась в печати в 1859 году. Вот посвящение, напечатанное на первой странице:
Livre, qu'un vent t'emporte En France, où je suis né. L'arbre déraciné Donne sa feuille morte. (Книга, пусть ветер снесет тебя Во Францию, где я родился. Вырванное с корнем дерево Отдает свой поблекший лист).Книга эта написана Виктором Гюго, по его словам, для того, чтобы «выразить человечество в произведении циклическом, описать последовательно и одновременно все его проявления в истории, басне, философии, религии, науке, что все резюмируется в одном великом движении – стремлении к свету. Как бы в зеркале, одновременно и мрачном, и сияющем, показать великий образ, единичный и многообразный, мрачный и лучезарный, роковой и священный,– человека... вот какая мысль, какое честолюбие, если хотите, породило „Легенду веков“.» Появление этой книги вызвало единодушный, удивленный восторг. Даже ядовитый критик Густав Планш перестал браниться, поэты же беспрекословно признали главенство Виктора Гюго. Бодлер первый выразил ему свое восхищение, и с этого времени между ними завязались постоянные письменные отношения.
На Гернсее Виктор Гюго закончил «Отверженных» («Les Misérables»). Он начал этот роман еще до 1848 года, но политические обстоятельства принудили его на время оставить работу. Книга вышла длиннее, нежели он сначала предполагал. В 1862 году она появилась в печати одновременно в Париже, Брюсселе, Лейпциге, Лондоне, Милане, Мадриде, Роттердаме, Варшаве, Пеште и Рио-де-Жанейро. Приводим это в доказательство величия славы поэта к тому времени. Первое парижское издание в 7 тысяч экземпляров разошлось в два дня. К счастью, набор был сохранен, и через две недели уже вышло второе издание. Брюссельское издание разошлось в двенадцати тысячах экземпляров, лейпцигское – в трех тысячах. Переводы – между прочим, и на японском языке,– появились тиражом в 26 тысяч экземпляров, не считая подделок и двух иллюстрированных изданий.
Такой беспримерный успех объясняется тем, что талант Виктора Гюго в «Отверженных» достиг высшей степени своего развития, и что он в эту защиту несчастных вложил высоко разумную и горячую любовь к народу, неистощимую доброту, глубокое знание – одним словом, всю свою душу. Философия этого прекрасного творения высказана в нескольких строках предисловия.
Когда роман появился во Франции, критика надолго и серьезно занялась им. Интересно, как отнесся к нему Ламартин в своем «Курсе литературы». Заявив, что он в восторге от художественности картин, он высказал неодобрение направлению автора, прибавляя, что ему вообще антипатична радикальная критика общества, ибо общество священно как явление необходимое, хотя и несовершенное, будучи создано человеком. Далее он говорит, что если напишет критический отзыв об «Отверженных», то сделает это под влиянием своего глубокого уважения к автору как человеку, как другу, как блестящему таланту, как гению,– и что он с тем же уважением отнесется к его гениальной эпопее; сознаваясь, что он восхищается «Отверженными» в смысле талантливости, он сетует, что ему придется ратовать против основной мысли романа, и боится, что, откровенно высказывая свое мнение, невольно может оскорбить автора и обесценить его произведение. Поэтому, замечает он в заключение, он не скажет ни слова о книге, пока сам Виктор Гюго не разрешит ему выразить печатно и восхищение, и неодобрение, которые вызваны в его душе «Отверженными».
Виктор Гюго отвечал Ламартину, давая ему полную свободу относиться к его творению как ему угодно. Между прочим, он говорит: «Если то, что идеально,– в то же время и радикально,– то да, я радикал; да, во всех направлениях я понимаю, желаю и призываю – лучшее... Да, общество, допускающее нищету, да, человечество, допускающее войну, кажутся мне обществом, человечеством – низшим, а я жажду общества, человечества – высшего. Я хочу, чтобы всякий человек был собственником и ни один – господином.
Насколько человеку дано хотеть, я хочу уничтожить неумолимость судеб, созданных человеком; я осуждаю рабство, изгоняю нищету, поучаю невежество, лечу болезнь, освещаю ночь, ненавижу ненависть... Вот моя исповедь, и вот почему я написал „Отверженных“.
По моей мысли „Отверженные“ – не что иное, как книга, основанная на братстве и признающая конечной целью человечества прогресс».
После этого Ламартин решился высказать свое мнение и поведать миру, в чем именно заключается истина. В нескончаемом разговоре с каторжником Батистеном он стремится доказать, что «Отверженных» можно назвать «Преступниками», «Негодяями», «Ленивцами»; что хорошим было бы заглавие «Эпопея канальства» или же: «Человек, идущий против своего века». Он утверждает, что Виктор Гюго – болезненно чувствительный мечтатель, и, при этом удобном случае, с величайшею строгостью произносит приговор не только ему, но и Платону, Жан-Жаку Руссо, С.-Симону и Прудону. Наконец, он излагает свои собственные идеалы, причем оказывается, что, по его мнению, на земле человечество совершенствоваться не способно. Оно может возродиться только на небесах; там люди будут уже не людьми, а существами высшими, там не будет непостоянства, невежества, страстей, слабостей, болезней, нищеты и смерти...
Но, признавая, что человечество грешно и общество дурно, Ламартин в то же время не допускает, чтобы Виктор Гюго имел право указывать на их дурные стороны, и глубоко возмущается при мысли, что кто-нибудь может верить в земной прогресс рода людского. Он называет стремление к безграничному идеалу «антисоциальной мечтою» и признается, что преклоняется «перед силою вещей», то есть «перед обществом, этим великим завершившимся фактом веков, как он есть». Для него Виктор Гюго «утопист», а такие люди опаснее негодяев, потому что к ним относятся без недоверия. Критика оканчивается следующими словами: «„Отверженные“ – книга чрезвычайно опасная, не только потому, что внушает слишком много опасений счастливым, но и потому, что дает слишком много надежд несчастным».
Мы видим, что у Виктора Гюго другие идеалы: он не хочет, чтобы человечество страдало вечно,– он верит, что оно способно совершенствоваться, он принимает в расчет делаемые в этом направлении попытки.
Но поэт не только в своих творениях ратовал за несчастных, он и лично делал им добро. Так, например, с 1861 года на Гернсее матери приводили к нему еженедельно бедных детей, которым давали сытный обед в «Готвиль-Хаузе». Сначала их было восемь, потом – пятнадцать, потом – двадцать два и, наконец,– сорок. Их кормили ростбифом и поили вином. Поэт, его семья и слуги угощали их. На Рождество устраивалась елка с раздачей игрушек, одежды и лакомств. Мало-помалу обычай давать бедным детям еженедельный сытный обед распространился на острове и затем проник в Англию. В Лондоне для этой цели даже построили большое помещение. «Таймс» заявило, что здоровье детей в «Школе оборванцев» в Вестминстере значительно улучшилось с тех пор, как их хоть раз в неделю стали кормить сытно и вкусно.
В связи с выходом «Отверженных» издатели книги, Лакруа и Вербокгофен, устроили в Брюсселе торжественный банкет в честь автора. Участниками его были все лучшие представители литературы и прессы в Европе. Виктор Гюго занимал почетное место; справа от него сидел брюссельский бургомистр, слева – председатель парламента. Обед этот, торжественно данный изгнаннику, был понят как протест против империи. В конце его французские литераторы произнесли несколько сочувственных речей, адресованных Виктору Гюго, на которые тронутый этим поэт отвечал:
«Одиннадцать лет тому назад вы видели отъезд (из Франции) человека почти молодого —теперь вы видите старика. Цвет волос изменился, сердце – нет; благодарю вас за то, что вы здесь: я глубоко растроган этим. Мне кажется, что среди вас я дышу родным воздухом; мне кажется, что каждый из вас принес мне с собою частичку Франции; мне кажется, что из всех ваших душ изливается нечто прекрасное, величественное и лучезарное, и что это – улыбка родины»...
Глава IV
Борьба В. Гюго со смертной казнью.– Семейная жизнь поэта.– Путешествие по Зеландии.– Окончание начатых в изгнании литературных трудов.– «Труженики моря».– Появление драм поэта на французских сценах.– Отказ В. Гюго от льгот, дарованных амнистиями Наполеона III.– Смерть г-жи Гюго.
Являясь в течение всей своей жизни защитником угнетенных, Виктор Гюго горячо ратовал и против смертной казни; он всегда с ужасом и отвращением относился к ней. Уже в 1829 году, пораженный казнью отцеубийцы Жана Мартена, он написал «Последний день осужденного» («Le dernier jour d'un condamné»), появившийся в печати без подписи автора; некоторые критики даже приписывали брошюру какому-нибудь англичанину или американцу. В этом глубоком философском этюде разобраны одна за другою все физические и нравственные пытки, которые непосредственно предшествуют казни. Во взволнованном предисловии, добавленном к брошюре в 1832 году, он говорит:
«Автор намеревался изложить здесь – и ему хочется, чтобы потомство именно так и поняло его творение,– не специальную защиту того или другого преступника лично, что всегда легко и всегда проходит бесследно, а общую и вечную защиту всех настоящих и будущих преступников, т.е. великий вопрос общечеловеческого права, защищаемый перед обществом... вопрос о жизни и смерти, открытый, обнаженный, освобожденный от звучных ухищрений юриспруденции, беспощадно выставленный на свет именно там, где нужно, чтобы он был, и где он действительно на своем настоящем месте,– месте, внушающем ужас,– не в суде, но у плахи,– не пред судьею, а перед палачом».
В 1834 году Виктор Гюго написал «Клод Гё» («Claude Gueux»), который появился сначала в «Парижском обозрении», издававшемся под редакцией Бюлоза. Это случилось через два года после того, как был казнен Клод Гё, о помиловании которого напрасно хлопотал поэт. Этот потрясающий рассказ заканчивается следующим обращением автора к членам палаты депутатов:
«Милостивые государи, во Франции ежегодно отрезают слишком много голов; вы теперь заняты сокращением расходов – сделайте экономию также в этом случае и назначьте больше школьных учителей... Иной убивает на большой дороге, а будучи лучше направлен, он сделался бы отличным слугою общества. Обработайте голову простолюдина, поднимите эту новину, поливайте, удобряйте, просвещайте, утилизируйте ее – и вам не представится нужды ее рубить!»
При всяком конкретном случае Виктор Гюго протестовал против смертной казни, недостойной, по его мнению, существовать у цивилизованной нации.
Тринадцатого мая 1839 года, в то время когда поэт присутствовал при представлении «Эсмеральды», он узнал, что Барбес приговорен к смертной казни за поднятое им восстание. Виктор Гюго тотчас отправился в фойе артистов и написал обращение в стихах к Людовику-Филиппу, где, намекая на смерть принцессы Марии и рождение графа Парижского, говорит:
Par votre ange envolée ainsi qu'une colombe! Par ce royal enfant, doux et frêle roseau! Grâce encore une fois! Grâce au nom de la tombe! Grâce au nom du berceau! (Во имя Вашего ангела, улетевшего, подобно горлице! Во имя царственного дитяти, слабого и нежного, как былинка! Молю еще раз о прощении! Молю во имя могилы! Молю во имя колыбели!)Король, отказавший в помиловании Барбеса герцогу и герцогине Орлеанским, внял мольбе поэта и тотчас ответил ему:
«Исполняю Вашу просьбу о помиловании; мне остается только выпросить жизнь Барбеса у моих министров».
Министры также пощадили Барбеса.
Людовик-Филипп, сам от всей души ненавидевший смертную казнь, сказал Виктору Гюго, возводя его в звание пэра:
«Титул пэра Франции, самый высокий в нашей политической иерархии,– это награда вашему гению. Но я хочу сказать вам всю мою мысль: в особенности я желаю наградить вас сегодня за вашу столь прекрасную, столь постоянную борьбу против смертной казни».
В 1848 году Виктор Гюго продолжал ту же борьбу в Учредительном собрании.
«Смертная казнь,– говорил он,– есть отличительный и верный признак варварства. Везде, где злоупотребляют смертною казнью, преобладает варварство,– там же, где смертная казнь редка, господствует цивилизация... В заголовке вашей конституции вы пишете: „В присутствии Господа“... и вы хотите начать с того, чтобы отнять у Бога его неотъемлемое право даровать жизнь и прекращать ее»... Далее он прямо требует уничтожения эшафота.
Это предложение было отвергнуто собранием на заседании восемнадцатого сентября.
Сын поэта, Шарль Гюго, защищавший в прессе идеи отца, был даже приговорен к шестимесячному тюремному заключению за одну из своих статей против смертной казни. Ему не помогли ни красноречивая защита отца, ни протест всей либеральной прессы, и он должен был отсидеть назначенный срок.
В изгнании Виктор Гюго оставался тем же противником казней. В защиту прав человека на жизнь им написаны сотни высоко красноречивых страниц. В числе их те, в которых речь идет о Джоне Брауне, они особенно трогательны.
В 1859 году в Америке казнили Джона Брауна, весьма почтенного и глубоко религиозного человека, и вот за что: он посвятил всю свою жизнь уничтожению рабства. «Его великое сердце,– по выражению его вдовы,– страдало от страданий рабов». Он принял участие в войне за освобождение негров. Два его сына были убиты. Сам он, весь израненный и обессиленный потерею крови, был взят в плен южанами. На матраце, сквозь который протекала кровь из его неперевязанных ран, его принесли в суд, состоявший из рабовладельцев. Со спокойствием мученика за правду выслушал пленник свой смертный приговор. В Европе разнесся слух, что казнь отсрочена. Тогда снова на весь мир раздался голос Виктора Гюго, пытавшегося спасти жизнь приговоренного аболициониста; между прочим он говорит, что хотя не отнимает у натуралистов права рассуждать о том, было или нет несколько Адамов, но со своей стороны убежден, что существует один только отец, именно Создатель... Заключая отсюда, что все люди братья, он обращается к американским гражданам, как к братьям:
«Берегитесь,– восклицает он,– чтобы убийство Брауна не было с точки зрения политической непоправимою ошибкою, которая пошатнет американскую демократию.
С точки же зрения нравственной, кажется, будто часть умственного света померкнет в человечестве, что затемнится понятие о справедливом и несправедливом в тот момент, когда „свобода“ убьет „освобождение“.
Далее он молит о помиловании Джона Брауна и заканчивает следующими словами: „Да, пусть Америка знает, пусть она поймет, что есть нечто более ужасное, чем убийство Авеля Каином,– именно – убийство Спартака Вашингтоном“.
Северные Штаты взволновались: граждане собирали митинги, манифестации, молились в церквах, надеясь заставить этим южан пощадить Джона Брауна. Но Вирджиния осталась неумолимой, и умирающий пленник ее был повешен; к виселице его вел Уилкс Бутс, впоследствии убийца президента Линкольна. Виктор Гюго предложил следующую надгробную надпись для Джона Брауна: „Pro Christo, sicut Christus“ („За Христа, как Христос“).
Не всегда следовали отказы на бесчисленные просьбы Виктора Гюго о помиловании.
Непрестанная борьба его за право человека на жизнь доставляла ему иногда глубоко отрадные впечатления. Когда в 1862 году Учредительное собрание Женевского кантона пересматривало свою конституцию и вотировало сохранение смертной казни, Виктор Гюго написал письмо женевцам, и она была уничтожена, несмотря на сильную оппозицию католической партии. В 1865 году он поддерживал членов Центрального Итальянского комитета, учрежденного для отмены смертной казни.
В 1867 году он получил следующее письмо от одного португальского дворянина:
"...Гуманность одержала огромную победу. Учитель! Ваш голос, всегда раздающийся там, где нужно защищать великие принципы или осветить великую идею,– Ваш голос достиг и сюда; наши сердца услышали его, и великое дело совершилось: обе палаты нашего парламента вотировали отмену смертной казни».
Молодой король Луис Португальский подписал постановление об этом перед своею поездкою на парижскую Всемирную выставку.
В течение своей жизни Виктор Гюго собрал значительный материал для книги, которую хотел озаглавить: «Дело о смертной казни» («Le Dossier de la peine de Mort»). Материал этот остается только расположить по порядку. Неуклонно следуя внушениям совести, поэт под конец жизни получал нравственное удовлетворение не только от своей борьбы против казней. Многие из его противников со временем становились его почитателями. Даже джерсейцы, когда-то изгнавшие его, не могли не отдать ему справедливости. Восемнадцатого июня 1860 года на всем острове замечалось необыкновенное оживление. Стены домов были покрыты афишами, где стояло: «Виктор Гюго прибыл». Жители упросили поэта приехать к ним и произнести речь в пользу подписки на сбор средств для Гарибальди, борющегося за освобождение Италии. Виктор Гюго согласился и в присутствии бесчисленной толпы народа сказал блестящую речь. Исполнение просьбы джерсейцев было единственным «мщением» его за свое изгнание с острова.
Семейная жизнь поэта оставалась покойною и счастливою, за исключением того горя, которое человеку приходится испытывать вследствие болезни близких или потери их.
В 1866 году старший сын поэта Шарль женился. В 1867 году Виктор Гюго был обрадован рождением внука, маленького Жоржа, вскоре, однако, умершего. Затем родился другой мальчик, которого также назвали Жоржем. Этот не умер, но вырос и вместе с сестрою своею, Жанною, был гордостью и утехою деда.
Через некоторое время после свадьбы сына Виктор Гюго вместе с ним и друзьями совершил «увеселительное и артистическое» путешествие по Зеландии, рассказанное впоследствии Шарлем Гюго в книге «Виктор Гюго в Зеландии». Поэт восхищался и наслаждался этим путешествием, как юноша. Его все занимало: и виды, и нравы, и древняя архитектура городов. Там, где жители узнавали о его приезде, его встречали с необыкновенным радушием и таким восторгом, который под конец становился даже утомительным. Не было недостатка и в разных приключениях, как трогательных, так и комических.
Однажды утром в Лувье, в то время когда поэт работал в своей комнате, одна из дам, принимавших участие в путешествии, сошла в столовую и, увидев там прекрасные плоды, попросила слугу подать их к столу.
– Это не для вас! – отвечал тот с трагическим жестом и растерянным взглядом. Затем он спрятал плоды в буфет и прибавил: – Я должен пойти переговорить с господами путешественниками.
Думая, что он сошел с ума, дама поспешила предупредить об этом своих друзей. За нею в комнату поэта вбежал слуга и, раскрывая объятия, воскликнул:
– Это вы, не правда ли, вы именно – Виктор Гюго?
– Это зависит... – отвечал тот, отступая.
– Ах, сударь,– сказал бедняга, вдруг заливаясь слезами,– я ведь читал ваши стихи про милостыню, я знаю их наизусть... Плоды для вас.
По возвращении из Зеландии Виктор Гюго провел лето в Бельгии, где закончил часть начатых в изгнании работ. Из числа написанных им в изгнании вещей, за год перед этим, то есть в 1865 году, в печати появились «Уличные и лесные песни» («Chansons des rues et des bois»). Всякий, читавший стихи, не может не признать их поэтической свежести, а между тем имперские зоилы в угоду Наполеону III всеми силами старались доказать, что «Песни» эти значительно ниже остальных произведений поэта, что он, одним словом, «исписался». Мнение это было блестящим образом опровергнуто появившимися в 1866 году «Тружениками моря» («Les Travailleurs de la mer»). Вот в каких словах поэт объясняет цель этой книги: «Я хотел прославить труд, сильную волю, преданность – все, что делает человека великим».
Говоря о «Тружениках моря», нельзя не указать на одну из сторон таланта Виктора Гюго, общую, впрочем, всем гениям. Это, помимо поразительной способности обобщения, его замечательная наблюдательность и уменье правильно подмечать все подробности привлекающих его внимание явлений. Вот пример этого. В одной из своих бесед в Сорбонне в 1880 году, президент парижского «Бюро долгот» («Bureau des longitudes») Фай (Faye) среди прочего говорил следующее:
«Древние и новые поэты любили описывать бури. Мы встречаем три подобных описания в „Одиссее“, одно в первой книге „Энеиды“, одно в „Луизиаде“ Камоэнса и одно в „Мучениках“ Шатобриана. Кроме того, мы имеем замечательное описание бури в „Тружениках моря“ Виктора Гюго.
Лучше всего будет вспомнить эти превосходные описания (отбросив в сторону драматический элемент, то есть борьбу человека со стихиями), потому что всякий поэт, мы говорим о великих поэтах, есть зеркало, в котором отражаются не только чувства и страсти его эпохи, но также все идеи и научные взгляды ее. Наставники нашей молодости никогда не забывали обратить наше внимание на то, что Гомер правдив до мелочей, даже в анатомических описаниях; что Вергилий замечателен по глубине философских взглядов и по своему знакомству с природой; что Данте – во всех отношениях глубокий мыслитель; что Камоэнс сам совершил все описываемые им экспедиции, а Шатобриан изъездил все страны древнего мира. Что касается Виктора Гюго, то неизвестно, где он почерпнул свои знания; но очевидно, что в 1866 году он знал о бурях гораздо больше, нежели многие ученые метеорологи того времени».
Описав бури согласно различным авторам, Фай излагает аспиративную теорию бурь, объясняющую их происхождение местными причинами, и прибавляет:
«Эта теория так проста и так естественно вытекает из первых посылок, то есть из взгляда на бури, существующего уже три тысячи лет, что есть опасность принять ее за что-нибудь действительно серьезное. Но не следует составлять себе никакого мнения, не прочтя последнего описания бури, сделанного Виктором Гюго в 1866 году. Как у всех других авторов, мы и здесь встречаем человека в борьбе с разъяренными силами стихий. Для нас в настоящую минуту важна не драма, а то, что есть правдивого и реального в самом описании явления природы; пусть всякий сам рассудит, производит ли правдивое и реальное менее поэтическое впечатление, чем условное и предвзятое.»
«Море было не только спокойно,– говорит Виктор Гюго,– оно было недвижно; небо, повсюду ясное, казалось не голубым, а белесоватым. Эта белесоватость производила странное впечатление. На западе, на самом горизонте, виднелось пятно какого-то неприятного вида; оно не меняло места, но постепенно росло, у прибрежных скал влага тихо дрожала. Джиллиат взобрался на высоту, с которой было видно все море. Запад был поразителен. Оттуда выходила стена; большая стена туч, которая, перерезывая пространство из конца в конец, медленно поднималась от горизонта к зениту. Эта стена туманов расширялась и росла, но верхний край ее оставался параллельным линии горизонта. Она поднималась вся сразу, молча. Солнце, совсем бледное из-за прозрачного, какого-то нездорового тумана, освещало эти апокалиптические очертания. Воздух был раскален. Небо, из голубого сделавшееся белым, из белого стало серым, точно громадная аспидная доска. Ни дуновения, ни волны, ни звука.
Вдруг солнце исчезло. Его захватила ползшая вверх туманная туча. Она теперь сморщилась, сложилась в складки, совсем переменила вид. Молнии не было, разливался какой-то ужасный, зловещий, рассеянный свет.
Узкая, беловатая, поперечная тучка, неизвестно откуда взявшаяся, перерезывала наискось, от севера к югу, мрачную высокую стену туч; под нею очень низко маленькие тучки, совсем черные, метались из стороны в сторону. На востоке, за Джиллиатом, были словно ворота, сквозь которые виднелся клочок ясного неба, но и эти ворота грозили сейчас закрыться. Ветра не чувствовалось вовсе, а между тем вдруг пронеслась, неизвестно откуда взявшаяся, горсть какого-то растрепанного серого пуха, точно сейчас ощипали огромную птицу за этою стеною мрака. Предчувствовалось, что что-то близится.
Вдруг раздался ужасный, неслыханный, оглушающий раскат грома. Ни малейшая искра не осветила небес – то был черный гром. Снова наступила тишина, точно все хотело собраться с силами.
Потом одна за одной засияли громадные, бесформенные молнии. Эти молнии были немы».
Это пролог; вот и первое действие:
«Джиллиат вдруг почувствовал, что какое-то дуновение растрепало ему волосы. Три или четыре крупные капли дождя расплюснулись около него на скале. Потом снова раздался грохот. Ветер поднялся.
Это мгновение было ужасно. Ливень, ураган, зарница, молния, волны до туч, крики, рев, рокот, свист – все сразу. Все чудовищное сорвалось с цепи.
Ветер бушевал; дождь не шел, он рушился. Всё, небо и океан, в тревоге ринулось на утес. Слышались голоса без числа – кто мог так кричать? По временам казалось – раздается команда. Потом опять крики, трубные звуки, странные трепетания, и сквозь всё это – величественный гул, про который моряки говорят, что это „зов океана“!
Летучие неопределенные спирали ветра крутили морскую влагу; волны, превращенные этими круговоротами в диски, обрушивались на прибрежные скалы, как бы пущенные туда невидимыми атлетами. Пена заливала скалы. Местами было тихо; местами ветер мчался с быстротою двадцати туазов[1] в секунду. Море, куда ни взгляни, было белое, точно десять лье мыльной пены.
Вскоре ураган достиг пароксизма. Буря была до сих пор только страшна – теперь она стала ужасна. В такие минуты, говорят моряки, ветер все равно, что бесноватый».
Этим заканчивается первое действие; перейдем теперь ко второму:
«Вдруг все просветлело, дождь перестал, тучи местами разорвались. На зените открылось словно окно в сумерки, и молнии потухли. В эту минуту в самой мрачной части тучи является, неизвестно зачем – может быть, чтобы поглядеть всеобщий переполох,– круг синего цвета, который старые испанские моряки называли „оком бури“ – el ojo de tempestad. Можно было ожидать конца,– это было новое начало. Ветер вдруг перескочил с юго-востока на северо-запад. Буря опять начиналась, ей помогало новое войско ураганов. Теперь север готовился к натиску; южный ветер наносит главным образом воду, гром и молнию. В это время в бурях происходит тот постоянный расход электричества, который Пидингтон называет „каскадом молний“.
Вдруг мимо Джиллиата пронеслось что-то белое и пропало во мраке. То была чайка. В бурю нет ничего приятнее такой встречи. Когда показываются птицы – буря уходит. Дождь сразу перестал. Потом послышался только ворчливый раскат в тучах. Гроза прекратилась мгновенно, точно провалилась куда-то. Тучи стали расползаться и исчезать. Щель ясного неба разогнала темноту. Джиллиат удивился – был уже день. Буря продолжалась двадцать часов.
Ветер приносивший – всё и унес. Мрак рушился, загромождая горизонт. Разрозненные и беспорядочно уносящиеся туманы теснились тревожно; по всей линии туч шло отступление; послышался продолжительный утихающий гул; пало несколько последних дождевых капель, и весь этот, полный грома, мрак удалился, как шумное собрание грозных колесниц. Небо внезапно сделалось голубым».
«Нужно сознаться,– говорит Фай,– что если принять аспиративную теорию метеорологов, то настоящее описание бури показалось бы нам ничему не соответствующим– ни теории, ни описаниям Гомера и Вергилия, Камоэнса и Шатобриана. Буря Гюго не образовалась на месте; автор описывает нам ее как нечто наступающее, приносящееся издалека; она не на месте и не прекращается, а мчится дальше, разрушая всё на пути своем. По идее автора, это что-то идущее мимо. Далее, нам ничего не говорят о четырех ветрах, дующих одновременно от четырех стран света. В первом действии бури бушует один только ветер – юго-восточный, во втором тоже один – северо-западный. Но достаточно и этого, чтобы понять, сколько противоречий у Виктора Гюго с древними авторами. Чем же это объяснить? Да тем, что бури, описанные у древних, а также у Камоэнса и Шатобриана, бушевали и возникали только в воображении авторов, точно так же, как и построенные на этих данных теории. Одно описание Виктора Гюго точно. Всё, что он говорит, оправдывается для наблюдателя, находящегося за 40-м градусом северной широты и стоящего приблизительно на линии, по которой несется центр бури. Бури – не простые случайности, они не скоро проходящие расстройства или болезни атмосферы, нет – они имеют законы, подобно светилам, и повинуются им с совершенной покорностью».
Итак, Виктор Гюго силою творческого гения прозревал мировые законы, о существовании которых в то время не помышляли даже те, кому о них главным образом и надлежало ведать.
После этого нам станет еще более понятным то обаяние, которое произведения его имели уже в течение полустолетия и будут вечно иметь для читающих масс.
Через три года после «Тружеников моря», в 1869 году, появился «Человек, который смеется» («L'homme qui rit»), имевший всемирный успех. Раньше него вышла статья, посвященная Шекспиру и написанная по поводу перевода сочинений этого писателя, сделанного вторым сыном поэта, Франсуа-Виктором Гюго.
В 1867 году в Париже была устроена Всемирная выставка. По этому случаю лучшие представители французской литературы издали сборник под названием «Paris guide» («Путеводитель»). Виктор Гюго составил для него блестящее предисловие. В это же время на сцене парижских театров снова появились его драмы: «Эрнани» во «Французской комедии» и «Рюи Блаз» – в «Одеоне». Несмотря на изгнание и опалу автора, министр изящных искусств доложил Наполеону III, что съехавшиеся на выставку представители европейской интеллигенции могут удивиться упадку французской драматической литературы, если на сценах больших театров им придется видеть только вещи посредственные, а на второстепенных – прекрасные декорации для глупых и безнравственных фарсов. Наполеон III сдался на просьбы своего министра и разрешил постановку некоторых из драм Виктора Гюго. Успех их был громадным. Молодые поэты Франции написали автору коллективное письмо, где выражали все свое сожаление по поводу его отсутствия; письмо это подписано именами лучших литературных сил страны. Энтузиазм публики испугал империю; к тому же в печати появилась новая поэма Виктора Гюго «Голос с Гернсея», где поэт осуждает папу и Наполеона III за угнетение Италии и за борьбу с Гарибальди. «Эрнани» был опять запрещен. Впоследствии, и то с большим трудом, дирекция театра «Порт С.-Мартен» добилась позволения поставить на сцене «Лукрецию Борджиа». По поводу представления этой драмы Жорж Санд написала автору горячее письмо, где говорила о восторге зрителей и громких криках их: «Да здравствует Виктор Гюго!».
Как ни скорбел стареющий поэт вдали от родины, как ни хотелось ему вернуться в отечество, тем не менее он не счел возможным воспользоваться амнистиями, провозглашенными империей в 1859 и 1869 годах. Он не признавал за Наполеоном III права прощать людей, ни в чем не виновных.
В 1868 году умерла г-жа Гюго. Это было тяжелым ударом для всей семьи и в особенности для самого поэта.
Глава V
Падение империи.– Возвращение поэта на родину.– Жизнь и деятельность В. Гюго во время осады Парижа.– Избрание поэта в палату депутатов,– Смерть Шарля Гюго.– Отъезд поэта в Брюссель.– Высылка из Брюсселя.– Смерть Франсуа Гюго.– Литературная деятельность поэта в этот период его жизни.– Избрание в сенат.– Деятельность В. Гюго как сенатора.– Отношение его к натуралистической литературной школе.– Религиозные взгляды В. Гюго.– Пятидесятилетний юбилей «Эрнани».– Чествование поэта при вступлении его в восьмидесятый год жизни.– Кончина Виктора Гюго.
Несмотря на строгость, с которою империя преследовала всякий протест, всякое враждебное ей настроение в народонаселении, она тем не менее к концу шестидесятых годов была расшатана. Ей наносились удары со всех сторон. Газета «Rappel», где сотрудничали сыновья и друзья Виктора Гюго, протестовала при каждом удобном случае против реакционных мер; Рошфор со своим «Фонарем» поднимал наполеонидов на смех, а смех во Франции – орудие смертоносное. Империя рухнула.
Только тогда Виктор Гюго вернулся во Францию. Он действительно сдержал слово, данное в стихе:
Et s'il n'en reste qu'un – je serai celui-là!
(И если останется только один – то я буду этим одним!)
При въезде во Францию возвращающийся изгнанник был тяжело поражен встречею с отступающею французскою армией – раненые беглецы, умирающие от утомления и голода, протягивали руку с мольбою о куске хлеба. При виде этого престарелый поэт зарыдал: он скупил весь хлеб, который можно было найти, и приказал раздать его солдатам.
Известный французский писатель Жюль Кларети сопровождал Виктора Гюго. Вот что он говорит об этом печальном возвращении:
«В понедельник, 5 сентября 1870 года, на другой день после падения империи, Виктор Гюго, находившийся тогда в Брюсселе, подошел к железнодорожной кассе, где продавались билеты во Францию, и спросил голосом, невольно дрожавшим от волнения: „Билет в Париж“.
Я так и вижу его... в мягкой войлочной шляпе, с кожаной сумкой на ремне, надетом через плечо; он был бледен и взволнован и, подходя к кассе, невольно взглянул на часы; казалось, что ему хочется самым точным образом знать минуту, в которую оканчивалось его изгнание.
Столько лет – девятнадцать лет прошло с того дня, когда ему пришлось покинуть этот Париж, покоренный его гением, и всё, что составляло его жизнь: жилище, к которому он привык, любимые книги, мебель, картины и даже шесть едва просохших листков с последними стихами.
Теперь все кончилось. Теперь не месяцами, а минутами нужно было считать время, отделявшее его от того мгновения, когда он будет в состоянии воскликнуть: „Вот Франция!“
Друзья провожали Виктора Гюго, возвращавшегося на родину... Поезд тронулся. Поэт сидел против меня и Антонена Пруста и смотрел в окно, ожидая той минуты, когда переедут границу, и он увидит деревья, луга, землю, воздух и небо родины. Я никогда не забуду потрясающего впечатления, произведенного на этого шестидесятивосьмилетнего старика, поседевшего в изгнании, видом первого французского солдата.
Это было в Ландреси. Полки корпуса Винуа отступали от Мезьера к Парижу: бедняки-солдаты, усталые, пыльные, все в грязи, бледные, уныло сидели или лежали на земле вдоль полотна железной дороги. Они уходили от наступавших немецких войск и старались приблизиться к Парижу, чтобы, в свою очередь, не пасть жертвою бедствия, сделавшего под Седаном последнюю французскую армию добычею прусских цитаделей.
В их глазах можно было прочесть поражение; весь их внешний вид говорил о тяжелом нравственном утомлении; молчаливые, отупелые, разбитые, они напоминали обломки камней, увлекаемые после грозы потоками дождевой воды по горным дорогам. Но всё же это были солдаты нашей Франции, на них был родной любимый мундир... Они уносили с собою в целости трехцветные знамена, они спасли их среди всего этого крушения. Крупные слезы сразу навернулись на печальных глазах Виктора Гюго.
Высунувшись из окна вагона, старик крикнул, точно вне себя, громким и в то же время дрожащим голосом:
– Да здравствует Франция! Да здравствует армия! Да здравствует отечество!
Солдаты, подавленные усталостью, смотрели на поезд с убитым и тупым видом, не понимая.
Он продолжал кричать им ободрения:
– Нет, нет, это не ваша вина, вы исполняли свой долг!..
И когда поезд двинулся, слезы, одна за другой, медленно потекли по его щекам, теряясь в седой бороде...
В Тернье – другое воспоминание, которым я горжусь: Виктор Гюго в первый раз пообедал во Франции. О приезде его уже знали; буфетная зала была полна любопытных, теснившихся кругом.
– Вам не нужно паспорта! – сказал, кланяясь поэту, полицейский комиссар.
Мы вошли в буфет: почти ничего не было. Закусили хлебом, сыром и вином, вот и всё. Я упросил Виктора Гюго сделать мне честь и принять от меня этот первый обед свой на родине. Он согласился, и я видел, как он с волнением сунул в карман кусочек того хлеба, которым насытился в первый раз в обретенном снова отечестве.
– Он всё еще у меня, ваш кусочек хлеба,– иногда говорил он с умилением впоследствии, вспоминая свою скромную трапезу.
Он действительно навсегда сохранил этот кусок хлеба из Тернье. Больше он в тот день почти ничего не ел, он был слишком взволнован.
Мы опять сели в вагон. До самого Парижа Виктор Гюго сидел молча, погруженный в свои думы. Ночь мало-помалу спускалась на проезжаемые нами местности.
– Я хотел бы,– вдруг произнес поэт,– вернуться один, как неизвестный путник, в город, которому угрожает враг...
На северном дебаркадере Поль Мерис, Вакери, Франсуа Гюго – Шарль был с нами – бросились к нам навстречу, крича:
– Да здравствует Виктор Гюго! Да здравствует Виктор Гюго!
– Господа, тише, прошу вас,– сказал один из главных хирургов,– у нас здесь раненые.– И он указал на санитарные вагоны, откуда кровь сочилась на рельсы.
Виктор Гюго сделал знак. Замолчали. Перед вокзалом огромная толпа ждала его. Его увидели, приветствовали громкими кликами, подхватили... И я слежу взором в тени Парижа и среди бесчисленного стечения народа за этим стариком, который, верный своей клятве, протестовал до конца против попрания права».
Через несколько дней после приезда поэта немецкая армия подступила к Парижу. Виктор Гюго написал по-французски и по-немецки воззвание к пруссакам. Он уговаривал их прекратить эту войну, начатую Наполеоном; он напоминал, что между обоими народами не существовало вражды... «Подумайте раньше, чем показать миру такое зрелище... Немцев, превратившихся в вандалов... варварство, губящее цивилизацию... Знаете, чем была бы для вас эта победа – бесчестием!»
Немецкая пресса ответила криками гнева. Один немецкий журнал напечатал: «Повесьте поэта на мачте».
Тогда Виктор Гюго написал горячее воззвание к французам, призывая их к обороне отечества. Его просили проехать по всей Франции и говорить народу речи в этом смысле, но он раньше обещал разделить судьбу осажденных парижан и потому остался.
Когда начались волнения Коммуны, Виктор Гюго не переставал уговаривать парижан прекратить раздоры, ввиду заполонивших отечество врагов. Его голоса не послушали.
В октябре 1870 года появилось парижское издание книги «Les Châtiments» («Кара»), в первый раз доставившей поэту пятьсот франков авторского гонорара. Он тотчас внес эти деньги в фонд, собранный по подписке на покупку пушек. В то же время французское общество литераторов придумало устроить чтения, на которых лучшие артисты парижских театров должны были декламировать стихи из «Châtiments» – книги, возвратившейся во Францию вместе с республикою. Виктор Гюго, бывший председателем общества, согласился с условием, чтобы и этот сбор употребили на отливку пушки. Ей хотели дать его имя, но он просил назвать ее «Шатодён», в память небольшого городка, геройски защищавшегося и вызвавшего восторг и удивление всей Европы. Первый сбор равнялся 7550 франкам. Парижане просили еще нескольких чтений. Одно из них было устроено бесплатно, для народа. В антрактах артисты собирали добровольные пожертвования в прусские каски. Под конец на сцену бросили позолоченный лавровый венок с надписью: «Нашему поэту, пожелавшему даровать беднякам мир духа».
В общем, состоялось три чтения, давшие более десяти тысяч франков. Комитет литераторов решил, что на эти деньги отольют две пушки – и назовут одну «Шатодён», а другую – «Виктор Гюго»; под выгравированными именами прибавили надпись: «От общества литераторов».
Дориан, министр общественных работ, изъявил на всё полное свое согласие. Обе пушки стоили около семи тысяч франков. Остаток собранной суммы был употреблен на вспомоществование литераторам, пострадавшим от войны.
Дальнейшая сумма в 6 тысяч франков, полученная от представлений во французском театре, где давали отрывки из различных произведений Виктора Гюго, была употреблена на устройство перевязочных пунктов.
Вообще, все произведения поэта сделались во время осады как бы народным достоянием, и все сборы от них шли на улучшение положения голодных, раненых, больных и на вооружение войск.
Виктор Гюго в осажденном немцами Париже терпел всякие лишения наравне с остальными жителями. Он иногда приглашал обедать к себе друзей, министров и членов правительства народной обороны.
– Приходите обедать ко мне завтра: я для вас устрою пир,– говорил он.
Понятно, каков мог быть этот пир. Подавали мясо всевозможных животных: лошадей, собак, крыс, кошек,– превращая желудки, как говорили шутники, в Ноев ковчег. Несмотря на лишения, поэт оставался бодр и весел в присутствии друзей и близких, стараясь поддержать бодрость духа и в них. Но вечером и ночью, печальный и лишенный сна, он долго бродил по осажденному городу и обдумывал свой «Ужасный год» («L'année terrible»).
До конца жизни у него на глазах навертывались слезы при воспоминании о бедствиях родного города и о мужестве его защитников.
Нужно прибавить, что, едва водворившись на родине, Виктор Гюго тотчас записался в Национальную гвардию. По окончании осады он был выбран депутатом, но недолго сохранял свое место в палате. Он не хотел заключения мира, не хотел соглашаться на уступку Эльзаса и Лотарингии, требовал, чтобы представители этих провинций сохранили свои места в парламенте, и находил необходимым избрать Гарибальди почетным членом палаты депутатов. Ему было во всем отказано и на него снова начали нападать. Какой-то депутат, де Лоржериль, объявил ему, что он не знает по-французски. Другой, священник Жаффре, крикнул: «Смерть Виктору Гюго». В это время скоропостижно умер старший сын поэта, Шарль, и опечаленный всеми этими невзгодами отец уехал в Брюссель. Коммуну он осуждал. Но когда она была подавлена, он первый открыл двери своего дома изгнанным коммунарам. Реакция, однако, не удовлетворилась высказанным поэтом неодобрением, она требовала большего, и бельгийскому королю Леопольду, сыну, было предъявлено такое же требование, как и его отцу,—изгнать Виктора Гюго. Поэт был выслан из Брюсселя. Он поехал путешествовать по Люксембургу. В Париже в это время лубочный писатель Ксавье де Монтепен предлагал Обществу французских литераторов исключить из своей среды Виктора Гюго. В 1851 году то же самое предлагал некто Гаранкур, давно позабытый теперь всеми. Общество литераторов дало Ксавье де Монтепену наилучший ответ – оно ему ничего не ответило.
Виктор Гюго между тем путешествовал и обрабатывал «Ужасный год» («L'année terrible»), представляющий как бы продолжение «Кары» («Les Châtiments»). В это время он потерял второго сына.
Французский народ, однако, не забывал своего любимого поэта. Ему снова предложили выдвинуть свою кандидатуру в палату, но, по неожиданному стечению обстоятельств, он потерпел неудачу на выборах. Чтобы закончить с его политическою деятельностью, нужно упомянуть, что он был избран в сенат. Он тотчас потребовал амнистии, но его опять не послушали.
«Девяносто третий год» («Quatre vingt treize»), последний написанный Виктором Гюго роман, появился в печати в 1874 году и тотчас был переведен на несколько иностранных языков. Критика отнеслась к нему с восторгом, хотя, по обычаю, послышались и враждебные голоса.
В 1877 году вышла вторая часть «Легенды веков» – ряд превосходных эпопей и идиллий. В это время Виктор Гюго уже возвратился в Париж и поселился на улице Клиши, в доме, отстоявшем очень недалеко от бывшего помещения школы, где он когда-то учился читать.
Вернувшись в родной город, Виктор Гюго занял свое место в сенате. Вот как проводил он день: вставая с рассветом, он писал часов до двенадцати, иногда до двух, всегда стоя у конторки. После скромного завтрака он отправлялся в сенат; там, пока его товарищи занимались более или менее интересными разговорами, он писал свои письма. Отдыхом от сенатского заседания ему служила прогулка пешком или поездка на империале омнибуса; он любил иногда затеряться таким образом среди глубоко симпатичного ему парижского рабочего люда. В восемь часов вечера он был дома; в это время подавался обед, к которому всегда был приглашен кто-нибудь из друзей. Семья поэта увеличилась тем, что, после нескольких лет вдовства, жена Шарля Гюго вышла за Локруа, известного парижского депутата.
Садясь за стол, Виктор Гюго преображался; это был уже не поэт, не могучий оратор, это был милейший и веселый хозяин дома, сам обедавший с аппетитом здорового и трудящегося человека и не забывавший угощать своих гостей; при этом он не переставал шутить, смеяться и рассказывать остроумные анекдоты. В десять часов общество переходило в гостиную; сюда прибывали один за другим новые посетители: депутаты, художники, литера торы. Разговор становился общим, всякий принимал в нем живое участие, и маститый поэт-хозяин своею простотою в обращении, тонким добродушием и любезностью умел ободрить и развеселить каждого. Мало кто из людей, знавших Виктора Гюго только по его произведениям и деятельности, не испытывал известного смущения, будучи представлен ему в первый раз. Рассказывают, что в 1877 году бразильский император дон Педро посетил его и, входя, обратился к нему со следующими словами:
– Ободрите меня, г-н Виктор Гюго, я несколько смущаюсь.
И это было сказано с полною искренностью.
До последних дней своей жизни Виктор Гюго был бодр, крепок, весел и деятелен.
Интересно отношение его к современной натуралистической литературной школе. Вот что рассказывает по этому поводу автор книги «Виктор Гюго и его время» Альфред Барбу.
«Зачем,– говорил поэт,– зачем унижать искусство и делать это добровольно... разве для того, чтобы высказывать правду? Но возвышенные идеи не менее правдивы,– и, что касается меня, то я их предпочитаю. Разберите следующий простой пример. Шекспир в „Венецианском купце“ заставляет Шейлока сказать, говоря о евреях и христианах: „Они живут, как мы, а мы умрем, как они“.
Вот действительность в ее простейшем выражении; я, однако, могу ее идеализировать, не уничтожая ее реальности и правдивости. Я скажу:
„Они чувствуют, как мы, а мы думаем, как они. Они страдают, как мы, а мы любим, как они“.
Но вообразим себе нисходящую гамму, тогда мы скажем:
„Они спят, как мы, а мы ходим, как они. Они кашляют, как мы, а мы плюем, как они. Они едят, как мы, а мы пьем, как они“.
Продолжайте сами... Вы не кончаете, вы не можете дойти до конца. Но придет другой, который этого не побоится,– а более храбрый пойдет, может быть, еще дальше. Все это пока только неопрятно, за неопрятностью же последует непристойность, и я вперед вижу пропасть, глубину которой не берусь измерить.
То же самое мы видим в деле искусства. Курбе – человек с большим талантом и не лишенный ума (есть художники ограниченные),– Курбе говорил мне однажды: „Я написал стену настоящую, совсем настоящую. Я столько же употребил труда на это, сколько Гомер на описание Ахиллесова щита,– и, по чести, моя стена стоит его щита, которому еще очень многого недостает“.
– И тем не менее я предпочитаю Ахиллесов щит,– сказал я ему. – Во-первых, он красивее вашей стены, а во-вторых, и у вашей стены кое-чего недостает.
– Чего же?
– Того, что часто находят вдоль стен и что другой когда-нибудь и поместит туда, чтобы быть еще более реалистом, чем вы».
«Вот почему,– продолжал Виктор Гюго,– я нахожу произведения натуралистические вредными и дурными».
Собеседник поэта Барбу заметил, между прочим, что полезно представлять страшные картины развращения, вносимого пьянством в рабочую среду.
«Это правда,– отвечал Виктор Гюго,– но тем не менее такая книга нехороша. Она точно с наслаждением рисует безобразные язвы нищеты и унижения, до которых до веден бедняк. Враждебные народу классы наслаждаются этими картинами. „Вот каков рабочий!“ – говорят они. Такие книги имеют успех именно среди этих классов... Есть картины, которых писать не следует. Пусть мне не возражают, что все это правдиво, что оно так и происходит. Я это знаю, я изучал все эти горькие беды, но я не хочу, чтобы их отдавали на позорище. Вы не имеете права на это, вы не имеете права „обнажать несчастье“.»
Нужно прибавить, что, нападая на натурализм и бичуя некоторые книги и их тенденции, Виктор Гюго тем не менее восхищался талантливыми писателями, к какой бы школе они ни принадлежали, несмотря на то, что за последние годы критика, благосклонная к натурализму, снова пыталась унизить его. Говоря о реалисте Гюставе Флобере, которому в это время воздвигали памятник, вот как характеризовал его Виктор Гюго: «Все высшие страсти и ни одной страсти низшей – вот чем был Флобер, это великое сердце, этот благородный ум».
С другой стороны, Бальзак, неоспоримый родоначальник новейшей литературной школы, выражался следующим образом о Викторе Гюго: «Виктор Гюго – это целый мир!»
За несколько месяцев до появления второй части «Легенды веков», в 1877 году, вышло «Искусство быть дедушкой», нечто вроде продолжения «Книги для матерей» или «Книги для детей», которую издатель Гетцель составил из всего, что относилось сюда в сочинениях поэта.
По поводу «Искусства быть дедушкой» на Виктора Гюго напали прежде всего за заглавие. Ему объявили, что быть дедом вовсе не есть искусство. Он, улыбаясь, соглашался. Затем его стали бранить за то, что он недостаточно бранит детей, и вообще слишком снисходителен к ним. Он отвечал: «Сознаюсь и в этом – не мое дело быть строгим. Эти розы имеют шипы, говорите вы... уничтожайте шипы, я же вдыхаю запах роз».
Отцу приходится учить, исправлять, наказывать, но дед-поэт учит только одному: любить, любить «слишком». Книга его полна прелестных вещей. Он обожает своих внуков Жоржа и Жанну.
Что за сказки он им рассказывает: о доброй блохе и злом короле, о преданной собаке, об осле с ушами, которые длиннее, чем у других ослов, причем одно слышит всегда «нет», когда другое слышит «да», вследствие чего бедный осел вечно колеблется между добром и злом.
Забывая всю свою славу, маститый поэт принимает участие в детских играх, устраивает кукольные праздники, делает внукам игрушки, рисует им чудесные картинки и, к вящему ужасу строгих педагогов, забирается в хозяйственное святилище, кладовую, и собственноручно таскает оттуда потихоньку варенье для своих любимцев.
Жорж и Жанна, будучи еще совсем маленькими детьми, обыкновенно являлись в гостиную за некоторое время до обеда в сопровождении кота – Гавроша – и собаки. Начинались всевозможные шалости: дети влезали на колени деда, таскали его за волосы и за бороду, целовали.
– Видишь,– говорил иногда Виктор Гюго которому-нибудь из сидящих у него на коленях внучат,– дедушка все-таки хоть на что-нибудь да годится: на него можно сесть.
Он никогда не наказывал детей. Жанну, в виде возмездия за какой-то проступок, заперли раз в отдельную комнату, а дедушка потихоньку отнес ей туда лакомства. Он вообще любил всех детей, и знакомые, по его просьбе, часто приводили ему свой маленький люд. Однажды один литератор привел ему своего восьмилетнего сына. Он много раз уже говорил мальчику о том, как велика честь быть принятым у гениального поэта, и так напугал его, что, придя к Виктору Гюго, бедный ребенок, весь растерянный и красный, сидел на кончике стула, вытянувшись в струнку и чуть дыша.
Вдруг хозяин обратился к отцу мальчика:
– Послушайте, мой милый,– ваш сын, наверно, болен!
– Нет, уверяю вас,– отвечал донельзя удивленный гость.
– Да как же! Он здесь уже с полчаса и еще ничего не сломал.
Но рядом с нежною и снисходительною любовью к маленьким детям в поэте уживалась горячая ненависть к людской низости. Так, он не мог простить предательство критика С.-Бёва или эгоизм и неблагодарность писателя Мериме:
– Этот человек,– восклицал он, подразумевая Мериме,– оставил по себе позорную память; несмотря на весь свой талант, это был пошляк, обзывавший витиеватостью все то, чего не в силах была постичь безусловная черствость его сердца.
Под влиянием чувства ненависти ко всякой низости и несправедливости была написана Виктором Гюго «История одного преступления».
Что касается религиозных убеждений поэта, то он всегда и везде высказывал незыблемую веру в Бога. «Верить в Бога,– говорит он,– это значит верить во все: в бесконечное, в бессмертие души»... В этом духе написаны: «Папа», «Высшее милосердие», «Религии и Религия». В «Осле», произведении философском, он нападает на педантизм лжеученых, плохих педагогов, умственно и нравственно калечащих юношество. Здесь поэт превращается в едкого сатирика.
Несмотря на всю славу Виктора Гюго, на всю любовь родной страны к нему, даже республиканское правительство еще запрещало постановку его драм на сцене. Наконец, в ноябре 1877 года, был дан «Эрнани», причем Сара Бернар играла роль, некогда исполняемую г-жою Марс. После сотого представления автор, по обычаю, устроил обед, на котором собралось около двухсот человек критиков, литераторов и артистов. Потом были даны «Рюи Блаз» и другие драмы. Двадцать пятого февраля 1880 года во «Французской комедии» праздновали пятидесятилетний юбилей «Эрнани». Франсуа Коппе, один из лучших современных поэтов Франции, написал по этому поводу стихотворение, которое было прочитано после представления Сарою Бернар. При этом на сцене появился бюст Виктора Гюго. Публика и артисты приветствовали его восторженными криками: «Ad multos annos», «Многая лета». Через несколько дней пресса, со своей стороны, устроила чествование поэта, на котором было сказано множество приветственных речей. Виктор Гюго в своем ответе превозносил честность французской прессы и указывал на ее значение в деле умственного прогресса современной Европы. Двадцать седьмого декабря того же года поэта чествовали в Безансоне – городе, где он родился. В этом торжестве принимали участие представители французского правительства. В стену дома, где появился на свет Виктор Гюго, была вделана бронзовая доска с рельефными украшениями. На ней поставлено число и год рождения поэта. Он лично не присутствовал на безансонском торжестве.
Несмотря на свою глубокую старость, Виктор Гюго всё продолжал работать. Интересен способ и его манера писать. Прежде он для своих черновых употреблял всё, что ему попадалось под руку: клочки бумаги, визитные карточки, театральные афиши, счета... Но с 1840 года он привык пользоваться бумагою известного формата, которую покупал, а вовсе не получал в дар от щедрого торговца, как рассказывали в публике. Он всегда, по старой привычке, писал гусиными перьями, крупно и четко, иногда без всяких помарок. Все его прекрасно переплетенные рукописи оставлены им по завещанию Национальной библиотеке. За самые последние годы жизни он издал «Торквемаду», «Четыре веяния духа» («Les quatre vents de l'esprit»), третью часть «Легенды веков» и две комедии в стихах. Многие рукописи украшены рисунками. Вообще, он прекрасно рисовал: друзья его даже издали целый альбом его рисунков. Близким лицам он часто дарил на память произведения своего карандаша, очень талантливые, по отзыву знатоков.
Относительно мировоззрения Виктора Гюго под конец его жизни можно сказать, что оно выразилось вполне не только в его последних сочинениях, но и в деятельности его как сенатора. Получив это звание в 1877 году, он тотчас примкнул к крайней левой партии и в своих речах всегда стоял за амнистию, старался принести наивозможную пользу рабочему сословию, ратовал против всяких войн и приветствовал будущий, двадцатый век как эру мира и труда.
Вот что он, между прочим, говорит: «Ничто не бесполезно. Опуская глаза, мы видим, что насекомое копошится в траве; поднимая голову, мы созерцаем сияние звезд небесных. Что они делают? Одно и то же. Трудятся. Насекомое трудится на земле, звезда – на небе; бесконечное пространство разделяет и связывает их. Всё – есть бесконечность. Как же этот закон может не быть законом для человека? Он точно так же подчинен мировой силе; он вдвойне подчинен ей: телом и духом. Рука его лепит глину, душа – обнимает небо; он персть, как насекомое, и часть бесконечности, как звезда. Он трудится и мыслит. Труд – это жизнь; мысль – это свет... Будем любить тех, кто нас любит, и тех, кто нас не любит. Научимся желать добра всем. Тогда все изменится и нам откроется истина».
Двадцать седьмого февраля 1881 года Франция праздновала вступление своего поэта в восьмидесятый год жизни. Париж разукрасился, как для народного торжества. Люди съехались сюда не только из всех отечественных городов, но со всей Европы. Накануне, то есть двадцать шестого числа, Глава совета министров Жюль Ферри явился к маститому поэту со своим секретарем, чтобы поздравить его и поднести ему, от имени правительства Франции, драгоценную вазу из севрского фарфора. От себя он прибавил: «Как министр народного просвещения я тоже подумал о том, что могло вам быть всего приятнее. Вы всю вашу жизнь были апостолом милосердия,– я пожелал быть во имя вас милосердным и распорядился, чтобы на сегодня были отменены все наказания в лицеях, коллегиях и школах Франции и Алжира».
Праздник, в собственном смысле, был назначен на следующий день. Архитектор города Парижа разукрасил дом поэта сверху донизу цветами, которые почитатели его присылали отовсюду. До пятисот тысяч человек прошло процессией мимо этого дома. Всевозможные депутации подносили поэту венки с надписями и поздравительные адреса. Раньше всех явилась депутация маленьких девочек. Они несли голубое и розовое знамя с надписью: «Искусству быть дедом». Их ввели в гостиную. Виктор Гюго расцеловал за всех самую маленькую. Затем та, что несла голубое и розовое знамя, проговорила стихи Катулла Мендеса, написанные для настоящего торжества:
Nous sommes les petits pinsons, Les fauvettes au vol espiègle Qui viennent chanter des chansons A l'aigle. Il est terrible! mais très doux, Et sans que son courroux s'allume On peut fourrer sa tête sous Sa plume. (Мы, маленькие зяблики, Мы, шаловливо порхающие малиновки, Собрались петь песенки Орлу. Он страшен! Но очень смирен, И, не возбуждая его гнева, Можно спрятать головку Под его перо).Виктор Гюго был растроган до слез.
– Я счастлив,– говорил он,– очень счастлив!
Депутации муниципального совета поэт сказал следующее: «Приветствую Париж! Приветствую громадный город, приветствую его не от себя, потому что я – ничто, но от имени всего, что живет, рассуждает, мыслит, любит и надеется на земле»...
Толпа кричала: «Да здравствует Виктор Гюго! Да здравствует поэт!»
Можно по справедливости сказать, что еще ни одного человека при его жизни не чествовали так восторженно, как Виктора Гюго, и Теодор де Банвиль был прав, говоря: «Он при жизни удостоился бессмертия!»
Прошло не более четырех лет, и та же толпа, старый и малый, ученый и безграмотный, богач и бедняк, точно на богомолье шли поклониться бездыханному телу поэта, которое родная страна его почла за честь схоронить за свой счет. В завещании своем Виктор Гюго просил, чтобы его предали земле так, как это делается для бедняков,– в сосновом гробу. Просьба его была уважена: его свезли в Пантеон на той же убогой колеснице, на которой отвозят на последний покой униженных и оскорбленных, которых он защищал в течение всей своей жизни. Из своего пятимиллионного состояния, заработанного литературным трудом, он оставил около полутора миллиона бедным. Один миллион завещан на устройство приюта для нищих детей.
Был чудный солнечный день, когда более 600 тысяч человек провожали почившего поэта в его последнее жилище. Всем жителям его родного города хотелось отдать ему последний долг, но многим мешали недосуг или нездоровье. До них, в открытые окна, теплый весенний ветер доносил скорбно торжественные звуки бетховенского похоронного марша. Время от времени глухо перекатывался гром пушечного залпа. Все дома Парижа были украшены траурными, обвитыми крепом, знаменами. И таким образом Франция хоронила не героя-завоевателя, вносившего повсюду разрушение и смерть, а старца-поэта, всю жизнь стремившегося к тому, чтобы «царствовали на земле мир и в человецех благоволение».
Примечания
1
туаз – шестифутовая сажень
(обратно)
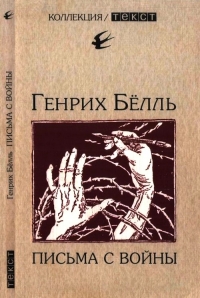
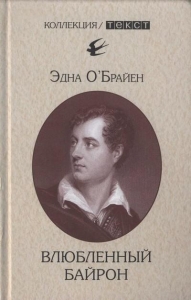



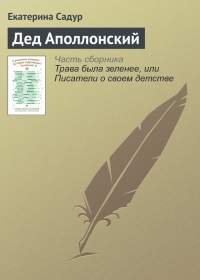
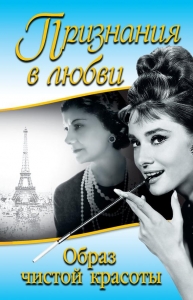
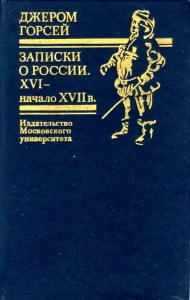
Комментарии к книге «Виктор Гюго. Его жизнь и литературная деятельность», А. Паевская
Всего 0 комментариев