Михаил Михайлович Филиппов Исаак Ньютон. Его жизнь и научная деятельность
Биографический очерк M. M. Филиппова
С портретом Ньютона, гравированным в Лейпциге Геданом
ГЛАВА I
Детство. – Неспособность ученика или учителей? – Удачный удар. – Механические изобретения: первый велосипед и бумажный змей. – Часы водяные и солнечные. – Первая, и последняя любовь. – Хозяйство и наука
В день Рождественского праздника 1642 года родился в деревушке Вульсторп в Линкольншире будущий великий ученый Исаак Ньютон. Отец его умер еще до рождения сына. Мать Ньютона, урожденная Айскоф, вскоре после смерти мужа преждевременно родила, и новорожденный Исаак был поразительно мал и хил. Впоследствии сам Ньютон рассказывал: “По словам матери, я родился таким маленьким, что меня можно было бы выкупать в большой пивной кружке”. Думали, что младенец не выживет: две женщины, посланные за лекарством к некоей леди Пэкингем, не надеялись застать ребенка живым. Ньютон, однако, дожил до глубокой старости и всегда, за исключением кратковременных расстройств и одной серьезной болезни, отличался хорошим здоровьем.
Местность, в которой Ньютон родился и провел детство, принадлежит к самым здоровым и живописным в Англии. Небольшой двухэтажный домик, сохранившийся до нашего времени, находится в прекрасно расположенной долине, где бьют ключи чрезвычайно чистой воды. Незначительный спуск ведет к речке Уитам; из окон домика открывается живописный вид.
По имущественному положению семья Ньютонов принадлежала к числу фермеров средней руки: две маленькие фермы приносили доход в восемьсот рублей. При тогдашней дешевизне этого было вполне достаточно для безбедного существования.
Первые три года жизни маленький Исаак провел исключительно на попечении у матери; но, выйдя вторично замуж за священника Смита, мать поручила ребенка бабушке, своей матери. Когда Исаак подрос, его устроили в начальную школу. По достижении двенадцатилетнего возраста мальчик начал посещать общественную школу в Грантэме. Его поместили на квартиру к аптекарю Кларку, где он прожил с перерывами около шести лег. Жизнь у аптекаря впервые возбудила в нем охоту к занятиям химией; что касается школьной науки, она не давалась Ньютону. По всей вероятности, главная вина в этом случае должна быть отнесена на счет неспособности учителей. Рассказ о том, как Ньютон из последнего ученика стал первым, был сохранен для потомства самим Ньютоном, а потому заслуживает внимания. Один из школьников, учившийся гораздо лучше Ньютона и превосходивший его силою, нанес однажды Ньютону жестокий удар кулаком в живот. Мальчик стал придумывать, чем бы отомстить обидчику, и наконец изобрел месть самую благородную: он стал усиленно заниматься, обогнал обидчика и вскоре сделался первым учеником.
По всему видно, что Ньютон, выйдя из простой, здоровой сельской семьи, был плохо подготовлен к школьной науке, но еще в раннем детстве обнаруживал склонность к серьезным занятиям, хотя и не таким, которые требовались в школе. С детства будущий ученый любил сооружать разные механические приспособления – и навсегда остался прежде всего механиком. Находясь в Грантэме, Ньютон в свободное время редко играл с другими мальчиками: он предпочитал присматриваться к работе плотников или осматривал мельничные механизмы, стараясь сделать модель. Юный самоучка добыл себе маленькие пилы, молотки, долота и стал сооружать довольно сложные механизмы. Он построил маленькую ветряную мельницу, возбуждавшую всеобщее восхищение. Такие модели, однако, часто сооружаются деревенскими мальчиками, впоследствии не обнаруживающими особых способностей: подражать еще не значит создавать.
Более важны поэтому указания на механизмы, самостоятельно изобретенные Ньютоном. Так, будучи мальчиком лет четырнадцати, он изобрел водяные часы и род самоката (велосипеда). Это показывает, что если Ньютон в школьный период жизни не обнаруживал той совершенно исключительной преждевременности развития, какою отличался, например, Паскаль, то во всяком случае способности его были далеко выше обыкновенных и не замечались, быть может, только его школьными учителями. В семье Кларков, например, Ньютона не только все любили, но также считали необыкновенно умным и способным мальчиком. Сверх того, он доставлял всем много развлечений. Сделав модель ветряной мельницы, Ньютон не удовольствовался этим, но вздумал устроить нечто своеобразное. Вместо ветра мельницу должен был двигать живой мельник – эту роль Ньютон предназначил мыши, которая двигала колесо. Чтобы заставить мышь взбираться по колесу и тем приводить его в движение, он повесил над колесом мешочек с зерном.
Из названных изобретений Ньютона особенно любопытны его водяные часы, которые были настолько верны, что семейство аптекаря пользовалось ими. Ньютон выпросил у брата миссис Кларк большой ящик, послуживший вместилищем для механизма. Часовая стрелка приводилась в движение колесом, которое вращалось от действия деревяшки, а эта последняя колебалась от падения на нее крупных капель воды. Впоследствии, уже будучи знаменитым ученым, Ньютон завел однажды разговор об этих часах и сказал: “Главное неудобство этого рода механизмов состоит в том, что воду необходимо пропускать через весьма узкое отверстие, и оно легко засоряется, вследствие чего правильность хода мало-помалу нарушается”. Но для мальчика и такое несовершенное изобретение было прекрасным. Ньютон поставил часы в своей комнате и каждое утро сам наливал в них воду. Что касается изобретенного им самоката, – это была тележка вроде дрезин, употребляемых на железных дорогах: сидевший в тележке человек, действуя на рукоять, приводил в движение колеса. Неудобство такого самоката состояло в том, что он мог двигаться лишь по гладкой поверхности. Но все же это изобретение доказывает огромные строительные способности Ньютона: стоит вспомнить, сколько механиков-самоучек сошло с ума, прежде чем был наконец придуман настоящий велосипед.
Даже в играх и забавах с товарищами Ньютон проявлял не совсем обыкновенную изобретательность. Уверяют, что он первый, – по крайней мере, в Англии – придумал пускать бумажных змеев, причем много занимался вопросом о придании им формы, наиболее выгодной для полета. Вообще Ньютон не любил пустых забав. Самое большее, что он позволял себе, это пускать в ночное время своих змеев, прикрепляя к ним светящиеся фонарики. И сельские жители нередко принимали их за кометы.
Живя у аптекаря Кларка, Ньютон вращался по преимуществу в кругу девочек приблизительно одного с ним возраста. Общество девиц он предпочитал обществу буйных товарищей: мастерил для своих знакомых девочек столики, шкатулки и тому подобное и был общим их любимцем. Из всех девиц ему особенно понравилась мисс Сторей, сестра местного врача, бывшая годами двумя моложе его и также проживавшая в семье аптекаря. Мало-помалу детская привязанность превратилась в сильное чувство, но крайняя молодость и бедность обоих влюбленных послужили препятствием к браку, а позднее Ньютон слишком увлекся наукой, чтобы мечтать о семейном счастье. Впоследствии мисс Сторей была два раза замужем. Ньютон, однако, до глубокой старости не забыл о своей первой и единственной любви. Всякий раз, когда ему случалось бывать в Линкольншире, он непременно навещал бывшую мисс Сторей и, зная ее трудные денежные обстоятельства, постоянно помогал ей. Мисс Сторей, уже будучи восьмидесятилетней миссис Винсент, в свою очередь, говорила о Ньютоне не иначе как с восторгом и любила вспоминать о молодых годах.
В юности Ньютон любил живопись, поэзию и даже писал стихи. Стены комнаты, которую он занимал у аптекаря, были украшены рисунками углем, весьма верно изображавшими птиц, зверей, людей, корабли. Сверх того, у Ньютона висели чертежи математических фигур и картинки, писанные им самим акварелью, частью снимки с картин, бывших у Кларка, частью же с натуры. Между прочим, Ньютон нарисовал портреты одного доктора и одного из своих учителей, а также рисунок, изображавший короля Карла I. Под этим рисунком он написал стихотворение собственного сочинения. Мисс Сторей знала эти стихи наизусть и помнила их до глубокой старости. По форме и содержанию они весьма недурны, но их, однако, надо отнести скорее к личности самого автора, чем к судьбе казненного короля. В стихотворении сказано, что есть “три венца”. Один венец – земной. “Он тяжел, но в нем я вижу только суету; он лежит у ног моих, и я его презираю”. Другой венец – терновый. “Его я беру с радостью”, – говорит юный поэт, быть может, столько же под впечатлением любви к мисс Сторей, сколько под влиянием толков о Карле I. “Остры шипы этого венца, – продолжает он, – но в подобном страдании мук меньше, чем сладости”. Это уж, без сомнения, относится не к Карлу I. Третий венец – венец славы. “Я вижу его вдали”, – восклицает юноша, как бы предсказывая свое будущее величие. “Этот венец полон благословения; это венец бессмертия”.
В 1656 году, то есть когда Ньютону было лишь четырнадцать лет, умер его отчим, священник Смит. Вторично овдовев, мать его должна была оставить священнический дом и снова поселилась в своем вульсторпском домике. От второго мужа у нее были две девочки и мальчик, не проявившие особых способностей. Из этого нельзя еще вывести, что влияние наследственности проявилось у Ньютона с отцовской стороны, так как об отце его и вообще о его предках почти ничего не известно. Сам Ньютон полагал, впрочем на основании довольно смутных семейных преданий, что по отцовской линии он происходил от одного шотландского дворянина.
Хотя национальность дается не только отцом, но и матерью, и не только происхождением, но и общественной средой, все же подтверждение этого факта было бы любопытно ввиду высказанного, между прочим, Боклем мнения о различии между индуктивным английским умом и дедуктивным – шотландским. По нашему мнению, Ньютон был одинаково силен и в индукции, и в дедукции, что по теории Бокля объясняется его смешанным англо-шотландским происхождением. Мы, однако, склоняемся к тому, что национальные особенности в области научного мышления (существование их несомненно) всегда перевешиваются особенностями индивидуальными, и притом тем более, чем выше этот индивидуальный ум.
Кто бы ни были отдаленные предки Ньютона, ближайшими его родственниками являются такие же простые и бедные фермеры, как его отец и мать. Один из двоюродных братьев Ньютона – простой плотник по имени Джон – и позднее, когда Ньютон стал уже знаменит, служил у него чем-то вроде егеря или лесничего. Сын этого Джона считался одним из наследников Ньютона и прославился разве тем, что был отчаянным мотом и пьяницей, да еще своеобразной смертью: напившись пьян и держа трубку во рту, он упал так неловко, что мундштук проник ему в глотку и он тут же умер. Сведения о родственниках Ньютона не дают ни малейшего ключа к выяснению вопроса, какую роль играла наследственность в появлении такого необыкновенного гения. Не следует, однако, забывать, что вопрос об индивидуальности выяснен еще менее, чем вопрос о наследственности, а между тем самой характерной чертой гения является именно своеобразность, полнота, разносторонность и целостность индивидуального развития. Впредь до разъяснения вопроса об индивидуальности даже самое точное установление наследственных черт разрешает лишь ничтожную часть загадки.
О матери Ньютона известно также немногое. Изменившиеся семейные обстоятельства заставили ее на время отвлечь сына от занятий. Ей понадобился хозяин и работник для ее маленькой фермы. Сверх того, Ньютон достиг пятнадцатилетнего возраста, и мать решила, что он довольно учен, тем более что за школу и квартиру приходилось платить, а жизнь была тяжела. Чтобы приучить сына к хозяйству, мать стала посылать его каждую субботу в Грантэм вместо школы на рынок, для продажи сельскохозяйственных продуктов; но ввиду неопытности Ньютона его сопровождал старый слуга. Этого только и надо было Ньютону. Когда их тележка останавливалась у заезжего двора под вывескою “Голова сарацина”, юноша немедленно оставлял своего спутника, предоставляя ему продавать и покупать, а сам бежал к аптекарю Кларку, куда его привлекали старые запыленные книги аптекаря и молоденькое, свежее личико мисс Сторей. Ньютон преспокойно оставался у аптекаря, пока наконец не являлся старый верный слуга, объявляя решительно, что пора ехать домой. Иногда, впрочем, случалось, что Ньютон дезертировал еще в начале дороги. Спрыгнув с тележки и спрятавшись где-нибудь под плетнем, он лежал и читал, ожидая возвращения слуги. Не лучше шли дела на самой ферме. Ньютон, правда, устраивал водяные колеса, чертил солнечные часы и усердно читал книги; но когда ему поручали смотреть за скотом, юноша делал это так невнимательно, что в его присутствии скот преспокойно поедал вместо травы пшеницу. Наконец мать Ньютона поняла, что сын не годится для хозяйства, и решила отослать его обратно в Грантэм учиться.
Из всех близких родственников Ньютона самым образованным был его дядя, брат матери, священник Айскоф, кончивший курс в коллегии Троицы, в Кембридже. Он посоветовал племяннику поступить туда и убедил сестру не препятствовать этому.
Предварительно Ньютон возвратился к аптекарю Кларку и прожил у него еще некоторое время, усердно готовясь к университетским занятиям. Впрочем, он не оставлял и своих любимых развлечений. Недовольный водяными часами, Ньютон стал устраивать солнечные: одни он начертил еще в Вульсторпе на стене материнского домика, другие устроил в Грантэме. Этими последними пользовались в ярмарочные дни приезжие крестьяне.
Путешествие в Кембридж было первым поворотным пунктом в жизни Ньютона.
ГЛАВА II
Первые научные открытия Ньютона. – Он поправляет трактат своего учителя. – Открытие свойств спектра. – Теория истечения и мысли Ньютона об эфире
Ньютон прибыл в Кембридж с довольно незначительным научным багажом, но его ум давно уже привык к серьезному и, главное, самостоятельному мышлению.
5 июня 1660 года, когда Ньютону еще не исполнилось восемнадцати лет, он был принят в коллегию Троицы. Кембриджский университет был в то время одним из лучших в Европе: здесь одинаково процветали науки филологические и математические. Ньютон обратил главное внимание на математику, не столько ради самой этой науки, с которой был еще мало знаком, сколько потому, что наслышался об астрологии и хотел проверить, стоит ли заниматься этою таинственною премудростью? Здравый смысл и гений Ньютона вскоре привели его к выводу, что астрология вовсе не наука, а занятие совершенно праздное. По его словам, в нелепости этой мнимой науки он убедился тотчас же, как только построил несколько астрологических фигур с помощью двух-трех теорем Евклида, то есть когда увидел, что магические свойства этих фигур объясняются весьма просто геометрически. Геометрия Евклида показалась Ньютону собранием истин настолько очевидных, что он не дал себе труда заняться основательным изучением ее и почти без всякой предварительной подготовки взялся за аналитическую геометрию Декарта. Впоследствии Ньютон считал весьма существенным пробелом такое пренебрежение к геометрии древних. Уже будучи стариком, он сказал однажды доктору Пембертону: “Чрезвычайно сожалею о том, что я взялся за труды Декарта и других алгебраистов прежде, чем изучил “Начала” Евклида со всем тем вниманием, которого заслуживает этот превосходный писатель”. Кроме “Геометрии” Декарта, Ньютон основательно изучил “Арифметику бесконечных величин” доктора Валлиса – замечательное сочинение, значительно подготовившее открытие анализа бесконечно малых (дифференциального исчисления, открытого Ньютоном и Лейбницем). Сверх того, Ньютон занялся “Логикой” Сандерсона и “Оптикой” Кеплера. Выбор книг свидетельствует, что у Ньютона были хорошие руководители – и прежде всего им руководил собственный верный взгляд. Говорят, что в первые же годы учения Ньютон по многим вопросам обогнал своего наставника. Читая книги, Ньютон составлял заметки о прочитанном, но не в виде выписок – любимое занятие талантливых посредственностей, – а стараясь развить то или другое положение, обратившее на себя его внимание. Так, изучая алгебру Валлиса, он изобрел свой знаменитый бином, причем мотивом послужило желание усовершенствовать найденный им у Валлиса способ интерполяции (так называют вставки неизвестных членов математического ряда).
О первых трех годах пребывания Ньютона в Кембридже известно немногое. Судя по книгам университета, в 1661 году он был “субсайзером”. Так назывались бедные студенты, не имевшие средств платить за учение и еще недостаточно подготовленные к слушанию настоящего университетского курса. Они посещали некоторые лекции и вместе с тем должны были прислуживать более богатым. Только в 1664 году Ньютон стал настоящим студентом; в 1665 он получил степень бакалавра изящных искусств (словесных наук). Единственное сведение, которое сохранилось о занятиях Ньютона в те годы, состоит в том, что в 1664 году он купил призму; такое приобретение при его малых средствах и дороговизне стеклянных изделий в XVII веке было для Ньютона событием.
Довольно трудно решить вопрос, к какому времени относятся первые научные открытия Ньютона. Брюстер полагает, что удачные опыты над разложением световых лучей призмою были сделаны Ньютоном в 1666 году. Это мнение подтверждается самим Ньютоном в письме его к Ольденбургу, где прямо указан год.
Познакомившись с трудами Кеплера, Декарта и своего учителя Барроу, Ньютон как ум вполне независимый никому не поверил на слово. Сохранились сведения, что упомянутая покупка Ньютоном призмы в 1664 году была сделана главным образом с целью проверить учение Декарта, имевшее наиболее философскую и законченную форму. Декарт, как известно, объяснял все при помощи своих вихрей. Племянник Ньютона, Кондуит, вероятно со слов самого Ньютона, утверждает, что его дядя “весьма скоро выработал собственные взгляды на эти вопросы и признал учение Декарта ложным”. Еще менее он мог усвоить взгляды своего учителя Барроу, который утверждал, например, следующее: “Красный цвет есть испускание света более яркого, чем обыкновенный, но прерванного промежутками тени”.
Как видно из слов Ньютона, его оптические исследования первоначально имели тесную связь с практической астрономией. В начале 1666 года он много работал над шлифовкою увеличительных стекол и зеркал. Эти работы познакомили его опытным путем с основными законами отражения и преломления, с которыми он был уже теоретически знаком по трактатам Декарта и Джемса Грегори. Декарт еще в 1629 году выяснил ход лучей в призме и в стеклах различной формы; он даже придумал механизмы для полировки стекол. Современник Ньютона шотландский профессор Грегори построил модель замечательного для своего времени телескопа, основанного на теории вогнутых зеркал. До того времени удавалось лишь устройство преломляющих телескопов (рефракторов); теорию их дал Декарт, а Гюйгенс сумел соорудить великолепный инструмент, далеко оставивший за собою первые попытки Галилея и позволивший своему изобретателю открыть кольца и спутники Сатурна. Таким образом, еще до Ньютона практическая оптика достигла значительной степени совершенства и была одною из наук, наиболее занимавших тогдашний ученый мир.
Зато теория преломления весьма мало подвинулась со времен Декарта, открывшего основной закон, которым устанавливается известная зависимость между углом падения и утлом преломления, то есть разрешившего геометрическую часть вопроса. О цветах радуги и цветах тел существовали весьма сбивчивые понятия: почти все тогдашние ученые ограничивались утверждением, что тот или иной цвет представляет либо “смешение света с тьмою”, либо соединение других цветов. Само собою разумеется, что такой очевидный факт, как радужное окрашивание, наблюдаемое при рассматривании предметов сквозь призму или сквозь плохое оптическое стекло, был слишком известен всем, занимавшимся оптикою, и к уничтожению этого окрашивания прилагались все усилия техники, хотя еще не была понята его истинная причина. Но все были твердо убеждены в том, что всякого рода лучи при прохождении сквозь призму или сквозь увеличительное стекло преломляются совершенно одинаково. Окрашивание и радужные каймы приписывали исключительно неправильностям поверхности призмы или стекла и воображали, что эти явления можно было бы уничтожить, если бы призма имела математически плоские или гладкие грани.
Работы Ньютона были на время прерваны появлением в Кембридже какой-то эпидемии, заставившей его уехать в свой родной Вульсторп. По возвращении в Кембридж он достал хорошую трехгранную призму и после некоторых попыток придумал следующий опыт: просверлив малое отверстие в оконной ставне, он пропустил сквозь него солнечные лучи и изолировал таким образом пучок лучей в темной комнате; мысль совершенно правильная, потому что при наблюдении массы света явления стушевываются. Это был уже первый шаг к анализу света.
Поставив призму так, что одна из ее граней была почти горизонтальна, и пропустив пучок лучей сквозь боковые грани, Ньютон увидел на противоположной стене продолговатую радужную фигуру, или спектр, который в его опыте имел длину в пять раз больше ширины. Такого отчетливого и прекрасного явления нельзя было получить иначе, как с тонким пучком лучей и в темной комнате, и первое впечатление, испытанное Ньютоном, было чисто эстетического характера. “Чрезвычайно приятное развлечение, – пишет Ньютон, – доставил мне вид этих чистых и ярких цветов”. Физика и даже математика имеют свою художественную сторону.
За эстетическим впечатлением последовал научный анализ явления. По тогдашним теориям все лучи должны были преломиться одинаково; каким же образом цилиндрический пучок лучей, пройдя сквозь призму, дал вместо круглого или чуть-чуть овального вследствие некоторого наклона лучей такое изображение, которое представляло эллипс чрезвычайно вытянутый, похожий скорее на полосу, чем на круг? Очевидно, что лучи, вместо того чтобы оставаться параллельными, сильно разошлись между собой. Но одна геометрия не объясняла дела: надо было искать физического объяснения явления. Не происходит ли оно оттого, что солнечный диск (круг) дает различные лучи, смотря по тому, исходят ли они из середины или с краев диска? Ньютон легко убедился, что это геометрическое объяснение неосновательно. Вычисление показало ему, что солнечный диск, видимый с земли под углом немногим более половины градуса, не мог повлиять на расхождение лучей, составлявшее в его опыте более двух с половиной градусов. “Любопытство побудило меня опять взять призму, – рассказывает Ньютон. – Я стал тогда подозревать, что лучи после прохода сквозь призму искривляются”. Проверив это опытом, он, однако, увидел, что лучи хотя и расходятся, но идут прямолинейно. В этом он легко убедился, изменяя расстояние между доской (экраном), на которой воспринимал спектр, и отверстием в ставне. Оказалось, что длина спектра при двойном удалении экрана увеличивается ровно вдвое и так далее, то есть соответствует законам прямолинейной перспективы; ясно, что лучи вовсе не искривляются.
Разные неосновательные “подозрения” – так называл Ньютон свои гипотезы – навели его наконец на мысль сделать следующий опыт. Подобно тому, как в начале своего анализа он уединил тонкий пучок белых солнечных лучей, так теперь ему пришла на ум мысль уединить часть преломленных лучей. Это был второй и важнейший шаг в деле анализа спектра. Заметив, что в его опыте фиолетовая часть спектра всегда была наверху, ниже синяя и так далее до нижней красной, Ньютон попытался уединить лучи одного какого-нибудь цвета и исследовать их отдельно. Взяв дощечку с весьма малым отверстием, Ньютон приложил ее к той поверхности призмы, которая обращена к экрану, и, прижимая к призме, передвигал то вверх, то вниз, причем без труда достиг уединения одноцветных, например одних красных, лучей, прошедших сквозь малое отверстие в дощечке. Новый, еще более тонкий пучок чисто красных лучей подлежал дальнейшему исследованию. Пропустив красные лучи сквозь вторую призму, Ньютон увидел, что они снова преломляются, но на этот раз все почти одинаково. Ньютон думал даже, что совсем одинаково, то есть считал одноцветные лучи вполне однородными. Повторив опыт над желтыми, фиолетовыми и всеми остальными лучами, он наконец понял главную особенность, отличающую те или иные лучи от лучей другого цвета. Пропуская сквозь одну и ту же призму то одни красные лучи, то одни фиолетовые и так далее, он окончательно убедился, что белый свет состоит из лучей разной преломляемости и что степень преломляемости находится в тесной связи с качеством лучей, именно с их цветом. Оказалось, что красные лучи наименее преломляемы и так далее до наиболее преломляемых – фиолетовых.
Открытие различной преломляемости лучей и составляет капитальный результат анализа, произведенного Ньютоном, результат, подтвержденный всеми позднейшими исследованиями и послуживший исходным пунктом целого ряда научных открытий. Ньютон ошибался в частностях и не мог, конечно, предвидеть всех позднейших выводов. Но ему принадлежит честь основного анализа, доказавшего, что качественные различия лучей зависят от различий, доступных точному количественному измерению, а такое приведение качества к количеству всегда составляет огромный шаг вперед в науке. Дальнейшее развитие идеи Ньютона привело в новейшее время к открытию так называемого спектрального анализа, сделанному гейдельбергскими учеными Бунзеном и Кирхгофом. В самом измерении преломляемости лучей сделаны огромные успехи, да и теория преломления совершенно изменилась благодаря тому, что одержало верх учение о волнообразном движении эфира, которое Ньютон горячо оспаривал.
Ньютон нередко утверждал с большой настойчивостью, что он “не сочиняет гипотез” (“Hypotheses non fingo” – знаменитое изречение, попавшее даже в его “Principia”). Но таково уж свойство человеческого ума, что мысль всегда забегает дальше факта и даже опыт всегда является проверкою какой-нибудь гипотезы.
Самое простое и, по-видимому, естественное представление о свете состоит в том, что свет есть некоторое вещество. Несомненно, что движение частичек светящегося, то есть испускающего лучи тела играет огромную роль в световых явлениях и даже определяет их: помимо горения или других подобных явлений не может быть света; горение того или иного вещества определяет преломляемость, а стало быть, и цвет и другие качественные особенности лучей, исходящих из пламени. Но это влияние вещества на свойства света вовсе еще не доказывает, что свет распространяемся в пространстве посредством истечения весьма малых светящихся частичек, как учит так называемая теория истечения, подробно развитая Ньютоном. При ближайшем рассмотрении эта теория, наоборот, оказывается весьма маловероятною. Чрезвычайно трудно допустить, чтобы даже мельчайшие частицы вещества могли двигаться с такою чудовищною скоростью, какая необходима для объяснения действительной скорости распространения света. Непонятно также, как все эти бесчисленные массы светящихся частиц, совершающих чудовищную пляску, могут давать сколько-нибудь правильные явления. Наконец многие хорошо изученные явления показывают, что гораздо правдоподобнее другая гипотеза, приписывающая передачу света свойствам особой среды. Так, сравнение со звуком напрашивается само собою. Когда, например, звучит камертон, то очевидно, что звук не передается носящимися по воздуху звучащими частичками, отрывающимися от камертона, но передача происходит через воздух. Это доказывает прямой опыт, так как в безвоздушном пространстве дрожание камертона не дает звука. По аналогии можно предположить, что и свет передается при помощи некоторого вещества, еще более упругого и подвижного, чем воздух. Это гипотетическое вещество названо эфиром. Нельзя с уверенностью утверждать, составляет ли эфир нечто совершенно разнородное с обыкновенной материей или только является особым состоянием вещества, отличающимся от газообразного состояния настолько же, насколько это последнее отличается от твердого: пока не будет доказана возможность превращения обыкновенной материи в эфир и обратно, до тех пор более вероятною остается гипотеза двойственности, дуализма материального мира.
Нельзя сказать, чтобы Ньютону было чуждо понятие эфира. Наоборот, он неоднократно рассуждал об эфирной гипотезе, то отвергал, то принимал ее, но ни в том, ни в другом случае не соглашался допустить, чтобы свет происходил от волнообразного движения эфира или хотя бы обыкновенной материи. Ясно, что он отвергал не столько эфир, сколько самый характер движения, то есть уподобление световых явлений звуку или движению кругов на поверхности воды, в которую брошен камень. Конечно, такой сильный ум не мог отвергать заманчивых и блестящих обобщений без всякого основания, и Ньютон в своем отрицании указывал на слабые стороны противного учения, чем немало способствовал его усовершенствованию и окончательному торжеству.
Дальнейшее развитие теорий Ньютона и его борьба с противными учениями относятся, однако, к более позднему времени. С целью выяснения последовательного развития идей Ньютона необходимо сначала рассмотреть его наиболее ранние исследования и открытия в других областях физики и математики.
ГЛАВА III
Знаменитое яблоко. – Действительная история идеи всемирного тяготения. – Предшественники Ньютона: Кеплер, Джильберт, Гук. – Математическая подготовка. – Бином Ньютона и теория бесконечно малых. – История дифференциального исчисления
В 1666 году в Кембридже появилась какая-то эпидемия, которую по тогдашнему обычаю сочли чумой, и Ньютон удалился в свой Вульсторп. Здесь в деревенской тиши, не имея под рукой ни книг, ни приборов, живя почти отшельнической жизнью, двадцатичетырехлетний Ньютон предался глубоким философским размышлениям. Плодом их было гениальнейшее из его открытий – учение о всемирном тяготении.
Был летний день. Ньютон любил размышлять, сидя в саду, на открытом воздухе. Предание сообщает, что размышления Ньютона были прерваны падением налившегося яблока. Знаменитая яблоня долго хранилась в назидание потомству и лишь в нашем столетии засохла, была срублена и превращена в исторический памятник в виде скамьи.
Ньютон давно размышлял о законах падения тел, и весьма возможно, что в частности падение яблока опять навело его на размышления. Говорят, что от мыслей, внушенных этим падением, Ньютон перешел к вопросу: везде ли на земном шаре падение тел происходит одинаково? Так, например, можно ли утверждать, что в высоких горах тела падают с такою же скоростью, как и в глубоких шахтах?
Мысль, что тела падают на землю вследствие притяжения их земным шаром, была далеко не нова: это знали еще древние, например Платон. Но как измерить силу этого притяжения? Везде ли на земном шаре оно одинаково и как далеко оно простирается? Вот вопросы, которые до Ньютона смущали ученых и философов, не приводя к какому-либо точному количественному результату. Размышляя о падении тел на землю и делая все более и более широкие обобщения, Ньютон поставил вопрос: не простирается ли земное притяжение далеко за пределы атмосферы, например, до самой Луны, и не есть ли движение Луны явление вполне аналогичное падению хотя бы яблока? Вот основная мысль, пришедшая Ньютону в достопамятное лето 1666 года. Необходимо было ее проверить и доказать математически. Для этого надо было еще открыть основную формулу, математический закон движения.
Каким образом открыл Ньютон этот закон, для которого аналогия с падением яблока уже не могла иметь никакого значения? Сам Ньютон писал много лет спустя, что математическую формулу, выражающую Закон всемирного тяготения, он вывел из изучения знаменитых законов Кеплера. Возможно, однако, что его работу в этом направлении значительно ускорили исследования, производившиеся им в области оптики. Закон, которым определяется “сила света” или “степень освещения” данной поверхности, весьма схож с математической формулой тяготения. Простые геометрические соображения и прямой опыт показывают, что при удалении, например, листа бумаги от свечи на двойное расстояние, степень освещения поверхности бумаги уменьшается, и притом не вдвое, а в четыре раза, при тройном расстоянии – в девять раз и так далее. Это и есть закон, который во времена Ньютона называли кратко законом “квадратной пропорции”; выражаясь точнее, следует сказать, что “сила света обратно пропорциональна квадратам расстояний”. Весьма естественно для такого ума, как Ньютон, было попытаться приложить этот закон к теории тяготения.
Раз напав на мысль, что притяжение Луны Землею определяет движение земного спутника, Ньютон неминуемо пришел к подобной же гипотезе относительно движения планет вокруг Солнца. Но ум его не довольствовался непроверенными гипотезами. Он стал вычислять, и понадобились десятки лет для того, чтобы его предположения превратились в грандиознейшую систему мироздания.
Чтобы понять все значение основной мысли Ньютона, необходимо напомнить хотя бы в самых общих чертах, в каком положении находилась небесная механика до Ньютона. За сто лет до его рождения Коперник, умирая, успел подержать в руках только что отпечатанный экземпляр своей книги “О движениях небесных тел”. В этой книге была разрушена теория древних, заставлявших Солнце вращаться вокруг Земли: оно было сделано центром всей планетной системы. Эта книга была плодом тридцатишестилетних вычислений и наблюдений. Датский астроном Тихо Браге хотя и мало подвинул теорию Коперника, однако много содействовал ее установлению своими чрезвычайно тщательными наблюдениями. Великий Галилей, умерший за год до рождения Ньютона, пострадал за защиту учения Коперника против фанатиков и суеверов и своими научными исследованиями падения тел значительно развил и расширил научную механику. Кеплер, соединявший крупный математический талант с изумительным трудолюбием и фантазией поэта, в течение семнадцати лет изучал движения планеты Марс и почти ощупью искал законы этого движения. После бесчисленных неудачных попыток он установил свои знаменитые законы эллиптического движения, показав, что планеты движутся по эллипсам, что Солнце находится в фокусе этих эллипсов и что между временем обращения и средним расстоянием планет от Солнца существует весьма простая математическая зависимость.
Эти законы уже дали эмпирически построенный план мироздания. Открыв свой третий закон, Кеплер пришел в такое восторженное состояние, что ему показалось, будто он бредит. К своим открытиям он отнесся как поэт. Вселенная представилась ему стройной гармонией. В 1619 году Кеплер издал знаменитую “Гармонию мироздания”, в которой был на расстоянии одного шага от открытия Ньютона и все-таки не сделал его. Мало того что Кеплер приписывал движения планет некоторому взаимному притяжению, он даже готов был принять закон “квадратной пропорции” (то есть действия, обратно пропорционального квадратам расстояний), однако вскоре отказался от него и вместо этого предположил, что притяжение обратно пропорционально не квадратам расстояний, а самим расстояниям. В трактате о движении планеты Марс Кеплер говорит, что несомненно между планетами должно существовать притяжение. Он утверждал также, что приливы зависят от лунного притяжения и что неправильности в движениях Луны, открытые Тихо Браге, обусловливаются совместным действием Солнца и Земли. При всем том, Кеплеру не удалось установить механических начал им же открытых законов планетного движения. Непосредственными предшественниками Ньютона в этой области были его соотечественники Джильберт и в особенности Гук. В 1660 году Джильберт издал книгу “О магните”, в которой сравнивал действие Земли на Луну с действием магнита на железо. В другом сочинении Джильберта, напечатанном уже по его смерти, сказано, что Земля и Луна влияют друг на друга как два магнита, и притом пропорционально своим массам. Но всего ближе к истине подошел Роберт Гук, современник и соперник Ньютона. 21 марта 1666 года, то есть незадолго до того времени, когда Ньютон впервые глубоко вник в тайны небесной механики, Гук прочел на заседании Лондонского королевского общества отчет о своих опытах над изменением силы тяжести в зависимости от расстояния падающего тела относительно центра Земли. Сознавая неудовлетворительность своих первых опытов, Гук придумал измерять силу тяжести посредством качания маятника – мысль в высшей степени остроумная и плодотворная. Два месяца спустя Гук сообщил в том же обществе, что сила, удерживающая планеты в их орбитах, должна быть подобна той, которая производит круговое движение маятника. Значительно позднее, когда Ньютон уже готовил к печати свой великий труд, Гук независимо от Ньютона пришел к мысли, что “сила, управляющая движением планет”, должна изменяться в “некоторой зависимости от расстояний”, и заявил, что “построит целую систему мироздания”, основанную на этом начале. Но здесь-то и обнаружилось различие между талантом и гением. Счастливые мысли Гука так и остались в зачаточном состоянии: у Гука не хватило сил справиться со своими гипотезами, и слава открытия всемирного тяготения досталась и должна была достаться Ньютону.
Ньютон никогда не мог бы развить и доказать своей гениальной идеи, если бы не обладал могущественным математическим методом, которого не знал ни Гук, ни кто-либо иной из предшественников Ньютона. Мы говорим об анализе бесконечно малых величин, известном теперь под именем дифференциального и интегрального исчислений.
Задолго до Ньютона многие философы и математики занимались вопросом о бесконечно малых, но ограничились лишь самыми элементарными выводами. Еще древние греки употребляли в геометрических исследованиях способ пределов, посредством которого вычисляли, например, площадь круга. Особенное развитие дал этому способу величайший математик древности Архимед, открывший с его помощью множество замечательных теорем. Кеплер и в этом отношении ближе всех подошел к открытию Ньютона. По случаю чисто житейского спора между покупщиком и продавцом из-за нескольких кружек вина Кеплер занялся геометрическим определением емкости бочкообразных тел. В этих исследованиях видно уже весьма отчетливое представление о бесконечно малых. Так, Кеплер рассматривал площадь круга как сумму бесчисленных весьма малых треугольников или, точнее, как предел такой суммы. Позднее тем же вопросом занялся итальянский математик Кавальери. В особенности много сделали в этой области французские математики XVII века Роберваль, Ферма и Паскаль. Но только Ньютон и несколько позднее Лейбниц создали настоящий метод, давший огромный толчок всем отраслям математических наук.
По замечанию Огюста Конта, дифференциальное исчисление, или анализ бесконечно малых величин, есть мост, перекинутый между конечным и бесконечным, между человеком и природой: глубокое познание законов природы невозможно при помощи одного грубого анализа конечных величин, потому что в природе на каждом шагу – бесконечное, непрерывное, изменяющееся.
Ньютон создал свой метод, опираясь на прежние открытия, сделанные им в области анализа, но в самом главном вопросе он обратился к помощи геометрии и механики.
Когда именно Ньютон открыл свой новый метод, в точности неизвестно. По тесной связи этого способа с теорией тяготения следует думать, что он был выработан Ньютоном между 1666 и 1669 годами и во всяком случае раньше первых открытий, сделанных в этой области Лейбницем.
ГЛАВА IV
Отражательный телескоп. – Избрание в члены Королевского общества. – Дальнейшие работы по оптике. – Полемика. – Ошибки Ньютона: ахроматизм и теория волнообразного движения. – Исследование мыльных пузырей. – Теория “фазисов легкого отражения и преломления”
Возвратившись в Кембридж, Ньютон занялся научною и преподавательскою деятельностью. С 1669 по·1671 год он читал лекции, в которых излагал свои главные открытия относительно анализа световых лучей; но ни одна из его научных работ еще не была опубликована. Ньютон все еще продолжал работать над усовершенствованием оптических зеркал. Отражательный телескоп Грегори с отверстием в середине объективного зеркала не удовлетворял Ньютона. “Невыгоды этого телескопа, – говорит он, – показались мне весьма значительными, и я счел необходимым изменить конструкцию, поставив окуляр сбоку трубы”.
Известно, что изобретение телескопа как научного прибора, а не игрушки, было сделано Галилеем в том самом году (1609), когда явилась в печати “Новая астрономия” Кеплера. Узнав от своих парижских друзей об игрушке, изобретенной голландцем Янсенсом для принца Морица, Галилей тотчас догадался, каков принцип этой конструкции, и, так сказать, переоткрыл его вновь. Восторженные отзывы Галилея о первых построенных им телескопах весьма характерны. “Мне удалось наконец, – восклицает он, – соорудить столь превосходный инструмент, что в него можно видеть предметы в тысячу раз большими и в тридцать раз приближенными по сравнению с простым глазом”. Понятие об увеличении выражено здесь еще в совсем наивной форме.
В наше время трудно себе представить, какое впечатление произвело изобретение телескопа на ученый мир и на всех образованных людей того времени. С восторгом говорили о том, что планеты кажутся в телескоп гораздо больше самых ярких звезд, что Юпитер представляется чем-то вроде полной Луны и что можно ясно различить его шарообразную форму. Великий Кеплер сгорал от нетерпения, ожидая каждый новый номер “Звездного вестника”, в котором Галилей публиковал свои открытия.
Тем не менее в области техники телескопного дела оставалось еще много работы. Ньютон сначала пытался шлифовать увеличительные стекла, но после открытий, сделанных им относительно разложения световых лучей, он оставил мысль об усовершенствовании преломляющих телескопов и взялся за шлифовку вогнутых зеркал.
Впервые о построенном им телескопе великий ученый сообщил в письме, обращенном к врачу Эту, одному из учредителей Лондонского королевского общества. Телескоп был весь сделан собственными руками Ньютона. В его инструмент можно было ясно видеть четыре спутника Юпитера и фазы Венеры. Главным преимуществом своего телескопа Ньютон считал его малые размеры: шестидюймовый маленький инструмент его был не хуже тогдашних четырехфутовых преломляющих труб. Впоследствии надежды Ньютона оказались преувеличенными: он думал, например, что шестифутовый телескоп его конструкции будет равной силы с наилучшею стофутовой преломляющей трубой.
Не ограничиваясь этим, Ньютон полагал, что вообще не стоит тратить времени на усовершенствование преломляющих телескопов. Источником такого мнения было теоретическое заблуждение Ньютона: он был уверен в невозможности уничтожить в преломляющих телескопах радужную окраску контуров, вредящую ясности изображения.
Сделанный Ньютоном телескоп может с полным правом считаться первым отражательным телескопом. Хотя Грегори раньше Ньютона дал теорию своего телескопа и построил модель, но выполнение этой модели он предоставил потомству. Знаменитые тогдашние английские практические оптики Райвз и Кокс по заказу Грегори пытались отполировать зеркало шестифутового радиуса, но эта работа им не удалась, и Грегори собирался ехать в Голландию, да так и не поехал. Поэтому Ньютон имел право выставить на своем телескопе подпись: “Первый отражательный телескоп”.
Успех первого сделанного опыта побудил Ньютона к дальнейшим работам. Несмотря на то что как раз в это время Ньютон занимался теорией преломления, методом бесконечно малых и гипотезой всемирного тяготения, он принялся за новую работу и снова сделал вручную еще один телескоп больших размеров и лучшего качества.
Этот инструмент возбудил в Кембридже самый живой интерес.
Один из кембриджских профессоров в свою очередь взялся за работу и по указаниям Ньютона сделал еще более хороший инструмент. Об этих телескопах узнало наконец Лондонское королевское общество, которое обратилось к Ньютону через посредство своего секретаря Ольденбурга с просьбою сообщить подробности изобретения. В 1670 году Ньютон передал свой телескоп Ольденбургу – событие весьма важное в его жизни, так как этот инструмент впервые сделал имя Ньютона известным всему тогдашнему ученому миру.
11 января 1671 года было заявлено на заседании Лондонского королевского общества, что телескоп Ньютона был показан королю и рассмотрен комиссией, состоявшей из председателя общества Морэя и членов: Ниля, Рена и Гука. Эти ученые (исключая завистливого Гука) выразили самое лестное мнение об изобретении Ньютона и, желая обеспечить за ним первенство открытия, посоветовали Ньютону составить описание своего прибора и послать одному из первых тогдашних астрономов и математиков, голландцу Гюйгенсу, жившему в то время в Париже. По соглашению с Ньютоном секретарь Королевского общества Ольденбург взялся составить латинское описание, которое по исправлении его Ньютоном было послано Гюйгенсу. Телескоп, сделанный руками Ньютона, до сих пор хранится в библиотеке Лондонского королевского общества.
В конце 1670 года Ньютон был избран в члены Лондонского королевского общества. 23 декабря доктор Уард, известный епископ, автор нескольких астрономических сочинений и профессор астрономии в Оксфорде, предложил Ньютона в члены общества, основывая его права главным образом на изобретении телескопа. Предложение епископа было принято. Избрание доставило Ньютону величайшее удовольствие, о чем он вполне искренне заявляет в письме на имя Ольденбурга: “Постараюсь выразить свою благодарность, сообщая то, что могут произвести скромные усилия одинокого труженика”. Вскоре после того Ньютон послал Ольденбургу письмо, в котором впервые известил общество о своих оптических открытиях. Письмо это весьма интересно. Ньютон пишет: “Я хочу сообщить обществу о философском открытии, которое и побудило меня сделать названный телескоп; не сомневаюсь, что общество поблагодарит меня за это сообщение гораздо больше, чем за мой инструмент, так как, по моему мнению, это мое открытие (речь идет о разложении лучей света) есть самое удивительное, если не самое важное, какое до сих пор было сделано относительно явлений природы”.
6 февраля Ньютон действительно написал Ольденбургу письмо, в котором изложил свои основные опыты. Письмо это возбудило чрезвычайно живой интерес среди членов общества. Собрание постановило “передать автору торжественное изъявление благодарности за его остроумный трактат”. Было выражено желание, чтобы этот трактат немедленно появился в печати, “дабы его лучше могли рассмотреть философы” и с целью “оградить автора от посягательств других лиц”. Подробное рассмотрение письма Ньютона и составление доклада были поручены епископу Уарду вместе с Бойлем и Гуком.
Внимание Королевского общества к Ньютону было для него сильной нравственной поддержкой, и он с величайшей готовностью согласился на напечатание своего трактата в “Известиях” общества (“Philosophical Transactions”, журнал, издающийся до сих пор). Ньютон пишет по этому поводу Ольденбургу: “Чрезвычайно приятно излагать свои открытия не предубежденной толпе, но столь правдивому и беспристрастному обществу”. В то время Ньютона еще не коснулись интриги, слишком обыкновенные в ученом мире.
В первых оптических трактатах, присланных им обществу, Ньютон намечает также основания теории цвета тел, которая гораздо сложнее, чем вопрос о разложении лучей призмою.
В то время Ньютон произвел немало опытов, имевших целью обратное соединение известных лучей в бесцветные. Простейший способ состоит в том, чтобы к призме приложить другую такую же призму, так как обе вместе образуют тело с параллельными гранями, причем лучи, пройдя сквозь это тело, принимают направление, параллельное тому, которое они имели с самого начала. Ньютон старался пояснить соединение цветных лучей более популярными, хотя и менее научными способами. Так, он вращал круги, оклеенные цветными секторами, а также смешивал разноцветные порошки. При смешении сурика с синькой, охрой и зеленой краской получилась грязно-белая смесь; но при ярком освещении такого порошка, рассыпанного по полу, Ньютон достиг того, что он казался белее бумаги. Этот опыт был уже переходом к изучению цвета тел.
Освещая предметы разными цветными огнями, получаемыми, например, при помощи цветных фонарей, Ньютон заметил, что всякий цвет выигрывает, то есть кажется более ярким от освещения однородным с ним светом: так, красные предметы кажутся наиболее яркими при освещении красным огнем, тогда как зеленые предметы при этом кажутся почти черными. Эти опыты навели Ньютона на мысль, что цвет тел вовсе не так присущ им при всяких условиях, как, например, протяжение или тяжесть. Цвет есть результат отражения цветных лучей, и если лучей данного качества не имеется, то и соответствующий цвет тел вовсе пропадает. Нет поэтому тел “существенно зеленых”, но всякое тело становится зеленым при освещении одними зелеными лучами, что легко наблюдать при горении бенгальских огней. Наоборот, если в лучах данного света нет зеленых лучей, то все предметы, казавшиеся при солнечном свете зелеными, примут иной цвет. Одним словом, и здесь, как в явлениях спектра, главную роль играют падающие лучи, а не предмет, ими освещенный.
Как и следовало ожидать, теории Ньютона не были приняты без борьбы. Тотчас вслед за письмом Ньютона, где излагались его главные открытия по оптике, появилось в тех же “Известиях” Лондонского королевского общества письмо французского иезуита Пардиса, профессора математики в Клермоне. Иезуит этот пытался объяснить явления преломления, исходя из опытов Гримальди над светорассеянием, – мысль блестящая и совершенно в духе гипотезы волнообразного движения, но доказательство ее оказалось не по силам Пардису, и, убежденный возражениями Ньютона, он уступил его доводам и прислал по этому поводу весьма лестное письмо. Еще более слабы были возражения люттихского врача Линюса; но они привели к тому, что один из его учеников, Гаскойн, решился вместо голословной полемики взяться за опыты, и по его просьбе опыт был сделан талантливым ученым Люкасом в Люттихе. Люкас описал свои опыты в статье, где отдает должное Ньютону и подтверждает все его результаты кроме одного. Хотя призма Люкаса имела такой же преломляющий угол, как у Ньютона, но была, очевидно, сделана из стекла другого качества. В то время как у Ньютона длина спектра превышала ширину в пять раз, у Люкаса длина была больше ширины лишь в три с половиной раза. Опыты Люкаса были первым шагом к открытию ахроматических стекол, которые, преломляя свет, то есть изменяя направление лучей, не дают, однако, ни цветных лучей, ни цветной окраски рассматриваемым предметам. Очевидно, что такое явление невозможно с двумя однородными призмами, но если взять призмы из различных сортов стекла, то можно подобрать их так, что две вместе взятые призмы дадут ахроматическое преломление. Этого и достигли Голль, Доллонд и Блэр уже после смерти Ньютона.
В вопросе об ахроматизме Ньютон обнаружил упорство, недостойное такого великого ума. Так, вместо того чтобы проверить опыты Люкаса, он прямо заявлял, что, вероятно, Люкас ошибся в измерении углов, и наконец сказал: “Я не желаю отвлекаться в сторону и повторять опыты по вопросу, достаточно уже исследованному”. Люкас не настаивал, и полемика прекратилась.
Но самыми опасными противниками Ньютона оказались Гук и Гюйгенс. Оба эти физика по математическому таланту если и не равнялись Ньютону, то во всяком случае стояли в ряду первоклассных светил тогдашней науки. Оба они отстаивали правильную теорию света, которую Ньютон отвергал до самой смерти.
Гук являлся одним из девяноста восьми учредителей Лондонского королевского общества и всего на семь лет был старше Ньютона. Как большая часть людей талантливых, но не достигающих высоты гения, он считал себя гениальным и непогрешимым и при этом был крайне завистлив и несправедлив к заслугам других. Так, например, из всех ученых, рассматривавших телескоп Ньютона, только Гук отозвался об изобретении свысока, причем заявил, что он один обладает секретом делать превосходнейшие оптические инструменты и может приготовлять их с удивительною легкостью и точностью. Эту тайну он унес с собой в могилу.
Когда появились в печати первые оптические трактаты Ньютона, Гук как хороший экспериментатор тотчас понял, что опыты Ньютона точны; тем ожесточеннее напал он на теоретические выводы своего гениального противника. При этом, однако, Гук, хотя и исходил из правильного начала, именно из теории волнообразного движения, по обыкновению не сумел справиться со своими верными гипотезами и отвергал даже то, что было выведено Ньютоном совершенно независимо от обеих противоположных теорий. Так, Гук стал доказывать, что будто бы есть только два рода цветных лучей – красные и фиолетовые и что все остальные составляют продукт смешения двух первых. На это Ньютон возразил целым рядом опытных данных, и Гук не решился продолжать спор. Наконец Ньютону пришлось выдержать борьбу с самим Гюйгенсом. Этот голландский ученый был уже знаменит, когда Ньютон только что стал известен ученому миру. Как математик Гюйгенс немногим уступал Ньютону. Не возражая против опытов Ньютона, Гюйгенс утверждал – и не без основания, – что белые лучи можно получить не только соединением всех цветных лучей спектра, но и соединением голубых лучей с желтыми. Ньютон на это отвечал, что в опыте Гюйгенса, вращавшего, например, желтые и голубые секторы, не было чистых желтых и голубых лучей, но смешанные цвета, дающие все лучи спектра. Гюйгенс, однако, стоял на своем и даже заметил в письме к Ольденбургу, что “Ньютон защищает свои мнения с некоторым упорством”.
Эта полемика сильно раздражила Ньютона. Еще в 1672 году, после ответа, данного Гюйгенсу, он писал Ольденбургу: “Я больше не намерен заниматься философскими предметами. Надеюсь, вы не обидитесь, если увидите, что я перестал делать что бы то ни было в этой области. Думаю, что вы даже не откажетесь содействовать моему решению, по возможности устраивая так, чтобы я не получал никаких возражений и даже никаких касающихся меня философских писем”. Три года спустя Ньютон писал: “Я хотел еще написать трактат о цветах тел для прочтения в одном из ваших собраний. Но думаю теперь, что не стоит писать более об этом предмете”. В письме к Лейбницу (1675 год) он говорит: “Меня до того преследовали полемикой, возникшей из-за опубликования моей теории света, что я проклинал свою неосторожность, променяв такое блаженство, как спокойствие духа, на погоню за тенью”. Еще до этого письма, а именно в феврале 1675 года, Ньютон сообщил Королевскому обществу свою теорию “цветов естественных тел”, тесно связанную с теорией разложения лучей призмою. Выяснив, что цвет зависит от качества освещающих предмет лучей, Ньютон обосновывает затем следующие положения.
Цвет предмета определяется теми лучами, которые отражаются от его поверхности. Тела, обладающие наибольшей преломляющей способностью, как, например, свинцовый сахар, вместе с тем отражают наибольшее количество лучей. Нет тел абсолютно непрозрачных: так, тонкая пластинка золота отчасти пропускает свет. Прозрачны тела, обладающие слишком малыми порами для того, чтобы отражать лучи. Что касается, наконец, цветов тел, то Ньютон добавляет, что причина, почему отражаются лучи того или иного цвета, для массивных тел и для тончайших пластинок – одна и та же.
Как раз в тот день, когда Ньютон написал Лейбницу, что не желает более “гоняться за тенью”, он не вытерпел и отправил в Королевское общество новый философский трактат, содержавший исследование цветов тонких пластинок и, в частности, изучение оптических свойств мыльных пузырей. В виде курьеза следует отметить, что в эпоху мимолетного разочарования в философии Ньютон вздумал заняться самым прозаическим делом, а именно посадкою яблонь с целью производства фруктового кваса (сидра). Но такова была натура Ньютона, что он и к яблокам относился лишь с научной точки зрения. Сохранилось письмо, в котором он пишет о посадке яблонь и производстве сидра в таком тоне, как будто речь идет о всемирном тяготении.
Что касается мыльных пузырей, то ими занимались еще до Ньютона сначала Бойль, а потом Гук. Гук правильно описал основные явления. Он также расщеплял пластинки талька на чрезвычайно тонкие слои и убедился, что получающиеся цвета находятся в некоторой зависимости от толщины пластинок. Одна из полученных им пластинок имела желтый отлив, другая – голубой, а сложив обе вместе, он получил темно-пурпуровый цвет. Гук нашел Даже предел толщины, а именно убедился, что его пластинки имеют толщину менее одной двенадцатитысячной доли дюйма. Далее этого он не пошел и даже не мог представить себе метод, позволяющий точное измерение столь тонких пластинок. Для этого понадобился экспериментальный гений Ньютона. Ньютон взял двояковыпуклое стекло чрезвычайно малой кривизны, то есть почти плоское, а именно такое, что выпуклая поверхность составляла часть поверхности шара, имеющего радиус в пятьдесят футов. Это стекло он прижал винтами к плоской поверхности другого плосковыпуклого стекла. Таким образом, между обоими стеклами получился чрезвычайно тонкий слой воздуха, всего тоньше подле центра и толще к краям. Осветив этот прибор ярким светом, Ньютон увидел ряд концентрических темных и светлых колец; но, зная радиус выпуклого стекла, он мог без труда вычислить толщину воздушного слоя в любом месте. При освещении однородным светом, например красным, получались темные и красные кольца; белый свет давал темные кольца поочередно с радужными, но цвета радужных колец оказались не совсем такими, как в спектре.
Повторяя опыты, Ньютон увидел, что наименее преломляемые, то есть красные лучи давали самые широкие кольца, а фиолетовые – наиболее узкие. При освещении белым светом получались поэтому: в середине фиолетовое кольцо, потом синее и так далее до красного; затем темное, потом опять фиолетовое и так далее. Удовлетворительное объяснение этому явлению могла дать только теория волнообразного движения. Что касается Ньютона, он для объяснения цветов тонких пластинок должен был придумать новую гипотезу.
Здесь уместно сказать, почему Ньютон не соглашался принять теорию волнообразного движения и так упорно отстаивал свою гипотезу истечения, вынуждавшую его для объяснения самых простых явлений придумывать все новые и новые свойства, которыми он наделял светоносные частички. Несомненно, что главным препятствием к принятию теории волнообразного движения казалось Ньютону следующее обстоятельство. “Если свет распространяется подобно звуку, – рассуждал Ньютон, – то он, очевидно, должен обладать способностью огибать тела, и, подобно тому как из-за перегородки мы слышим звук, следует ожидать, что и световые лучи обогнут перегородку и зайдут внутрь тени. Но опыт показывает, что лучи никогда не загибаются, всегда идут по прямым и тень получается по законам прямолинейной перспективы”. Это рассуждение было вполне правильно и аналогично с тем, которому следовал Ньютон, когда отверг гипотезу об искривлении лучей, прошедших сквозь призму. Но, по несчастью, на этот раз Ньютон не сделал надлежащих опытов. Опыт убедил бы его, что есть случаи, когда лучи загибаются внутрь тени, и что для этого надо только взять достаточно тонкие предметы и узкие щели, так как волны света сами по себе имеют чрезвычайно малую толщину, а потому не могут огибать предметов сколько-нибудь большого размера, подобно тому как это возможно для звуковых волн.
Понадобились работы Юнга и Френеля и ряд вычислений Эйлера, Коши и других математиков, для того чтобы только в нашем веке окончательно восторжествовала теория волнообразного движения.
Мы уже имели случай заметить, что, отвергая безусловно эту теорию, Ньютон был менее категоричен по вопросу о существовании эфира. Трудности его собственной теории истечения несколько раз заставляли Ньютона прибегать к помощи эфира: неизвестное проще всего объяснить другим неизвестным. Но положительный ум Ньютона весьма редко довольствовался такими объяснениями и во всяком случае не придавал им особого научного значения. В конце 1675 года Ньютон пишет письмо, озаглавленное “Гипотеза, объясняющая свойства света”; здесь он прямо высказывается за существование эфира и, не довольствуясь световыми явлениями, прилагает эфир даже к объяснению явлений всемирного тяготения. Но ко всему этому Ньютон относится как к научному развлечению.
“Я счел себя вынужденным написать все это, – говорит он, – ибо заметил, что в головах некоторых великих виртуозов кроется множество гипотез. Поэтому и я составил такую, которая кажется мне наиболее вероятной, если только вообще признать, что я обязан принять какую-либо гипотезу”.
Полгода спустя он пишет астроному Галлею: “Все это догадки, я вовсе не ручаюсь за их верность”. В 1678 году Ньютон объясняет при помощи эфира не только явления света, но и сцепление, капиллярное притяжение, тяготение и даже свойства взрывчатых веществ. Позднее Ньютон совсем отказался от гипотезы эфира. “Эфир – это совершенно праздное предположение”, – пишет он в 1702 году. “Изучая явления, которые я хотел объяснить с помощью эфира, – продолжает Ньютон, – я убедился, что они отлично объяснимы и без его помощи, так, например, явления волосности зависят просто от взаимного притяжения между стенками трубки и жидкостью”. В своей “Оптике”, стало быть еще позднее, Ньютон снова возвращается к эфиру, но уже специально для объяснения некоторых световых явлений. Ньютон полагал, что в эфире происходят колебания “более скорые, чем свет”. Он утверждал, что упругость эфира в 490 миллиардов раз более упругости воздуха, а плотность в 600 миллионов раз менее плотности воды. Далее он утверждал, что колебания эфира влияют на зрительный нерв, подобно тому как колебания воздуха действуют на слуховой нерв. Подойдя так близко к теории волнообразного движения, Ньютон все-таки считал свет истечением частиц, только влияющих на эфирную среду. Относительно тяготения Ньютон в конце концов также пришел к мысли, что допущение передачи действия силы на расстояние без посредства какого-либо материального агента – вещь немыслимая, и этим агентом он считал эфир, хотя и в этом случае выражения его оставались неопределенными и взгляды часто менялись. Ньютон не любил недоказанных гипотез.
ГЛАВА V
Переписка с Гуком. – “Гений есть терпение мысли”. – Шестнадцать лет терпения. – Подтверждение теории Ньютона. – Научный экстаз. – Соперники и завистники. – Беглый обзор “Начал естественной философии”. – Система мироздания. – Объяснение приливов. – Теория комет. – Распространение учения Ньютона
В 1678 году умер секретарь Лондонского королевского общества Ольденбург, относившийся к Ньютону чрезвычайно дружески и с величайшим уважением. Место его занял Гук, хотя и завидовавший Ньютону, но невольно признававший его гений. В начале следующего года Гук по предложению общества обратился к Ньютону с письмом, спрашивая его мнения насчет движения Земли и законов падения тел, отчасти исследованных Галилеем. Ньютон написал Гуку, что действительность вращения Земли вокруг оси может быть проверена прямым опытом, который и посоветовал произвести. Если Земля неподвижна, то тело, падающее с большой высоты под влиянием одной только силы тяжести, должно упасть по вертикальной линии, то есть по направлению к центру Земли; но если Земля вращается вокруг своей оси, то, по словам Ньютона, очевидно, что падающее тело должно отклониться к востоку и при падении со значительной высоты это отклонение должно быть достаточно чувствительным для того, чтобы допустить прямую опытную проверку.
Эта мысль Ньютона чрезвычайно понравилась Королевскому обществу, и Гуку было поручено произвести указанный Ньютоном опыт. Проницательный Гук, взявшись за этот вопрос, исправил вывод Ньютона и написал последнему, что падающие тела должны уклоняться не совсем точно на восток, но на юго-восток.
Ньютон согласился с доводами Гука, и опыты, произведенные этим последним, вполне подтвердили теорию. Гук исправил еще другую ошибку Ньютона, и это единственный случай, когда он был вправе сказать, что внушил Ньютону некоторые новые мысли. Ньютон полагал, что падающее тело, вследствие соединения его движения с движением Земли, опишет винтообразную линию. Гук показал, что винтообразная линия получается лишь в том случае, если принять во внимание сопротивление воздуха и что в пустоте движение должно быть эллиптическим — речь идет об истинном движении, то есть таком, которое мы могли бы наблюдать, если бы сами не участвовали в движении земного шара.
Проверив выводы Гука, Ньютон убедился, что тело, брошенное с достаточной скоростью, находясь в то же время под влиянием силы земного тяготения, действительно может описать эллиптический путь. Размышляя над этим предметом, Ньютон открыл знаменитую теорему, по которой тело, находящееся под влиянием притягивающей силы, подобной силе земного тяготения, всегда описывает какое-либо коническое сечение, то есть одну из кривых, получаемых при пересечении конуса плоскостью (эллипс, гипербола, парабола и, в частных случаях, круг и прямая линия). Сверх того, Ньютон нашел, что центр притяжения, то есть точка, в которой сосредоточено действие всех притягивающих сил, действующих на движущуюся точку, находится в фокусе описываемой кривой.[1] Так, центр Солнца находится (приблизительно) в общем фокусе эллипсов, описываемых планетами.
Достигнув таких результатов, Ньютон сразу увидел, что он вывел теоретически, то есть исходя из начал рациональной механики, один из законов Кеплера, гласящий, что центры планет описывают эллипсы и что в фокусе их орбит находится центр Солнца. Но Ньютон не удовольствовался этим основным совпадением теории с наблюдением. Он хотел убедиться, возможно ли при помощи теории действительно вычислить элементы планетных орбит, то есть предсказать все подробности планетных движений? На первых порах ему не повезло. Еще в 1666 году, во время кембриджской чумы, когда Ньютон в деревенской тиши впервые задумал свою гениальную теорию, он пытался сверить ее с данными, полученными наблюдением. Желая убедиться, действительно ли сила земного тяготения, заставляющая тела падать на Землю, тождественна силе, удерживающей Луну в ее орбите, Ньютон стал вычислять, но, не имея под рукой книг, воспользовался лишь самыми грубыми данными, взятыми из тогдашних учебников мореходного искусства, и принял орбиту Луны за круг, а градус земного экватора предположил равным шестидесяти английским милям – приближение довольно грубое. Вычисление показало, что при таких числовых данных сила земной тяжести больше силы, удерживающей Луну в ее орбите, на одну шестую и как будто существует некоторая причина, противодействующая движению Луны. На первый раз Ньютон, по словам его ученика Уистона, предположил, что, вероятно, движение Луны задерживается чем-либо вроде декартовских вихрей. Но, не имея достаточных оснований для такой гипотезы, он бросил ее и терпеливо продолжал вычисления, не составляя пока никакого окончательного суждения. Изучение законов эллиптического движения значительно подвинуло вперед исследования Ньютона. Но до тех пор, пока вычисления не согласовались с наблюдением, Ньютон должен был подозревать существование некоторого все еще от него ускользавшего источника ошибки или неполноты теории.
В 1682 году, стало быть через шестнадцать лет после того, как Ньютон начал свои вычисления, он приехал в Лондон, чтобы присутствовать на заседаниях Королевского общества. На одном из заседаний был прочитан отчет об измерении меридиана, произведенном за три года перед тем французским ученым Пикаром. Ньютон тотчас оценил значение этой работы для своих выводов и сделал заметки, записав результаты, полученные французским астрономом. Зная длину меридиана, Ньютон вычислил диаметр земного шара и немедленно ввел новые данные в свои прежние вычисления. По мере того как вычисление приближалось к концу, Ньютон стал убеждаться, что результат получится как раз такой, какого он ожидал согласно своей теории. К концу вычисления Ньютон впал в состояние такого нервного возбуждения, что не мог продолжать. Он попросил одного из своих друзей окончить вычисление и к величайшей радости своей убедился, что его давнишние взгляды совершенно подтвердились. Сила, заставляющая тела падать на Землю, оказалась совершенно равной той, которая управляет движением Луны.
Этот вывод был для Ньютона высочайшим торжеством. Теперь вполне оправдались его слова: “Гений есть терпение мысли, сосредоточенной в известном направлении”. Все его глубокие гипотезы, многолетние вычисления оказались верными. Теперь он вполне и окончательно убедился в возможности создать целую систему мироздания, основанную на одном простом и великом начале. Все сложнейшие движения Луны, планет и даже скитающихся по небу комет стали для него вполне ясными. Явилась возможность научного предсказания движений всех тел Солнечной системы, а быть может, и самого Солнца, и даже звезд и звездных систем.
В конце 1683 года Ньютон наконец сообщил Королевскому обществу основные начала своей системы в виде ряда теорем о движении планет.
Теория была слишком гениальна, чтобы не нашлись завистники и люди, старавшиеся приписать себе хотя бы часть славы этого открытия. Без сомнения, некоторые из тогдашних английских ученых довольно близко подошли к открытиям Ньютона, но понять трудность вопроса еще не значит решить его. Математик Рен (Wren) пытался объяснить движение планет “падением тел на Солнце, соединенным с первоначальным движением”. Астроном Галлей предполагал, что законы Кеплера объяснимы при помощи действия силы, обратно пропорциональной квадратам расстояний, но не умел доказать этого. Встретившись однажды с Гуком, Галлей сообщил ему свою мысль. Гук, человек необычайно самонадеянный, ответил, что давно все это знает и что он сумеет объяснить при помощи этого закона все планетные движения. “Сознаюсь, – сказал Галлей, – что мои попытки были неудачны”. Кристофер Рен, присутствовавший при этой беседе, желая поощрить своих друзей, произнес в свою очередь следующее: “Я предлагаю такую сделку: кто из вас первый в течение двух месяцев даст требуемое доказательство, тот получит от меня в подарок книгу ценою в сорок шиллингов”. Гук смешался. “Я повторяю, – сказал он, – что давно обладаю требуемым методом, но дело в том, что до поры до времени я хотел бы хранить его в тайне. Впрочем, вам как другу я покажу в чем дело”. Это обещание так и осталось за Гуком. Через год после обнародования первых исследований Ньютона по теории тяготения Галлей приехал в Кембридж с целью посоветоваться с Ньютоном насчет занимавшего его вопроса. “Я довел свое доказательство до полного совершенства”, – сказал Ньютон и вскоре действительно прислал Галлею копию со своего решения. Галлей вторично отправился в Кембридж, убеждая Ньютона по крайней мере внести свои открытия в протоколы Королевского общества. Галлей, человек благородный, чуждый зависти и преклонявшийся перед Ньютоном, заботился об ограждении прав великого ученого более чем сам Ньютон. Он поспешил заявить обществу, что видел в Кембридже рукопись Ньютона, в которой излагается ряд удивительных открытий. Не довольствуясь своими хлопотами, он уговорил кембриджского учителя математики Пэджета помочь в деле убеждения Ньютона, и они оба вновь стали просить Ньютона обеспечить за собою хотя бы право первенства впредь до того времени, когда у него хватит досуга для обнародования своих работ.
Только 25 февраля 1685 года Ньютон наконец последовал их советам и прислал в Королевское общество письмо, в котором заявил о намерении напечатать свои работы. На время, однако, дело затянулось вследствие того, что Ньютон предпринял поездку на родину, в Линкольншир. Отдохнув в деревне, он по возвращении со свежими силами принялся за работу, и до конца апреля 1686 года рукопись первых двух частей его книги была готова и послана в Лондон.
Эта рукопись называлась “Philosophiac Naturalis Principia Mathematica” – “Математические начала естественной философии” – название, чрезвычайно удачно придуманное и вполне характеризующее план и выполнение этого бессмертного произведения. Книга была посвящена Королевскому обществу.
28 апреля 1686 года состоялось заседание Королевского общества. Председательское место занимал сэр Госкинс, закадычный друг Гука, главного из соперников Ньютона. Один из членов общества заметил: “Мистер Ньютон довел этот предмет до такого совершенства, что ничего нельзя ни прибавить, ни убавить”. Госкинс в свою очередь сказал: “Это произведение тем более изумительно, что оно в одно и то же время было изобретено и доведено до высочайшего совершенства”. При этих словах Гук, давно уже выражавший нетерпение, не выдержал.
– Я решительно протестую, – сказал он, – и выражаю порицание сэру Джону за то, что он ни словом не упомянул о сообщениях, которые давно были сделаны ему мною по тому же предмету.
– Что касается меня, – возразил Госкинс, – я, к сожалению, не помню, чтобы доктор Гук делал мне какие-либо подобные сообщения.
С этого дня неразлучные до тех пор друзья стали заклятыми врагами и при встрече не кланялись.
После заседания члены общества, как у них водилось, отправились в кофейню. Здесь Гук продолжал ораторствовать, горячился, защищал свое право на первенство, доказывал даже, что без его “первого намека” Ньютон будто никогда не смог бы сделать своего открытия.
Само собою разумеется, что нашлись люди, которые поспешили сообщить Ньютону о претензиях Гука. Галлей написал Ньютону, что Гук приписывает себе открытие закона “квадратной пропорции”. Мы видели, что закон этот был известен Ньютону еще в 1666 году и что Гук узнал об этом законе гораздо позднее от Рена (Wren). Тем не менее Гук имел смелость уверять, что Ньютон заимствовал у него. Гук великодушно уступал Ньютону доказательство теоремы, гласящей, что тела, подчиняющиеся закону тяготения, описывают конические сечения. По-видимому, Гук сам сознавал неосновательность своих претензий и просил Галлея частным образом дать понять Ньютону, что он, Гук, удовлетворится весьма малым. “Гук ожидает, – писал Галлей, – что вы хотя бы упомянете о нем в предисловии, которое вы, вероятно, напишете”.
Ньютон ответил Галлею обширным письмом, в котором подробно разбирал претензии Гука, признавая за ним лишь указание на возможность эллиптического движения брошенных с известной скоростью предметов. Он собирался отправить письмо, когда вдруг получил из Лондона новое извещение от одного из членов Королевского общества, который писал ему: “Гук поднял шум, он уверяет, что вы все взяли у него, и требует, чтобы ему была оказана справедливость”.
На этот раз Ньютон рассердился не на шутку. Просмотрев свое письмо к Галлею, он прибавил к нему гневный сатирический постскриптум, в котором писал о Гуке уже без всякой церемонии. “Я готов даже предположить, – писал Ньютон, – что Гук узнал закон квадратной пропорции (то есть обратной пропорциональности квадратам расстояний) впервые из моего письма к Гюйгенсу, помеченного 14 января 1672 года. Мое письмо было адресовано на имя Ольденбурга, хранившего оригиналы. По смерти его все бумаги перешли в распоряжение Гука. Зная мой почерк, Гук легко мог полюбопытствовать и заглянуть в это письмо, из которого он должен был получить понятие о сравнении сил, исходящих из центров двух планет; так что вполне возможно, что все, сообщенное впоследствии Гуком мне об измерении тяготения, есть ничто иное, как плоды из моего собственного сада”.
Письмо это произвело на Гука сильное впечатление, и вскоре после того Галлей, очевидно по просьбе Гука, писал Ньютону: “Притязания Гука были выставлены вам в худшем свете, чем следовало. Гук вовсе не требовал от общества, чтобы ему была оказана справедливость, и вовсе не заявлял, что вы все взяли у него”. Получив это письмо, Ньютон пожалел о своей горячности. Он написал Галлею, что не только жалеет о вырвавшихся у него резких выражениях, но даже признает, что переписка с Гуком была ему полезна и внушила многие новые мысли. “Наилучший способ уладить эту распрю, – пишет Ньютон, – состоит в том, чтобы прибавить в рукописи примечание, в котором каждому будет отдано должное”. И действительно, Ньютон поместил в своих “Началах” заметку, в которой признал, что Рен, Гук и Галлей независимо от него вывели математический закон силы тяготения из второго закона Кеплера. [Напомним законы Кеплера, заметив кстати, что они строго точны лишь для материальных точек, а для планет приблизительны и что степень этого приближения весьма удовлетворительна.
1. Планеты описывают эллипсы, в фокусе которых находится Солнце.
2. Площади, описываемые радиус-векторами, то есть линиями, соединяющими центр Солнца с центрами планет, пропорциональны времени.
3. Квадраты времен обращений планет относятся как кубы больших полуосей орбит. Из второго закона выводится формула “квадратных пропорций”, а из третьего закона следует, что сила тяготения пропорциональна массам планет.].
В тот же день, когда рукопись “Начал” была предъявлена Королевскому обществу, последнее постановило: печатание рукописи поручить совету общества, послать автору благодарственное письмо и главное наблюдение за печатанием поручить Галлею. Галлей уведомил Ньютона об этом решении.
Ньютон пишет Галлею в ответ: “Я предполагал напечатать три книги. Вторую я кончил еще прошлым летом, она не велика, остается только переписать да хорошо начертить чертежи. Третья книга касается комет. Последняя осень пропала даром: я провел два месяца в бесплодных вычислениях из-за отсутствия хорошего метода и возвратился к обработке первой книги. Третью книгу я намерен уничтожить. Философия – это такая невежливая и сварливая дама, что связаться с нею хуже, чем вести тяжбу. Я всегда был этого мнения, а теперь стоит мне к ней приблизиться, чтобы почувствовать опасность. Две первые книги без третьей не совсем ловко назвать “Началами философии”. Я решился было назвать их: “О движении тел”, да пусть лучше останется по-прежнему. Так, пожалуй, будут скорее покупать книгу, а теперь, когда она ваша (то есть общества), вы, вероятно, не захотите уменьшить число читателей”.
Галлей ответил на это выражением крайнего прискорбия по поводу такого решения Ньютона. “Вероятно, – пишет он, – вы приняли такое решение вследствие происков завистников, к сожалению, постоянно нарушающих ваш покой; но именем общества и от своего имени умоляю вас не уничтожать третьей книги”. Ньютонова теория комет особенно интересовала Галлея, много занимавшегося кометами, “а что касается “любопытных опытов”, которые, вероятно, содержатся в третьей книге, то это сделает все сочинение более популярным и доступным тем многочисленным читателям, которые называют себя “философами без математики”.
Ньютон уступил этим доводам. Он прислал вторую книгу, а затем третью, и полное сочинение было отпечатано в мае 1687 года.
Скажем хотя бы несколько слов о содержании этого гениального произведения.
Первые две книги составляют весьма полный трактат теоретической механики; третья посвящена главным образом применению выведенных законов к планетной системе и носит заглавие “Система мира”, впоследствии заимствованное у Ньютона Лапласом.
В области механики Ньютон не только развил положения Галилея и других ученых, но и дал новые принципы, не говоря уже о множестве замечательных отдельных теорем.
По словам самого Ньютона, еще Галилей установил начала, названные Ньютоном “двумя первыми законами движения”. Ньютон формулирует эти законы так:
I. Всякое тело пребывает в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока на него не подействует какая-либо сила и не заставит его изменить это состояние.
Этот закон называется началом инерции и до сих пор формулируется таким же образом. Заметим, что, в сущности, он разделяется на два положения, из которых одно было известно еще древним, тогда как другое было понято вполне лишь со времени Галилея и Кеплера. Легко понять, что неодушевленное тело не может само собою перейти из состояния покоя в состояние движения и что для этого необходимо действие какой-либо силы; этот закон, который можно назвать началом статической инерции, очевиден. Гораздо труднее понять, что если тело или, точнее, материальная точка находится в движении и если при этом на точку не действует никакая сила, то данная точка необходимо обладает прямолинейным и равномерным движением – это начало кинетической инерции. В древности, например, думали, что если тело движется равномерно по окружности крута, значит, это движение “естественно”, то есть совершается без участия какой-либо силы. Теперь известно, что, наоборот, когда тело движется по какой бы то ни было кривой линии, это уже служит доказательством, что оно подвержено влиянию какой-либо силы.
II. Изменение движения пропорционально движущей силе и направлено по прямой, по которой действует данная сила.
Этот второй закон, также известный Галилею и Кеплеру, Ньютон поясняет так: “Если некоторая сила производит определенное движение, то сила вдвое большая произведет двойное движение и так далее, причем безразлично, подействует ли она сразу или мало-помалу. Так как движение направлено в сторону производящей его силы, то если тело уже двигалось и если направление силы такое же, какое имело прежнее движение, то новое движение прибавится к прежнему; если эти оба направления противоположны между собой, то новое движение будет вычитаться из прежнего; а если оба направления не одинаковы и не прямо противоположны, а образуют между собой угол, то движение будет не суммою и не разностью прежнего и нового, а новое частью прибавится, частью вычтется из прежнего”.
Из этого начала Ньютон прямо выводит знаменитую теорему, известную под названием параллелограмма сил. Хотя эта теорема была известна и до Ньютона, но ни раньше, ни позднее никто не дал более простого и одновременно более строгого доказательства. Действительно, из второго закона движения прямо вытекает, что сложение сил сводится к так называемому геометрическому сложению, я это утверждение содержит в себе параллелограмм сил. И вместе с тем становится очевидным, что аналогичным образом слагаются также скорости и вообще все величины, которые могут быть изображены с помощью прямолинейных отрезков.
Сверх этих двух законов Ньютон сформулировал еще третий закон движения, выразив его так:
III. Действие всегда равно и прямо противоположно противодействию, то есть действия двух тел друг на друга всегда равны и направлены в противоположные стороны.
Этот знаменитый закон, часто весьма плохо понимаемый, требует некоторых разъяснений. Укажем на разъяснения самого Ньютона.
Ньютон приводит следующие примеры. Всякое тело, оказывающее давление на другое тело или притягивающее его, само испытывает такое же давление или тягу со стороны этого последнего. Если давить пальцем на камень, то палец испытывает такое же давление от камня. Если лошадь тянет камень с помощью веревки, то и камень тянет к себе лошадь с такою же силою, потому что веревка натягивается в обе стороны одинаково и это натяжение влечет лошадь к камню и камень к лошади, противодействуя движению одного из этих тел настолько же, насколько содействует движению другого.
Если бы, например, тяготение одной части земного шара к другой было сильнее обратного тяготения второй к первой, то Земля должна была бы представлять самодвижущееся тело, удаляющееся в бесконечность. Вообще закон действия и противодействия теснейшим образом связан с законом инерции, так как допустить, что действие больше противодействия, значит допустить существование тел, движущихся как угодно без действия какой бы то ни было внешней силы. С другой стороны, из закона действия и противодействия вытекает установленный в новейшее время закон сохранения энергии и, в свою очередь, этот последний закон объясняет некоторые кажущиеся отступления от первого.
Установив общие законы движения, Ньютон вывел из них множество следствий и теорем, позволивших ему довести теоретическую механику до высокой степени совершенства. С помощью этих теоретических начал он подробно выводит свой закон тяготения из законов Кеплера и затем решает обратную задачу, то есть показывает, каково должно быть движение планет, если признать закон тяготения за доказанный.
Дальнейшие исследования Ньютона позволили ему определить массу и плотность планет и самого Солнца. Для этого он сначала решил вопрос, какой вес имели бы наши земные тела, если бы были перенесены, например, на поверхность Солнца. Оказалось, что в этом случае вес тел или, точнее, тяжесть увеличилась бы в двадцать три раза. Ньютон показал, что плотность Солнца вчетверо менее плотности Земли, а средняя плотность Земли приблизительно равна плотности гранита и вообще самых тяжелых каменных пород. Ясно, что этот вывод дает любопытные указания на физический состав земного шара: нельзя, например, допустить, чтобы внутренность Земли была наполнена веществами весьма малой плотности, например, газами. Относительно планет Ньютон установил, что наиболее близкие к Солнцу планеты отличаются наибольшею плотностью.
Далее Ньютон приступил к вычислению фигуры земного шара. Астроном Кассини открыл еще до того, что планета Юпитер имеет сфероидальную форму, а именно представляет как бы шар, расширенный у экватора и сплюснутый у полюсов. Это открытие навело Ньютона на исследование фигуры Земли, и он увидел, что вследствие вращения Земли вокруг оси форма ее не могла остаться сферической. При вращении полюсы остаются неподвижными, тогда как точки экватора движутся всего скорее. Вследствие этого тяжесть на экваторе не может быть наблюдаема непосредственно – мы можем наблюдать лишь относительные, а не абсолютные действия земного тяготения, – и дело происходит так, как если бы действию тяжести противодействовала некоторая сила, называемая центробежною. Вместо тяжести предметов мы поэтому всюду (кроме полюсов земного шара) наблюдаем их вес, который составляет разность между тяжестью и центробежной силой. Эта последняя, как показывает вычисление, пропорциональна квадрату скорости вращения. Ньютон нашел, что на экваторе центробежная сила уменьшает тяжесть на 1 /289; поэтому если бы Земля вращалась в семнадцать раз быстрее чем на самом деле и центробежная сила была бы в 17x17=289 раз больше, то мы не могли бы здесь совсем наблюдать действия тяжести, то есть все предметы на экваторе были бы лишены веса, невесомы и не оказывали бы никакого давления на точки опоры. Из этого ясно, какое огромное различие существует между понятиями “тяжесть” и “вес”, почти совпадающими лишь потому, что вращение Земли вокруг оси происходит чрезвычайно медленно: Земля делает полный оборот в сутки, то есть угловая скорость ее вращения вдвое меньше, чем часовой стрелки. Вращайся Земля в двадцать раз скорее нынешнего, ни один предмет без особого прикрепления не мог бы оставаться на ее поверхности, но отбрасывался бы в пространство.
Весьма любопытно объяснение, придуманное Ньютоном для явлений прилива и отлива, тесно связанное с его учением о всемирном тяготении. Зависимость между приливами и фазами Луны была замечена еще до Ньютона. Иезуитская коллегия в Коимбре (Португалия), затем Антонио де Доминис и Кеплер признавали эту связь, но объяснения их были так недостаточны, что убедили немногих. Даже великий Галилей смеялся над их объяснениями. Между тем есть факты, делающие эту связь почти очевидной. Так, прилив бывает около того времени, когда Луна проходит через меридиан данного места (над или под горизонтом). Если вследствие местных условий прилив запаздывает по сравнению с прохождением Луны через меридиан, например, на час, то и отлив всегда запаздывает ровно на столько же времени, так что промежуток между приливом и отливом всегда точно равен половине лунного дня. Далее, замечено, что всего сильнее бывает прилив, когда Луна, Земля и Солнце находятся на одной прямой, то есть в полнолуние или новолуние. Это зависит от совместного действия Луны и Солнца на воды морей и океанов. Может показаться непонятным, почему прилив бывает всегда одновременно по обе стороны земного шара, то есть у нас и у наших антиподов. Но и это обстоятельство объяснено Ньютоном весьма просто. Действительно, представим себе, что вместо Земли дан ее центр, в котором сосредоточена вся масса земного шара, и что по обе стороны этого центра, на линии, соединяющей его с центром Луны, находятся массы, равные массам морей. Получится система такого рода, что одно из морей будет между Луною и земным центром, другое будет далее от Луны, чем земной центр. Масса первого моря будет притягиваться к Луне по своей близости сильнее, чем центр Земли (речь идет о единице массы), а центр Земли сильнее, чем масса второго моря. Поэтому воды первого моря будут оттягиваться от центра Земли и поднимутся выше своего нормального уровня; но, с другой стороны, воды второго моря притягиваются Луною весьма слабо, слабее, чем центр Земли, и этот последний будет, в свою очередь, оттягиваться от вод второго моря, вследствие чего их уровень также поднимается, так как весь вопрос в относительном положении морского дна и уровня моря. Таким образом, и у нас, и у наших антиподов прилив будет в одно и то же время, хотя действие Луны весьма различно в обоих случаях.
Солнечное тяготение также влияет на моря и океаны. Но хотя Солнце несравненно больше Луны, зато Луна к нам гораздо ближе Солнца, а потому влияние солнечного притяжения сравнительно незначительно. По вычислению Ньютона, в открытом море сила лунного притяжения производит прилив высотою в 8,63 фута, сила солнечного притяжения – в 1,93 фута, обе вместе – в 10,5 фута. Этот вывод очень близко подходит к действительности. У берегов явление усложняется присутствием горных масс, в свою очередь притягивающих воды моря, и другими условиями.
Что касается собственно так называемой “небесной механики”, Ньютон не только продвинул, но, можно сказать, создал эту науку, так как до него существовал лишь ряд эмпирических данных. Насколько удовлетворительна теория Ньютона, видно, например, из того, что его теоретические вычисления лунных движений отличались от лунных таблиц лишь на несколько секунд. Весьма удовлетворительное объяснение дано им также явлению так называемого предварения равноденствий, открытому еще древними, но оставшемуся непонятым до самого Ньютона. Явление это состоит в отступлении так называемой точки весеннего равноденствия на пятьдесят секунд в год, так что полный оборот она совершает в 25 920 лет. Это явление зависит от конического движения (вращения) земной оси вокруг линии, параллельной оси эклиптики. Полное механическое объяснение “предварения равноденствий” весьма сложно; Ньютон упростил вопрос, заменив сфероидальную форму Земли шарообразною формой с подобием вздутия или кольца на экваторе. Он показал, что общая сила солнечного и лунного тяготения, действуя на Землю, снабженную таким кольцом, заставляет земную ось, вместо того чтобы двигаться параллельно своему прежнему направлению, описывать конус, вследствие чего положение земного, а стало быть, и небесного полюса относительно неподвижных звезд постепенно изменяется и лишь по истечении 25 920 лет становится прежним. Ньютон показал, что в этом случае влияние Солнца на Землю относится к влиянию Луны приблизительно как два к пяти. Некоторое, хотя и ничтожное, влияние оказывают также планеты.
Весьма любопытна данная Ньютоном теория движения комет, которую он считал недостаточно разработанной и напечатал лишь по настоянию Галлея. Изучение комет чрезвычайно затрудняется тем обстоятельством, что они движутся по весьма удлиненным эллипсам, и мы имеем возможность наблюдать лишь ничтожную часть их орбит, нередко заходящих далеко за пределы Солнечной системы. Но великий ум Ньютона сумел воспользоваться этой трудностью для упрощения вопроса. Ньютон понял, что очень удлиненный эллипс весьма сходен с незамкнутою, то есть удаляющейся в бесконечность кривою, называемою параболой; он знал, что вычисление параболического движения гораздо легче, чем вычисление эллиптического, так как первое требует лишь трех наблюдений. Приложив этот метод к вычислению пути кометы 1680 года, он убедился, что вычисление чрезвычайно близко сходится с наблюдением. Вывод тем более важный, что подчинение комет, удаляющихся за пределы нашей планетной системы, закону тяготения доказало приложимость этого закона и к запланетным пространствам. В новейшее время было доказано, что этому закону подчиняются даже так называемые двойные звезды, и поэтому тяготение в полном смысле слова можно назвать всемирным.
Несмотря на убедительность и привлекательность учения Ньютона, не следует думать, чтобы оно было принято сразу всем ученым миром. Рутина, зависть, национальные пристрастия играли в этом случае немалую роль. В тогдашних школах почти безраздельно господствовала декартовская теория вихрей. Казалось весьма удобным объяснять движения планет вихрями, подобными тем, какие образуются в водовороте. Теория Декарта, основанная на довольно поверхностных аналогиях, привлекала своею популярностью, удобопонятностью и мнимыми опытными доказательствами вроде вращения воды с плавающими на ней шариками в сосуде.
Против учения Ньютона восстала тогдашняя школьная мудрость; восстал и пресловутый “здравый смысл” светски образованных людей. Эти последние никак не могли взять в толк, каким образом планеты могут “висеть в пустом пространстве”, хотя Ньютон, чтобы не слишком испугать их, не раз замечал, что планеты “плавают в эфире”. Но даже философы не могли понять, что такое тяготение, и многие из них обвиняли Ньютона чуть ли не в мистицизме, говоря, что он воскрешает “скрытые качества” древних физиков. Ньютон, однако, был мало расположен рассуждать о “сущности” тяготения: он оставлял большей частью открытым вопрос о материальности или нематериальности агента, передающего действие тяготения на расстояние, и, заявляя прямо: hypotheses non fingo (я не выдумываю гипотез), говорил, что все вообще силы рассматриваются им не с физической, а с чисто математической точки зрения.
Такая точка зрения мало кому была доступна в эпоху, недалеко отстоявшую от времен схоластики. Даже Лейбниц неясно представлял себе основные идеи Ньютона. Гюйгенс соглашался признать тяготение как свойство планетных масс, но считал невозможным допустить взаимное притяжение между отдельными частицами материи. Такой астроном, как Кассини, не имел понятия о теории Ньютона и продолжал вычислять орбиты комет старинными, частью неудобными, частью неверными способами. Вообще на континенте учение Ньютона прививалось весьма туго, и Вольтер, много способствовавший популяризации идей Ньютона, был прав, сказав, что по смерти Ньютона у него за пределами Англии не было и двадцати последователей.
На родине Ньютона успех его учения был гораздо более значителен, но все-таки дело не обошлось без упорной борьбы. Даже в Англии господствовали физические теории Декарта, вытеснившие учение Аристотеля. Один из горячих последователей Ньютона, доктор Самуил Кларк, придумал весьма ловкий способ распространить новое учение. Он издал латинский перевод “Физики” Poro, написанный совершенно в картезианском (декартовском) духе и принятый в то время в Кембридже как руководство. К переводу этой французской книги Кларк добавил от себя примечания, в которых изложил взгляды Ньютона. Примечания эти были в большей части случаев опровержением текста, и каждый мог судить, что лучше. Таким образом, даже в Англии учение Ньютона проникло в школьное преподавание первоначально под покровительством Декарта.
Сам Ньютон читал, правда, лекции, в которых отчасти касался и теории тяготения, но, если верить Уистону, лекции эти были не по силам студентам. Позднее знаменитый слепой математик Саундерсон читал лекции о теории Ньютона в форме чрезвычайно популярной и увлекательной. Успех этих лекций был так значителен, что Ньютон переписывался по этому поводу с лектором.
Ньютоновы “Начала” распродавались весьма успешно, особенно если принять во внимание, что первые две части его книги недоступны пониманию большинства читателей. В 1707 году цена книги была уже вчетверо больше номинальной, а еще восемь лет спустя первого издания нельзя уже было нигде достать.
Относительно распространения идей Ньютона вне мира специалистов сохранилось много рассказов современников. Сам Ньютон любил рассказывать следующий анекдот о своем приятеле, философе Локке, не отличавшемся математическими познаниями. Не будучи в состоянии понять ньютоновых “Начал”, но и не желая верить автору на слово, Локк справился у Гюйгенса, верны ли все математические положения Ньютона? Когда Гюйгенс ответил, что на верность математических выводов Ньютона смело можно положиться, Локк счел их доказанными и затем тщательно исследовал рассуждения и выводы не математического характера. Таким образом он понял и усвоил в общих чертах физические истины, вытекающие из теории Ньютона. Подобным же способом он изучил “Оптику” Ньютона и превосходно усвоил все, что не требовало глубоких математических познаний. Между бумагами Локка найдена рукопись Ньютона, озаглавленная: “Доказательство того, что планеты вследствие тяготения к Солнцу могут описывать эллипсы”. Ньютон, очевидно, сам употребил немало труда, чтобы сообщить знаменитому философу свои выводы в форме более популярной, чем та, которую он избрал в первых двух книгах своих “Начал”.
Джон Кейль был первым из учеников Ньютона, читавшим о его теории публичные лекции, которые сопровождались опытами. Он излагал кроме теории тяготения также оптику и гидростатику. Кейль читал в Оксфорде и Лондоне, и лекции его благодаря блестящей манере изложения и интересным экспериментам пользовались немалым успехом “среди людей всех профессий и даже среди дам, которым нравились, по словам современника, опыты, пояснявшие дело”.
Таким образом, если не повсюду, то по крайней мере в Англии учение Ньютона распространилось еще при его жизни не только в ученых кругах, но и во всем образованном обществе.
ГЛАВА VI
Борьба Иакова II с Кембриджским университетом. – Ньютон в роли политического деятеля. – Смерть его матери. – История сумасшествия Ньютона. – Нелепые письма к Локку. – Мнения Био и Лапласа
Король Иаков П, один из величайших ханжей, когда-либо сидевших на британском троне, старавшийся поддержать находящийся в упадке католицизм и даже вновь придать ему значение господствующей в Англии церкви, стал часто нарушать права своих протестантских подданных. Между прочим, за год до своего падения он отправил в Кембриджский университет письменное повеление дать диплом магистра изящных искусств (словесных наук) некоему Фрэнсису, невежественному бенедиктинскому монаху. При всей своей преданности монархии университет усмотрел в этом опасное нарушение своих прав, так как, создав прецедент, можно было ожидать бесконечного повторения таких случаев и легко могло бы случиться, что в конце концов в университетской конгрегации католики оказались бы в большинстве. По этим соображениям университет решительно воспротивился выдаче диплома Фрэнсису, и королевское повеление осталось неисполненным. Король повторил свой приказ, и притом в крайне угрожающей форме. Приближенные короля, большею частью тайные иезуиты, подливали масла в огонь, указывая, например, что чуть раньше Кембриджский университет дал звание магистра секретарю марокканского посольства и что, следовательно, университет почитает магометан больше, чем католиков, и марокканского султана более, чем своего законного государя. Повторные угрозы короля испугали некоторых малодушных, но большинство настаивало на прежнем решении. Вице-канцлер университета был по повелению короля вызван верховным церковным судом для объяснений. Тогда университет избрал из среды профессоров девять делегатов, которых послал для защиты университетских прав.
Несмотря на свою обычную сдержанность, отсутствие всяких ораторских талантов и уклонение от вопросов политической жизни, Ньютон на этот раз был в числе лиц, наиболее горячо отстаивающих права университета. Этот образ действии Ньютона, а также огромная слава, которою он пользовался со времени издания “Начал”, побудили товарищей избрать также Ньютона в число депутатов. Депутация доказывала перед судом, что королевский приказ не имеет ни одного прецедента и что в одном лишь частью сходном случае Карл II взял свой приказ назад. В конце концов Иаков II должен был уступить.
Энергичное участие Ньютона в этом деле заставило его друзей предложить автора “Начал” кандидатом в члены парламента. Между тем Иаков II бежал из Англии, опасаясь революции. В 1688 году Ньютон был действительно избран в парламент, хотя и незначительным большинством голосов, и заседал в так называемом Конвенте впредь до его роспуска. Свои парламентские обязанности Ньютон отправлял аккуратно лишь в течение двух лет, затем стал постоянно отлучаться в Кембридж. Он сам и его поклонники вскоре убедились в полнейшей неспособности Ньютона стать парламентским борцом. За все время пребывания в парламенте Ньютон произнес лишь одну знаменитую в своем роде речь: заметив, что во время речи другого оратора была открыта форточка, он обратился к сторожу с просьбою закрыть ее, чтобы оратор не простудился.
В 1689 году Ньютона постигло семейное горе: умерла от тифа его мать. Извещенный о ее болезни, он испросил в парламенте отпуск и поспешил к ней. Целые ночи проводил великий ученый у постели матери, сам давал ей лекарства и приготовлял горчичники и мушки, ухаживая за больной как самая лучшая сиделка. Но болезнь оказалась роковою. Смерть матери глубоко огорчила Ньютона и, быть может, немало способствовала сильной нервной раздражительности, проявившейся у него несколько позднее.
В начале 1692 года с Ньютоном произошло событие, потрясшее его нервную систему до такой степени, что в течение двух лет с некоторыми промежутками этот великий человек обнаруживал признаки явного душевного расстройства и были периоды, когда с ним случались припадки настоящего, так называемого тихого умопомешательства, или меланхолии.
Виновницею этого события была маленькая комнатная собачка, попавшая в историю: ее звали Алмаз (Дайамонд). В одно воскресное зимнее утро Ньютон по английскому обычаю пошел в церковь. Вставал он всегда рано, а потому с утра работал при свече и по своей вошедшей в пословицу рассеянности оставил ее на столе зажженной. Возвратясь домой и войдя в свой кабинет, он к своему ужасу увидел, что собачка перевернула свечу на разложенные на столе бумаги, в которых содержались результаты многолетних вычислений и опытов по химии и оптике. Увидев, что труды его пропали даром, Ньютон, говорят, воскликнул: “Ах, Алмаз, Алмаз, если бы ты знал, сколько беды ты мне наделал!” По-видимому, впоследствии близкие Ньютона боялись даже напомнить ему об этом событии, да и сам Ньютон лишь смутно сознавал, что с ним произошло. По крайней мере, ни в одном из писем Ньютона, ни в биографических данных, сообщаемых мужем его племянницы Кондюитом, нет ни малейшего намека на это роковое событие, достоверность которого, однако, не подлежит никакому сомнению.
Прежде всего факт душевного расстройства Ньютона подтверждается свидетельством Гюйгенса, который не был способен выдумывать сплетни и всегда отзывался о Ньютоне наилучшим образом. Вот что рассказывает Гюйгенс: “29 мая 1694 года шотландец Колинз рассказал мне, что полтора года тому назад знаменитый, математик Ньютон внезапно сошел с ума, либо вследствие чрезмерного напряжения умственных способностей, либо по причине чрезмерного горя, доставленного ему утратою во время пожара его химической лаборатории и многих рукописей. Когда Ньютон явился к архиепископу кентерберийскому, некоторые его речи указывали на явное умопомешательство. Друзья Ньютона немедленно приняли его на свое попечение и, поместив в уединенном доме, употребили средства, при помощи которых он выздоровел настолько, что уже стал понимать свои “Начала естественной философии”.
В письме, адресованном Лейбницу, Гюйгенс уведомляет о выздоровлении Ньютона, и Лейбниц (23 июня 1694 года) отвечает: “Чрезвычайно рад, что получил это известие одновременно с извещением о болезни Ньютона, которая, без сомнения, была весьма серьезна. Таким людям, как вы и он, я особенно желаю долгой жизни и полного здоровья более чем другим потому, что утрата Другого сравнительно была бы далеко не так тяжела”. Из письма Лейбница очевидно, что болезнь Ньютона до самого выздоровления великого человека была многим неизвестна, откуда ясно, что близкие Ньютона тщательно скрывали истину, – этим, быть может, объясняется молчание первых биографов. Многие из ложного страха умалить славу Ньютона не хотели допустить мысли, что этот гениальный человек мог хотя бы временно сойти с ума. Такие соображения руководили даже наилучшим английским биографом Ньютона, Брюстером, а между тем он-то и нашел документ, окончательно подтвердивший показания Гюйгенса, если забыть о свидетельстве самого Ньютона в виде его писем, о которых будет сказано несколько ниже.
В архиве Кембриджского университета сохранилась интересная рукопись, писанная современником Ньютона. Некий Абрагам де ла Прим, студент Кембриджского университета, в то время юноша восемнадцати лет, аккуратно вел дневник, в который заносил всякое поражавшее его событие. Его рассказ дышит такой наивностью и искренностью, что никаких сомнений насчет истинности быть не может.
Вот что он пишет:
1692 г. 3 февраля. То, что я сегодня слышал, я должен рассказать. Есть некто мистер Ньютон, которого я очень часто видел, профессор коллегии Троицы, страшно знаменитый своей ученостью, чудеснейший математик, философ, богослов и прочее. Он уже много лет член Королевского общества и между прочими учеными книгами написал одну о математических началах философии, которая прославила его так, что он получил, особенно из Шотландии, пропасть поздравительных писем за эту самую книгу·. Но из всех книг, которые он написал, была одна о цветах и свете, основанная на тысячах опытов, которые он делал в течение двадцати лет, и стоившая ему много сот фунтов стерлингов. Эта книга, которую он так ценил и о которой все говорили, по несчастью погибла от пожара. (Следует рассказ, почти дословно сходный с приведенным выше). Когда Ньютон увидел, что случилось, все думали, что он сошел с ума, и он до того был потерян, что еще месяц спустя был сам не свой”.
Из этого бесхитростного рассказа очевидно, что Гюйгенс ошибся лишь в сроках, полагая, будто эпизод со свечой произошел в конце 1692 года, тогда как дело было в начале года – ошибка понятная, если принять во внимание все то, что сообщает кембриджский студент, и если различить в болезни Ньютона несколько периодов. Студент говорит: “все думали, что Ньютон сошел с ума”, то есть, вероятно, потом перестали думать, не видя признаков буйного помешательства. Ньютон был, однако, все еще “потерян” и “сам не свой”. Как видно из рассказа Гюйгенса, гораздо позднее Ньютон явился к архиепископу; это вполне правдоподобно. Незадолго до пожара, вероятно после смерти матери, которая, заметим кстати, второй раз была замужем за священником, Ньютон стал впервые много заниматься богословскими вопросами. После рокового пожара его расстроенный мозг продолжал работать, и весьма возможно, что Ньютон явился к архиепископу с такими богословскими рассуждениями, которые смутили это духовное лицо не менее чем друзей Ньютона. Кому случалось видеть постепенное развитие сумасшествия, тот знает, что нередко душевная болезнь долго ускользает от внимания даже врачей, а тем более людей, не привыкших распознавать признаки помешательства. Поэтому Брюстер поступает весьма нелогично, выводя из приведенного рассказа, что Ньютон после нервного возбуждения, продолжавшегося “лишь месяц”, совсем выздоровел и лишь по временам страдал будто бы меланхолией самого обыкновенного рода, то есть обычным английским сплином.
Для полного определения характера болезни Ньютона необходимо, во-первых, – условиться насчет термина умопомешательство, нередко прилагаемого к самым разнородным душевным болезням, во-вторых, различать в болезни разные периоды. Еще древние признавали существование так называемых “светлых промежутков”, и они появлялись также в болезни Ньютона.
По нашему мнению, единственным признаком, отличающим настоящее умопомешательство от различных нервных возбуждений и экстазов, является слабость воли, соединенная с расстройством логических способностей. Что касается чувств, они могут быть крайне притуплены, но иногда и наоборот могут находиться в крайне возбужденном состоянии – порою то и другое состояния чередуются. Если будет доказано, что во время болезни Ньютон не только не мог управлять собою, но и обнаружил явное отсутствие элементарной способности логически мыслить, дошедши до того, что некоторые его действия и мысли могли показаться следствием вопиющей неразвитости или даже глупости, всякое сомнение потеряет смысл: Паскаль, которого ложно считали помешанным, даже в своем знаменитом “Завещании” остался если и больным мистиком, во всяком случае умным человеком; письмо же, подобное тому, которое Ньютон отправил Локку, мог написать или глупец, или безумный.
Приблизительный ход развития болезни Ньютона, по нашему мнению, следующий: в начале 1692 года происходит пожар, истребивший его бумаги и сильно потрясший Ньютона, который “не мог опомниться” в течение месяца; гибель его трудов наводит на Ньютона крайнюю апатию – в меньшем размере мы это видели после полемики из-за оптических теорий, когда Ньютон, бывший в расцвете сил, на минуту бросил философию и взялся за производство сидра; вскоре ум Ньютона начинает работать, но болезненно; он занимается богословием, переписывается с Бентлеем; он болен, но все еще не сумасшедший. Переписка изнуряет его окончательно; Ньютон начинает страдать то мучительной бессонницей, то болезненной сонливостью; в начале 1693 года болезнь обостряется, мысли Ньютона становятся бессвязными, он впадает в глубокую меланхолию. Это состояние, идущее по нарастающей до осени, и есть эпоха полного умопомешательства, длившаяся около года. Такая картина болезни сходится и с показанием Гюйгенса, что Ньютон сошел с ума в начале 1693 года, и с письмами к Локку, писанными Ньютоном осенью этого года. Лишь с октября начинается улучшение, и около апреля 1694 года Ньютон уже понимает свои “Начала естественной философии”.
В доказательство справедливости такого взгляда на болезнь Ньютона приведем главные факты, касающиеся этой печальной эпохи в жизни великого человека.
После первого потрясения Ньютон понемногу стал приходить в себя и к концу 1692 года был почти здоров. В это-то время он затеял богословскую переписку, доведшую его до еще более тяжкой болезни. Весьма возможно, что на богословские предметы он был опять наведен не только собственными мыслями, но и стараниями друзей, родственников и особенно родственниц. Английские женщины, как известно, часто говорят с больными о религии, и, кроме желания рассеять меланхолию Ньютона, тут играло, быть может, роль соображение, что благочестивые размышления не так утомят мозг больного, как научные предметы; а этот мозг требовал пищи уже по одной привычке к сосредоточенному мышлению. Еще летом 1692 года Ньютон чувствовал себя настолько сильным, что мог послать математику Валлису ответ на трудное геометрическое предложение – ясное доказательство того, что потрясение, за которое история должна винить любимую собачку Ньютона, не оставило неизлечимых последствий и что окончательное помешательство Ньютона было вызвано безрассудным переутомлением мозга больного, которого, быть может, почти заставили заниматься отвлеченностями богословской догматики. Всю зиму 1692/93 года, с начала декабря по конец февраля, Ньютон размышляет исключительно о богословии и пишет замечательные в своем роде письма к доктору Бентлею, доказывающие, что в эту зиму Ньютон никак не мог быть сумасшедшим, но мог от таких работ сойти под конец с ума.
Происхождение писем Ньютона к Бентлею таково. Молодой блестящий проповедник доктор Бентлей усердно занимался апологией христианства, ратуя против тогдашнего материализма, главным представителем которого считался Гоббс, так что слово “гоббист” было почти равносильно позднейшему слову “нигилист”. Благочестивые люди постоянно боролись с “гоббистами”, которых, по словам одного современника, можно было встретить в каждой кофейне. Согласно завещанию известного физика Бойля была учреждена стипендия по пятьсот рублей в год для основания кафедры, с которой предстояло произносить ежегодно восемь проповедей против атеизма. Эта кафедра досталась Бентлею. Он прочел шесть проповедей, исходя из аргументов большею частью психологического свойства. Тут ему в голову пришла блестящая мысль прибегнуть к помощи философии Ньютона, и он вздумал посвятить две лекции так называемому космологическому доказательству существования Провидения, формулируемому текстом: небеса поведают славу Божию. Бентлей обратился за содействием к самому Ньютону – новое свидетельство того, что близкие Ньютона считали этот род размышлений самым подходящим для больного и что собачка вовсе не так виновата, как думают, – во всяком случае на нее падает лишь часть вины. Бентлей просил Ньютона указать ему, какие книги следует прочесть предварительно, чтобы осилить его “Начала”. Ньютон составил список, и Бентлей, человек огромных способностей и чрезвычайного трудолюбия, очень скоро одолел “Начала”, постиг систему Ньютона не как дилетант, а как настоящий математик. Тем не менее, не вполне доверяя своим силам, Бентлей искал содействия Ньютона для устранения разных мучивших его сомнений. Особенно смущала молодого богослова теория знаменитого римского поэта-материалиста Лукреция, представляющая поэтическую обработку атомизма. Бентлей послал Ньютону целый список вопросов, и едва оправившийся больной лихорадочно взялся за работу, желая согласовать свое философское учение с положительной религией – задача, которая была бы не легка и для вполне здорового ума. По словам самого Ньютона, целью его писем было доказать, что он создал свои “Начала естественной философии”, чтобы найти принципы, которые неизбежно должны привести к вере в Божество.
В одном из этих чрезвычайно любопытных писем, составляющем ответ на вопрос Бентлея, как Ньютон смотрит на систему Лукреция? – больной, но все еще великий ум пытается опровергнуть материалистическое учение следующими доводами. Если бы материя была вечна и обладала врожденною способностью тяготения, то во всяком данном конечном пространстве, например, в пределах Солнечной системы, она в конце концов должна была бы сойтись к центру системы и образовать одну большую сферическую массу. Если признать, что материя рассеяна в бесконечном пространстве, то часть ее соберется в одну массу, другая часть в другую и так далее, и получится бесконечное число сферических тел. Таким образом могли возникнуть и Солнце, и звезды из светящейся материи. Но есть и такие особенности, которые необъяснимы естественными причинами. Непонятно, почему материя разделилась на две части: светящуюся (Солнце и звезды) и темную (Земля и планеты). Если бы мироздание было создано неразумной силой, она распределила бы темные и светящиеся тела как попало. Солнце находится в центре всей планетной системы. Нет, однако, причины, почему бы Солнцу не быть темным телом, подобно Земле, находящейся также в центре лунной орбиты, или Юпитеру, вокруг которого вращаются спутники. Словом, нет естественных причин, объясняющих распределение светящихся и несветящихся тел, стало быть, эти причины сверхъестественны.
Конечно, на это можно было бы возразить Ньютону, что незнание естественных причин еще не служит доказательством их отсутствия и что с той же точки зрения Кеплер, не знавший теории тяготения, открытой Ньютоном, мог считать свои законы следствием сверхъестественной причины – гармонического плана мироздания. Но во всяком случае это письмо Ньютона доказывает еще значительную силу его ума.
Далее Ньютон пишет, что самый закон тяготения свидетельствует о существовании разумного плана мироздания. Для того чтобы так искусно приладить одну планету к другой и рассчитать все пропорции, например дать Земле такую скорость, чтобы находящиеся на экваторе предметы могли на ней держаться несмотря на вращение, по словам Ньютона, требовались искусные руки художника-геометра. В этом случае Ньютон почти прав: да, требовался великий ум самого Ньютона, чтобы дать план мироздания и “приладить пропорции”, превратив нестройный хаос в художественную “гармонию”. Законы природы выражают зависимость между внешними явлениями и нашим умом. Для ума дикаря и даже всякого малообразованного человека Солнечная система до сих пор остается непонятным хаосом, и он только по привычке знает или верит, что Солнце взойдет завтра, как взошло вчера.
Не менее любопытно третье письмо, в котором прямо сказывается сильный математический ум. Здесь Ньютон разбирает мнение, приписанное Бентлеем Платону, что небесные тела были созданы на бесконечном расстоянии от Земли. Ньютон разбирает по этому поводу разные гипотезы, вроде той, что произошло бы, если бы солнечное тяготение внезапно удвоилось или, наоборот, уменьшилось, и доказывает, что постоянство силы тяготения противоречит приведенному мнению Платона, так как лишь при переменном тяготении бесконечная параболическая орбита могла бы превратиться в замкнутую эллиптическую. Очевидно, что мыслить с такою логическою последовательностью может только человек во всяком случае не помешанный.
Но это умственное напряжение дорого стоило Ньютону. По окончании переписки с Бентлеем силы его все слабеют, и в одном из писем, помеченном 13 сентября 1693 года, он сам заявляет, что “потерял связь своих мыслей”. В этом письме, адресованном Пепису, Ньютон проявляет все признаки серьезной душевной болезни: бессвязность мыслей, неестественную подозрительность, необычайную хандру и враждебность к людям, ничего дурного ему не сделавшим.
“Миллингтон передал мне ваше послание, – пишет Ньютон, – и просил меня убедительно повидать вас, когда я буду в Лондоне. Я противился; но по его настоянию согласился, не подумав, что делаю; потому что я чрезвычайно потрясен путаницей, в которую попал, и все эти двенадцать месяцев я плохо ел и плохо спал и не имею прежней связи мыслей. Я никогда не намеревался достигнуть чего-либо посредством вас или посредством милости короля Иакова,[2] но чувствую, что должен отделаться от вашего знакомства и не видеть ни вас, ни кого-либо из своих друзей, если только я могу потихоньку ускользнуть от них. Прошу прощения за то, что сказал, будто хотел вас повидать, и остаюсь вашим покорнейшим слугою. И. Ньютон”.
Это написано через полгода после последнего письма к Бентлею, и по всему видно, что за лето 1693 года болезнь развилась необычайно быстро.
13 сентября было написано приведенное письмо к Пепису, а три дня спустя, 16 сентября, Ньютон пишет свое знаменитое письмо к Локку:
“Сэр! Будучи того мнения, что вы намерены запутать меня с женщинами, а также другими способами, я был так расстроен этим, что когда мне сказали, что вы больны и вероятно умрете, я ответил, что было бы лучше, если бы вы умерли. Теперь прошу прощения за этот недостаток чувства милосердия, потому что теперь я доволен, зная, что сделанное вами справедливо, и прошу прощения за то, что дурно о вас думал и что представлял себе, будто вы подрываете основы нравственности в принципах, положенных вами в основание вашей книги об идеях и в других книгах, и за то, что я счел вас за гоббиста. Прошу прощения за то, что я сказал и думал, что вы хотите продать мне должность или запутать меня. Ваш нижайший и несчастнейший слуга Исаак Ньютон”.
Локк, по-видимому, не предполагавший, в каком положении находился Ньютон, был просто поражен этим посланием и не знал что думать. Он ответил дружеским успокоительным письмом, прося Ньютона указать, где и в чем он видел в его книге “подрывание основ”, и обещал исправить сколько-нибудь сомнительные места.
Письмо к Локку помечено Лондоном. Через две недели после этого Пепис, получивший известное уже письмо от Ньютона, уведомляет Миллингтона: “Я получил письмо столь бессвязное, что боюсь, нет ли у Ньютона расстройства головы и ума или и того, и другого”. Миллингтон отвечает:
“28 числа я встретил Ньютона. Без всякого вопроса с моей стороны он сказал мне: “Я написал Пепису странное письмо и теперь смущен. У меня постоянно болит голова, и я пять суток сряду не спал, а потому прошу прощения: мне стыдно, что я писал такие грубости”. Миллингтон продолжает: “Ньютон теперь здоров и хотя немного подвержен меланхолии, надеюсь, что это не повлияло на его разум и не повлияет впредь. Я думаю, этого должны желать все, кто любит науку”. Несколько дней спустя мы видим Ньютона в Кембридже, и он пишет Локку новое письмо, менее нелепое, но еще далеко не свидетельствующее о полном выздоровлении. “Сэр! В последнюю зиму, слишком часто засылая у камина, я приобрел дурную привычку спать; и расстройство, которое в это время было эпидемическим, вывело меня из колеи, так что когда я писал вам, я целые сутки не спал ни часу, а в течение дня не спал ни минуты. Помню, что писал вам, но что я сказал о вашей книге, не помню. Если вам угодно прислать мне выписку этого места, я вам объясню, если смогу. Ваш покорный слуга И. Ньютон”.
О ходе болезни Ньютона в течение зимы 1693/94 года известно немногое. Вполне достоверно, что весною он был настолько здоров, чтобы понимать свои сочинения, а в августе того же года уже принялся за дальнейшую разработку одного из труднейших вопросов небесной механики, а именно теории движения Луны.
Здесь вполне уместно указать на преувеличение, в которое впали Лаплас и Био, утверждая, что после выздоровления Ньютон утратил прежний гений, что вместо науки он стал заниматься богословием, и в доказательство всего этого указывая, что после 1693 года он не совершил ни одного великого открытия. Последний аргумент, даже если принять его без оговорок, не вполне убедителен. Мы видим сплошь и рядом, что даже для гениальнейших людей большею частью существует определенная эпоха творчества и что впоследствии они лишь разрабатывают свои прежние открытия. В каждом, даже величайшем гении есть лишь известный запас творческой энергии, который расходуется раньше или позднее в зависимости от характера, темперамента, часто даже от внешних обстоятельств. Таким обстоятельством для Ньютона явилось, например, назначение его депутатом в парламент – занятие совсем ему несвойственное. По большей части замечается, что преждевременное развитие влечет за собою скорое истощение и даже смерть (Паскаль, Моцарт, Рафаэль). О Ньютоне нельзя сказать, чтобы развитие его шло ненормально вплоть до испытанной им душевной болезни. Но весьма возможно, что ослабление творчества наступило независимо от болезни. Непрерывное творчество от юности до глубокой старости явление весьма редкое и притом встречающееся скорее в области поэтического творчества (Гете, Виктор Гюго), чем в области науки. Ньютон совершил первые великие открытия, имея двадцать четыре года; его “Начала” были обработаны для первого издания, когда Ньютону было сорок пять лет. Двадцать один год творчества – это уже весьма значительная величина; но и самый факт полного оскудения творческих сил Ньютона неверен. Только после своей болезни Ньютон окончательно разработал теорию движений Луны и подготовил повторные издания своего бессмертного труда, в которых сделал много новых, весьма важных дополнений. После болезни он создал свою теорию астрономической рефракции, то есть преломления лучей светил в слоях земной атмосферы, – теорию в высшей степени остроумную и не утратившую значения до сих пор. Наконец, после болезни Ньютон решил несколько весьма трудных задач, предложенных другими математиками.
ГЛАВА VII
Назначение Ньютона директором монетного двора. – Задача Бернулли. – Ex ungue leonem. – Донос на Ньютона. – Полемика с Лейбницем. – Билль о долготах. – Письмо Лейбница к принцессе Уэльской. – Хронологические и богословские сочинения Ньютона. – Социнианские идеи
Ньютону было уже за пятьдесят лет. Несмотря на свою огромную славу и блестящий успех его книги (издание принадлежало не ему, а Королевскому обществу), Ньютон жил в весьма стесненных обстоятельствах, а иногда просто нуждался: случалось, что он не мог уплатить пустячного членского взноса. Жалованье его было незначительно, и Ньютон тратил все, что имел, частью на химические опыты, частью на помощь своим родственникам; он помогал даже своей старинной любви – бывшей мисс Сторей.
В 1695 году материальные обстоятельства Ньютона изменились. Близкий друг и поклонник Ньютона Чарльз Монтегю, молодой аристократ, лет на двадцать моложе Ньютона, страстный любитель литературы, немного занимавшийся также и наукой, достиг одного из самых высоких положений в государстве: он был назначен канцлером казначейства (почти то же, что министр финансов).
Заняв этот пост, Монтегю обнаружил замечательные административные способности. Между прочим он занялся вопросом об улучшении денежного обращения в Англии, где в то время, после ряда войн и революций, было множество фальшивой и неполновесной монеты, что приносило огромный ущерб торговле. Монтегю вздумал перечеканить всю монету. Многие восстали против этой реформы, называя ее “диким проектом”, могущим разорить казну и даже “подорвать основы государственной власти”. Но Монтегю был не из числа людей, которых можно напугать громкими словами. Он убедил в своей правоте и палату, и корону – и перечеканка была дозволена.
Чтобы придать наибольший вес своим доказательствам, Монтегю обратился к тогдашним знаменитостям, а именно к Ньютону, Локку и Галлею. В то же время ему пришла мысль выказать благодарность своему гениальному другу и воспользоваться его услугами для блага страны.
Вольтер объясняет дело иначе. Со свойственной ему “гениальной игривостью” он утверждает, что Ньютон оказался в чести не за то, что был автором “Начал”, а потому, что имел хорошенькую племянницу. Отношения Монтегю к племяннице Ньютона, конечно, не секрет; но благородный и открытый характер этого государственного человека говорит за то, что он главным образом руководствовался своим безграничным уважением к Ньютону.
В марте 1695 года Монтегю написал Ньютону письмо, в котором сообщил, что уже заручился согласием короля на его назначение. “Эта должность (то есть управляющего монетным двором), – писал Монтегю, – чрезвычайно годится для вас. Это главная должность в монетном дворе. Она оплачивается пятью или шестью тысячами рублей в год, а дела не слишком много, так что займет не более времени, чем вы можете уделить”.
Ньютон не обманул ожиданий своего друга. Он взялся за новое дело с чрезвычайным усердием и вполне добросовестно, причем своими познаниями в химии и математической сообразительностью оказал огромные услуги стране. Благодаря этому трудное и запутанное дело перечеканки было удачно выполнено в течение двух лет, что сразу восстановило торговый кредит. Эта реформа чрезвычайно огорчила менял, ростовщиков и фальшивомонетчиков. Некий Шалонэ написал на Ньютона донос, указав на выпуск фальшивой монеты и обвиняя в этом Ньютона. Следствие показало, что монету фабриковал сам доносчик, и по тогдашним законам он был казнен.
Ньютон так много работал по должности, что в эти два года почти не занимался математикой. Только раз представился случай испытать его силы. В июне 1696 года известный математик Иоганн Бернулли, один из членов знаменитой “математической династии Бернулли”, послал вызов “всем остроумнейшим математикам, процветающим на земном шаре”, предлагая решить две весьма трудные задачи. Одна состояла в определении рода кривой линии, соединяющей две точки таким образом, что тело, движущееся по ней единственно в силу своей тяжести, начав движение из верхней точки, достигало нижней в возможно короткий промежуток времени. Можно подумать, что прямая линия как кратчайшая удовлетворяет этой задаче; но не следует забывать, что в этом вопросе играет роль не одна длина пути, но и скорость движения точки. Другая задача, чисто геометрическая, была не менее сложна. В то время председателем Королевского общества был Монтегю. Получив задачи, он передал их Ньютону, который, занявшись ими в часы досуга, в тот же день решил обе и прислал решение Монтегю. Ньютон показал, что первой задаче удовлетворяет так называемая циклоида, кривая линия, исследованная еще Паскалем.
Этот случай особенно любопытен по той причине, что дает возможность сравнить силы Ньютона после испытанной им душевной болезни с силами других тогдашних математиков первой величины. Решением задач Бернулли занялись первые математики того времени, в том числе в Германии Лейбниц и во Франции Лопиталь. Лейбниц был “поражен красотою задач” и, узнав, что Бернулли назначил шестимесячный срок на решение, просил продлить его до одного года. Бернулли охотно согласился, и к концу срока были получены решения от Ньютона, Лейбница и Лопиталя, причем решение Ньютона, найденное им в несколько часов, было без подписи. Но Бернулли тем не менее тотчас угадал автора: “tanquam ex ungue leonem (как по когтям льва)”, по словам самого Бернулли.
Вскоре после того Ньютон из управляющего монетным двором был сделан главным директором монетного дела и стал получать 15 тысяч рублей в год; эту должность он занимал до самой смерти. При чрезвычайно умеренном образе жизни Ньютона из жалованья у него образовался целый капитал.
Усиленная служебная деятельность Ньютона сама по себе достаточно объясняет уменьшение его творческой активности в области науки. Мы видим, что Ньютон то пишет отчеты о чеканке монеты, то составляет таблицы пробы иностранных монет, то занимается металлургией, насколько это необходимо для монетного дела. В 1701 году Ньютон, убедившись в полной несовместимости своей должности с профессорскими обязанностями, передает кембриджскую кафедру своему ученику Уистону, которого, впрочем, вскоре удалили и заменили слепцом Саундерсоном.
Около этого времени в дом Ньютона переселилась его племянница, вдова полковника Катерина Бартон, умная, прекрасная молодая женщина, которую Ньютон воспитал на свои средства и любил как дочь. Между тем друг Ньютона Монтегю, к тому времени уже граф Галифакс, потерял жену и, встречаясь у Ньютона с его племянницей, вскоре влюбился в нее. Отношения Монтегю и молодой вдовы возбудили много злых толков, хотя поклонники Ньютона уверяют, что отношения эти были чисто платоническими. Так или иначе, Катерина Бартон была одной из образованнейших и прекраснейших женщин своего времени. Мало-помалу Монтегю сделался в доме Ньютона своим человеком и стал относиться к Ньютону как к старшему родственнику. Этот государственный человек, водивший дружбу со многими учеными, литераторами и поэтами, например с Галлеем, Конгривом, Стилем и Попом, умер в расцвете лет, в 1715 году, оставив в завещании значительную сумму на имя Катерины Бартон и записав на имя Ньютона, в знак любви и уважения, тысячу рублей.
Как всегда бывает, за назначением Ньютона на высокий пост главного директора монетного двора последовал ряд почестей и отличий. В 1699 году Парижская академия наук, только что получившая разрешение допустить в число своих членов несколько корреспондентов из иностранцев, избрала в свои члены Ньютона. В 1703 году Ньютон был избран президентом Лондонского королевского общества и занимал этот пост до самой смерти. В 1705 году королева Анна вздумала со всем своим двором посетить Кембриджский университет и по этому случаю пожаловала Ньютона в дворянское звание. В том же году Ньютон испытал значение пословицы: “нет пророка в своем отечестве”. В Кембридже нашли, что он слишком долго и без пользы был депутатом от университета, и на новых выборах Ньютон провалился, пройдя последним в списке.
До какой степени занятия по должности отвлекали Ньютона от науки, видно из того, что второе издание “Начал” он решился поручить своему ученику, талантливому молодому математику Котесу, конечно, под своим наблюдением. По этому предмету между Котесом и Ньютоном завязалась обширная переписка.
Когда книга была почти напечатана, Котес выразил желание присоединить к ней предисловие и просил богослова и математика Бентлея взять на себя эту работу. Но Бентлей, да и сам Ньютон, настаивали на том, чтобы предисловие было составлено Котесом. Последний согласился и спросил Ньютона, дозволит ли он “отделать” Лейбница за его нападки на Ньютона? В то время между Ньютоном и Лейбницем происходила знаменитая полемика, в которой оба противника были одинаково неправы по вопросу о том, кто из них первый изобрел дифференциальное исчисление. При всем своем личном раздражении против Лейбница Ньютон не только не дозволил упомянуть его имя в предисловии, но, наоборот, воздал должное своему противнику в особом примечании, в котором прямо признает за Лейбницем равные с собою права на открытие дифференциального исчисления. Ньютон сознавал, что великое произведение, где излагаются вечные истины, не должно иметь ничего общего с полемикой, представляющей чисто личный и весьма недолговечный интерес.
Вскоре после выхода второго издания его книги Ньютон был назначен членом комиссии, учрежденной для составления парламентского билля о выдаче наград за разработку наилучшего способа определять долготу места в открытом море. Комитет состоял из Ньютона, Галлея, Котеса и Кларка, к которым причислили Диттона и Уистона – оба последних предлагали свой собственный способ определения долготы. Котес и Галлей находили способ Диттона и Уистона теоретически верным, но требующим практической проверки. Когда спросили мнения Ньютона, он прочел длинную записку, где довольно тяжелым языком изложил разные способы определения долготы, а о способе Диттона и Уистона сказал: “Это скорее записывание, чем определение, и насколько этот способ годится в открытом море, пусть скажут моряки”. Уистон уверяет, что записки Ньютона “никто не понял”, конечно, потому, что общий ее вывод был не совсем в его пользу. Когда комиссия была призвана в парламент для объяснений, записка Ньютона была вновь прочитана. Для членов парламента многое в ней действительно было неясно, и Ньютона просили объясниться несколько понятнее. Но, несмотря на повторное приглашение, Ньютон не вставал с места и упорно молчал. Тогда догадливый Уистон сказал: “Сэр Исаак не желает объяснять ничего более из боязни скомпрометировать свое достоинство, но в сущности он одобряет этот проект, зная, что предложенный метод очень полезен близ берегов, где плавание всего опаснее”. Тогда Ньютон встал и, повторяя слова Уистона, сказал: “Думаю, что билль следует принять, потому что предложенный метод очень полезен близ берегов, где плавание всего опаснее”. Билль был принят единогласно.
Эта комичная сцена, свидетельствующая о некоторых странностях в характере Ньютона, подала повод к утверждению, будто еще в то время Ньютон не вполне оправился от своей душевной болезни. Био утверждает, что лишь этим можно объяснить “ребячество”, обнаруженное Ньютоном. Брюстер иного мнения, и нам кажется, что он прав. Ньютон, помимо его известной неспособности к ораторству, был окончательно сконфужен поведением Уистона, который из личных, даже прямо корыстных целей навязал ему свои собственные слова, тогда как он хотел отмолчаться и умыть руки в этом деле.
Это смущение и выразилось довольно смешным образом, но видеть в данном случае следы душевного расстройства едва ли основательно. Известно, что Ньютон еще до болезни отличался феноменальной рассеянностью, неумением говорить в обществе и угловатостью манер. По вступлении на престол Георга I Ньютон попал в салоны принцессы Уэльской (жены наследного принца Георга). Это была умная и образованная женщина, состоявшая в переписке со многими философами, в том числе и с Лейбницем. В одном из писем к принцессе Лейбниц, под влиянием ссоры с Ньютоном, совершил поступок в высшей степени некрасивый даже со стороны не философа, Он написал принцессе, что считает философию Ньютона не только ложной с физической точки зрения, но и опасной в религиозном отношении. Такое письмо было крайне неприлично для философа, не раз восстававшего против обскурантизма и религиозной нетерпимости. В том же письме он напал на Локка и вообще на английскую философию, обвиняя ее в грубом материализме.
Об этих нападках стали говорить при дворе, и король Георг выразил желание, чтобы Ньютон написал возражение. Ньютон взял на себя лишь математическую часть полемики, предоставив философию и богословие доктору Кларку. Эго опровержение, просмотренное самою принцессою, было послано Лейбницу. Даже смерть Лейбница не прекратила полемики, так как Ньютон считал необходимым во всяком случае опубликовать письма, в которых опровергал возведенное на него обвинение в плагиате математических открытий Лейбница. На такое объяснение с читающей публикой Ньютон, конечно, всегда имел право.
В последние годы своей жизни Ньютон стал много заниматься предметами, прежде интересовавшими его лишь случайным образом, например хронологией. Что касается богословия, было бы ошибкою принять мнение Био, будто богословские работы Ньютона относятся исключительно к старческому возрасту. Уже были приведены отрывки из писем к Бентлею, писанных Ньютоном в первый период своей болезни. Но еще раньше Ньютон написал один весьма любопытный богословский трактат, и странно, что наибольшую известность получили его примечания к Апокалипсису, – труд, лишенный всякого научного и литературного значения.
Трактат, о котором идет речь, написан никак не позднее 1691 года, стало быть, еще до болезни Ньютона, и был последствием переписки Ньютона с Локком. Он носит заглавие: “О двух значительных искажениях текста Св. Писания. Историческое исследование в письмах к другу” (то есть к Локку). Ньютон, по-видимому, весьма дорожил этим трактатом и желал скорейшего напечатания его; но, боясь полемики и обвинения в неверии, он просил Локка, собиравшегося в то время в Голландию, перевести этот трактат на французский язык и опубликовать на континенте. Локк, однако, в Голландию не поехал, а потому переслал рукопись, которую сам переписал, без имени Ньютона, своему другу Леклерку, жившему в Голландии (собственно, в нынешней Бельгии). Леклерк долго откладывал, наконец начал печатать. Узнав об этом, Ньютон вдруг передумал и просил остановить печатание, говоря, что оплатит все издержки. Локк немедленно уведомил Леклерка, и последний положил рукопись, переписанную, как сказано, рукою Локка, на хранение в одну библиотеку. В печати она появилась лишь после смерти Ньютона, да и то сначала в неполном виде. Полный текст явился лишь в “Собрании сочинений Ньютона”, изданном Горслеем.
Трактат Ньютона любопытен как явное доказательство социнианских убеждений автора, и социниане[3] были вполне правы, признав Ньютона “своим”. Если его “Примечания к Апокалипсису” – плод старческого ума – действительно не имеют никакой ценности, то названный выше трактат показывает, что Ньютон был вполне способен к серьезной научной библейской критике. Любопытны слова Ньютона, которыми он, очевидно, хотел отклонить упрек в неверии: “Наилучшая услуга для истины – это очистить ее от всяких бренных прибавок”.
ГЛАВА VIII
Последние годы жизни Ньютона. – Знакомство с Пембертоном. – Любопытный разговор с Кондюитом. – Болезнь и смерть. – Национальные похороны. – Суждения современников и ближайшего потомства. – Частная жизнь и характер Ньютона. – Общий взгляд на его научный гений
Второе издание книги Ньютона разошлось еще скорее первого. Ньютон подготовлял третье издание, как вдруг преждевременная смерть даровитого Котеса лишила его верного помощника. Ньютону рекомендовали молодого медика доктора Пембертона, много занимавшегося математикой. Впрочем, наилучшей рекомендацией в глазах Ньютона было то обстоятельство, что Пембертон защищал его научные теории против непрекращавшихся нападок со стороны учеников Лейбница. Один итальянский математик, Палени, произвел опыты, доказавшие, по его мнению, правильность теории Лейбница, по которой действие силы пропорционально квадрату скорости. Пембертон написал возражение, которое так понравилось Ньютону, что он немедленно сам отправился к молодому врачу и показал ему свое собственное возражение итальянскому математику. Статья Пембертона была напечатана в “Трудах” Лондонского королевского общества, а доказательство Ньютона помещено в виде прибавления без подписи. С тех пор между Ньютоном и Пембертоном завязалась дружба, и Ньютон поручил своему молодому другу наблюдение за третьим изданием “Начал”. В издании этом (1726 год) появилось много новых добавлений. Пембертон немало способствовал делу популяризации идей Ньютона. Он также часто беседовал с Ньютоном, собирая от него разные автобиографические сведения.
По смерти Монтегю племянница Ньютона продолжала жить у дяди, как всегда, вела его хозяйство и ухаживала за ним. Когда она затем вышла замуж за Кондюита, Ньютон решительно объявил, что не желает расстаться с племянницей, и она вместе с мужем жила в его доме до самой его смерти.
Когда Ньютону исполнилось восемьдесят лет, он впервые почувствовал серьезное расстройство мочевого пузыря, связанное с образованием камня. Ньютон всегда вел правильную жизнь, но теперь стал принимать разные меры предосторожности, о которых прежде не думал, и значительно облегчил свое состояние. Он перестал даже ездить в коляске (его возили в кресле), отказывался от приглашений на обеды и у себя дома принимал лишь ближайших друзей. Сверх того, Ньютон соблюдал диету: он ел весьма мало мяса, питаясь овощами и фруктами. В августе 1724 года у него вышло без боли два камешка и его здоровье поправилось, но в январе 1725 года он сильно простудился и схватил воспаление легких. С трудом удалось убедить Ньютона переехать в Кенсингтон, где ему стало лучше. Правда, он впервые почувствовал припадки подагры, но зато общее состояние его несколько улучшилось.
Однажды в воскресенье (7 марта 1725 года) Ньютон чувствовал себя особенно свежим и бодрым. Он завел беседу с мужем племянницы о физической астрономии.
– Я предполагаю, – сказал Ньютон (в подобных беседах Ньютон никогда не утверждал положительно), – я предполагаю, что на небесных светилах происходит нечто вроде революций. Вероятно, пары и светящаяся материя, испускаемая Солнцем, постепенно собираются в одно тело, которое притягивает к себе также пары и другую материю от планет. Вследствие этого получается вторичное небесное тело, которое, все более увеличиваясь, становится кометой и после длинного ряда оборотов вокруг Солнца начинает приближаться к нему постепенно, пока наконец не приблизится так, что может упасть на Солнце и пополнить его материю. Вещество Солнца должно постоянно убывать вследствие постоянного испускания света и тепла (Ньютон считал свет веществом, но стоит вместо вещества подставить слово “энергия”, и получится теория, весьма сходная с новейшей). Приблизившись на достаточное расстояние к Солнцу, комета упадет, как мотылек, летящий на огонь. Вероятно, это произойдет и с кометой 1680 года. Наблюдения показали, что она, прежде чем подойти к Солнцу, имела хвост в два или три градуса. Теперь Солнце отдало ей часть материи и по удалении от Солнца у нее оказался хвост в тридцать-сорок градусов. Не знаю, когда она упадет на Солнце, вероятно, обойдет раз пять-шесть. Но когда произойдет это падение, то жар Солнца возрастет до того, что на Земле ни одно живое существо не будет в состоянии жить (каковы бы ни были ошибки Ньютона, любопытно видеть, как близко он подошел к учению о превращении механической работы в теплоту). По-моему, однородные с этим явления наблюдали Гиппарх, Тихо Браге и ученики Кеплера. Между неподвижными звездами, а это такие же солнца, как и наше, вдруг, например, явилась звезда необыкновенной величины, с Венеру, потом в течение шестнадцати месяцев уменьшалась и наконец исчезла. Вообще, я предполагаю, что на Земле жизнь не слишком давнего происхождения и во всяком случае не могла быть вечно. Доказательством служит то, что все искусства, науки, изобретения, не только книгопечатания, но даже азбуки и иглы, – все это события исторические. Будь жизнь вечна, мы должны были бы иметь множество изобретений, о которых не помнит никакая история. Кроме того, я полагаю, что на Земле было много переворотов; есть следы таких, которые не могли быть произведены всемирным потопом.
– Но если все живое погибнет от падения кометы на Солнце, – спросил Кондюит, – то каким образом Земля населится вновь?
– Для этого необходимо новое творчество, – возразил Ньютон. – Я полагаю, что планеты состоят из такого же вещества, как и Земля, но иначе распределенного.
– Отчего вы не напечатаете ваших предположений, сказав, что это предположение? – спросил Кондюит. – Ведь вы не заходите так далеко, как Кеплер, а многие догадки Кеплера потом оправдались.
– Я не занимаюсь “предположениями”, – сказал Ньютон.
– Когда же может возвратиться комета 1680 года?
Ньютон вместо ответа открыл свои “Начала” и указал место, где сказано, что период этой кометы составляет 574 года, так что ее видели при Юстиниане и в 1106 году и увидят в 2254 году. Затем он прочел другой текст, где сказано: Stellae fixae refici possunt (неподвижные звезды могут восстановиться от падения на них комет), но о Солнце ничего не сказано.
– Почему же, – спросил Кондюит, – вы не писали о Солнце так же откровенно, как о звездах?
– Это потому, что Солнце ближе нас касается, – отвечал Ньютон и, засмеявшись, прибавил: – Я там сказал совершенно достаточно для людей, желающих понять!
С 1725 года Ньютон перестал ходить на службу: за него исправлял должность Кондюит. Пребывание в Кенсингтоне действовало на Ньютона самым благотворным образом, но он здесь скучал и, несмотря на все предостережения, часто ездил в Лондон. 28 февраля 1727 года он приехал в Лондон, чтобы председательствовать на заседании Королевского общества. 2 марта Ньютон чувствовал себя превосходно и сказал Кондюиту: “Однако я стал лентяем. Вчера, по случаю воскресного дня, я проспал с одиннадцати вечера до восьми утра”. 4 марта он возвратился в Кенсингтон и почувствовал себя весьма нехорошо. Доктора сказали, что каменная болезнь обострилась и что надежды нет. Ньютон испытывал сильные боли; но хотя капли пота струились у него по лицу, он ни разу не испустил крика, ни разу не пожаловался и не обнаружил нетерпения, а в более спокойные промежутки даже смеялся и весело разговаривал. 15 марта ему стало опять лучше. Утром 18-го больной читал газеты и долго беседовал с Кондюитом и доктором Мидом, но в шесть часов вечера вдруг лишился сознания и оставался в этом состоянии 19-го и 20-го числа. Около половины второго пополуночи Ньютон тихо скончался. Ему было восемьдесят пять лет.
Тело Ньютона перевезли в Лондон, где были устроены пышные национальные похороны. Гроб великого ученого повезли в Вестминстерское аббатство с царскими почестями. Родственник его Михаил Ньютон, получивший орден Бани, был главным распорядителем. Богослужение совершал епископ рочестерский. В 1731 году наследники Ньютона воздвигли ему великолепный памятник, украшенный эмблемами его открытий. В эпитафии сказано:
“Здесь покоится Исаак Ньютон, дворянин, который почти сверхъестественною силою ума первый показал с помощью факела математики движения планет, пути комет и приливы океана. Он прилежно исследовал преломляемость лучей Солнца и свойства цветов, чего раньше никто не воображал”.
В честь Ньютона была выбита медаль с надписью, взятой из Вергилия: “Счастлив познавший причины”. В 1755 году в коллегии Троицы, в Кембридже, была поставлена превосходная мраморная статуя Ньютона работы Рубильяка со знаменательной подписью:
Quegenus humanum ingenio superavit
(Превосходивший умом человеческий род).
Таково, впрочем, было мнение о Ньютоне и современников, и ближайшего потомства. Особенно замечательно мнение, высказанное Лейбницем, правда, еще до его ссоры с Ньютоном. Однажды за прусским королевским столом Лейбница спросили, какого он мнения о Ньютоне? Лейбниц ответил: “Если взять математиков от начала мира до Ньютона, то окажется, что Ньютон сделал половину, и притом лучшую половину”. Лопиталь – также современник – говорил, что представляет себе Ньютона “небесным существом, совсем непохожим на смертных”. Из позднейших ученых Лаплас утверждал, что “Начала” Ньютона стоят выше всех произведений человеческого ума.
Чрезвычайно любопытно иметь хотя бы общее понятие о нравственных и даже физических особенностях такого исключительного гения.
Характер Ньютона отчасти выяснился уже из предыдущих страниц. Мы видели, что в Ньютоне был огромный запас энергии там, где речь шла об умственной работе, об отстаивании своих научных убеждений и даже прав, об исполнении принятых на себя обязанностей, сколько-нибудь соответствовавших его наклонностям. Но Ньютон не был ни политическим деятелем, ни оратором, ни даже блестящим профессором, способным увлекать молодежь. Во многих житейских мелочах он был сдержан до робости, скромен до застенчивости и рассеян до комизма. Ему было совершенно чуждо напускное важничанье и тщеславие научных светил и знаменитостей второй величины.
Для оценки характера Ньютона и его взглядов на жизнь большой интерес представляет письмо, написанное им еще на двадцать шестом году жизни одному юному другу, отправлявшемуся в далекое заграничное путешествие. Советы Ньютона порой отмечены наивностью и незнанием жизни, но вместе с тем ярко характеризуют самого автора.
Скромность, рекомендуемая Ньютоном, иногда доходит до размеров унизительных, если не признать, что Ньютон, будучи почти социнианцем, в то же время принимал и теорию непротивления злу насилием. Так, Ньютон пишет: “Если вас оскорбили, то в чужой стране лучше всего промолчать или отделаться шуткой, даже с некоторым ущербом своей части, но никогда не мстить”.
Скромность и застенчивость Ньютона частью обнаружились в умственной сфере. Мы знаем, как долго не решался он публиковать своих открытий, как собирался уничтожить некоторые из глав своих бессмертных “Начал”. “Я только потому стою высоко, – сказал Ньютон, – что стал на плечи гигантов”. Как великий ум он понимал ничтожество известного по сравнению с областью неизвестного, он видел, что всякое новое открытие порождает новые вопросы, новые неизвестные величины. Незадолго до смерти Ньютон сказал: “Я не знаю, чем кажусь миру. Но самому себе я кажусь похожим на мальчика, играющего на берегу моря и радующегося, когда ему удается найти цветной камешек или более других красивую раковину, тогда как великий океан истины расстилается перед ним по-прежнему неисследованный”.
Доктор Пембертон, познакомившийся с Ньютоном, когда последний был уже стар, не мог достаточно надивиться скромности этого гения. По его словам, Ньютон был чрезвычайно приветлив, не имел ни малейшей напускной эксцентричности и был чужд выходкам, свойственным иным “гениям”. Он отлично приспособлялся ко всякому обществу и нигде не обнаруживал ни малейшего признака чванства. “Что всего замечательнее, – говорит Пембертон, – и что меня сразу очаровало и изумило: ни его весьма престарелый возраст, ни его всемирная слава не сделали его упрямым в своих мнениях. Мои замечания о его “Началах” он всегда принимал с величайшею добротою, и они не только не производили на него неприятного впечатления, но, наоборот, он всегда отзывался обо мне хорошо и публично выказывал мне свое расположение”.
Зато и в других Ньютон не любил высокомерно-авторитетного тона и особенно не терпел насмешек над чужими убеждениями. В таких случаях он бывал весьма резок. Однажды Галлей стал смеяться над религиозными мнениями Ньютона и хотел изобразить их в юмористическом виде, спрашивая Ньютона, верит ли он в “доадамовскую” землю. Ньютон сухо и резко возразил: “Я изучал эти вещи, а вы – нет”.
Наружность Ньютона не только не представляла ничего замечательного, но была довольно невзрачна, что вполне гармонировало с его характером, враждебным всему внешнему, показному, мишурному. Ему с внешней стороны было далеко до атлетических форм и красоты Леонардо да Винчи, он не обладал классическим профилем Гете или вдохновенной красотою Байрона. Ньютон был человек “не выше среднего”, по другим показаниям даже “небольшого” роста, в молодости был хорошо сложен, но к концу жизни потучнел. Глаза его выражали ум и проницательность и потускнели лишь в старости. Одевался Ньютон всегда просто, но без неряшливости. Только раз в жизни, выступая кандидатом в парламент, он надел шитый галуном профессорский мундир. Ньютон никогда не носил очков и до самой смерти имел густые волосы, которые, по тогдашнему обычаю, скрывал под париком; в последние годы жизни он потерял лишь один зуб. Манеры его были угловаты, и во время езды в коляске Ньютон имел привычку высовывать обе руки, как бы хватаясь за кузов.
Рассеянность Ньютона вошла в пословицу, и каждому известны относящиеся сюда анекдоты, из которых самым достоверным считается следующий. Однажды друг Ньютона, доктор Стюкели, пришел в его отсутствие, когда обед стоял на столе. Прождавши с час и потеряв терпение, гость приподнял тарелку и, увидев жареного цыпленка, съел его и положил обратно одни косточки. Вскоре возвратился Ньютон, который, поздоровавшись с гостем, сел обедать, но, сняв тарелку и увидев кости, воскликнул: “Однако как мы, философы, рассеянны: право, я думал, что еще не обедал”. Иногда Ньютон, встав по обыкновению рано, сидел целый час в постели не одеваясь и обсуждая какую-нибудь задачу.
Ньютон никогда не вел счета деньгам. Щедрость его была безгранична. Он говаривал: “Люди, не помогавшие никому при жизни, никогда никому не помогли”. В последние годы жизни Ньютон стал богат и раздавал деньги тысячами рублей; но и раньше, когда он сам нуждался в необходимом, он всегда поддерживал близких и дальних родственников. Впоследствии Ньютон пожертвовал крупную сумму приходу, в котором родился, и часто давал стипендии молодым людям. Так, в 1724 году он назначил стипендию в двести рублей Маклорену, впоследствии знаменитому математику, отправив его за свой счет в Эдинбург в помощники к Джемсу Грегори.
Остается высказать несколько общих замечаний о научном гении Ньютона.
Сравнивая Ньютона с другими знаменитыми математиками и физиками и принимая во внимание эпоху, в которую он жил, придется сказать, что из древних ближе всего к нему подходит по гению Архимед, а в новой истории едва ли кто-нибудь может быть поставлен рядом с Ньютоном. Величие научного гения прежде всего сказывается в способности опережать свой век и намечать в общих чертах открытия далекого будущего. В этом отношении Ньютон не имел соперников. Поразительная проницательность его, быть может, ни в чем так не обнаружилась, как в его знаменитом утверждении, что алмаз есть “створоженное смолистое вещество”, – в то время кристаллизацию называли створаживанием. В эпоху младенчества химии Ньютон нашел связь между горючестью веществ и значительной преломляющей их способностью и отсюда вывел, что алмаз есть кристаллизованное горючее вещество, содержащее углерод, – Ньютону не хватало новейшей терминологии. Задолго до изобретения так называемого вариационного исчисления, позволяющего находить наибольшие и наименьшие величины, Ньютон обладал методом, посредством которого решал труднейшие из подобных задач. За шестьдесят лет до открытия астрономом Брадлеем того колебания земной оси, которое присоединяется к “предварению равноденствий” и называется нутацией, колебанием, в силу которого земная ось описывает не круговой, а волнистый конус, Ньютон предвидел это явление, исходя из чисто теоретических данных. Гениальные исследования Лагранжа и Лапласа относительно планетных возмущений и устойчивости Солнечной системы в общих чертах уже содержатся в ньютоновых “Началах”. Ньютон вычислил плотность Земли, определив ее между 5 и 6, и понадобился ряд измерений, от Кавендиша (1798 год) до Бэли (1842 год) и до новейшего времени, чтобы найти числа от 5,48 до 5,66. Будучи уже в преклонных летах, Ньютон дал теорию астрономической рефракции. Позднейшие ученые придумали множество поправок, считая приближение Ньютона слишком грубым; и в конце концов оказалось, что “грубый” метод Ньютона дает числа не хуже тех, которые были добыты при помощи чрезвычайно сложных и утонченных наблюдений и вычислений.
В истории науки известны примеры угадывания истин – не того “бессознательного творчества”, о котором говорят философы вроде Гартмана, но угадывания, составляющего плод глубоких размышлений, открывающих истину раньше, чем сам исследователь выяснил себе сущность своего метода. Знаменитый Эйлер открыл одну из важнейших теорем высшей математики точно по наитию свыше; Ферма дал множество теорем, быть может найденных индуктивно, но, быть может, и угаданных, без всяких строгих доказательств; с Ньютоном это случалось нередко: так, он не оставил доказательства теоремы, по которой степень удлинения планетной орбиты зависит от отношения между силою тяготения и центробежной силою, и лишь через полвека эта теорема была доказана его учеником Маклореном.
Ньютон соединял в себе все качества, которым мы удивляемся в других великих математиках: глубину анализа, отличавшую Лейбница, Эйлера и Лагранжа. Последний из них сказал: “Ньютон величайший гений и самый счастливый из всех, потому что система мира только одна и открыть ее можно было лишь однажды”. При этом Ньютон обладал изумительною способностью к геометрическому синтезу: он умел решать с помощью геометрии теоремы, с которыми едва справляется анализ. В этом отношении Ньютон превосходил даже Монжа, о котором Лагранж сказал: “Это дьявол геометрии”. Особенно любопытен следующий факт, характеризующий геометрический талант Ньютона. После ссоры с Ньютоном Лейбниц, желая доказать превосходство своего метода бесконечно малых над флюксиями Ньютона, послал вызов всем английским математикам, то есть, в сущности, Ньютону, придумав чрезвычайно трудную задачу. Задача была послана Лейбницем в 1716 году в письме аббату Конти, по его собственным словам, “с целью пощупать пульс у английских аналитиков”. Ньютону было в то время семьдесят четыре года. Задача состояла в том, чтобы найти кривую, пересекающую под прямыми углами бесчисленный ряд однородных кривых, например кругов или Парабол. Ньютон получил эту задачу в пять часов пополудни, когда он возвращался со службы с монетного двора. Несмотря на утомление, он тотчас взялся за задачу и в тот же вечер решил ее.
Среди математиков и физиков новой истории Ньютон занимает такое же отдельное место, как его соплеменник Шекспир среди драматургов. Были ученые более плодовитые, даже более блестящие; но по глубине и широте философской мысли, по важности сделанных им сообщений, по вечности истин, содержащихся в его теориях, из которых еще будут черпать десятки и сотни поколений, Ньютон не имел себе равных, и его современник Галлей, прочитав “Начала”, вправе был сказать: “Никогда еще ничего подобного не было создано силами одного человека”.
ИСТОЧНИКИ
1. D.Brewster. The Life of Sir Isaac Newton.
2. Biot. Biographie de Newton (в Oeuvres Compl., именно в Mйlanges Scientifiques и в Biogr. universelle).
3. Terquem. Aperзu des йvйnements etc. 1856.
4. Turner. Collections.
5. Remusat. Newton. Rev. des deux Mondes. 1856, Dec.
6. Revue philosophique, 1879 и многие другие.
На русском языке есть биография Ньютона, составленная господином Маракуевым (Ньютон, его жизнь и труды. 2-е изд. М., 1890), к которой приложен сделанный по Вольферсу перевод отрывков из “Principia”, преимущественно из первой книги. Кроме того, есть русский перевод книги Фитье “Светила науки”, где между прочим находится биография Ньютона. О главных сочинениях Ньютона сказано в тексте. Здесь упомянем еще чисто математические трактаты, как, например, знаменитое “Перечисление кривых третьего порядка”, сохранившее все свое значение до сих пор; затем “Метод флюксий” – всего несколько страниц: Ньютон не любил развивать подробности, предоставляя это другим; затем “Трактат о квадратуре кривых”. Остальные трактаты по математике изданы друзьями Ньютона, частью с его согласия (“Methodus differentialis”, 1711), частью против его воли (“Универсальная арифметика”, которую Уистон составил по лекциям Ньютона), наконец, частью после его смерти (“Аналитическая геометрия”). Лучшее издание сочинений Ньютона было сделано Горслеем в 1779 году (“Isaaci Newtoni Opera”). Ньютоновы “Начала” переведены на многие языки. Лучший перевод немецкий, сделанный Вольферсом.
Примечания
1
Если воткнуть в доску две булавки, привязать нить, превосходящую длиною расстояние между булавками, и, натянув ее, карандашом описать кривую линию, то получится кривая, называемая эллипсом, и булавки будут в местах, называемых фокусами.
(обратно)2
Бежавшего из Англии еще пять лет тому назад.
(обратно)3
Последователи Ф. Социна. Отрицали догмат о Троице, считали Христа не Богом, а человеком, который указал путь к спасению и обрел божественные свойства после воскресения; признавали Священное Писание единственным источником вероучения, но только тогда, когда оно не противоречит разуму; утверждали, что первородного греха не существует, поэтому не нужно и искупления; отвергали кальвинистский догмат о предопределении.
(обратно)


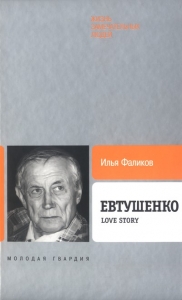
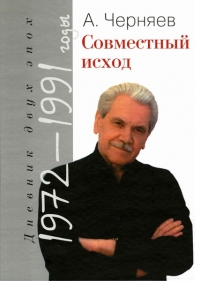



Комментарии к книге «Исаак Ньютон. Его жизнь и научная деятельность», Михаил Михайлович Филиппов
Всего 0 комментариев