Илья Бражнин Сумка волшебника
Разговор по душам, или признания старого мастера Предисловие к первому изданию
Лет тридцать — сорок назад, сверстники мои это помнят, высказывались опасения, что самое доступное из всех искусств — искусство кино в развитии своём нанесёт ущерб литературе, оттеснит её именно в силу своей доступности. Напрасные опасения! Ни бурное развитие кино, ни позднейшее столь же бурное развитие телевидения не разорвали особую связь человека с книгой, не ограничили в нашей внутренней жизни долю той ни с чем не сравнимой радости, которую даёт нам слово, образное, впечатляющее, богатое смыслом. Эта связь всегда один на один, как любовь, — да, она подобна любви! Духовный мир писателя вступает в некое единство (а, впрочем, иногда и в противоречие) с духовным миром человека, раскрывшего книгу, вновь и вновь, всякий раз в ином, особом качестве, как бы воссоздаётся творческий процесс, вернее, его отражение, его эхо.
Вот почему первые же строчки в новом произведении Ильи Бражнина звучат так: «Книга — это чудо. Максим Горький считал даже, что это величайшее из всех чудес, какие созданы человечеством».
Любовь к художественной литературе влечёт за собой широкий интерес и к самому писательскому труду. О, как важно доискаться прочитавшему, допустим, роман, откуда взялся в нём тот или иной человеческий образ! Что непосредственно подсказала сама жизнь, что создал домысел и по каким законам они синтезируются — жизнь и домысел? Да не перечесть всех «почему», «как», «откуда», возникающих из желания глубже заглянуть в самый механизм создания писателем книги!
Кто же может дать ответ? Пусть не обидится на меня украшенный учёной степенью литературовед, умудрённый знанием философии искусства и психологии творчества, — его ответы будут интересны и ценны содержащимися в них обобщениями, но в основе-то их всегда будут лежать признания тех, кто сам создаёт книги. Да, здесь первое слово им, мастерам. Как бы они ни были субъективны, как бы ни сбивались иногда в выводах, выявляя второстепенное в своём самоанализе и обходя главное, решающее, простим им: они обладают гораздо более ценным — опытом. Литература для них не предмет изучения, а форма их жизнедеятельности, сама их жизнь.
И вот — «Сумка волшебника». О чем она? Что это за повествование по своим жанровым признакам и по содержанию своему? Ведь всякую новую для нас книгу мы, непроизвольно для самих себя, относим к какому-либо известному нам литературному жанру. Не из педантизма, разумеется, но только вследствие естественного желания сразу же подобрать к произведению ключ, потому что с одним чувством, в одном душевном настрое мы читаем, допустим приключенческий роман и в другом — документальную повесть. «Сумка волшебника» — произведение, непривычное по жанру. Оно представляет собой некий сплав из воспоминаний автора, относящихся к разным периодам его жизни, с литературоведческими исследованиями; здесь и наблюдения над жизнью, и анализ черновой работы Пушкина над письмом Татьяны — любимой его героини. Следом идут границы, посвящённые Отечественной войне, нелёгкому труду военного корреспондента, и тут же история одного неудавшегося романа — неудавшегося по собственному авторскому признанию, с подробным объяснением причин, почему так случилось Казалось бы, сочетание самого различного материала в одном повествовании может смутить. Но нет оснований для беспокойства Материал в «Сумке волшебника» подчинён одной цели: хотя бы частью раскрыть некоторые секреты литературного мастерства, хотя бы на шаг приблизиться к пониманию того, какие обстоятельства и каким образом формируют писательскую душу, обуславливают его труд.
Ещё раз подчёркиваю: Бражнин не учёный-исследователь, а писатель, художник, мастер слова. И система его доказательств — это система, присущая именно художнику, а не исследователю. Мы подчас не находим в его повествовании чётко сформулированных логических выводов, тем не менее выводы есть, только они возникают у нас иначе — ассоциативным путём, из самого сцепления образов, по особой художнической логике.
Мать-труженица, шляпница-мастерица, лишённая возможности оторваться от своего рабочего стола, вырваться на простор летних лугов, лицом зарывается в охапки полевых цветов, принесённых сыновьями, — откуда этот образ, овеянный любовью и восхищением? В литературном произведении ничего не может быть просто так. При чем здесь этот персонаж? А при том — так чувствую, так догадываюсь я, читая книгу, — что в душе подростка, ставшего через годы писателем, минута эта, видение это оставило глубокий след. Он, мальчик, стал в эту минуту и добрее, и человечнее, и отзывчивее к прекрасному. Люди, в детские годы которых случались такие удивительные минуты, вовсе не обязательно должны вырастать художниками (в широком смысле слова), но убеждён, что у каждого человека искусства в прошлом непременно бывало такое, и вот подобные-то обстоятельства, которые нет возможности проследить до конца, и помогали формированию творческих начал его личности.
Бражнин рассказывает о встрече с одним замечательным лётчиком, который бросил свой самолёт на боевые порядки врага. Он учил своей смертью живых, этот лётчик. Воспоминание о нём заканчивается формулой-выводом: «Всё, что когда-либо случается в жизни писателя, оставляет свой след, всё впрок, в науку. Встреча с лётчиком Небольсиным вышла недолгой, всего двадцать минут. Но то, что я узнал в эти минуты, наполнило многие дни моей жизни и сквозь трудную толщу их прошло в моё сегодня. Мне видится прямой ход от тех дней и тех мыслей к сегодняшнему дню. Я думаю о месте в бою и о позиции художника, которую он для себя выбирает».
А эпизод с цветами, подаренными матери, не расшифрован, право на расшифровку предоставлено нам...
И тут ещё раз несколько слов о жанре.
К вольному повествованию Бражнина мне видится подзаголовок: «Разговор по душам, или Признания старого мастера». Ведь ещё одно отличительное свойство его книги — это большая её искренность и задушевность.
У Бражнина за плечами долгая жизнь, куда какой зрелый писательский опыт. Пятьдесят лет в литературе! Думаю, что оттого-то и появилась на свет «Сумка волшебника», что сказалось свойственное нам всем, людям пожилым, желание, а для некоторых даже необходимость разобраться в прожитом тобой, в сделанном тобой. Не представляю себе начинающего писателя, который сел бы за стол с намерением высказаться, «почему и как я пишу», и до чего же было бы хорошо, если бы каждый писатель старшего поколения сделал хотя бы для себя, хотя бы урывками, в беглых записях, то, что обстоятельно, со всей профессиональной ответственностью сделал Бражнин.
Да, он сумел это сделать — старый человек, старый мастер литературы. И какие бы хорошие слова ни говорились ему в дни его семидесятилетия, что может больше обрадовать нас, нежели ещё одна умная, талантливая книга писателя, и что может лучше свидетельствовать о необходимости и о пользе творимого им дела — дела его жизни!
Всеволод Воеводин
Январь 1968 г.
Предисловие автора к третьему изданию
Десять лет тому назад вышло первое издание книги «Сумка волшебника», а пять лет тому назад второе. Я получал и продолжаю получать по сей день много читательских писем. Они сердечны и взволнованны. Они исполнены требовательной доброты и неисчерпной благожелательности. И они неизменны в одном — в желании и стремлении помочь нелёгкому писательскому труду.
В письмах этих — не только оценка сделанного автором, но и большой заинтересованный разговор о том, что ещё нужно книге и автору её, что читатель хотел бы видеть в книге, кроме написанного в ней. Такого рода письма ворошат писательскую совесть, горячат сердце, толкают к письменному столу, требуя улучшать, совершенствовать, дополнять, продолжать работу над книгой и после её выхода.
Я внял этому требовательному доброму совету, и сегодня, в третьем издании «Сумки волшебника», она предстаёт перед читателем более вместительной, более наполненной, чем раньше.
Для третьего издания я написал шесть новых глав, посвящённых Пушкину, Тютчеву и Ахматовой.
Прими эту обновлённую и пополненную «Сумку волшебника», дорогой друг читатель, и будем надеяться, что со временем она будет и дальше пополняться. Ведь мы с тобой в пути, дорогой мой, всегда в пути.
Илья Бражнин
Ленинград
1977 г.
Начала
Что же это за сумка?
Книга — это чудо. Максим Горький считал даже, что это величайшее из чудес, какие созданы человечеством. Не знаю — величайшее ли, но не сомневаюсь — чудо.
Но если книга — это чудо, то написавший её должен быть чудодеем. В этом, на мой взгляд, невозможно сомневаться. Всякий настоящий писатель — волшебник, и притом добрый волшебник, несущий с собой через жизнь волшебную сумку, в которой заключено всё, что нужно для доброго волшебства, дающего людям радость.
Что же, однако, в ней — в этой сумке? Да разное, и у каждого своё, чем владеет он один. Он собрал это за целую жизнь на долгом и трудном своём пути.
Я говорю: «На долгом и трудном» — и настаиваю на этом. У волшебника нет коротких и лёгких путей. Волшебство даётся тяжело. Взмах волшебной палочки, по мановению которой совершаются чудеса, — это старомодная сказочка для доверчивых несмышлёнышей. Чудо даётся долгими усилиями. Чудо надо заработать. Чудес, которые сами плыли бы в руки, не бывает.
Как всё на свете, чудо рождается. Роды — вещь жестокая, и доброму волшебнику иной раз приходится изрядно помучиться, прежде чем станет волшебство. Иногда случается, что мучения были напрасны и труды пропали даром — волшебство так и не состоялось. Кто-то сказал, что для написания плохого романа нужно затратить столько же усилий, сколько и для того, чтобы написать хороший. Увы, это совершеннейшая правда. Никогда нельзя предугадать заранее — будет чудо или нет.
Однако пора вернуться к оставленной сумке волшебника, чтобы посмотреть, что в ней заключено, и показать людям. Да притом ещё и объяснить, как то или иное попало в сумку. Я не ручаюсь, что мне это удастся, но попытаться я обязан.
Как я это сделаю, этого я ещё не знаю. Невозможно сказать до начала битвы, как она будет происходить и выиграешь её или проиграешь. Тактика выигранных битв частенько сочиняется после окончания их. Моя битва ещё не кончена, поэтому я ничего не могу сказать о её громах и неожиданностях. Я ещё не могу сказать с уверенностью — со щитом или на щите я выйду из неё, что в переводе на современный язык значит — победителем или побеждённым.
Да, так вот о сумке волшебника. Показать, что в ней, — значит показать материал, из которого делается чудо. Одно это уже довольно трудная задача, а мне хотелось бы и большего. Я ведь надеюсь, что мне удастся не только произвести смотр своим войскам, но и показать самое сражение. Я бы хотел не только показать материал чуда, но и раскрыть механизм его.
Пути этого раскрытия мне пока неведомы. У меня нет готовой программы. У чудес не бывает программы. Но это не должно пугать вас, поскольку это не пугает меня.
Чудо требует решительности, и, пожалуй, даже безоглядной. Давайте же решимся. И не будем, перед тем как лезть в воду, пробовать кончиками пальцев — достаточно ли она тепла. В воду лучше не входить, а бросаться.
Так я думал и так поступал мальчишкой; этого и по сию пору держусь. Несомненно, это лучший из способов встречи с неожиданным. Чудо же, даже подготовляемое всей жизнью, всегда и обязательно неожиданность. Не будем же страшиться её.
Итак, я открываю свою сумку. Ах, чёрт побери, как мне хочется, чтобы её содержимое пришлось вам по душе!
Первооткрытия
— Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге! — восторженно восклицал Гоголь. Мне ничего не остаётся, как присоединиться к компетентному свидетельству классика. Это тем более приятно, что я не покривлю душой и не погрешу против истины.
Я знал Петербург — Петроград — Ленинград в последние семьдесят лет на многих поворотах его бурной и многотрудной жизни. Я видел голодный Петроград, только что совершивший невиданный в истории революционный переворот. Я видел послеблокадный Ленинград, проходя сквозь его кварталы — напрямик, по развалинам домов. Я наблюдал мужающий и хорошеющий Ленинград последних десятилетий. Я вижу Ленинград недалёкого будущего, выходящий к морю огромным тридцатикилометровым полукружием нового фасада. Планировщики и зодчие завтрашнего Ленинграда исправят наконец историческую ошибку первых градостроителей и превратят его, в полном смысле этого слова, в приморский город.
Но сейчас вернёмся к Петербургу, в котором начинались первые мои жизненные испытания и совершались первые узнавания. Я стою в плотной толпе на углу Невского и Фонтанки. Над моей головой вскинул бронзовые копыта вздыбленный клодтовскнй конь. Мимо меня вот уже час движется необыкновенно пышная похоронная процессия.
В сущности говоря, это парад императорского двора и высшего света столицы, провожающих в могилу одного из отпрысков царствующего дома Романовых. Умер дядя царя Константин Константинович, подвизавшийся, к слову сказать, и на литературном поприще под псевдонимом «К. Р.».
Процессия растянулась на несколько вёрст. На всем её протяжении по бокам медленно двигались мальчики-пажи с лицами херувимов и недетски важной поступью. У каждого в руках толстенная свеча в половину человеческого роста. Над свечой — неживое в дневном свете пламя.
Во главе процессии туча благообразных, жирных попов высшей иерархии в траурных, но сияющих золотом и серебром ризах.
За этой чёрно-золотой тучей неспешная толпа камергеров и высших сановников в белых штанах и шитых золотом мундирах. В полном составе кабинет министров, за которым следуют делегации академиков в длинных чёрных сюртуках и с цилиндрами в руках, делегации различных департаментов и высших чиновников всех ведомств, делегации высших учебных заведений столицы во главе с ректорами, весь синклит гласных городской думы во главе с городским головой.
Дальше следуют по полувзводу или полуэскадрону от каждого из гвардейских полков петербургского гарнизона. Каждый отряд кавалерии — на лошадях одной масти и одного роста. При каждом духовой оркестр, выпевающий серебряными трубами траурный марш. За ними особый отряд барабанщиков и отделение так называемой Золотой роты, солдаты которой отличались саженным ростом, большими бородами и высоченными медвежьими шапками с золотыми бляхами, свисающими на золотых цепочках по правому боку папахи.
В самом центре процессии — гроб с телом покойного, поставленный на пушечный лафет и накрытый огромным андреевским флагом.
Непосредственно перед гробом — орденские тройки. В центре каждой — генерал, несущий бархатную подушечку с орденом, по бокам — два полковника с шашками наголо.
Перед самым дышлом лафета с гробом ведут под уздцы необыкновенных статей вороного коня. Кровный арабский скакун капризно выгибает шею и нервно перебирает тонкими точёными ногами. Он гарцует перед гробом хозяина, полный жизни, огня, движения.
Непосредственно за гробом, в полном одиночестве, отделённый от всех прочих смертных положенным по строжайшему этикету расстоянием, идёт царь Николай Второй, последний из русских самодержцев. Уже десятый месяц гремят на фронтах мировой войны жестокие бои, и царь одет с подчёркнутой скромностью. Он в военной форме защитного цвета, с погонами пехотного полковника, без орденов и каких-либо значков и отличий. Он невысок ростом, хлипковат, неказист. Лицо у него невыразительное, заурядное. Аккуратная бородка клинышком не придаёт ему приятства, не уярчает лица.
Все глядят на царя, старательно разыскивая в самодержце крупнейшей в мире державы признаки величия.
Но ни малейших признаков величия в этом сером, невзрачном, тускло глядящем человеке обнаружить невозможно.
За царём медленно движутся чёрные лакированные кареты, ландо, коляски со старой императрицей-матерью, молодой царицей, четырьмя царскими дочерьми и подростком-наследником, с фрейлинами, придворными чинами, знатными особами всех рангов, степеней и положений. За ними опять какие-то делегации, отряды разных родов войск, оркестры и, наконец, громыхающие в конце процессии пушки.
Шествие длилось бесконечно долго. В нем продефилировал весь цвет военного, аристократического, чиновного, денежного Петербурга, крупнейшие тузы, политические деятели, великосветские красавицы, заводчики, промышленники, нажившиеся на войне нувориши, поставщики, подрядчики и спекулянты всех мастей и разновидностей. Блестящий Петербург, чуть прикрывшись приличия ради трауром, устроил парад роскоши и мундиров, чинов и родословных, сейфов и гербов.
Единственно кого не было здесь — это создателя и делателя всех благ и богатств, которыми пользовались и которые демонстрировали участники блестящего парада. Не было рабочих, не было фабричного и мастерового люда, ютившегося в мрачных трущобах и вонючих клоповниках Нарвской заставы, Выборгской стороны и залитой непролазной грязью Охты.
На теле блистательного Петербурга зияли смердящие язвы. В России Менделеева, Сеченова, Мечникова, Попова, Тимирязева и Павлова был едва ли не самый высокий в мире процент неграмотных. В России Пирогова и Боткина — огромный процент детской смертности. Вымирали от бесхлебья целые селения. Голодали целые губернии и области, каждая из которых была больше самого большого европейского государства. Города опустошала холера. Один врач приходился на сто тысяч человек. В некоторых районах империи до ближайшего пункта, где можно было получить медицинскую помощь, нужно было скакать, плыть или плестись пешком две тысячи километров. Многие болезни, которые нынче легко излечимы, были смертоносны и повальны.
Я помню, как в нашей семье, уже похоронившей шестерых детей, оставшиеся семеро в один и тот же день заболели скарлатиной. Дворничиха, помогавшая отправлять нас в больницу, утешала мать: «Не убивайся, Маша, может, и не все помрут».
Мы не все померли. Что касается меня, то мне, болевшему сравнительно легко, в больнице даже нравилось. Появились новые товарищи. К моим услугам были игрушки, каких я отродясь не видывал. Одна из лих имела для меня особый смысл и особое значение. Это был подаренный пришедшей меня навестить тёткой мячик — плотненький, упругий, величиной с мой кулачок.
Мячик стоил копейки и отнюдь не свидетельствовал о щедрости дарителя, но для меня он был явлением чрезвычайным. Я рос в крайней нужде. Игрушками мне служили деревянные чурки, камешки, катушки, пробки и прочие мелочи домашнего обихода. Принесённый мне в больницу мяч был, сколько я помню, моей первой покупной игрушкой.
Но если бы только это значил для меня мяч, о нём и вовсе не стоило бы говорить. Дело обстояло иначе, и этому мячу суждено было стать не только первой моей настоящей игрушкой, но и первым наглядным пособием в трудной школе воспитания художника. И это было немножко чудо. Я взял в руки мяч, охватил его жадными, ищущими, словно вдруг пробудившимися для осязания пальцами, и мир для меня стал иным. В нем что-то прибавилось, чего не было прежде, чего прежде я не знал. И это «что-то» было важным для меня.
В книгах часто описывается первая любовь. Но не только любовь бывает первой. Всё, что мы знаем, переживаем, чувствуем, было когда-то узнано, пережито, почувствовано в первый раз. И это первое соприкосновение с одним из неведомых до той поры качеств и свойств окружающего нас мира накладывает свой отпечаток, иногда и неизгладимый, на все последующие чувствования и неистребимо живёт под более поздними наслоениями.
После мяча, который был принесён мне в больницу, я держал в руках десятки других мячей. Но ни один из них не значил для меня того, что значил первый копеечный мячик с красным треугольничком фабричной марки на округлом боку.
Я убеждён, что чувство, ощущение, представление и понятие формы пришло ко мне именно тогда, когда, выпростав из-под больничного одеяла руку, я схватил мяч и сжал его упругую округлость ищущими и готовыми познавать пальцами.
Это было первооткрытие. Это был, сколько я помню, первый в моей жизни осознанный акт познания, первый рывок к познанию мира Форм и Сущностей.
Свинья и деньги
Издавна меня мучил проклятый вопрос: «А что внутри?»
Он не давал мне покоя всю жизнь. Сколько я себя помню, меня всегда терзала жажда знать суть вещей, скрытую за внешней их формой. Мне всё казалось, что каждая вещь хитро скрывает какую-то свою главную, свою самую важную тайну. И я стремился проникнуть в эту тайну во что бы то ни стало. Иногда эти попытки кончались весьма печально. Об одной из таких печальных попыток я и хочу поведать.
Но сперва несколько слов об опытах, предшествовавших этому. Первой жертвой моей любознательности был тот самый резиновый серый мячик, который мне принесли в больницу. Я долго дивился его упругости, его способности от нажима пальцев менять форму и вновь обретать её. Но потом меня стал терзать вопрос: «А что внутри?»
Мне казалось, что все поразительные свойства этого волшебного шарика зависят от какой-то тайной и неведомой силы, какой-то не то пружинки, не то маленького колдуна, которые заключены внутри мячика и которые заставляют его менять форму, кататься по полу, подскакивать чуть не до потолка.
И я решил выяснить, что это за пружинка, что это за колдовская сила скрыта внутри мячика. Я вооружился штопальной иглой и проткнул мяч. Первое чувство, испытанное мной при этом, было глубочайшим разочарованием. Я ждал чудес. Я ждал каких-то ошеломляющих открытий. Но никаких чудес не произошло. Иголка Ушла в пустоту. Внутри мячика ничего не было.
Эксперимент не принёс ничего, кроме огорчений, так как мяч от прокола потерял упругость и, когда я вминал пальцами его бочок внутрь, не возвращался в прежнее состояние. Вмятина так и оставалась вмятиной. Погоревав над загубленным мячиком, я, однако, решил продолжать мои эксперименты. Результаты их, как и в первом случае, оказывались по большей части ничтожными. У игрушечного паровозика, подаренного на именины моему приятелю Лёшке Беспрозванному, внутри тоже ничего не оказалось, как и у целлулоидной куклы Леночки. У тряпичной Катьки из живота, распоротого ржавым гвоздём, посыпались опилки.
Мои исследования по-прежнему не давали никаких результатов, если не считать нескольких лёгких подзатыльников, полученных от Лешкиной матери, и страшного двухчасового рёва Нинки Малышевой, которая жила на нашем дворе и которой принадлежали подопытные куклы.
Дело, впрочем, не всегда ограничивалось лёгкими подзатыльниками или выревкой. Были в моей практике и более тяжёлые случаи, к которым, несомненно, следует отнести историю с фарфоровой свиньёй.
Свинья эта стояла у Беспрозванных на комоде и давно занимала моё воображение. Она была толста и вид имела очень самодовольный. На основании этих примет я пришёл к выводу, что свинья не может быть пустой. Но проверить эту рабочую гипотезу не представлялось возможным. Свинья была не моя. Она принадлежала старшему брату Лёшки и находилась под его особым контролем и покровительством. Лёшка был строго-настрого предупреждён, что он ни при каких обстоятельствах не должен не только касаться свиньи, но даже приближаться к комоду, на котором она стояла. В случае, если бы Лёшка преступил этот строжайший запрет, ему грозила верная порка.
Угроза была не дипломатической уловкой, которая должна была охранять неприкосновенность свиньи, а носила безусловный характер. Верёвка, которую обычно Лешкин брат использовал при носке дров, в любой момент могла превратиться в плеть, в чём Лёшка имел уже случай убедиться.
Перед лицом столь реальной угрозы следовало, конечно, соблюдать сугубую осторожность. Некоторое время это удавалось, хотя должен признаться, что природа не наделила меня теми качествами, которые необходимы для соблюдения осторожности.
Вообще жить с оглядкой трудно и неприятно. Нет поэтому ничего удивительного в том, что с течением времени мы с Лёшкой становились всё менее осмотрительными и сами не заметили, как в конце концов переступили запретную границу.
Всё произошло как-то незаметно для нас. Сперва, придерживаясь самого благоразумного варианта, мы только издали любовались упитанностью и весёлым видом свиньи. Потом, устав от бесплодного созерцания, совершенно несвойственного нашему возрасту, мы приставили к комоду два стула и приступили к осмотру объекта моих вожделений с более близкой дистанции. Вскоре, осмелев, я протянул руку и, трепеща от радостного возбуждения, коснулся жирной свиной спинки.
Теперь она была уже как бы моя, и теперь я, больше чем когда-либо, убеждён был, что свинья не пуста. Она не могла быть такой толстой и такой весёлой, если бы она была пуста. Я ни минуты не сомневался в этом, ибо стихийно верил в логику, о существовании которой в то время и не подозревал. Но мои предположения нужно было ещё доказать.
Истина требует очевидности. Для доказательства её нужны факты, которые сделали бы очевидным, что свинья не пуста, но они могли быть заключены только в самой свинье. Порочность этого круга исключала благополучное разрешение вопроса. Либо истина, либо свинья — так обстояло дело. Я выбрал истину. Свинья была обречена.
Азартный огонёк исследователя, готового ради утверждения истины на всё, вспыхнул во мне с такой всепожирающей силой, что я не мог больше противиться. Я схватил свинку дрожащими руками и спрыгнул вместе с ней со стула на пол.
Предчувствуя недоброе, Лёшка испуганно вскрикнул и ринулся следом за мной. Но он не был столь поворотлив, как я, и опоздал. Я кокнул свинью рылом об пол, и всё было кончено.
То, что произошло потом, трудно описать словами бесстрастного летописца. Я вообще не приспособлен к бесстрастию и никогда не почитал это добродетелью писателя наравне с так называемой объективностью. Всё, что я могу обещать в данном случае, это постараться излагать факты в их действительной последовательности и при этом строго придерживаться истины.
Начну с самого главного, с факта номер один. И оказался прав, моя рабочая гипотеза подтвердилась полностью: свинья была не пуста! Больше того, в ней скрыт был настоящий клад. Вместе с черепками свиньи по полу рассыпались деньги. Их было много, в большинстве медяки — трёшки, пятаки. Были, однако, и серебряные монеты, и среди них даже один полтинник с портретом царя.
Так случилось, что я убедился в полной достоверности моих предположении и в полной надёжности логического метода мышления. Вещи, меня окружающие, как я и предполагал, могли содержать и содержали не только пустоту или никому не нужные опилки. Содержание их могло быть иной раз достойно внимания.
Это был важный урок, который я извлёк из истории со свиньёй-копилкой. К сожалению, урок был не единственным. История со свиньёй имела продолжение и последствия — столь же неприятные, сколь и поучительные.
Когда свинья, распавшись, бросила к нашим ногам несметные сокровища, мы с Лёшкой остолбенели. Потом, когда минутный столбняк прошёл, мы кинулись собирать раскатившиеся по всей комнате монетки и складывать их в кучки — трёшки к трёшкам, пятаки к пятакам. Серебряные монеты мы складывали отдельно.
Поглощённые этим увлекательным делом, мы не заметили, как в комнату вошёл Лешкин брат, и осознали опасность только тогда, когда он схватил Лёшку за волосы, а меня за шиворот.
Это была неприятная минута. Но за ней последовали ещё более неприятные. Лёшка был выпорот. Его вопли терзали моё чувствительное сердце, тем более что меня ждала та же участь. Правда, я мог бы, пожалуй, и сбежать. Всецело занятый Лёшкой, брат не смог бы, да и не стал бы, верно, меня преследовать. Но бегство моё было бы предательством и подлостью. Наши с Лёшкой отношения и неписаные, но строгие законы цепкой мальчишеской дружбы совершенно исключали бегство.
Я не мог бросить товарища в беде. Я остался. И конечно, получил всё, что мне причиталось. Может быть, это было немножко меньше того, что получил Лёшка, но это было делом совести Лешкиного брата, а не моей.
Вообще говоря, он был не злой, этот Лешкин брат, и порол не очень больно. А главное, выпоров, он не считал, что враждебные отношения должны длиться и дальше. Он, очевидно, придерживался мудрых воззрений североамериканских индейцев, полагавших, что наказание снимает вину и что после него уже ничто больше не мешает возобновлению добрых отношений.
После порки мы все втроём мирно беседовали, усевшись на ту самую скамью, на которой производилась неприятная процедура. Лешкин брат закурил дешёвую, вонючую папиросу и, как видно, решил продолжить урок морали, только что преподанный им практически. Он вытащил из кармана подобранные с полу деньги и, позвякивая ими, сказал нам наставительно:
— С деньгами, ребята, шутить нельзя.
Видимо, ему доставляло удовольствие держать в руках деньги. Я покосился на эти звенящие кругляши и, насупясь, отвернулся. Из-за них я был впервые в жизни выпорот, и они не вызывали добрых мыслей — ни тогда, ни позже. Напротив, всё, что было потом, только подтверждало и усиливало мою неприязнь к деньгам, так как я снова и снова убеждался в том, что всё связанное с ними скверно.
По-видимому, не у меня одного деньги вызывали недобрые мысли. Помню, однажды, будучи уже писателем, я услышал, как девушка лет восемнадцати сказала библиотекарю, предлагавшему ей «Отца Горио»:
— Я Бальзака больше не хочу. У него всё про деньги и из-за денег.
То, что сказала девушка, конечно, неверно. И в то же время в какой-то степени не лишено смысла. Трагедии людей, населяющих романы автора «Человеческой комедии», почти всегда, так или иначе, связаны с деньгами, наследствами, закладными, банкротствами, спекуляциями и прочими мерзкими атрибутами общества, современного «доктору социальных наук», утверждавшему в «Златоокой девушке», что для буржуа «нет более близкого родственника, чем тысячефранковый билет». Если не все персонажи Бальзака доходили до одержимости ростовщика Гобсека, не все поглощены были стяжанием в такой степени, как банкир Нусинген, не все готовы были подобно светскому щёголю Растиньяку прикончить ради денег воображаемого раджу, то, во всяком случае, все или почти все находились во власти беспощадного Кощея, сидящего на мешках с золотом.
Впрочем, Бальзак не является исключением. «Деньги, деньги, деньги... — вот первые слова, которые я услыхал, будучи ещё совсем ребёнком», — говорит Жорж Сименон. Это подтверждает и критик Эдмон Жалу: «Наследство и завещания — самые основные и самые традиционные черты французской жизни». Естественно, что самые основные и самые традиционные черты жизни не могли не стать важными и для литературы. Поэтому-то так сильна власть денег над героями всех рангов во французских романах, повестях, рассказах и драмах. Эмиль Золя один из своих романов так прямо и назвал — «Деньги».
Наша литература, отражавшая иную, чем на Западе, жизнь, шла и путями иными и своеобычными. Правда, и наш Пьер Безухов начинает свою сложную романическую жизнь в «Войне и мире» с наследования по завещанию миллионов старого графа Безухова, а гоголевский Плюшкин и бальзаковский Гобсек не только современники, но почти и близнецы. И всё же в русской литературе, вероятно самой гражданственной, самой психологичной, самой душевной из всех, засилье денежных интересов, сюжетов, интриг на книжных страницах никогда не было столь довлеющим, как во французской и других западных литературах.
И слава богу, что у нас именно так обстоит дело. Что касается меня, то я безмерно рад тому — и писательски, и человечески.
Я ненавижу «жёлтого дьявола», ненавижу власть денег над человеком. Думаю, что начало этому было положено в тот день, когда я ударил свинью рылом об пол и она родила клад, принёсший горе и слёзы.
Горе и слёзы. Так было со мной. Так было со всеми другими. Во все времена.
Как плавят золото
Это было в тысяча девятьсот восьмом году, когда мне едва исполнилось десять лет.
Старший брат целыми днями сидел за верстаком. При работе у золотых дел мастера всегда случались мелкие подсобные работы, для которых нужен второй человек. Я часто бывал этим вторым и становился подручным брата.
Я бегал в аптеку за шеллаком, за морской пенкой, за бурой, я бегал на кухню за спичками, за лучинкам, за угольками, я подавал инструменты или крутил ручку вальца, когда надо было раскатать золотой или серебряный слиток. Я делал всё что нужно с охотой и выполнял любые поручения.
Мне нравилась атмосфера мастерской и её весёлый рабочий ритм. Впрочем, весёлость и оживлённость были следствием не только самой работы, но и лёгкого, весёлого нрава брата.
Перед пасхой и рождеством заказов случалось так много, что рабочего дня недоставало и приходилось прихватывать часть ночи, а то и всю ночь.
В этих ночных работах принимал участие и я. Дом спал, а мы работали. Брат сидел за верстаком. Над коленями его прикреплён был к верстаку кожаный фартук. В него сыпались металлические опилки, какие бывают при обработке новых вещей и при починке старых. Сбоку верстака висели на гвоздике фитильные нити, натёртые красным мастикообразным камнем-крокусом. Об эти нити начищали до блеска кольца, броши и другие вещи, сдававшиеся заказчику. Против брата, на верстаке, стояла плотно закрытая пробкой шарообразная колба величиной с маленький арбуз. В неё налита была какая-то зелёная жидкость, так что свет стоявшей на верстаке лампы смягчался зелёной средой колбы и не слепил мастера. На верстаке, на подоконнике, на табуретке, на станине вальца, на прилавке лежали вперемешку свёрла и дрели, пилки и напильники всех видов и профилей: плоские, треугольные, полукруглые, большие рашпили и крохотные надфеля. Вперемешку с ними поблёскивали металлом лобзики, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, штихеля, клещи, отвёртки и щипчики всех размеров и видов, тиски и медные трубки для дутья, называемые фефками.
Все эти инструменты были раскиданы в том беспорядке, в котором мастер легко разбирается, а всякому постороннему кажется непролазным хаосом.
Я отлично знал назначение каждого инструмента и умел при случае управляться с любым.
Нынче я загодя притащил брату два плотных звонких куска древесного угля, комок глины, приготовил две фефки и наполнил бензинку до пробки. Предстояла плавка золота. К нам поступил срочный заказ, и работать придётся всю ночь. Нужно сделать дюжину золотых пружинок для зубных протезов. Работа сложная и кропотливая.
Итак, нам предстоит плавка. Брат не торопясь делает нужные приготовления. Он берёт кусок древесного угля, ножом вырезает в нём ямку и обмазывает дно и стенки глиной. Обработанный таким образом уголёк превращается в крохотульный мартен. Только в нём будет плавиться не сталь, а золото.
В угольную ямку складываются приготовленные для переплавки обломки колец, брошей, серёг. Сложив кучку лома и примешав к ней немного буры, брат накрывает всё это другим куском угля. В средней части верхнего куска он делает полулунную прорезь, через которую будут при плавке вдуваться огонь и воздух.
Свой угольный мартен брат берёт в левую руку, а правой придвигает к себе продолговатую длинноносую бензинку, ловко чиркает спичкой и зажигает нитяной фитиль. Над бензинкой встаёт синевато-оранжевое пламя.
Но от этого высокого спокойного пламени толку мало. Оно, так сказать, недостаточно горячее. Оно не может дать той температуры, которая нужна для плавки золота. Для того чтобы пламя накаляло и плавило, его нужно направлять, вдувать в него воздух.
Брат берёт в руки медную, полукругло изогнутую на конце фефку, направляет суживающийся её конец на основание огненного столба, стоящего над бензинкой, и начинает дуть. Рыжий столб пламени сразу переламывается и вместо вертикального становится горизонтальным.
Брат дует, направляя струёй воздуха пламя в полулунную прорезь под верхним углём. Белое и теперь уже горячее пламя прорывается к кучке золотого лома, начинает нагревать, накалять и плавить. Но плавится золото, увы, не так-то быстро, а нужную для плавки температуру — почти тысяча сто градусов — создать бензинкой и фефкой не так просто.
Брат дует и дует в фефку, всё время покачивая левой рукой уголёк с золотом, и конца этому нет. Жилы на шее брата напрягаются, как туго натянутые верёвки, лицо багровеет, на лбу выступает пот. Он устал и трудно дышит, но надо ещё дуть и дуть, очень долго дуть. При этом дуть надо со сноровкой, так, чтобы струя воздуха, вырывающаяся из фефки, была ровна, непрерывна, в меру сильна и точно направлена.
Прекратить дутьё нельзя ни на минуту, иначе плавка будет испорчена. Проходит десять, двадцать минут. Брат всё дует. Капельки пота со лба скатываются в кожаный фартук верстака.
Наконец в недрах уголька в ямке появляется сперва полужидкая масса, а затем маленькая красно-оранжевая лужица. Золото расплавлено. Всё прошло сегодня как нельзя лучше. Уголёк не треснул и не распался, огнеупорная обмазка выдержала. Плавка готова.
Брат перестаёт дуть, прижимает пальцами правой руки фитиль бензинки и отодвигает её в сторону. Затем он снимает верхний уголёк и осторожным, сноровистым и натренированным движением выливает золото в приготовленную мной и смазанную формочку.
После этого брат поднимается из-за верстака, разминает усталые плечи, расправляет грудь и вдруг начинает прыгать по мастерской, как лягушка. Я принимаюсь тоже дрыгать ногами и подражать ему. Брат одобрительно покрикивает:
— Гоп-ля! Гоп-ля!
Мы покрикиваем, попрыгиваем и оба смеёмся.
Но дело стоит. Надо снова приниматься за него. Брат подходит к форме и, разъяв её стенки, выбрасывает на верстак не совсем ещё остывший длинненький брусочек золота. Брат хватает его рукой и кидает на ладонь другой руки. Он обладает поражающей меня способностью переносить горячее.
Брат долго смотрит на слиток — беловато-жёлтый, тусклый, некрасивый. Совсем непохоже, что это золото, то самое золото, что так сияет, когда становится красивой брошью, тяжёлым перстнем или изящным кулоном.
— Золото, — говорит брат с непонятным мне выражением хмурой замкнутости на лице.
Он взвешивает на ладони слиток и с трудом переводит дыхание:
— Золото, брат, выплавить трудно, но зато...
Брат не кончает фразы. Я смотрю в его лицо. Оно переменчиво. В нем и смута, и гордость за сделанное, и много ещё другого, что непонятно мне. Мы стоим в ночи, и на нас смотрит колдовской зелёный глаз колбы. Он принадлежит какому-то огромному чудовищу. Но мы не боимся этого чудовища. Не боимся ничьих чар. Мы сами волшебники, колдуны.
Позже, много лет спустя, колдуя над словом, я часто вспоминал брата, стоявшего у верстака со слитком на ладони. И теперь я понимал всё, чего не понимал тогда. Теперь я сам взвешивал на ладони каждое слово, ощущая его тепло и тяжесть. И теперь я в полной мере постиг, что золото выплавить трудно.
Они учили прекрасному
В субботу вечером я и мои братья собираемся на лодке за реку. Братья забирают вёсла, уключины, руль и румпель, я — закоптелый жестяной чайник с помятыми боками, набив его предварительно доверху картошкой.
На пристани нас ждут Вася Виноградов и две его приятельницы — Маша Серебренникова и Маша Калинина. Чаще всего их зовут Маша Большая и Маша Маленькая. Маша Большая — высока, голубоглаза, добра и медлительна. Маша Маленькая — густоброва, подвижна, смешлива и голосиста. И сейчас, усаживаясь в лодку, она что-то напевает, успевая одновременно перекликаться с Машей Большой и браниться с Васей Виноградовым.
Под её пение мы отходим от пристани и идём наперерез течению к левому берегу. Спустя сорок минут мы входим в устье Заостровки — малой речушки, впадающей против города в Северную Двину. Пройдя вверх по Заостровке версты полторы, мы пристаём к берегу.
И вот на невысоком береговом угоре зажжён костёр и над ним висит чайник. Он пыхтит, старается вскипеть поскорее. И это ему удаётся. Мы пьём чай, а позже, когда костёр прогорает, мы печём в золе картошку. Потом играем в горелки, поём песни, хохочем, валяемся на траве. Перед отъездом идём рвать цветы. Ходить далеко не надо. Неоглядные луга начинаются тут же у берега. На них великое множество цветов. Мы не делаем букетов. Мы просто рвём цветы и охапками сносим их к лодке. Набив лодку цветами, мы трогаемся в обратный путь.
Спускаясь по Заостровке к Двине, мы затихаем. На востоке уже занимается розовоперая заря. Тишина. Дремотно никнут к воде прибрежные ивы. Выезжаем из узкой Заостровки на полутораверстный раскат Двины. Она лежит перед нами — огромная, полноводная, могучая. Тихая тяжёлая вода чуть золотеет под первыми лучами солнца. Стеклянно звенят водяные капли, скатываясь с лопастей вёсел в реку.
Пристав к берегу, мы отправляемся через весь город, неся огромные охапки цветов. Улицы сонны и пустынны. Мы приходим в дом и сваливаем цветы на столы, на плиту, прямо на пол.
Разбуженная шумом мать поднимается с постели и всплёскивает руками:
— Боже, сколько цветов!
Пять часов утра. Мы идём спать. Мать остаётся одна. Она уже не ложится больше. Она садится среди ворохов цветов и начинает разбирать их. Моя старая кровать, сколоченная из простых еловых досок, перенесена недавно в кухню, и, укладываясь на неё, я слежу за матерью. Она напевает, перебирая тонкие цветочные стебли. Голос у неё слабый и дрожащий. Он мне бесконечно приятен. Это голос моего детства. Этим голосом спеты все мои колыбельные.
Мать сидит среди цветов, и это доставляет мне наслаждение. Среди них она совсем иная, чем тогда, когда сидит за работой. Целые дни она сидит за работой. Она модистка. Она шьёт дамские шляпки. Хозяйка магазина, на которую она работает, придирчива, груба, скупа. Часто она доводит мать до слёз. Я ненавижу эту толстую крикливую хозяйку. Для меня она — воплощение непонятных мне злых сил, имеющих над матерью и надо мной какую-то давящую власть. Часто за работой, украшая шляпки, мать держит в руках маленькие пучочки цветов. Мода требовала именно цветов на шляпках. Но те цветы из шёлка были совсем другими цветами. Они не такие, какие мать держит в руках сейчас. Держа в руке те, другие цветы, она никогда так не улыбалась, как улыбается сейчас.
Наша кухня пахнет землёй, солнцем, заречными лугами. Мать не может ехать с нами в эти луга. И вот луга пришли к ней. Она среди лугов. Она забыла о Доме, о хозяйстве, о работе, о постоянных своих заботах. Лицо её озарено радостью. Это радость цветов. Так я называю это сейчас. Такой я запомнил мать на всю Жизнь. Она бывала и иной — озабоченной, плачущей, работающей, спешащей, иногда ворчащей и бранящейся. Но запомнил я её вот такой — окружённой душистыми ворохами цветов. Она прожила тяжёлую, трудную жизнь. У неё было тринадцать детей. Отец умер рано от чахотки. Очень ей было трудно, иногда непереносимо трудно. Она приходила в отчаяние. Она выплакала глаза, пока подняла на ноги детей. И ей было не до цветов. Теперь, когда ушли в жизнь, разбрелись по свету дети, когда при ней только трое самых младших, жизнь уже не кажется прожитой так тяжело.
Полевые цветы милее садовых. Огромные шапки прекрасных георгинов трогают меня меньше, чем непритязательная головка ромашки с маленьким солнышком посредине. Глядя на неё, я вижу Прекрасное. Видеть в очень простом Прекрасное — этому я научился у матери. Этим я обязан ей, этим и всем другим, что есть во мне хорошего и доброго.
Многим я обязан и тем цветам. Они были первыми моими воспитателями и первыми учителями Прекрасного.
На пороге совдепа
Весной тысяча девятьсот семнадцатого года я окончил реальное училище.
Товарищи мои разлетелись в разные стороны, и дальше каждый из нас уже на свой риск и страх выбирал себе жребий. Надо было выбирать и мне.
Думал ли я об этом? Озабочен ли был своим будущим? Нет, нимало. Долгие раздумья были не по мне. Я умел поступать, но вовсе не умел обдумывать поступки, да и не считал нужным. Всё в этой жизни казалось мне простым и ясным. Я нисколько не заботился о выборе жребия. Он сам должен был меня выбрать. И он выбрал. Случилось это так.
Мы шли с Соломошей Туфьясом, одним из немногих в те дни архангельских большевиков, по Троицкому проспекту, как называлась тогда центральная улица Архангельска, ныне носящая имя героя гражданской войны Павлина Виноградова, — шли мимо собора, которого уже нет нынче, мимо губернаторского дома, в котором уже не было губернатора, мимо городской думы с высокой четырёхгранной башней. Миновав Полицейскую улицу, только что переименованную в улицу Свободы, мы подошли к Коммерческому собранию, в здании которого теперь размещался совдеп.
Здесь Соломоша надолго застрял, разговаривая с вышедшим из совдепа человеком. Человек этот был коренаст, большеголов, лохмат и нетороплив в движеньях. Он был полной противоположностью подвижному, горячему, бурно жестикулирующему Соломоше. Я отошёл к воротам совдепа и стал читать наклеенную на них газету. Это были «Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов». На первой странице газеты было опубликовано воззвание к населению Архангельска, касавшееся распределения хлеба. Воззвание подписал губпродкомиссар Папилов.
Прочтя эту фамилию под воззванием, я тут же услышал её из уст собеседника Соломоши. Он отозвался о меньшевике Папилове весьма неуважительно, и Соломоша тотчас присоединился к этой характеристике. Они говорили ещё о меньшевиках и их работе в совдепе; потом заговорили об англичанах и о Павлине Виноградове, который «утёр им нос».
Я не всё расслышал и потому не понял, каким образом Павлин Виноградов утёр нос англичанам, но имя Павлина врезалось в память. Я тогда понятия не имел, что двадцать лет спустя приеду из Ленинграда в Архангельск разыскивать следы Павлина Виноградова, говорить с его вдовой и его боевыми друзьями, что этот человек станет героем моего романа «Друзья встречаются» и придёт на страницы других моих книг. Ничего этого я не знал в тот далёкий день, когда, в сущности говоря, решилась моя судьба.
Когда разговор о Павлине Виноградове, губпродкоме, меньшевиках и англичанах кончился, незнакомец попрощался и отошёл. Я спросил у Соломоши, с кем это он разговаривал и кто этот крепыш с большой головой и лохматой шевелюрой. Соломоша ответил, что это боевой парень и главный среди архангельских большевиков.
— Фамилия его Тимме, — прибавил Соломоша, окончив свои объяснения. — Понял?
Я кивнул головой. Понимать, собственно говоря, тут нечего было. Но фамилия показалась мне очень весёлой и лёгкой и сразу запомнилась.
Спустя два дня, проходя мимо совдепа, я опять остановился перед воротами, на которых наклеены были «Известия». Внимание моё привлёк большой рисунок в верхнем углу газеты. Он изображал негра, который сквозь тюремную решётку следит горящими глазами за летящей под облаками птицей. Глядя на эту распростёртую в поднебесье птицу, я вдруг вспомнил свою сказку-пересказку о выпущенной на свободу «крылатой пленнице», которую я писал в начальной школе. В этот раз я основательно застрял около газеты и долго разглядывал самую последнюю строчку её, где стояло: «Редактор Я. Тимме».
Я прочёл газету от начала до конца, и больше всего мне понравилась в ней статейка «Чьи пособники?». Статейка эта здорово подкусывала меньшевиков и подписана была фамилией Пантевич. «Интересно, что это за Пантевич? — подумал я. — Наверно, лихой парень. И обязательно с чёрной бородкой, в которой прячется ядовитая улыбочка. Хорошо бы посмотреть на него. И на Тимме заодно. Может быть, и поговорить даже...» Я взглянул на заголовок газеты, на летящую птицу, на подпись редактора внизу газеты и вдруг подумал: «А почему бы и нет?»
Вопрос этот я задал себе не впервые. В течение двух последних дней я задавал его себе много раз, хотя ни разу так и не ответил на него. Теперь пришло время отвечать. Я распахнул калитку и решительно вошёл в совдеп, в котором размещалась редакция «Известий».
Первый, кого я увидел, войдя в редакцию, был Тимме. Он кивнул мне своей большой лохматой головой, как старому знакомому, и этот приветливый кивок разом решил всё. Без всяких колебаний и без всяких предисловий я сказал, что хотел бы работать в газете. Тимме внимательно оглядел меня, поскрёб толстым ногтем небритую щёку и спросил, давно ли я знаю товарища Туфьяса. Я ответил, что знаю Соломошу с самого раннего детства и что он друг нашей семьи.
Тимме опять кивнул лохматой головой.
— Хорошо, — сказал он сипловато и повернулся к сидящему у окна человеку в синем поношенном пиджаке. — Пантевич, дай ему телеграммы. Пусть выправит для начала.
Пантевич оказался совсем не таким, каким я себе его представлял.
У него не было ни чёрной бороды, ни прятавшейся в ней улыбки. Пантевич вообще не улыбался. Он был сух в обращении, мешковат и сутул.
— Это, значит, вы и есть Пантевич? — спросил я с удивлением, которое не умел скрыть и которое, наверно, было непонятно моему собеседнику.
— Я и есть Пантевич, — отозвался сутулый у окна, оборачиваясь ко мне и оглядывая меня светлыми голубовато-серыми глазами. — Это тебя удивляет?
— Да, — признался я. — Сегодня я читал вашу статью в газете. Здорово написано. И совсем на вас не похоже.
— А разве статья обязательно должна походить на автора?
Сейчас на этот вопрос я твёрдо и решительно ответил бы: «Да. Конечно». Тогда я ответил:
— Не знаю.
К этому я прибавил ещё что-то неопределённое и нерешительное. Это был мой первый в жизни литературный спор, и я не сумел не только должным образом провести его, но даже начать. Мы сели за работу. Пантевич дал мне пухлую пачку телеграмм, и я принялся править их, подготовляя к набору. Меня не смущало то обстоятельство, что я не умел править. Не надо было — не умел; теперь надо — значит, должен уметь и, следовательно, буду уметь.
Руководящие указания Пантевича сводились к требованию:
— Чтобы ясно и по-русски.
Теперь это требование показалось бы мне сложным и трудным. Но тогда я ничем не затруднялся и, взяв из рук Пантевича телеграммы, сел за стол.
Так ступил я на первую ступеньку той бесконечно длинной лестницы, которая неизвестно куда ведёт — не то на Олимп, не то в преисподнюю — и на которой я столько раз спотыкался и столько шишек набил. Так началось моё четвертьвековое ученье в газетных университетах. Так стал я штатным сотрудником газеты «Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов».
Спустя две недели в той же газете появился мой первый фельетон «Царьградские штучки». Написан он был задиристо и безоглядно. Я горячо доказывал, что Царь и бог завезены в Россию из Византии, из Царьграда, что огнепоклонники-славяне и их простоватые и храбрые князья вовсе не нуждались ни в христианстве, ни в самодержавии и что оба эти рабских института чужеродны России.
Фельетон имел неожиданный и бурный успех, хотя и несколько односторонний. На другой день после выхода газеты архангельский архиерей во время проповеди, произнесённой после службы в соборе, обрушился на безбожный фельетон и предал проклятию его автора.
От совдепа до собора было не больше километра, но по времени они отстояли друг от друга лет на тысячу. Архангельский архиерей не мог даже устроить самого паршивенького аутодафе, чтобы сжечь номер «Известий» Архангельского совдепа с крамольным фельетоном. Я остался в полной неприкосновенности, и тяготевшее надо мной проклятие нимало меня не тревожило.
Слово — птица
Радость бытия — радость песни
Она присуща всему живому и всему здоровому на земле. Наверно, это самая земная из всех земных радостей, самая простая и самая чистая.
Я думаю об этом, подняв голову к розовеющему вечернему небу. Там, в небе, мои любимцы — стрижи.
Стриж рождён для полёта. Весь он — от клюва до кончика хвоста — вытянут и заострён. Тело его сплюснуто и коротко оперено, крылья узки, длинны, заострены и плотно сбиты из жёстких крепких перьев. Это надёжные, прочные крылья, предназначенные для того, чтобы нести, стрёмить, мчать.
На земле они — помеха. Каменный стриж, например, опустившись на землю, становится совершенно беспомощным. Он не может взлететь с земли. Крылья его так длинны, что при попытке взмахнуть ими ударяются о землю.
Каменный стриж взлетает с высокого дерева или со скалы. Он придвигается к самому краю скалы и бросается вниз. Только очутившись в воздухе, он обретает снова уверенность и силу, раскидывает крепкие крылья, и они несут его в полёт.
Полёт — это истинная его стихия.
Каменный стриж летает со скоростью, в три раза превышающей скорость курьерского поезда и скорость Урагана. Он покрывает триста километров в час.
Но дело в конце концов не в километрах, и не о том Думаю я, глядя на мчащихся в вечернем небе городских стрижей. Я слежу за ними, не отрывая глаз. Они срываются в воздух из-под домовых карнизов и стремительно влетают в пряный, розовый вечер. Они круто всходят в невесомое небо, потом кидаются головой вниз, к земле, потом наискось прочерчивают смелые дуги резких разворотов. Они мчатся, распластав острые кривые сабли крыльев и пронзая вечер долгим радостным визгом.
Я говорю — радостным, и я настаиваю на этом. Стрижи визжат от радости, и это есть радость полёта.
Полёту, как и всякому движению животного, обязательно приписывают служебное назначение. Вот и стрижи, носятся они, мол, в вечернем небе потому, что ловят мух и комаров или обучают самостоятельной охоте своих птенцов. В предосенние дни они тренируют молодёжь, готовя её к дальнему и трудному перелёту.
Всё это так. Все это стрижи действительно делают. Но ведь ни для ловли мух, ни для уроков полёта, ни для тренировочных занятий вовсе не обязателен радостный визг. А он радостен, и в этом нет сомнений, как нет сомнений в том, что визг собаки, бросающейся на грудь возвратившегося из отлучки хозяина, бескорыстно радостен и никакой служебной и практической нагрузки не несёт.
Неправда, что всё, решительно всё в поведении птиц подчинено практике. Это так не только по отношению к вечерним играм стрижей. Известны воздушные игры горных ласточек, Соколы — дербники и чеглоки, по свидетельству самых почтенных и осторожных в выводах исследователей, «забавляются воздушными играми», и притом «для собственного удовольствия».
Некоторые птицы, например ткачики, строят даже для игр и забав специальные «увеселительные гнёзда».
Такие же клубы организуют и воробьи, сообразуясь, конечно, при этом с собственным воробьиным характером. Воробьи — ужасные болтуны, и нет для них большего удовольствия, чем посудачить в обществе себе подобных вечерком, перед самым закатом. Для этого они собираются большими обществами, и у них есть даже специальные «деревья для бесед».
А скажите мне, пожалуйста, о какой практической пользе, о каком служебном назначении полёта может идти речь, когда голубь-турман, выпущенный в воздух, начинает ни с того ни с сего кувыркаться через голову, делая по двадцати головокружительных сальто, чтобы затем у самой земли выровнять полёт, вновь взмыть в просторное небо, снова низринуться вниз в акробатическом сальто-мортале?
Нет, вне сомнений, у птиц существуют игры и развлечения, не связанные с практической надобностью. И визг стрижей в завечеревшем небе — прямое тому доказательство. Этот радостный визг есть радостный визг и ничего больше. Это рвётся наружу первородная древняя радость, рождённая полнотой ощущений, полнокровностью живой телесной жизни. Это радость полёта, радость жизни, радость бытия в чистейшем её виде.
И больше того. Я хочу прибавить ко всему сказанному ещё одну еретическую мысль. Я думаю, что эта радость полёта, это наслаждение полётом, так бурно у стрижей выраженные, есть прообраз и знак эстетического начала, эстетического наслаждения. И оно, по-моему, очень сродни радости поэтического в поэте.
И пусть меня растерзают добросовестные и обстоятельные натуралисты — это так! Недаром же старый Брем, этот птичий король, знающий о всякой живности всё и даже чуть больше, говорит с уверенностью: «Птицы, только попев, начинают искать пищу».
. Вот видите, как это у них. Сначала пение и только потом забота о еде.
Снова и снова выслеживаю я молодеющими глазами мчащихся в вечернем небе стрижей, и радостный визг их становится и моей радостью. Он пронзает не только румяное вечернее небо, он пронзает и мою душу.
А потом я возвращаюсь к моему письменному столу, и теперь мне уже и самому легко отправиться в полёт. И я сажусь за стол и беру в руки перо...
Лебедь и ланка
В прозрачных апрельских сумерках завиделись над моей головой лебеди. Ещё раньше того услышал я их серебряные трубы — этот удивительный и неповторимый инструмент, словно созданный природой для музыки высот, для музыки ликования.
Клик сродни ликованию по словесному корню. Сродни он и музам. Помните у Пушкина: «Весной при кликах лебединых... являться муза стала мне».
И нынче лебеди явились вместе с весной. Они летели от южной зимы к северному лету. Они торопились из чужих краёв домой, к своим гнездовьям. Их было тринадцать в тонкой белой цепочке, пронизавшей сумеречную даль. Как видно, у них был большой лётный день, и она, припозднясь, искали места для ночлега. Сделав большой круг над Маркизовой лужей, ещё укрытой посеревшим ноздреватым льдом, лебеди повернули на берег и ушли дальше — искать открытой воды на окрестных озёрах. В последний раз прозвенели в вышине серебряные трубы, и призрачный белый караван истаял в сумерках.
Я долго глядел им вслед и потом, бредя по твёрдому влажному песку прибрежья, старался представить себе, как, трепеща белой громадой крыльев, лебеди один за другим садятся на воду и медленно плывут, чуть морща грудью взблескивающую сталью воду. Лебедь на воде пленительно прекрасен. Таким и виделся он мне всегда. Но однажды я увидел лебедя иначе, и это отнюдь не лучшие мои воспоминания.
Это было в заповеднике Аскания-Нова, в преддверии Крыма. Я долго вышагивал по обширному асканийскому парку, по полям, по вольерам и загонам. На озере в парке плавало несколько лебедей. Два лебедя вышли из воды на островок, лежащий посредине озера, и тут мгновенно произошла с ними разительная и печальная перемена. Куда девались царственные красавцы, только что величественно и плавно двигавшиеся по тёмной осенней воде? Передо мной были уродливые увальни — косолапые, неуклюжие, неповоротливые, с кривыми чёрными ногами, с грузными широченными телами, посаженными некрасиво и высоко на толстые ляжки. Это было ужасно — то, что я увидел, так ужасно, что я поспешил уйти от озера и утешился после пережитого только возле ланки, старательно подбиравшей с моей ладони тёплыми мягкими губами выкрошенный из нескольких папирос табак.
Мама-лань стояла в стороне, не приближаясь к чужаку и настороженно поводя ушами. Она пребывала . в диком состоянии и совершенно не поддавалась приручению. Но ланка родилась в неволе и быстро стала ручной. Я провёл возле них не менее получаса, и глаза мои отдыхали на них после удручающего зрелища на озере. Тонко выточенные ноги с лёгкими копытцами, чуть сплющенные с боков, прекрасных пропорций тела, маленькие головки с огромными глазами и навострёнными высоконькими ушками — всё в них было грациозно, легко, всё приспособлено к стремительному бегу, всё пронизано было пульсирующей в каждой жилке жизнью, каким-то внутренним негасимым телесным оживлением. Они были так же прекрасны на земле, как лебеди на воде.
Это сопоставление пришло мне в голову, пока ланка подбирала с моей ладони последние крошки табака, и оно объяснило мне всё. Объяснило и успокоило. Я сказал себе: «Ну что ж. Всё это не так печально. И нет причин для грусти. Лебедь некрасив и неуклюж на суше, потому что это не его стихия. Возможно, попав в воду, и ланка потеряет всё своё изящество. Зато лебедь прекрасен на воде. В конце концов каждый хорош в своей стихии».
С этим универсальным законом соответствия мы сталкиваемся на каждом шагу. Но, пожалуй, не менее часто мы грешим против него, занимаясь вовсе не тем делом, каким следовало бы нам заниматься по складу своего характера, по душевным склонностям и приверженностям.
Иной раз, правда, повинны в том и неблагоприятные жизненные обстоятельства, но чаще мы сами — причина наших незадач и жизненных нескладиц.
Впрочем, случается, что мы же сами и меняем неправильно взятое направление. И тогда Николай Гоголь, написавший сладенького и ремесленно зарифмованного «Ганса Кюхельгартена», решительно обращается к иному, входит всем существом в иную стихию и становится автором несравненной поэмы «Мёртвые души».
Современник его Виссарион Белинский, терпящий неудачи в драматургии, находит себя в стихии критической мысли и в этой области высится над всеми современными ему критиками, как заоблачная вершина над пологими холмами.
Ещё более решительный прыжок в иную стихию совершил доктор Антон Чехов, сменивший стетоскоп на перо, отчего несравненно выиграл не только он сам, но и весь мир, получивший вместо рядового лекаря блистательного писателя.
Но бывает, к сожалению, и иное. И тогда Руже де покоривший однажды весь свет своей «Марсельезой», влачит жизнь ординарного артиллерийского офицера. В этом случае лебедь слишком долго задержался на берегу. Не осмеливаясь больше броситься в воду, он остался вне своей стихии и никогда уже не смог обрести ни царственной своей осанки, ни чудной прелести прекрасного плавного движения по расступающейся перед ним и взблескивающей сталью воде.
Жить вне своей стихии — это великое несчастье. Пусть никогда этого не случится с вами.
При взгляде на чайку
Я стоял на набережной близ Литейного моста, дожидаясь автобуса. День был пасмурный, ветреный. Над свинцово-серой Невой носились чайки, точно сделанные из датского фарфора — белые, с серовато-голубоватой подводкой.
Садясь на рябую от ветра воду, чайки поднимали крылья и осторожно опускались на тускло поблёскивающие рябинки-волны. Некоторое время крылья, трепеща, ещё стояли торчком вверх, точно чайки боялись замочить их при посадке, потом складывались вдоль тела так, что вода их не доставала.
Сидя на воде, чайки покачивались, в точности следуя колебаниям воды. Тело не сталкивалось с волной, волна не захлёстывала, и уровень её ни на мгновение не переходил той чаечной ватерлинии, которую чайка держала сухой. Не было ни брызг, ни лишних движений. Было плавное покачивание в такт волне. Чайка сидела на воде ловко, покойно и в то же время так, что в любое мгновение могла свободно взлететь. Словом, чайка сидела на воде очень приспособленно к обстановке.
Время от времени то одна, то другая чайка поднималась в воздух, и я заметил, что движения и путь их в воздухе однообразны. Поднявшись с воды, чайка мгновение словно стояла на месте, потом, качнув крыльями, шла вперёд, входила в плавный разворот, в несколько взмахов достигала Литейного моста, там делала новый, но уже крутой разворот и, широко раскинув узкие крылья, планировала вдоль гранитного парапета набережной почти над моей головой. Потом следовал новый разворот, чайка выходила на середину реки, замыкая круг.
Почти все чайки в точности повторяли этот путь.
Почему они так делали? Да просто потому, что это было для них наиболее выгодно и удобно. Поворот именно у моста, как и прямая линия полёта вдоль набережной, диктовался определённым направлением ветра; чайка использовала его, чтобы вести свой полёт с малой затратой сил, чтобы парить на неподвижно распахнутых крыльях...
Мои наблюдения были прерваны приходом автобуса. Я сел в него и уехал. Но я не расстался с чайками. Они залетали ко мне в автобус. Они бесшумно парили над моей головой, когда я шёл от автобусной остановки к дому. Они ворвались в дверной проём, когда я вошёл в дом. Они перелётывали под потолком моей комнаты, пока я расхаживал по ней из угла в угол. А когда я сел за письменный стол, одна из них тотчас уселась передо мной на край бокала, из которого угрожающе торчали во все стороны карандаши, и посмотрела на меня вопросительно и выжидающе, точно говоря: «Ну?»
Я понимал этот немой вопрос, как понимал присутствие чайки на моём рабочем столе. Я привык к подобным гостям — спутникам моих дней и ночей. Живые чайки превратились в мысли-чайки, и я знал — они появились, чтобы помочь мне работать, писать, думать, как часто помогал мне в этом и стоящий на письменном столе фарфоровый Вольтер.
Чайки казались мне в минуты неподвижного парения сделанными из датского фарфора... Это была мысль горожанина, привыкшего к вещам и отвыкшего от живого зелёного мира. Фарфор был явно ни при чём. Снизу чайка бела, светла и на фоне неба незаметна с воды. Сверху чайка наряжена в серовато-голубоватые оттенки, каких много на воде. Следовательно, и сверху и снизу она незаметна для посторонних глаз.
Красота оперения чайки, как и её поведение на воде и в воздухе, — выражение общего закона природы, в которой всё прилажено одно к другому.
И вот тут-то и пришла ко мне самая важная мысль дня, что не только красота в природе — выражение целесообразности, но и целесообразность — выражение общей гармоничности и красоты.
Не так ли и с нашим писательским делом? Ну конечно же так. Построение любого произведения искусства подчиняется тем же законам. В искусстве, как в природе, как в жизни, — хорошо то, что хорошо прилажено к общему целому. И тут целесообразность есть выражение общей гармонии, а следовательно, и красоты. Роман, повесть, поэма, рассказ, картина — это система целесообразностей искусства, отражающая систему жизненных целесообразностей. Отсутствие системы целесообразностей, несоответствие произведения жизни живой, её устроенности или неустроенности, обесценивают, убивают произведение искусства.
Случается, говорят об этом иными словами, потому что целесообразность — это один из псевдонимов жизненной правды. А правда всегда высоко ставилась в искусстве и всегда будет высоко ставиться. Именно правду считал Лев Толстой главным героем своих «Севастопольских рассказов». Это высказывание можно было бы, не погрешив при этом ни на йоту, распространить на все другие произведения Толстого.
Владимир Короленко почти отождествлял правду с красотой, настаивая на том, что нужно искать красоту и жизненную правду вместе.
Лукавый Марк Твен замечал: правда столь драгоценна, что её надо расходовать экономно. Эта забота об экономности есть один из методов поиска подлинной правды. Их тысячи — этих методов, средств, возможностей. И, в сущности говоря, все они хороши, если ведут к хорошей цели. Хороша и чаечка, виденная мной на Неве. Залетев на мой рабочий стол, она тоже стала одним из средств добрых поисков.
Спасибо тебе, чаечка. Я постараюсь хорошо искать, усердно искать, всегда искать.
Цветок папоротника
От щенка до крокодила
Первую книгу свою я прочёл шести лет от роду и с большим запозданием. Книжка была рассчитана на чтение вслух ребятам трёх-четырёх лет.
Это была обычная по тем временам книжка для детей, выпущенная известным издательством Кнебеля, — большая, аляповатая, безвкусная. Самым лучшим из всего в книге была бумага — белая, плотная, толстая. На обложке книги был нарисован коричневый лопоухий щенок, усердно облаивающий колокольчик, висящий над закрытой изнутри дверью. Под щенком, не очень уверенно держащимся на растопыренных лапах, был напечатан стишок:
Кто идёт? Если свой, Будем очень рады, Если ж только чужой, Не дадим пощады!Решительность лопоухого щенка, явно превышающая его скромные возможности, мне нравилась и оставила в моей душе заметный след. Я и сейчас проповедую решительность, храбрость, превышение своих возможностей в любой области человеческой деятельности и охотно повторяю вслед за Верой Инбер, что «в том-то всё и дело, чтобы превзойти свои пределы».
Одно из непостижимых и прекраснейших свойств книги состоит в том, что даже плохая книга может иной раз проделать в душе человека большую и добрую работу. Моя первая книжка с плохими стихами и плохими картинками оказалась для меня именно такой книгой.
Скверное качество первой моей детской книжки было не исключением, а правилом для тех лет. В начале века ни хорошие писатели, ни хорошие художники, за редким исключением, не прикасались к страницам книг для маленьких. Книги эти были по большей части убогими, косноязычными, с невыразительным, серым текстом и картинками самого дурного вкуса.
Детской литературы в том смысле, в каком мы понимаем её сейчас, в сущности говоря, не было совсем. Она родилась в советскую эпоху. Честь зачина и роль барабанщика, идущего впереди атакующих колонн, принадлежит Корнею Чуковскому, выступившему столь нежданно со своим блестящим «Крокодилом». Это несомненно крупное событие произошло в тысяча девятьсот семнадцатом году, когда в журнале «Для детей» стала печататься из номера в номер сказка в стихах «Петя и Крокодил», повествовавшая о том, как однажды на улицах Петрограда неведомо откуда появился Крокодил и как храбрый мальчик Петя, не испугавшийся страшного чудовища, победил его. Сказка сопровождалась рисунками художника Реми, известного карикатуриста, работавшего в журнале «Сатирикон». Автором текста был редактор журнала «Для детей» — молодой критик и литературовед Корней Чуковский.
Позже Петя стал Ваней Васильчиковым, а сказка стала называться «Крокодил».
Это случилось уже в тысяча девятьсот девятнадцатом году, когда она вышла отдельной книжкой, и с этого дня и следует начинать летосчисление Новой сказки.
«Крокодил» — вещь чрезвычайная и примечательная во многих смыслах, но самое примечательное, да и самое важное в этой щедрой сказке, несомненно, то, что всё в ней не так, как во всех прежних. Она была Америкой детской сказки нового типа, Новым Светом сказки, который вскоре густо заселили Мойдодыр, Тараканище, Муха-Цокотуха, Доктор Айболит, Бармалей и многие другие.
В сказке Чуковского нет ни добрых волшебников, ни фей, ни колдунов. Они не нужны, потому что их роль взял на себя сам автор, не пожелавший никому передоверять своих таинственных и прекрасных колдовских обязанностей. Настоящий писатель, как сказано было в самом начале этой книги, — обязательно волшебник. Волшебной палочкой стало его перо, преображающее неведомо как обычный мир в сказочный. При этом всё окружающее, став сказочным, в то же время остаётся и обычным. За необычным на улицах Петрограда Крокодилом Крокодиловичем следует по пятам самая обыкновенная уличная толпа. Обычен стоящий на перекрёстке или спешащий на скандал городовой, но совершенно необычно то, что Крокодил с поражающей лёгкостью проглотил городового «с сапогами и шашкою».
В конце концов грозный Крокодил покорно склонил голову перед «доблестным Ваней Васильчиковым». При этом, заметьте, Крокодил, не убоявшийся самой настоящей, реальной шашки городового, был побеждён игрушечной саблей Вани Васильчикова. Отношения игровые оказались сильней и властней отношений обязательных в обычной жизни. Условность сказки сильней реальной обусловленности — вот закон, которым живёт сказка Чуковского и по которому игрушечная сабля сильней настоящей. И это верно. Стрелок из сказки братьев Гримм «Шестеро весь свет обойдут» попадает из сказочного ружья в муху, сидящую в двух милях от него на дереве. Из настоящего, несказочного ружья такой выстрел, понятно, невозможен.
Но дело не только в том, что у Чуковского сказочное сильней реального, — это закон всякой сказки. Не это делает сказку Чуковского отличной от всех других сказок. Сказки Чуковского характерны не отрешением от реального — этого нет и в помине. Необычное у него вовсе не отгорожено китайской стеной от обычного. Напротив, необычное погружено в обычное, и обычное каждое мгновение готово явить необычное и, как краску из тюбика, выжать из себя причудливую сказку.
Это тем более привлекательно и действенно в сказке Чуковского, что она всегда окрашена у него эмоционально, всегда искрится самым заразительным весельем. Необычные приключения персонажей вместе с обычным фоном превращены в забавную, игровую кутерьму, подобную той, какая затевается в детской, когда взрослые оставляют ребят одних. Нет никакой принципиальной разницы в том, что в детской подушка летит в голову братишки, приплясывающего в соседней кроватке, а в сказке подушка сама прыгает в печку, как это происходит в «Мойдодыре».
Тайна обаяния и неотразимого воздействия сказок Чуковского именно в атмосфере повествования, в игре, в тональности и в лексике, идущих от детского сознания, так сказать, от первоисточника. Эта сказка-резвушка сама похожа на ребёнка всем своим складом, всем своим характером, представлениями об окружающем мире, словообразованием, игровой системой, душевной настроенностью. В этом сила «Крокодила». В этом его особость. В этом его Америка.
Я считаю «Крокодила» первой сказкой нашей детской литературы. И когда я сравниваю его с первой книжкой своего детства, когда я сопоставляю щенка, которым начинал эту главу, с крокодилом, которым её кончаю, я вижу воочию, какой огромный путь в литературе мы прошли с тех пор.
Много пришлось и мне шагать вместе со всеми от шести до восьмидесяти. Немало мы прошагали и дальше по тому же пути после «Крокодила». Но «Крокодил» был нашим первым шагом на длинном и трудном пути Новой сказки. Слава первому несравненному «Крокодилу»! Слава и почёт!
Цветок папоротника
Всякий из нас знает чудесную легенду о цветке папоротника, который потайно зацветает в колдовскую Купальскую ночь. Тот, кто найдёт этот цветок, кто сумеет пробиться к нему сквозь тысячи препятствий и соблазнов, тот найдёт своё счастье. Всё самое заветное, самое дорогое и желанное, что загадал человек, сбудется в то мгновение, когда рука неустанного искателя коснётся огненных лепестков волшебного цветка.
Но, увы, мечта оставалась мечтой, и никто не нашёл ещё цветка папоротника, хотя все слыхали о нём. Слыхал и я, и знаю о нём, пожалуй, даже больше многих других. Я знаю, например, что существует орден цветка папоротника. Это совершенно достоверно. Орден цветка папоротника вполне материален.
Он сделан в тысяча девятьсот двадцать втором году по рисунку архитектора Николая Митурича, строителя Дома культуры первой пятилетки и Театра Ленинского комсомола в Ленинграде. Сделан орден в одном-единственном экземпляре — из серебра с зелёной, голубой, чёрной эмалью и с золотой насечкой.
Пять зелёных листьев папоротника наложены на голубой лоскут неба, видимый как бы сквозь перистые папоротники. Орден имеет условную форму треугольника. В правом нижнем углу треугольника сверкает золотой сказочный пятилистник. Это и есть сам цветок папоротника. Он сияет подобно солнцу, и навстречу исходящим от него лучам устремились шесть человеческих фигурок. Они сделаны силуэтно чёрной эмалью. Руки их протянуты к желанному и недостижимому цветку-солнцу.
Всё в ордене цветка папоротника от сказки, от колдовства, как и в самом загадочном цветке. Своеобычен статут ордена. Главный параграф статута гласит, что орден этот переходящий и носить его имеет право только один вечер и только тот, чьё произведение будет признано лучшим. Присуждается он единолично очередным королём, правящим в этот вечер в Голубиане. Что это за король и что за Голубиана? Для выяснения этого обратимся к началу века.
В тысяча девятьсот двенадцатом году в Петербурге жили два моих брата-студента — Давид и Абрам, да ещё двоюродный брат Леонид — тоже студент. Жили они на Лиговке, в шестом этаже большого дома, жили скудно, бегали по урокам и тем зарабатывали себе на весьма необильное пропитание. Наскучив унылым пейзажем крыш и печных труб, какой открывался с их мансардных высот, братья-студенты время от времени выселялись на воображаемый Остров мысли, он же Голубиана, он же Голубое королевство. Здесь не было ни жандармов, ни шпиков, ни цензуры, ни даже толстых пап и мам учеников. Здесь братья могли чувствовать себя свободными, делать всё, что им заблагорассудится, о чём угодно без опаски говорить и спорить, о чём угодно писать — как прозой, так и стихами.
Основателем Голубианы был Давид, учившийся на юридическом факультете Петербургского университета, — самый старший из братьев и, на мой взгляд, самый талантливый из всех нас.
Он писал стихи. Среди других его стихов было одно, имевшее для голубян (так звались жители Голубианы) особое значение и особый смысл. Называлось оно «Цветок папоротника» и начиналось строками:
Я цветок папоротника давно ищу. Я брожу по миру широкому и грущу...Поэт давно бродил «по миру широкому», дознаваясь у всех встречных, «где папоротника цветок растёт». Но никто не мог сказать, где и когда расцветает заветный колдовской цветок. Иные из спрошенных просто смеялись над чудаком-искателем, уверяя, что «папоротника цветок нигде не цветёт. Эту сказку выдумал тёмный народ». Но поэт-искатель не верил этому и продолжал поиски, приглашая и других отправиться вместе с ним. Поиски цветка папоротника начинались с поисков единомышленников, с организации общих поисков. Не найдя волшебного цветка в царстве держиморд, поэт направился на его поиски на Остров мысли. Там он думал вырастить свой цветок папоротника, там найти то, что невозможно отыскать на Лиговке. Туда звал он своих товарищей-голубян.
Для. того чтобы поиски свои средствами искусства направить в определённое русло и объединить усилия ищущих, Давид решил однажды субботним вечером дать собравшимся к нему на огонёк друзьям и единомышленникам общую для всех тему, на которую каждый должен представить своё сочинение. Исполнять заданное сочинение можно было любыми средствами и методами искусства — стихами, прозой, музыкой, танцем, кистью — кто чем владел и в чём чувствовал себя достаточно сильным. Чтобы приготовить сочинение, давалась неделя. В следующую субботу, названную Голубым днём в знак того, что это день безмятежной ясности и радости, все должны были публично исполнять сочинения. Нерадивые, разбивающие общий дружный строй, должны были нести страшные кары, соответственно законам Голубианы. Наказанием было изгнание на кухню на разные сроки, лишение бутербродов (единственного питания голубян на их вечерах) или назначение добавочной литературной работы. Для того чтобы иметь возможность сильней воздействовать на лентяев, Давид объявил себя на эту неделю неограниченным властителем Голубианы, присвоив себе для пущей важности титул короля. Темой первого Голубого дня король объявил: «Почему студенты носят зелёные штаны?»
Шутейный характер темы и форма неведомого королевства как бы определяли характер Голубых дней. Это была игра, и по преимуществу игра литературная, хотя позже в числе голубян в разное время оказывались не только пишущие, но и актёры, танцоры и даже один архитектор.
Каждый из участников этой игры имел равное со всеми право быть избранным в короли. Этот король ведал делами Голубианы вплоть до следующего Голубого дня, когда публично исполнялись приготовленные работы.
Сперва срок правления каждого короля ограничивался неделей.
Но по мере того как игра усложнялась, число голубян росло и утруднялись задания, — не всегда удавалось выполнить работы в недельный срок, и случалось, король правил месяц, а то и дольше.
Кстати, короли вовсе не всегда звались королями. Имея неограниченную власть, какую даёт человеку фантазия, очередной король объявлял себя, случалось, халифом или римским цезарем. Помнится, после цезаря правила в Голубиане египетская царица, потом даже Вельзевул. А однажды вновь избранный король, демонстративно отказавшись от пышных титулов, объявил себя просто Добрым человеком.
Соответственно тому, куда переселял нас властью своей фантазии король — в Рим или Египет, на остров Антананариву или в средневековую Испанию, менялся облик Голубого дня. Каждый король назначал министра, который являлся конкретным организатором и распорядителем-режиссёром Голубого дня. Стиль дня соблюдался во всём: если на троне сидел халиф, то. министр назывался визирем, а работы дня исполнялись на тему «Тысяча вторая ночь». Соответственно характеру дня менялся и облик обязательного очередного «Вестника Голубого королевства», редактора которого назначал король в самом начале своего правления.
Почти к каждому Голубому дню писались и разучивались хоровые песни и марши. Так как один из голубян был драматургом, то, случалось, он свою работу писал в виде одноактной пьесы, которая ставилась во время Голубого дня на сцене Голубого театра.
По окончании очередной эры, когда все наличные голубяне побывали властителями Голубого дня по одному разу, зачитывалась история эры, выполненная очередным историографом. Кстати, писание истории Голубианы было делом не одного правления. Вообще с течением времени выяснилось, что в Голубиане есть дела, которые объемлют не только правление очередного короля, и что нужны какие-то более долговременные и постоянно действующие институты. Тогда сама собой родилась идея внекоролевской и надкоролевской власти всего народа через своих выборных представителей. Так был установлен в Голубиане консулат, состоявший в разное время из трёх или пяти консулов.
Но как бы ни усложнялась жизнь Голубианы, как бы ни развивалась эта игра, которой голубяне отдавали всё своё свободное время, одно всегда оставалось незыблемым и неизменным, — это священная обязанность каждого голубянина на каждый Голубой день приготовлять работу на заданную тему. И это была не только повинность, не только взятое на себя обязательство, но и радость каждого из нас. Работы на темы дня были главной заботой всех, и качество их определяло смысл и интерес Голубого дня. Темы предлагались каждым из присутствующих на Голубом дне и подавались королю в закрытых записках. Вновь избранный король, начиная своё правление, выбирал из всех предложенных тем одну, которая была ему по душе больше других.
Так как каждый король назначал тему в соответствии со своим душевным настроем и так как короли бывали совершенно различны по своему характеру и вкусам, то и темы дней были чрезвычайно разнообразны — и сатирические, и философские, и приключенческие, и бытовые, и серьёзные, и забавные. Мне помнятся, например, такие темы: «Последние три дня моей жизни», «Ожерелье из слёз», «Ванька, Иван и Иван Иванович», «Границы подлости и красоты», «Дама без камелий», «Пропуск в завтра», «Пусть сильнее грянет буря».
Более полувека отделяет меня от последнего Голубого дня, состоявшегося в тысяча девятьсот двадцать третьем году. Игра выдумщиков и искателей, во время которой мир оказывался «пропущенным через темперамент», длилась одиннадцать лет. Эти одиннадцать лет, проведённые в ученичестве у Прекрасного, в трудолюбивом самозабвении игры, незаметно для участников её стали школой умений и вкуса, преданности творческому поиску, искусству жить мысля, а позже стали и школой профессиональных совершенствований в избранной каждым для себя области искусства. Переход от игры к профессиональному искусству происходил постепенно, но неотвратимо в каждом из нас. Каждый незаметно для себя приближался к профессиональному уровню, к осознанию необходимости активного выхода в жизнь и, разбивая голубую скорлупу, выбирался из неё в подлинную жизнь искусства, преданность которому взращивалась в Голубиане.
Широкий мир, по которому когда-то грустя бродил одиночка-искатель, дознаваясь путей к волшебному цветку папоротника, этот широкий, как никогда, мир теперь предстал нам во всей могучей и прекрасной неотвратимости. И это был уже другой, совершенно новый мир. Поиск одиночки теперь мало что значил по сравнению с гигантским общим поиском новых путей, какими шагала вся обновлённая страна.
Живая, громаднонесущаяся жизнь властно стучалась в ворота Голубианы, и голубяне распахнули эти ворота настежь.
Один за другим уходили они в мир больших поисков, в профессиональную работу в искусстве, в кипучую жизнь. Леонид написал пьесу для ТЮЗа, которую театр и поставил. За ней последовали другие пьесы, увенчанные трилогией о Пушкине.
Абрам написал музыку к выпускному спектаклю учеников Школы русской драмы, поставившей сказку Герхарта Гауптмана «Пиппа пляшет». Позже он, уже в качестве профессионального композитора и заведующего музыкальной частью сперва Театра Пролеткульта, а потом Театра Радлова, написал музыку ко многим десяткам пьес, поставленных и в этих и в других театрах страны, создал несколько оперетт и симфонических произведений.
Что касается бывшего голубянина Ильи, то, став автором многих романов и повестей, я и нынче с благодарностью думаю о Голубиане и с грустью об основателе её — не очень удачливом, но неустанном искателе цветка папоротника. Широкий враждебный мир, о котором говорил поэт, стал наконец невраждебным миром, его миром. Искатель заветного цветка уже не только бродил по этому миру, но плечом к плечу с тысячами и тысячами строил его и рядом с ними же встал грудью на защиту этого мира, когда в чёрные дни войны злобный и подлый враг обложил его родной город. Он стоял насмерть за стенами блокадного Ленинграда и погиб в боевом строю, как многие тысячи его защитников, в январе сорок второго года.
Он искал волшебный цветок папоротника, и мне всегда казалось, что он и в самом деле уверен был, что этот сказочный цветок счастья существует. Что ж, в этой уверенности нет ничего странного. Всякая сказка есть в конце концов карнавальная маска реальности. За всяким вымыслом искусства, если это не просто вздорная болтовня, стоит реальность подлинной жизни и действительность жизненных отношений. Правда сказки и правда жизни сливаются в двуединую правду искусства, которое всегда волшебство, которое и само-то есть колдовской цветок папоротника.
Потому и нельзя в искусстве дойти до конца, узнать в нём всё и всё рассказать. Искусство неисчерпаемо в такой же степени, в какой неувядаем цветок папоротника. В искусстве всегда остаётся что-то недосказанное, что-то неуловимое, за чем вслед за тысячами не нашедших волшебный цветок отправятся тысячи других неустанных искателей.
Известный музыкальный деятель и композитор Анатолий Лядов, одержимый жаркой жаждой сказки, воскликнул однажды: «Дайте мне дракона, русалку, лешего, и тогда я счастлив». Горький в одной из своих бесед с художником Васнецовым сказал: «Без ковра-самолёта и жить не стоит». Да. Верно. И без цветка папоротника тоже.
Моя сказка
На камне у прибойной волны, бьющей в копенгагенский берег, на набережной Лангелиние сидит бронзовая Русалочка. Это ожившая сказка. Это андерсеновская Русалочка, вновь пришедшая к людям.
В первый раз в сказке великого датчанина она вышла из моря к людям, потому что полюбила человека. Она много выстрадала в любви своей. Потом она умерла. Но и после смерти осталась верна людям. Она пришла к ним во второй раз и теперь осталась с ними навсегда.
Копенгагенскую Русалочку изваял датский скульптор Эриксон, которого, пожалуй, мало кто и знал бы, не будь этого памятника-сказки. Жизнь и память людей дала ему сказка.
Сказки Андерсена — очень печальные сказки. Я ни разу не слыхал ни от кого и не читал подобного рода высказываний, но, по-моему, это совершенно очевидно. Часто, очень часто герои андерсеновских сказок гибнут в борении с злыми силами, злыми людьми. Таковы сказки «Цветы маленькой Иды», «Ромашка», «Тень», «Стойкий оловянный солдатик», «Русалочка».
Но жизнь этих погибших героев сказки продолжена после их смерти. Бронзовая Русалочка, с которой я начинал эту главу, теперь, неотделима от людной столицы Дании. Она стала как бы вторым гербом города, слившись с ним, с его людьми, его пейзажами, его историей.
Неподалёку от неё — бастионы старой копенгагенской крепости, ветряная мельница. Тут же и Музей Сопротивления. С того камня, на котором сидит грустная Русалочка, видна верфь, где построен огромный корабль «Сказочник Андерсен». Он был построен для Советского Союза. Он наш.
А Русалочка? Разве она не наша? Разве она принадлежит только датчанам? Разве она не принадлежит народам всего мира?
Сказка не знает границ. Она всесветна. Она вездесуща и неисчерпна, как жизнь. Да она сама и есть жизнь. Правда, что сказку не всегда распознаешь под скорлупой обыденного. Чтобы обнаружить её, надо разбить эту заскорузлую скорлупу. А это не всегда удаётся. Да не все этого и желают. Но противиться сказке безнадёжно. Рано или поздно она явится глазам и сердцу, настигнет, подхватит и унесёт неведомо куда.
В сущности говоря, вся наша жизнь, а сегодняшняя жизнь в особенности, имела и имеет поступательное движение к сказке, движение сильное и неотвратимое, как само время. Сказочный ковёр-самолёт стал сегодня ковром в самолёте, по которому уверенно ступает стюардесса, разнося пассажирам завтрак. Сегодня чудодейственная палочка доброго волшебника, превращающая мусор в золото, передана в лабораторию, которая может превратить ртуть в чистое золото путём обмена излишних и недостающих электронов. Превращение элементов, как и Ту-104, — это наш сегодняшний день, и день вполне реальный. В скорлупе обычного всегда заключено зерно необычного. И если мы не доходим до него, то лишь потому, что не всегда решаемся это сделать, а если и решаемся, то не всегда в силах. Тот же, кто в силах, тот всегда решается.
Лев Толстой, Достоевский, Бальзак, Гоголь, Диккенс стали великими не только благодаря тому, что были реалистами, но и благодаря тому, что они не только реалисты, но и сказочники, а значит, и моралисты. У сказки всегда очевиднейшая выводная мораль, определяющая долю и место добра и зла на земле. В ней всегда сводятся счёты с Бабой-Ягой, Людоедом, Кощеем, злой мачехой и прочей мерзостью, населяющей нашу землю.
Иногда сказка выступает в сочинениях великих с совершенной очевидностью, как в «Шагреневой коже» или «Сверчке на печи». Иногда маскарад сложней, и за реальными деталями мы не различаем сказки, как не различаем сказки в поступках Красной Шапочки до тех пор, пока она идёт по самому обыкновенному лесу к самой обыкновенной бабушке, неся самые обыкновенные пирожки в самой обыкновенной корзинке. Сказка начинается с того мгновения, когда встретивший Красную Шапочку волк спрашивает человечьим голосом: «Красная Шапочка, куда ты идёшь?»
Иногда сказка на виду у всех нарочно рядится в реальные сюртуки, пиджаки и охотничьи куртки. И тогда возникают сказки Вальтера Скотта, Александра Дюма, Фенимора Купера, Жюля Верна и Роберта Стивенсона, которые сами авторы с усмешкой называют романами. Но это, конечно, не романы. Прекрасная миледи, стремящаяся убить д'Артаньяна, — это давно знакомая Баба-Яга, а Сильвер из стивенсоновского «Острова сокровищ» — плохо загримированный злодей Людоед, который хотел съесть Мальчика-с-пальчика. Странности Паганеля, как и живописность Роб-Роя, как и одежды матросов, капитанов, медиков и беглых каторжников, населяющих романы-сказки, — это только маскарад. Он очевиден, и обманывается им только тот, кто хочет быть обманутым. От обилия реалистических деталей сказка не перестаёт быть сказкой.
Сказка задана искусству, как необходимое условие его существования, как накрахмаленные пачки балерин, которые могут быть и одеждой девушки, и оперением лебедя, и лепестками цветка; они как пение, вместо обычной речи, в опере, как зафиксированное положение персонажей в картине или романе, положение, вырванное условно из динамики жизненного движения и застывшее подобно немой картине в конце гоголевского «Ревизора». Остановим мгновение, как того требовали. Иисус Навин, Ламартин, Гёте, и попробуем разглядеть в условно застывшем мире искусства то, что не удаётся разглядеть в живом, движущемся мире. Условная овчинка безусловно стоит выделки. Ведь нам нужно разглядывать всё это не только для того, чтобы разглядеть, но и для того, чтобы рассказать об увиденном людям.
А надо рассказать так много, и этого желаешь так жарко. К тому же потребность слушать у людей столь же велика, как и потребность сказочников рассказывать.
Случается, что, читая или слушая сказку, принимаешь её безоговорочно, во всех самых невероятных и диковинных деталях. А бывает, напротив, что принимаешь от сказочника далеко не все его дары. Это случается и со взрослыми, и с малыми ребятами.
Я, например, никогда не любил сказки про Красную Шапочку, потому что никак не мог поверить, что волк в самом деле проглотил бабушку, а потом ещё и Красную Шапочку, как о том рассказали братья Гримм. Впрочем, и это ведь ещё не всё в сказке. Закусив бабушкой и Красной Шапочкой, волк заснул, и притом храпел так громко, что проходивший поблизости охотник заподозрил неладное и заглянул в бабушкин дом. Увидев спящего волка, охотник неизвестно отчего подумал: «А вдруг волк съел старуху и её можно спасти?» Подумав так, охотник отложил в сторону ружьё, из которого хотел было застрелить обжору-волка, и, взявшись за неведомо откуда появившиеся ножницы, «стал резать спящему волку брюхо».
Проведённую самозваным хирургом операцию на волчьем брюхе братья-сказочники описывают совсем не со сказочной обстоятельностью. Как полагается, хирург поначалу сделал «небольшой надрез». В надрезе совершенно неожиданно «мелькнула красная шапочка». Хирург, не смущаясь, «продолжал резать дальше». Тут «из волчьего брюха выскочила девочка» и сразу принялась Делиться впечатлениями, какие вынесла из пребывания в волчьем брюхе. «Ой, как мне было страшно!» — театрально восклицает она, появляясь на белый свет, и вслед за тем делает заявление о недостатке освещения в волчьем брюхе. Подробно осветить этот тёмный вопрос героиня, впрочем, не успела, так как из мрачных недр волчьего брюха как раз в это время «выбралась и старая бабушка». При этом не в меру реалистичные сказочники, желая подчеркнуть трудности, какие пришлось преодолеть бабушке, сообщили тут же, что «она с трудом переводила дыхание».
Но этим дело не ограничилось. Хирург-охотник решил продлить операцию и зашить волку в брюхо камни. Неясно, зачем и кому это было нужно, но тем не менее делалось это с прежней основательностью. Красная Шапочка, из жертвы преобразившись в помощницу хирурга, «притащила поскорей больших камней», охотник набил этим ненужным балластом волчье брюхо, после чего волку «тут и конец пришёл».
Все обрадовались этому. Охотник взял себе за труды волчью шкуру, а бабушка на радостях с аппетитом принялась за пирог и выпила винца, принесённого расторопной внучкой. Сама внучка при этом подумала: «Никогда в жизни не буду сворачивать с дороги и не побегу в лес, если мне это будет запрещено».
Этой добродетельной сентенцией, внушаемой себе Гретхен-Шапочкой, сказка и кончается.
Надо сказать, что этот вариант сказки про Красную Шапочку и Серого Волка не из самых жестоких. Если у братьев Гримм волк просто проглотил бабушку, то у Перро волк «бросился на добрую старушку и сожрал её, так что не осталось ничего, потому что он уже больше трёх дней ничего не ел». В этом описании уже нет условного сказочного «проглотил её» или явно шутливого, как у Чуковского в эпизоде с проглоченным городовым, которого Крокодил «проглотил с сапогами и шашкою». Тут всё всерьёз и взаправду. Тут видишь, как голодный волк жрёт бабушку, и слышишь хруст костей.
Кстати, Перро, случается, описывает трапезы и почище. В сказке «Спящая красавица» злодейка королева, собираясь пообедать собственной внучкой, заявляет напрямик:
— Я хочу съесть за обедом маленькую Зарю, — и, чуть помедлив, прибавляет: — Я хочу съесть её под соусом роберá.
Спустя неделю королева объявляет:
— Я хочу съесть за ужином моего маленького внучка.
После этого королева пожелала съесть и мать своих внучат — жену своего сына-короля.
Ничего, кроме отвращения, эти каннибальские планы королевы вызвать не могут. Но Перро этого не чувствует, и в следующей сказке — «Синяя Борода» — рисует столь же милые сказочные картинки. Когда последняя жена Синей Бороды в его отсутствие пробралась в запертую комнату, она увидела, «что пол весь покрыт свернувшейся кровью, в которой отражались трупы нескольких жён, висевших на стенах (то были все женщины, на которых был женат Синяя Борода и которых он зарезал одну за другой)».
А вот ещё одна сказочка того же Перро. Главный герой её — Мальчик-с-пальчик. Этот проныра вместе с шестью братьями, заведённый в дремучий лес и брошенный там своими родителями, попал в дом людоеда. Ночью людоед захотел зарезать и съесть всех семерых. Он взял нож, поднялся в верхний этаж дома, где спали мальчики, и направился к их постели. Но хитрый Мальчик-с-пальчик заранее снял со спавших в этой же комнате дочерей людоеда маленькие короны и надел на них колпаки, в которых обычно спали сам Мальчик-с-пальчик и его братья. Людоед нащупал в темноте короны на головах своих пленников и не тронул их, подумав, что это его дочери.
« — Ну-ну, — сказал он, — хорошее было бы дело! Вижу, что вчера вечером слишком много выпил.
Он пошёл затем к постели дочерей и, нащупав ночные колпаки, сказал:
— А, вот они, наши молодчики! Ну, смелей за работу!
И, сказав это, он, не задумываясь, перерезал горло всем семерым дочерям. Очень довольный своим путешествием, он пошёл и улёгся рядом с женой».
Когда наутро жена людоеда поднялась наверх, она «пришла в неописуемый ужас, увидев, что семь её дочерей зарезаны и плавают в крови».
Так мило развёртывается сюжет сказочки «Мальчик-с-пальчик». А теперь поглядим, каковы её герои, что за люди в ней действуют. Их много, целых восемнадцать человек. Но от такого многолюдства радости мало. При минимальных требованиях к нравственным качествам героев вы не найдёте среди них ни одного порядочного человека. Все они отъявленные негодяи и убийцы, в лучшем случае воры и трусы. Людоед зарезал своих семерых дочерей, думая зарезать семерых заблудившихся мальчиков. Жена его волей-неволей является пособницей его злодеяний. Едва ли лучше и родители Мальчика-с-пальчика. Ни в чём не повинных своих детей, старшему из которых всего десять лет, они дважды заводили далеко от дома в тёмный лес, бросая их там на произвол судьбы и обрекая тем самым на гибель. Впрочем, и детки их немногого стоят. Все они плаксы и жалкие трусишки, безвольно покоряющиеся своей печальной судьбе. Что касается семерых дочерей людоеда, зверски зарезанных отцом, то они «были не очень злы, но в будущем много обещали, так как уже и теперь кусали маленьких детей, чтобы сосать у них кровь».
Нравственный облик главного героя сказки Мальчика-с-пальчика ничуть не выше, чем других персонажей. Он без всяких колебаний подводит под нож семерых дочерей людоеда, а после того, украв у заснувшего людоеда семимильные сапоги, является к его жене и беззастенчиво врёт, уверяя, что послан её мужем, который-де велел отдать ему, Мальчику-с-пальчику, все имеющиеся в доме драгоценности. В доказательство того, что он говорит правду, Мальчик-с-пальчик показывает женщине украденные у её мужа сапоги, рассказывая при этом небылицы: будто на людоеда напали разбойники и что драгоценности нужны для его выкупа. «И так как надо очень спешить, — навирает этот шантажист и вымогатель, — он велел мне взять его семимильные сапоги, — вот они, — чтоб я скорее добежал, а также, чтобы вы не думали, что я обманщик».
Ложью, притворством и лицемерием выманив у глупой людоедки драгоценности, подленький герой вернулся в дом своего отца, где его вместе с крадеными драгоценностями «встретили с большой радостью». Родители ничуть не смущены тем, что сынишка принёс в дом чужое добро, и не расспрашивали, откуда оно. Впрочем, дивиться тому не приходится. Люди, которые могли решиться на убийство своих собственных семерых малюток, могут и воровать и укрывать краденое, вообще способны на что угодно.
Мне могут, пожалуй, возразить: но ведь Мальчик-с-пальчик обманывает и обкрадывает врагов и все его обманы и притворства есть только «военная хитрость»!
Увы, это не так. Его ложь, притворство и обманы не имеют ничего общего с необходимой маскировкой разведчика во имя победы над врагами народа, отечества и несопоставимы с доблестью военной хитрости, ибо единственный стимул Мальчика-с-пальчика — стяжательство и единственная цель — завладеть чужим добром ради личного обогащения. Подобная цель не может внушить ни малейшего сочувствия или уважения к Мальчику-с-пальчику и ниже минимальных требований, какие можно предъявить к герою доброго повествования.
Что касается самого Перро, то он не сомневался в отменных качествах своих сказок. «Я утверждаю, — писал он, — что мои сказки даже более достойны того, чтобы их рассказывали, чем большинство античных...»
Я не могу присоединиться к такой самооценке Перро. Сказки его, часто берущие за основу народные мотивы, бывают в изобилии приукрашены салонными, бездумными пустячками. Попытки Перро сдобрить свои жестокие выдумки «соусом роберá», чтобы, изменив тональность сказки, перевести её в иронический план, не спасают положения. Ирония снимается направленностью материала с излишней примесью физиологически неприятных деталей. Я далёк от нигилистических поползновений на славу Перро и не отвергаю его, но в тех сказках, о которых идёт речь, Перро, на мой взгляд, не съедобен и под «соусом роберá».
Братья Гримм, хотя тоже не безгрешны иной раз по части физиологии и натурализма, но они много сдержанней. Впрочем, я уже отрецензировал одну из гриммовских операций на волчьем брюхе, и возвращаться к этому, как мне кажется, нет нужды. Замечу только, что, само собой разумеется, оценка дана в тональности, какая присуща мне сегодняшнему. Тот мальчонка, который более полувека назад читал сказочку про Красную Шапочку, не мог, понятно, думать так, как думаю сегодня я. Но могу заверить, что ощущения были примерно такого же порядка и у малолетки. Всё проделываемое с ножницами и с волчьим брюхом было мне и тогда неприятно и даже противно.
Дети очень чутки к грубости и уродливости. Я видел, как трёхлетний мальчик, чтобы избежать повторного чтения ему вслух книжки «Бяка-Закаляка», на обложке которой художник нарисовал это безобразное чудище «с десятью рогами, с десятью ногами», забросил книжку за шкаф, откуда её невозможно было достать.
Волк с распоротым брюхом был для меня подобен этой самой Бяке-Закаляке. Не очень меня интересовали и истории, подобные рассказанной в сказке о злой мачехе и кроткой падчерице, которую запуганный отец отвозил по приказу злодейки жены в лес на съедение зверям.
В детстве я предъявлял к моральному облику книжного героя очень высокие требования. Мне были одинаково противны и злобная мачеха, и пассивно-покорный старик, безропотно готовый погубить по приказу жены свою собственную дочь, и робкая, глупая падчерица, тупо едущая в розвальнях навстречу своей гибели.
Суждения мои были категоричны и безоговорочны. Я не знал ни смешанных красок, ни полутонов. Гибкости и лукавства — этих неизменных спутников беспринципности — не было во мне, как почти во всяком ребёнке. Суждения и осуждения мои были делом не ума, а сердца.
Что-то от этой манеры судить героев скорым и праведным судом сердца осталось, к счастью, у меня и сейчас. И сейчас качество романа или повести, как некогда качество сказки, я часто склонен переводить в качества героев.
Но вернёмся к сказкам. Здесь мои склонности и вкусы столь же определённы, как в области романической. Мне решительно не нравились эпопеи о волках, брюхо которых набивается то бабушками и внучками, то глупыми козлятами по семи штук сразу, то, неизвестно почему, камнями.
Ребёнком, как, впрочем, и сейчас, я любил сказки волшебные и героические, сказки о человеческом мужестве, благородстве, силе, ловкости и волшебных уменьях. Стрелок из упоминавшейся мной сказки братьев Гримм «Шестеро весь свет обойдут», который может лопасть в левый глаз мухе, сидящей в двух милях от него, бесстрашный мореплаватель Синдбад из арабской сказки, удалой солдат со своим колдовским огнивом из русской сказки «Огниво» были людьми, владеющими волшебными дарами, людьми бестрепетного мужества и верности. Это были мои герои. Это были герои моих сказок.
Сказки народные шли у меня вперемежку со сказками чисто литературными. После «Огнива» я с таким же удовольствием читал лермонтовского «Ашик-Кериба», пушкинского «Золотого петушка» и ершовского «Конька-Горбунка».
Я думаю, что нет никакой принципиальной разницы между сказкой чисто фольклорной, народной, безымянной и сказкой литературной, сочинённой писателем. От того, что автор неизвестен, сказка ничего не выигрывает, так же как ничего и не проигрывает.
Сказка может видоизменяться. Она может превращаться в психологическую повесть, как это случилось со сказкой Андерсена «Гадкий утёнок». Может стать сатирическим памфлетом, как вышло у того же Андерсена со сказкой «Голый король», или превратиться в приключенческий роман, как история о храбром оловянном солдатике. Сказка может обернуться и серым волком и ясным соколом. И во всех случаях важно только одно: чтобы сказка оставалась сказкой, которая живёт по своим сказочным законам.
Сказка, как и плакат, не знает полутонов и не терпит излишка реальных деталей. Как только сказка обрастает большим количеством реальных деталей и подробностей, она перестаёт быть сказкой. Попытка загримировать под сказку реалистическое литературное повествование, добавив к нему что-нибудь волшебное, чаще всего ни к чему хорошему не ведёт. Как ни старался Шамиссо превратить в сказку историю Петера Шлемиля, продавшего дьяволу свою тень, ничего из этого не получилось. История осталась скучной реалистической повестью с вычурно символическим концом. То же самое произошло со многими сказками Гофмана. Тяжеловесные, длинные, обстоятельные, перегруженные деталями и стилизованные повествования остались тем, чем они были — романтически-демоническими повестями старомодного толка, которые трудно и невесело читать.
Самое сущее в слове «сказка» заключено в его корне: «сказ». Уяснить себе это с полной очевидностью легче всего тому, кому хоть однажды посчастливилось послушать одного из таких блистательных сказочников-сказителей, как Борис Шергин, о котором особо и подробно будет рассказано в одной из последующих глав.
Сказ — душа сказки. Большинство сказок Андерсена и Перро сперва рассказаны, а потом записаны. Рассказана, прежде чем записана, и чудесная книга-сказка наших дней «Алиса в стране чудес».
Сказка требовательна по отношению к сказывающему её. Она требует мужества, самоограничения, а кроме того, полного и обязательного отречения от лжи. В сказке может быть сколько угодно вымысла и не может быть ни крупицы лжи. В сказке всегда незримо присутствует ребёнок, а ребёнку лгать нельзя. Сказка не выносит пышных одежд и мудрствований.
Сказка простодушна и прекраснодушна по самой своей природе. Для того чтобы браться за сказку, нужно обрести в себе доброго волшебника (но ни в коем случае не ёлочного Деда-Мороза).
Сказка неотрывна от детства, и на первый взгляд кажется, что только детству и сродни. Но это не так. Во всяком случае, со мной это не так. Детство моё прошло давным-давно, а сказка всё живёт со мной. Я люблю читать и слушать сказки, а случается, и сам сказываю или читаю взрослым и малым волшебные сказки, слышанные мной когда-то от Бориса Шергина — искусного сказителя, тонкого художника и знатока русского Севера.
Но мне мало сказывать чужие сказки. Я должен сказать свою собственную. Пока я, однако, не решаюсь на это. Сказка со мной и во мне. Но она ещё не может отделиться от меня. Яблоко падает тогда, когда оно созрело. Видно, ещё не пришло время полной зрелости.
Правила колдовства
«Как мы пишем»
Судя по тому, что название главы взято в кавычки, нетрудно догадаться, что оно цитатно. Название это повторяет заглавие одной книги, вышедшей в тридцатом году. Мне хочется рассказать о ней поподробней. Она стоит того.
Книга рассказывает о литературных уменьях и литературных ученьях. Учить можно по-разному: лекциями, показом, личным примером, ста двадцатью семью другими столь же почтенными, сколь и широко распространёнными методами. К сожалению, кроме них часто применялись в литературном обиходе также сто двадцать восьмой и сто двадцать девятый методы — плеть и обух. Особенно усердствовали в применении этих мощных стимуляторов критики рапповских времён. В наше время нравы несколько смягчились, и критики осваивают новые прогрессивные приёмы — пируэты и реверансы, хотя при случае, исподтишка, не прочь прибегнуть и к более действенным, по их понятиям, уже испытанным методам.
Очень распространены были книжные поучения для недозрелых писателей в начале тридцатых годов. Книги на эту тему писались и печатались тогда в изобилии. Особой нужды в том, мне думается, не было. Скорее, это была дань моде. Впрочем, многие искренне полагали наставительно рецептурные книги назревшей необходимостью нашей литературной жизни.
Помнится, Профиздат, чтобы укрепить ряды литературных новобранцев (тогда шёл так называемый призыв ударников в литературу) и дать им в руки надёжное оружие, спешно приступил к изданию серии тощеньких книжечек под весьма нескромным заголовком «Мой творческий опыт рабочему автору».
В этих книжечках многие литераторы, иногда отнюдь не из самых лучших, торопливой и сбивчивой скороговоркой сообщали о своих достижениях и посильно кокетничали своими наскоро изобретёнными промахами. И то и другое чаще всего было малопоучительным.
Одним из счастливых исключений в упомянутом жанре была книга «Как мы пишем». Книга вышла в тридцатом году небольшим тиражом, сейчас является библиографической редкостью, и её мало кто знает. Между тем она весьма примечательна, и мне представляется полезным и интересным поговорить о ней, об отдельных очерках, в ней опубликованных, о мыслях, ею внушаемых, об авторах её.
Это книга коллективная, и некоторые из её авторов — превосходные писатели и умные люди, обладающие и большим жизненным, и большим литературным опытом. От них при желании можно и ума набраться, и мастерству поучиться.
Само собой разумеется, не все высказывания, приведённые в книге, бесспорны, не всё в них следует принимать без оговорок. Кое-что, как мне кажется, решительно не годится в писательском деле. Со многим можно и должно спорить.
Но спор этот представляется мне плодотворным, а знакомство с книгой и её авторами — приятным и полезным.
Книга родилась из анкеты, разосланной «Издательством писателей в Ленинграде» (переименованным позже в издательство «Советский писатель») группе видных советских литераторов. Речь в анкете шла главным образом о «технологии литературного мастерства», как выражались её организаторы.
Отозвались на призыв поделиться своими мыслями о художнической работе восемнадцать писателей. Я остановлюсь на двенадцати, чьи высказывания я могу дополнить впечатлениями от бесед и личного общения с ними.
Все двенадцать — отличные писатели, и очень разные. Красочный и сочный Вячеслав Шишков ни в малейшей степени не похож на суховатого и скупослового Михаила Слонимского, острый и взрывчатый Виктор Шкловский — на сдержанного Константина Федина, изобретательный мастер напряжённого сюжетного повествования Вениамин Каверин — на неторопливого исторического бытописца Алексея Чапыгина, иронический и парадоксальный Юрий Тынянов — на размашистого и щедрого Алексея Толстого, создатель разбитного синебрюховского мещанского говорка Михаил Зощенко — на мужественную и душевную Ольгу Форш или чётко реалистического романтика Бориса Лавренёва.
Мнение каждого из них о писательском труде интересно, как и заочная дискуссия на эту тему. Но, по зрелом размышлении, я решил отречься от прожектёрского плана поймать в свои непрочные силки одновременно двенадцать жар-птиц. Только трёх из двенадцати — Михаила Зощенко, Вячеслава Шишкова и Юрия Тынянова — я выделяю для рассказа о каждом из них в особой главе.
Мнения и высказывания о литературном труде остальных будут вплетены в ткань моего повествования — каждое в своём месте и в своё время.
Не могу, однако, не привести немедля одно высказывание Ольги Форш, с которого она начинает свой короткий очерк «Как мы пишем». Вот две начальные строки этого очерка: «Прежде всего, я пишу потому, что не писать не могу. Это необходимость».
Превосходное вступление в разговор о писательстве, отвечающее на главный вопрос о том бесконечно сложном комплексе вопросов, которые объединены в заголовке-формуле — «Как мы пишем».
Если бы каждый из нас неукоснительно, строжайше следовал этому закону законов написания любого произведения искусства, если бы мы действительно всякую вещь писали только потому, что не писать её невозможно, на чём, кстати, настаивал ещё Лев Толстой, — как гигантски выиграл бы от того наш читатель.
Убил ли Сальери Моцарта?
Всякая встреча с Юрием Николаевичем Тыняновым была по-особому интересной и обогащающей. Я думаю, так обстояло дело не только со мной, но со всяким, кому посчастливилось встречаться с ним.
Его не очень гладкая живая речь являлась как бы думанием вслух. Она пленяла широтой и остротой суждений, иногда совершенно неожиданных. Он был ироничен, часто парадоксален и всегда интересен и своеобычен.
А каким глазом обладал он! Такого острого и так по-своему видящего глаза, который бы работал в такой отрадной гармонии с умом, я не встречал ни у одного из известных мне писателей.
В книге «Как мы пишем» есть очерк Тынянова, пронизывающий со всепроникающей силой рентгеновского излучения самые тайные тайны писательского в писателе. Немножко трудный и в то же время поразительно деликатный в обращении со словом и с читающим, Тынянов умеет учить не уча и законополагать не настаивая.
Удивительно интересно говорит он в своём очерке о вымысле и домысле, о факте документированном и недокументированном. Начинает он очерк с ошеломляющего утверждения, что «всего трудней заставить человека поверить в факт...».
Тонкими и остроумными ходами Тынянов подводит читателя к положению: «Знание знанием, а сознание сознанием» — и заключает этот раздел тем, что «средний интеллигент ходит, честно говоря, с сознанием, что солнце всходит и заходит. Ему нечего делать с таким громоздким и совсем неочевидным фактом, что земля движется».
С особенной убедительной силой Тынянов говорит о лживости факта, зафиксированного иной раз в парадном документе. Это приводит Тынянова к утверждению своего особого отношения к историческому факту и к необходимости построения своего метода писания исторических романов. «Там, где кончается документ, там я начинаю».
Больше того, возвращаясь к тому же вопросу в последующем, Тынянов признаётся: «Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашёл за документ...»
Иногда писатели чувствуют себя вынужденными не только идти дальше документа и начинать там, где он кончается, но и предварять его начало. Я слышал в тридцать шестом году, как на одном из писательских собраний Алексей Толстой рассказывал о том, что, работая над романом «Восемнадцатый год» и не имея достаточно документов, он принуждён был выдумать речи командарма Сорокина. Несколькими годами позже, когда найдены были новые документы о гражданской войне, оказалось, что так именно и говорил Сорокин, как написал Толстой.
Так случается, что вымышленное писателем оказывается сущей правдой. Но случается это в одном-единственном случае — если писатель настолько изучил свой материал, эпоху, типаж, настолько вжился во всё это, что в материале, в эпохе, о которой повествует, он свой человек, всё о ней знает, всё понимает и чувствует. Тогда, и только тогда, вымысел столь соответствует возможности действительного, что уже не может прозвучать фальшиво.
Ещё одно блестящее тому доказательство — история Самсон-хана в романе «Смерть Вазир-Мухтара». «Когда я работал над «Смертью Вазир-Мухтара», — рассказывает Тынянов в очерке, о котором уже шла речь, — меня поразила история Самсон-хана. История эта была разработана исследователем почтенным, много поработавшим над историей императорского периода на Кавказе — Адольфом Петровичем Берже. Самсон-хан, солдат-дезертир русской армии, начальник персидской гвардии, у Берже ведёт себя как дворянин, случайно поступивший на службу к иностранному правительству: во время русско-персидской кампании он отказывается участвовать в войне и уезжает из Тавриза. Русский батальон дезертиров против русской армии не выступает. Я решительно ничего не мог сделать с этой конфетной историей. И не пробовал. У меня не было под рукой никаких документов, опровергающих Берже, и всё-таки я не мог писать вместе с Берже... Бахадеран в ханском халате, убивший свою жену, как-то хмурился и не соглашался на свои национальные горячие чувства. Начальник гвардии не может отказаться от военных действий. И как персы позволили бы этому своему генералу пить кофе и шербет, когда их били? Разве из недоверия? Но батальон дезертиров, эти дезертиры, многажды битые и прогнанные сквозь строй — и ненавидящие строй, который их обидел, так-таки «не пожелали», «отказались» и т. д.? Нет. И сознательно, не имея документов, опровергающих Берже, я написал об участии Самсона и его солдат в битвах с русскими войсками и не чувствовал угрызений совести. А потом, уже после того как напечатал это, роясь в каких-то второстепенных материалах, наткнулся на краткую записку генерала (кажется, Красовского), в которой тот требовал подмоги, потому что на левом фланге наседают на него „русские изменники"».
В этом, как и во многих других случаях, вымысел и дополняет факт, и в то же время спорит с ним. Спор этот плодотворен, но труден. Согласовать сущее и выдуманное нелегко. Дополнительные трудности создаёт реалистичность деталей в нереалистическом повествовании.
Я помню, мы сидели с Юрием Николаевичем в зале Дома Маяковского на соседних стульях, слушая разговор Сергея Образцова со зрителями, сопровождавшийся показом различных номеров из его концертных программ.
Была там и зажигательная «Кармен», пародирующая себя самоё и безвкусные страсти. Был изумительный разговор деревянных шариков, надетых на два образцовских пальца. Эти два гладких шарика, ничем не отличавшихся друг от друга, были в руках артиста двумя характерами, и немой их разговор был чрезвычайно красноречив.
— Вот видите как, — сказал Юрий Николаевич, поворачиваясь ко мне, и узкое, всегда бледное лицо его порозовело. — Говорят двое. А их нет как будто. И они есть. Такова сила условности. Если она хорошо сделана. Он приостановился, пережидая взрыв аплодисментов, и продолжал сдержанно и оживлённо: — Всё стараемся укрыть, упрятать побольше. То правду, то швы, то условности. А ведь обнажать лучше. Сильнее. Больше искусства.
Юрий Николаевич прервал себя, потому что Образцов стал показывать новый номер. Это был «Титулярный советник» Даргомыжского. Когда дошло до места, где, будучи отвергнут генеральской дочкой, «пошёл титулярный советник и пьянствовал целую ночь», — в руках несчастного появилась поллитровка. Зал разразился аплодисментами и хохотом.
В самом деле, невозможно было удержаться от смеха при виде маленькой куклы, держащей в руках огромную для неё натуральную поллитровку.
Это было чудесно сыграно, а главное — чудесно выдумано. В блистательном конферансе, сопровождавшем представление, Образцов раскрывал тайну и силу реализма в таком условном искусстве, как кукольный театр.
В том, что маленькая кукла пила водку из огромной для неё бутылки, было явное нарушение пропорций, которые, казалось, были в этом случае необходимы. Если бы не нарушать пропорций кукольного персонажа и вещей, которыми он пользуется, то разгульный титулярный советник должен был бы пить водку соответственно своему росту из бутылочки, в каких аптеки продают валерьянку, йод и сердечные капли. Но, как справедливо говорил вышедший из-за ширмы концертант, тогда никому не было бы смешно и никто из зрителей не поверил бы, что в этом привычном для нашего глаза маленьком лекарственном пузырьке находится водка. А раз нет водки, нет и разгула титулярного советника, нет и трагедии маленького человека, отвергнутого женщиной другого класса, нет и главной темы титулярного советника.
И всё это есть, если в руках у маленькой куклы появляется настоящая поллитровка, которую каждый зритель тотчас же узнаёт. И тогда есть для него и водка, и разгул титулярного советника. И к тому же есть дополнительное удовольствие от забавного несоответствия маленькой фигурки и большой бутылки водки. Узнавание зрителем реалистической детали превосходно работает в условном кукольном материале на организацию зрительской эмоции.
Примерно так говорил Сергей Образцов.
Для меня же этот разговор был вдвойне и втройне интересен, потому что рядом со мной находился Юрий Николаевич, реплики которого расширяли для меня поле мысли. Разговор, начатый нами в паузах между номерами и взрывами аплодисментов, уже свободно продолжался в перерыве. Юрий Николаевич не сразу оставил своё место, и мы посидели ещё немного в зале. Он сказал, словно подводя итоги всему услышанному:
— По-видимому, соотносить реальное с условным всего трудней в искусстве.
Он приостановился в задумчивости и прибавил:
— Никогда не знаешь, из какой бутылки должен пить твой персонаж — из большой или маленькой.
Он сказал это с полуиронической усмешкой, ему одному свойственной. Я и сейчас, более четырёх десятилетнй спустя, вижу это едва приметное движение губ на нервном бледном лице.
Мы продолжали негромкий и неторопливый разговор, и в конце его Юрий Николаевич сделал поразившее меня замечание:
— Жизненный факт многозначен, и, сделавшись фактом литературным, он всегда только часть факта. В этом нет искажения, хотя есть противоречие. Общеизвестен факт, что пуля Дантеса ранила Пушкина в живот. А Лермонтов, отлично это знавший, написал: «С свинцом в груди». Но ведь никому же никогда не приходило в голову видеть в этом искажение исторического факта. А вот самого Пушкина Катенин попрекал тем, что исторически ни в чём не повинного Сальери он сделал убийцей Моцарта. Упрёк, на мой взгляд, справедливый. Не правда ли?
Я не успел ответить. Юрия Николаевича окликнули. Он поднялся и глубоко вздохнул. Щёки его втянулись. Он, видимо, устал. Мы двинулись между стульями к выходу. Возле дверей мы застряли в общей толчее. Кто-то остановил Юрия Николаевича и оттёр от меня. С минуту я ещё видел из-за чьего-то плеча кудрявую голову с огромным лбом, потом потерял из виду.
Всякий раз, когда я встречался с Юрием Николаевичем, меня не оставляла странная мысль, что все тыняновские книги чудесным и необъяснимым образом изготовлялись за этим выпуклым лбом и потом сразу появлялись на свет совершенно готовыми.
Может быть, так оно и было на самом деле. Правда, если судить по словам самого Тынянова, по очерку его в книге «Как мы пишем», то дело обстояло совсем не так. Но это почему-то не могло поколебать моей уверенности. Наверно, Тынянов ошибся в анализе своих собственных писаний. Ошибаться могут ведь и очень умные люди.
Мне казалось, что в рассуживании Пушкина с Катениным Тынянов тоже не совсем прав. Историки не располагают фактами, которые доказали бы, что Сальери действительно убил Моцарта. Роль злодея-отравителя, приписанная ему Пушкиным, остаётся на совести поэта.
Да, это так. Но я не склонен ставить это Пушкину в вину. Это смелый и свободный вымысел, а не поэтический каприз, не произвол.
Мне кажется, Пушкин имел полное и неоспоримое право именно так трактовать своих героев, как он это сделал. В своей маленькой трагедии (при ином толковании факта она не была бы и трагедией) он вёл речь не о Моцарте и Сальери, а о гении и посредственности, о том, что «гений и злодейство две вещи несовместные» и что, напротив, посредственность, подхлёстываемая завистью (кстати, в первом варианте «Моцарт и Сальери» называлась «Зависть»), совсем рядом со сквернами и даже со злодейством. Гениальный поэт, всю жизнь преследуемый посредственностями, мог направить ищущую мысль именно в это русло, работая над «Моцартом и Сальери». Может статься, об этом думал он и в последние минуты, стоя под пистолетом Дантеса. Ведь судьба Моцарта — это, как я понимаю, судьба самого Пушкина. Как же можно говорить, что для Пушкина тема и образы трагедии — это тот же предмет, что и для историка? Как можно обязывать его относиться к материалу так же, как относится к нему учёный-исследователь? Нет, для поэта вообще, а для поэта Александра Пушкина в особенности, всё обстоит иначе.
Кстати, что касается так называемого искажения истории, то Пушкин тут совсем не одинок. Александр Дюма, например, говорил, что для него исторический факт только «гвоздь, на который он вешает любую нарисованную им картину». Лев Толстой в романе «Война и мир», с общепринятой точки зрения, то и дело искажал историю. Генерал Драгомиров сделал, сколько мне известно, множество поправок фактических неточностей, допущенных маститым классиком в описании Бородинского сражения.
Жаль, что научный генерал не был в Доме Маяковского и не видел огромной бутылки, из которой пьёт маленький титулярный советник, балансирующий на страшноватом и небезопасном обрыве ширмы в реальность.
Я целиком на стороне Льва Толстого и против Драгомирова. И я целиком на стороне Пушкина и против Катенина и Тынянова, несмотря на то, что всегда любил и люблю Тынянова.
Я думаю, грешным делом, что Тынянов и сам был бы заодно со мной и против Катенина, если бы он был только автором романа «Пушкин» и не был бы, кроме того, и пушкинистом. Точки зрения художника и учёного, случается, не совпадают. Историк, следуя факту, как огня боится искажения его. Художник же, по самой сути своего труда, в определённом смысле, — профессиональный искажатель фактов, то есть неустанный искатель новой интерпретации общеизвестных фактов. Как только художник перестаёт искать эти новые значения общеизвестных фактов, эти так называемые искажения, или, как говорил блестящий живописец Валентин Серов, «волшебные ошибки», — так он перестаёт быть художником и тотчас превращается только в исследователя, вступая иной раз в жесточайший спор и противоречие с самим собой.
Так случилось и с Тыняновым. Так бывает в тысячах других случаев. Такова доля честного и ищущего художника. И трудно ему говорить о своём труде, особенно анализировать его.
Когда эта глава была уже написана и даже напечатана в одном сборнике, мне попалась на глаза статья Ал. Лесса «Да, виновен!», напечатанная в журнале «Юность». Автор её рассказывает о работах советского музыковеда Игоря Бэлзы, с книгой которого «Моцарт и Сальери» я познакомился несколько раньше. Бэлза больше двадцати лет посвятил тому, чтобы открыть тайну смерти Моцарта, и, надо отдать ему должное, сделал для раскрытия тайны всё что мог. Он побывал в Вене, где жил и умер Моцарт. Он говорил со многими музыкантами, живо заинтересованными в разысканиях малейших фактов жизни и смерти великого композитора. Он держал в руках и внимательнейшим образом прочёл так называемые «разговорные тетради» потерявшего слух Бетховена, в которых некоторые записи прямо касаются обстоятельств смерти Моцарта. Он знакомился со множеством материалов, связанных с неразгаданной тайной смерти Моцарта.
В итоге Бэлза на основании всех имеющихся материалов приходит к выводу, который Ал. Лесс выносит в заголовок своей статьи: «Да, виновен!». И. Бэлза, Б. Асафьев, а по словам Асафьева, и учитель его Н. Римский-Корсаков убеждены в виновности Сальери.
Когда Пушкин писал свою маленькую трагедию, он не мог знать тех материалов, которые известны Бэлзе, трактующему этот вопрос на сто сорок лет позже Пушкина. Всё, что было известно Пушкину, изложено им в заметке «О Сальери», в которой говорится: «В первое представление «Дон Жуана», в то время когда весь театр, полный изумлённых знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист — всё обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы — в бешенстве, снедаемый завистью. Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать «Дон Жуана», мог отравить его творца».
Как видите, Пушкин знал очень немного из того, о чём должен был вынести своё окончательное суждение. Да и то немногое было ещё далеко от достоверности. Пушкин, например, пишет, что Сальери освистал оперу «Дон-Жуан» «в первом представлении», а на первом представлении оперы, состоявшемся в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году в Праге, Сальери и вовсе не присутствовал. Он находился тогда в Вене. Услышал он «Дон-Жуана» только в следующем году, когда опера пошла на венской сцене. В сущности говоря, в руках у. Пушкина не было никаких материалов, уличающих Сальери. «Мог освистать», «мог отравить», «признался будто бы» — всё это в конце концов только предположения, не имеющие под собой серьёзных оснований. Этого ещё слишком мало, чтобы обвинить маститого Сальери в преднамеренном убийстве. Пушкин не располагал и сотой долей тех материалов, могущих внушить убеждение в виновности Сальери, какими располагал Бэлза. И всё же Пушкин вынес тот же приговор: «Да, виновен!».
И тут, как во многих иных случаях, свободный домысел поэта как будто оправдывается обнаруженными позже фактами. Что ж, в этом нет ничего удивительного или необычного. Напротив, практика многих и многих пишущих убеждает нас в обычности такой писательской прозорливости.
Нельзя сказать, чтобы доказательства Бэлзы в виновности Сальери были вполне убедительны, хотя Бэлза и имеет многих единомышленников, в числе которых, кстати, и друг Тынянова Вениамин Каверин, известный своим безупречным отношением к документированию литературного факта. Совершенно достоверно лишь то, что пока никто, в том числе и Бэлза, не располагает неопровержимыми документами, доказывающими, что Сальери повинен в убийстве Моцарта.
Сегодня известны и более поздние разыскания, чем те, какие произвёл Бэлза. Не так давно мне в руки попал номер издающегося в Базеле журнала «Швейцарский медицинский еженедельник», в котором опубликована статья доктора Дитера Кернера из Майнцского рентгеновского института. Статья называется «Моцарт как пациент» и подробно трактует вопрос о физическом состоянии Моцарта, о болезнях, перенесённых им с самого раннего детства до дня смерти, а также о вероятных причинах смерти. Анализируются свидетельства самого Моцарта, его поведение в дни и часы, предшествовавшие смерти. Критически рассмотрены свидетельства жены композитора, его родных, друзей, кто был возле него в последние печальные мгновения, вплоть до самой смерти.
Особое внимание уделено показаниям и высказываниям врачей — как современников Моцарта, так и более поздним, вплоть до наших дней. Материал, подобранный со знанием дела, анализирует всё, что поддаётся анализу в этих источниках. А выводы? Выводы, увы, очень далеки от тех, которые помогли бы окончательно решить вопрос — отравлен или умер естественной смертью великий композитор. Может быть, и отравлен, но если так, то вероятней всего медленно действующим ядом, даваемым небольшими дозами. Впрочем, и этого учёные Кернер и разделяющий его взгляды доктор Гунтер Дуда утверждать не решаются, а лишь осторожно отмечают, что «отравление (ртутное) не является немыслимым». Дальше этого робкого суждения учёные идти не осмеливаются. Они не могут и не берут на себя ответственности утверждать вину Сальери, не считают себя вправе вместе с Бэлзой, которого, кстати, они тоже цитируют, сказать: «Да, виновен!» Медики-специалисты сделать такого вывода не могут. Бэлза сделал. Кто из них прав? Может быть, решительный Бэлза и его единомышленники, настаивающие на том, что Сальери действительно причастен к злодеянию, приписываемому ему молвой, а может быть, Сальери невиновен, и тогда Бэлза и все думающие так же, как он, не правы.
Но в обоих случаях прав Пушкин, написавший Сальери так, как он это сделал в своей маленькой трагедии.
Без божества, без вдохновенья...
О том, что в книге «Как мы пишем» хорошо, было уже сказано. Но картина была бы неполной и искажала бы истинное положение вещей, если бы, сказав о хорошем, поспорив о вызывающем сомнения, я совершенно умолчал бы о том, что, как мне кажется, решительно не годится в писательском деле.
Итак, пришло время сказать о несогласиях. Ну что ж. Это не так уж приятно, но необходимо. Беспристрастности ради начну по алфавиту с Михаила Зощенко, и, пожалуй, именно с него самого, прежде чем с того, что им написано.
Внешним обликом Зощенко разительно не походил на свои рассказы. Ничего весёлого в нём не виделось. Напротив, он был неулыбчив. Его худощавое, желтоватое лицо выглядело несколько унылым, а очень тёмные глаза смотрели в мир грустно. Речь у Зощенко была медлительна, затруднена, неплавна. Он выглядел болезненным, хотя, кажется, ничем не болел. Он был всегда хорошо одет, изящен, хрупок, вежлив.
Своё писательское дело Зощенко знал превосходно и писательство полагал высокой и почётной миссией.
Помню, в начале сорок шестого года вышел у нас с ним по этому поводу недлинный, но острый спор. Дело происходило на собрании прозаиков в Союзе писателей. Разгорячась, я схватил стоявший передо мной на председательском столике стакан и сказал, подняв его перед лицом:
— Вот стакан. Он нужен. Полезен. Тот, кто сделал его, сделал хорошее, нужное дело. И это очевидно. А кто измерит, что хорошее сделал писатель, издавший толстенный роман?
Я потрясал стаканом, словно угрожая им противникам моего панегирика делателям вещей и поклонникам гуманитариев вообще и писателей в частности.
Михаил Михайлович, сидевший напротив меня в первом ряду стульев, сказал с явным огорчением:
— Ну что вы. Ну зачем же так. Как же. Вообще люди жизнь клали на писательский труд. Сколько прекрасного сделали.
Спор ничем не окончился, как и все такого рода споры. Зощенко остался при своём мнении, я при своём.
Зощенко свои мысли о писательском труде отчётливо высказал в книге «Как мы пишем». Особое внимание в этих высказываниях уделяется роли и взаимосвязи таланта, вдохновения и техники написания. Зощенко утверждает, что «талант и вдохновение — это превосходная вещь, но, оказывается, можно некоторое время работать и без них».
В другом месте Зощенко снова возвращается к этому же предмету, снова утверждая, что «можно работать и хорошо писать, не имея вдохновения, не испытывая никакого творческого напряжения. Есть какие-то рецепты, какие-то законы, знание которых вполне заменяет творческое вдохновение».
Дальше даются эти практические рецепты, избавляющие и от вдохновения и даже вообще от всякого творческого напряжения. Главнейший из них — техника. Зощенко с вдохновением ратует за этот заменитель вдохновения. Он старается показать и доказать, что рекомендуемый им заменитель надёжен и безотказен в действии. Для иллюстрации этого тезиса Зощенко приводит историю создания своего рассказа «Баня», сообщая, что рассказ «был написан без вдохновения. Этот рассказ был написан искусственным путём, т. е. я сам подбирал кропотливо фразу за фразой и вытаскивал из записной книжки слова, причём техника была настолько высока, что читатель не заметил в этом рассказе швов». Зощенко не только практиковал описанный им метод работы, но категорически настаивал на том, что написанию таким «искусственным путём» рассказов «должен учиться каждый писатель. Писать же как поёт птица, одним творческим вдохновением, хоть и легко, но вредно. Писать только одним «нутром», без знания техники и, так сказать, от «господа бога» — совершеннейшие пустяки. Такие писатели обычно недолго могут протянуть. Вот отчего мы знаем такое большое количество «неудачников» — людей, бросивших литературу после первых блестящих опытов».
Свои теоретические положения Зощенко подкрепляет примерами, которые должны показать, как вредно писать «одним творческим вдохновением». В качестве отрицательных примеров и в числе «неудачников», потерпевших на этом будто бы порочном методе, названы Проспер Мериме и Николай Гоголь, первый из которых, как сообщает Зощенко, «за всю свою семидесятилетнюю жизнь написал что-то около двух десятков рассказов да один роман» и этим ограничился, а второй, «в сущности говоря, за 6—7 лет... написал всё, что мы знаем», и дальше, так сказать, выдохся.
Что можно прибавить к этим высказываниям? Разве что сожаление по поводу того, что «неудачников», подобных Мериме и Гоголю, увы, не так много в литературе.
Я далёк от того, чтобы отвергать значение техники в писательском труде. Я только против бездушной, холодной техники, отторгнутой и даже противопоставленной творческому началу, таланту, вдохновению, порыву, озарению — всему тому, что, на мой взгляд, дороже и важнее всего для пишущего, без чего в искусстве жить нельзя.
А техника — она есть во всяком деле. И в писательском деле она тоже есть и всегда была. Ещё Пушкин писал:
О чем, прозаик, ты хлопочешь? Давай мне мысль, какую хочешь: Её с конца я завострю, Летучей рифмой оперю, Вложу на тетиву тугую, Послушный лук согну в дугу, А там пошлю наудалую, — И горе нашему врагу!Пушкин брался оснастить литературной техникой, зарифмовать любую мысль, как Чехов брался написать рассказ на любую заданную тему. Общеизвестен факт, когда на прогулке в Ялте, продолжая начатый на эту тему спор и желая поймать Чехова на слове, Горький, смеясь, предложил написать рассказ о чёрном коте, только что перебежавшем дорогу.
Чехов, не раздумывая, изъявил полную готовность выполнить нежданный заказ, и рассказ «Чёрный кот» тотчас же был написан. Его может прочесть всякий, кто даст себе труд открыть на двести тридцатой странице пятый том двадцатитомного собрания сочинений Чехова. Рассказ очень хорош. Он убедительно свидетельствует о высоком мастерстве Чехова, но отнюдь не о торжестве литературной техники и преимуществе её перед талантом и вдохновением.
Дело тут вовсе не в технике, а в душевной готовности художника живо и творчески отзываться на первый зов жизни живой. Дело тут в готовности к художническому труду во всякую минуту, в мобильности художника, в сердечной оживлённости его, в живой восприимчивости к малейшим впечатлениям от внешнего мира, которые тотчас и никому не ведомыми путями становятся творческими импульсами, обрастают художническими ассоциациями, расцвечиваются ярчайшими красками, тайна которых раскрывается и подвластна только таланту. При этом вы сразу обнаружите в рассказе Чехова его художническое лицо, без труда разглядите особые особости чеховского таланта, всё то, чем жил Чехов, как писал и этот и другие свои рассказы.
Весьма знаменателен и поучителен для трактуемого вопроса маленький эпизод из биографии Иоганна Себастьяна Баха, бывшего не только величайшим композитором всех времён и народов, что выяснилось только спустя столетие после его смерти, но и блистательным органистом-исполнителем, что было признано уже при его жизни.
Когда однажды Баха спросили — как и чем достигается им столь высокое мастерство игры на органе, Бах ответил: «Нет ничего проще. Надо только попадать пальцем в соответствующую клавишу».
Эта насмешливая реплика в сторону техники, мне кажется, убивает наповал жрецов и проповедников техницизма в искусстве, ненавистных Баху. Жизнь Себастьяна Баха в искусстве исполнена высокого самоотречения, забвения всего, что не искусство, забвения себя, жертвенное служение Прекрасному всю жизнь, каждое её мгновение. Кровью сердца, каждой клеточкой своего гигантского мозга, всей безмерной силой духа гения и всей жизнью человека питалось его несравненное мастерство, когда, сидя перед клавиатурами, он органными громами и нежнейшими трелями беседовал с небесами.
Вот чем было для Баха его искусство, в котором сам он растворялся весь без остатка. А когда любопытствующие дознавались: «Как же это у вас, как это оно получается?» — он отвечал: «Нет ничего проще...» — и, пожимая плечами, говорил о пальцах и клавишах.
Ответ гения достоин его трудов в искусстве, всей жизни его, которая и была беспрерывным трудом в искусстве, его могучих и сокровенных познавании, его выстраданного совершенства.
А теперь вернёмся к нашему писательскому труду, к нашим писательским «клавишам», к технике, к высказываниям по этому поводу Михаила Зощенко. Есть в этих высказываниях одна особенность и странность, о которой я до поры до времени не упоминал. На протяжении всего очерка о писательском труде, говоря почти исключительно о черновой, ремесленной его стороне, Зощенко ни разу не обмолвился словом — ремесло. Всюду и неизменно он говорил только — техника, техника, техника. И это, конечно, неспроста.
Техника и ремесло — вещи разные. Техника бездушна и холодна. Ремесло не бывает бездушным. Оно всегда согрето человеческим теплом. За верстаком поют. За верстаком думают. За верстаком остро переживают удачи и неудачи. За верстаком испытывают одушевление, подъём, наслаждение. Ремесло полнит человека чистой трудовой радостью, от которой легко при самой тяжёлой работе. То, о чём говорит Зощенко, лишено всего этого.
Я не хочу порочить технику вообще. Она, само собой разумеется, нужна, и знать её полезно. Но она играет чисто подсобную, второстепенную роль, и возводить её в ранг метода работы, да ещё такого, которому непременно нужно обучать начинающих писателей, мне кажется неправомерным.
Можно, конечно, при желании научить начинающего писать рассказы «искусственным путём». Но шедевры мировой литературы никогда не создавались и никогда не будут создаваться искусственным путём. Они всегда создавались и всегда будут создаваться путём огромных душевных затрат. Процесс создания подлинного произведения искусства требует от человека всего человека, всех его способностей, всех его возможностей, всей его жизни. С. Эйзенштейн утверждал: «Никогда не получится захватывающего произведения, если оно не будет создаваться целиком всем организмом художника, всеми его мыслями и чувствами».
Всегда только так. И никогда иначе.
Учить же литературную молодёжь работать «без божества, без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви» мне представляется ошибочным. Я не верю в холодную обработку слова. Искусство по самой своей глубочайшей сути эмоционально. В писательской кухне только то и хорошо, что горячо, что кипит, что клокочет. А техника есть только техника, не более того.
Печально, что обо всём этом я не могу уже поговорить и поспорить с самим Михаилом Михайловичем, а должен спорить с его неудачным, на мой взгляд, очерком.
Мне кажется, что в сугубо техническом толковании писательского труда отчасти повинны и составители анкеты, отвечая на которую Михаил Михайлович и написал свой очерк. Анкета составлена так, задаёт писателям такие вопросы и в такой форме, что невольно толкает отвечающего на выхолащивание вопросов поэтики, на антихудожническую интерпретацию художнического труда.
Некоторые из отвечающих — Ю. Тынянов, В. Шишков, А. Толстой, В. Шкловский, О. Форш сумели уйти в сторону от дурно направленного задания и написали свои очерки живо, интересно, даже увлекательно. Находчивый и остроумный Шкловский, например, написав очень своеобразный и живой очерк о работе писателя, о смысле её, просто отмахнулся от связывавшей его выхолощенной схемы анкеты, сказав иронически в последних строках очерка: «Я не помню, товарищи, тот длинный толковый список вопросов, который вы мне задаёте».
Зощенко не нашёлся поступить так же и, старательно и добросовестно отвечая на плохо поставленные вопросы так называемой «технологии литературного мастерства», потерпел на этом и к тому же вступил в противоречие с самим собой.
Касательно противоречия судите сами. В том же очерке, в котором Зощенко рекомендует работу «искусственным путём», когда вдохновения нет, он приводит взятые из стенограммы высказывания свои, относящиеся к тому же предмету, но совсем иного толка. Отвечая в одном собрании начинающих писателей на вопрос: «Сильно ли переделываете свои рассказы?» — Зощенко сказал: «Рассказы, которые я пишу с вдохновением, я отделываю мало... я одним жестом записываю рассказ, и он достаточно точен и правилен, так что мне не приходится его переделывать. Но в тех рассказах, которые я пишу искусственным путём, техническим навыком, я затрачиваю большую работу».
Из этого очень краткого описания Михаилом Зощенко своей манеры работать явствует, сколь отрадней и лучше писать в минуту творческого подъёма, чем безвдохновенно и искусственно, напирая на голую технику, — лучше не только для автора, но и для рассказа, который выписывается одностильно, плотно, единым потоком, лучше и для читателя, получающего произведение, согретое авторским волнением.
Сообщённое Михаилом Зощенко ещё не исчерпывает всего того, что он имеет сказать по этому поводу. Почти рядом с только что приведённой цитатой Михаил Михайлович обронил строчки про «это превосходное и необходимейшее состояние для писателя — вдохновение».
Вот видите, как оно — с одной стороны, проповедь безвдохновенной работы «искусственным путём», техникой; с другой стороны, признание вдохновения как «необходимейшего состояния для писателя».
Мне кажется, это не должно очень удивлять нас. Писательство — дело многотрудное и многосложное, и потому сам писатель тоже всегда многотруден и многосложен для нас. В разные периоды, на разных стадиях творческого развития он может думать о тех или иных сторонах своего творчества, своего дела по-разному. Писатель всегда в пути, всегда в процессе развития, и то, что на одном этапе для него — твёрдое правило, на следующем подвергается сомнению, а ещё позже может и вовсе отвергаться.
Нет поэтому ничего удивительного в том, что мы находим в писательских высказываниях противоречия. По большей части они неизбежны и чаще всего разрешаются в творческой практике писателя, вне соотнесения с которой теоретических высказываний невозможно составить себе ясное представление о творческом облике писателя.
У Михаила Зощенко творческий облик очень определенен, так же как своеобразный сильный талант его. Противоречивость же некоторых его суждений о своём труде есть издержки живого и сложного движения писателя к конечному творческому результату и, по-моему, не слишком уж дорогая плата за него.
Нераскрытая тайна одной фразы
Я задержался глазами на фразе: «Тихо падал снег — гость небесный».
По стройной ладности она мне показалась родной сестрой пушкинских строк: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я помню чудное мгновенье...», «Когда для смертного умолкнет шумный день...», «Вновь я посетил тот уголок земли...».
Всё это — начальные строки четырёх стихотворений. Стихотворения различны, и зачинающие их строки различны по ритму и настрою. Но в то же время есть в них общее. Это общее — строгость, точность и ладность словесного строя фразы и точное соответствие строки замыслу и строю всего произведения.
Всё это есть и во фразе «Тихо падал снег — гость небесный» из рассказа Вячеслава Шишкова «Краля».
Впрочем, тогда, когда я впервые прочёл эту фразу, я ещё не знал ни рассказа «Краля», ни того, с чем и как соотносится и должна соотноситься эта волшебная строка. Она жила сама по себе той таинственной и чудной жизнью, какую даёт людям, вещам, событиям и словам подлинное, большое искусство. Она была чудом, которое подвластно только крупному таланту.
В тысяча девятьсот сороковом году, живя в, Ялте под одной крышей с Шишковым, я не удержался и однажды спросил:
— Вячеслав Яковлевич, вот в книжке «Как мы пишем» вы привели одну удивительную фразу: «Тихо падал снег — гость небесный». Где вы её взяли? Как она родилась? Откуда она?
Вячеслав Яковлевич чуть задумался и ответил:
— Откуда? Честное слово, не знаю.
Я огорчился этим ответом. Так хотелось разгадать тайну этого словесного волшебства, и вот — нет разгадки. Я сказал нетерпеливо и с явно неприличной настойчивостью:
— Но вы должны знать.
Вячеслав Яковлевич удивлённо поглядел на меня:
— Должен?
Потом блеснул озорными глазами, усмехнулся в толстые, полуседые усы и развёл длинными руками с большими, мясистыми ладонями:
— Да нет же. Не должен.
Он засмеялся, но тотчас оборвал смех, взял меня за локоть, приблизил умное, мужиковатое, крупное лицо к моему лицу и сказал тихо, словно сообщая важную тайну:
— О самом лучшем мы чаще всего ничего не знаем. — Он подумал и прибавил: — И слава богу, что мы не знаем. Знали бы всё про всё — нечего было бы и вымысливать. А без вымысла — какая жизнь.
Я был согласен: без вымысла — какая жизнь! И спора поэтому никакого возникнуть не могло. Но я не считал разговор оконченным и не терял надежды выпытать от Вячеслава Яковлевича то, чего добивался. Увы, надеждам моим не суждено было сбыться. Вскоре мы расстались. А там грянула война, и нас раскидало в разные стороны. Незадолго до конца войны — в марте сорок пятого года — Вячеслав Яковлевич умер. Так и осталась для меня неразгаданной тайна чудной его фразы.
Как выяснилось позже, тайна заключалась не только в том, что неведомо было происхождение фразы. Всё обстояло гораздо сложней.
Когда я разговаривал с Шишковым, я ещё не знал его «Крали», из которой фраза была взята. Потом, подхваченный вихрем жестоких событий войны, я перестал думать о таких тонкостях, как музыка слова. Мне было не до того. Работая всю войну в армейских газетах на фронте и будучи одновременно специальным военным корреспондентом «Правды», я писал каждый день оперативные корреспонденции, очерки о людях войны, памфлеты, деловые статьи, и работа на ежедневную потребу войны поглощала меня целиком, не оставляя места и времени ни для чего другого. Только в сорок восьмом году, отдышавшись, остыв и несколько отдалившись от войны во времени, я стал доступен горестям и сладостям писательства и почувствовал, что вернулся наконец в заповедную страну колдовских преображений слова.
Тогда однажды, вспомня чудную фразу, подобранную на длинной и отнюдь не гладкой писательской дороге, я подошёл к книжной полке, на которой стоял только что вышедший шеститомник Шишкова, и взял в руки первый том, в котором и нашёл «Кралю».
С первых же строк рассказа я волей-неволей вошёл в чудно устроенный лад повествования. «Стоял октябрь. Погода направилась свежая, тихая... Рассветы стали туманны, задумчивы утра, тревожно чутки дни, угрюмы ночи». Всё так хорошо слажено было в рассказе и так сочно и ярко выписано, что я истинно наслаждался неторопливым течением повествования. Но по Мере движения его к концу, я всё нетерпеливей ждал — когда же будет та, примечательная, колдовская шишковская фраза, где же падёт наконец с неба тот несказанный, тихий небесный гость? Я ждал, я жаждал желанной встречи, я уже стал излишне спешить по строкам глазами и всё не находил своей старой знакомицы. А уже рассказу конец подходит. Уже одна страничка оставалась. Уже полстранички. Уже всего четверть странички...
И тут случилось несчастье. Да, это так. Иначе, как несчастьем, я назвать этого не могу. Случилось несчастье: я не нашёл в «Крале» той фразы, о которой прочитал в очерке В. Шишкова из книги «Как мы пишем», о которой говорил с Вячеславом Яковлевичем в Ялте. Её не было. Вместо неё стояла совсем другая фраза: «Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный».
Прочтя эту знакомо-незнакомую строку, я оторопел. Как могло случиться, что чудно слитная, точная, плавная, музыкально совершенная фраза вдруг заменилась длинноватой, гораздо более слабой и совсем иначе построенной фразой? Не могу сказать, как я был огорчён этой заменой. Для меня словно сразу что-то потухло в рассказе. Словно близкий человек оставил меня — изменил или умер.
Я никак не мог согласовать перемены в строе этой примечательнейшей фразы не только со своими вкусами, со своим слухом, но и с точкой зрения на неё самого автора, хорошо мне известной. В очерке Шишкова, о котором я упоминал, Вячеслав Яковлевич с явным удовольствием вспоминал об Алексее Ремизове, говоря: «Он находил, что определение снега — «гость небесный» — образно, просто, мягко, верно (в наших широтах снег — гость), что вся фраза лёгкая, как снег, неторопливая — «тихо падал», — ласковая, что в ней все слова на своих местах, попытка изменить порядок слов испортит фразу».
Тут же Шишков приводит один из вариантов возможных изменений и, резко восставая против него, пишет: «Фраза «снег падал тихо, как небесный гость» в данном рассказе «Краля» звучала бы как псевдохудожественная».
Так говорил сам автор рассказа «Краля». Так говорил тот, кто сложил эту фразу, дорогую не только его сердцу, но пришедшуюся так по душе и Алексею Ремизову, которого Шишков почитал «первоклассным стилистом». Как же после того мог бы он изменить эту фразу? Как могло статься, что сам он, заверивший, что «снег падал» вместо «падал снег» прозвучит не так, прозвучит «псевдохудожественно», вдруг и вопреки своим художническим воззрениям, своему убеждению и своему поэтическому слуху стал бы вносить отвергаемые им же самим изменения, да ещё притом корёжить весь строй фразы, расширяя и удлиняя её? Нет, не могло это быть сделано рукой самого Шишкова. Я этого не мог себе представить и потому решил, что замена сделана без него. В этом мнении меня утверждало и сопоставление некоторых дат. Шеститомник Шишкова, в котором я прочёл «Кралю», издан в сорок восьмом году, то есть после смерти Шишкова. Очевидно, замена — след холодной и безжалостной руки редактора посмертного издания собрания сочинений Шишкова.
Возможно ли это было? В данном случае, по глубокому моему убеждению, нет. Это было исключено. Ни о какой холодной и безжалостной руке редактора речи быть не могло. Владимира Матвеевича Бахметьева — редактора этого посмертного издания — я знал. Я видел его каждый день вместе с Вячеславом Яковлевичем летом во время памятного пребывания в Ялте. Я встречался с ним, говорил. Я возвращался с ним и с Шишковым из Ялты в одном вагоне, в соседних купе. Я видел, как они с Шишковым душевно дружны, как сходственны во взглядах на искусство, на работу со словом. В измене взглядам друга при редактуре посмертного издания, его вкусам, установкам, в грубом вмешательстве в текст я подозревать Бахметьева не имел никаких оснований. В совершившемся повинен не он, а кто-то другой. И этого другого я и стал искать.
Прежде всего я кинулся в ближайшее из книгохранилищ — библиотеку Союза писателей. Увы, я нашёл в библиотеке только то самое шеститомное собрание сочинений Шишкова, которое стояло на полке у меня дома, да томик избранного, изданный в сорок седьмом году, то есть всего на год раньше шеститомника и тоже после смерти Шишкова. В избранном была напечатана и «Краля», но там я обнаружил те же огорчительные изменения заповедной для меня фразы.
Неудача не могла зачеркнуть моего интереса к предмету. Я решил, что, пересмотрев все существующие издания Шишкова, включающие «Кралю», в конце концов докопаюсь до первоначального текста рассказа и обнаружу, когда он был изменён и кто к этому руку приложил.
Несмотря на твёрдое решение дойти в розысках до конца, я не смог немедля продолжать их. Многолетняя болезнь и увлечение своей писательской работой разорвали прямую поисков, и случилось, что вернулся я к ним только в шестьдесят пятом году.
Надежды мои на успех поисков соединены были, конечно, с Государственной Публичной библиотекой имени Салтыкова-Щедрина. Там я мог найти все книги Шишкова, вышедшие в дни его жизни и после его смерти как в Москве, так и в Ленинграде и в Сибири, которую Шишков избороздил вдоль и поперёк и о которой много писал.
Я нашёл все эти книги. Я просмотрел все издания, в которых была напечатана «Краля». Постепенно круг сужался, и я дошёл до двадцать четвёртого года. Дальше этого ничего не было. Впервые в книге «Краля» напечатана была именно в этом году.
Каковы же были результаты моих поисков? Очень печальные. Всюду, во всех собраниях сочинений, во всех однотомниках, во всех сборниках рассказов, где была напечатана за сорок один год «Краля», фразы «Тихо падал снег — гость небесный» не было. Была другая, её заменяющая, — не такая ладная и не такая певучая.
Оставалась у меня одна надежда. Впервые опубликован был рассказ «Краля» в тысяча девятьсот тринадцатом году в журнале «Заветы», во второй февральской книге. Неужели и там то же? Я не хотел об этом думать и, внутренне содрогаясь, выписал «Заветы». Мне вынесли толстенный том, содержащий несколько номеров журнала, переплетённых в одной пайке. Я с трепетом душевным принялся листать его. Нашёл «Кралю». И, страшась правды и оттягивая встречу с ней, стал медленно читать рассказ от начала до конца. И тут вдруг сызнова пленил меня этот чудно наполненный полнокровной жизнью рассказ, и так захотелось, чтобы была в нём та фраза, с тем и именно так падающим снегом; и так больно стало, когда я и здесь не нашёл её.
Итак, всё было кончено. Искать было больше негде. Чудной фразы «Тихо падал снег — гость небесный» не было и в первой публикации.
И тут, впервые после тридцати четырёх лет дознаваний, я спросил себя — а был ли мальчик? Существовала ли вообще когда-нибудь эта неуловимая фраза-песня? Может статься, её никогда и вовсе не было?
Но если бы её никогда не существовало, Вячеслав Яковлевич не писал бы о ней в очерке и не говорил бы о ней со мной. Если бы её не было, он не мог бы показывать её Алексею Ремизову и тот не мог бы так подробно анализировать её, повторяя всю целиком слово за словом.
Она была. Я глубоко убеждён, что она была написана. Была положена на бумагу. Была врезана в голове, в мозгу, в душе поэта. Шишков всегда был поэтом, хотя и не написал за всю свою жизнь ни одной стихотворной строчки. Он был певцом сибирской природы, её чудесных свойств и таинств. Он написал эту поэтическую фразу и навеки запомнил её — нетронутой, такой, какой она была в изначале, в первородности и перворадости своей, при самом рождении своём.
А потом, при последующей работе над рассказом, при доделках его и переделках, она стала иной. Потом она звучала уже так: «Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный». В ней появились два новых элемента: вставка «первый осенний снег» и перестановка слов о падающем снеге. Сам Вячеслав Яковлевич цитировал и в очерке и в разговоре со мной «падал снег», а напечатано всюду в рассказе «снег падал». А ведь сам же Шишков хулил подобную перестановку и предостерегал от неё. Почему же всё-таки Шишков допустил эту перестановку, эту переделку?
Я перебрал в уме множество вариантов ответа на это проклятое «почему» и остановился в конце концов вот на чём.
Рассказ — это целый мир, который надо постепенно, по мере написания, обживать, заселять людьми, заполнять событиями, голосами, движениями. Это сложнейшая система всеобщего взаимосцепления очень многих вещей, фактов, происшествий, характеров, причин, обстоятельств, множества самых различных деталей — крупных и мелких, важных и неважных, первостепенных и едва приметных. И разобраться во всём этом сложном и хлопотливом хозяйстве иной раз невыразимо трудно. Всё кажется нужным и всё важным. Недостаток самомалейшей детали воспринимается иной раз пишущим как несчастье, как недостаток чего-то, без чего невозможно полное равновесие, полная гармония написанного. И вот, в свете этих своих мыслей, я представлял себе, что дело обстояло так.
Рассказ пишется. По ходу действия поздним вечером в дальнюю сибирскую деревню попали двое проезжих — купец и доктор. Стоял октябрь. Приехали они по твёрдой, подмерзающей уже дороге в колёсном тарантасе с казённым ямщиком. Заночевали они в земской избе — то есть в общественной избе, предназначенной для проезжих постояльцев. В этой избе поздним вечером произошла встреча доктора с красивой солдаткой Дуней, которую ямщик зовёт Кралей. На это событие наслаиваются другие драматические происшествия. Нежданно приезжает любовник Крали — рыжий солдафон-урядник. Когда урядник глухой ночью уезжает, Дуня приходит к доктору с повинной — тихая, ласковая, готовая на всё. Но доктор в ярости отталкивает её, гонит прочь. А утром тарантас с доктором отъезжает от земской избы, оставляя в ней воющую в горе и обиде Дуню, Авдокею Ивановну, Кралю...
Опять одна она остаётся — горемычная, неприкаянная солдатка. Таков конец драмы Дуни. Конец и драмы доктора. Но каков конец рассказа? Чем и как его закончить? В какой тональности? В трагической? Но для этого, в сущности говоря, нет достаточного жизненного материала, — доктор и Дуня были вместе всего несколько часов.
Автор ищет и находит другую тональность для конца — затушёвывающую, затягивающую раны и обиды, нанесённые друг другу доктором и Кралей, тональность умиротворяющую, утишающую страдания людей, тональность, которая под стать дремотной картине притихшей природы в конце рассказа и медленно падающему на землю снегу. Доктор уже не мучился, не страдал. «Засыпая, он грезил о том, как зима придёт с метелями и морозами, и всё уснёт в природе под белой тёплой шубой...»
Всё это сделает грядущая зима с её снегами, которые укроют чёрную разворошённую землю ровностью, белизной, тихостью, подобной тихости и ровности, ставшей вдруг в душе загрезившего доктора.
Но зимы ещё нет, и едет доктор не в поскрипывающих полозьями розвальнях, а в колёсном тарантасе. Как же совершить в затухающем повествовании переход от чёрной осени к белой зиме, от уродливо тёмной, бугристой дороги к зимнему ровному первопутку? Тут как раз и нужен снежок — венчающий тихую песню рассказа. Тут и родилась фраза-песня «Тихо падал снег — гость небесный».
Но для картины плавного перехода из одного сезона в другой этой фразы недостаточно. Она даёт картину тихости, но не даёт самого перехода во времени. Нужно два-три объяснительных переходных слова. И они находятся. Автор вставляет в середину фразы «первый осенний снег». Теперь колёсный тарантас и снег согласуются. Путника в тарантасе застал первый снег поздней осени.
Так появились необходимые обстановке повествования слова «первый осенний снег». Но всякое новое слово должно хорошо, плотно приладиться к остальным словам фразы. Новое слово, появившись, изменило весь строй, весь ритм фразы. Было во фразе один раз слово «снег», стало дважды. И чтобы повторение дало нужный ритм всей новой фразе, первое «снег» автор признал себя вынужденным отодвинуть назад. Теперь в первом случае автор должен сказать не «падал снег», а «снег падал». Этого требовал новый ритмический ход фразы, и автор, тонко чувствующий и остро воспринимающий ритм и музыку речи, переставил слова. Теперь фраза вышла такой, какой я прочёл её во всех изданиях «Крали»: «Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный».
Плоха фраза? Нет, она не плоха. Но она иная, чем та, безоглядно, нечаянно, чудесно и счастливо родившаяся фраза-песня: «Тихо падал снег — гость небесный». Ничто лучшее невозможно было в данном случае. Я убеждён, что и сам автор думал так же. И именно такой, в первонаписании, и запомнил её автор навсегда. Именно такой и привёл в своём очерке двадцать лет спустя, разворошнвая память в поисках словесных эталонов, в жажде дорогих словесных находок. Именно такой жила она в душе его все эти годы.
Мальчик был. Была написана эта колдовская фраза-песня. И я не терял надежды доказать это, добравшись однажды до каких-нибудь нужных мне архивных недр с бумагами, письмами, черновиками и корректурами Вячеслава Яковлевича Шишкова.
В Ленинграде по части подобного рода недр, которые годились бы в моём случае, не очень-то богато. Публичная библиотека да Институт русской литературы, которому ленинградцы дали доброе и уютное наименование Пушкинский дом, — вот и всё. В рукописные отделы этих двух книжно-словесных заповедников я и ударился.
В Публичной библиотеке я почти ничего не нашёл. Главное из шести вещей, хранящихся здесь, — машинописные рукописи рассказа «Красная рубаха» и нигде не опубликованной сказки «Водяной волшебник» да два малоинтересных письма. Ничего нужного мне в этих материалах не оказалось. Единственно, что несколько утешило меня в малоплодотворном посещении знаменитого хранилища, было знакомство с рукописью чудесного «Водяного волшебника». Перелистывая большие листы с вылинявшими фиолетовыми строчками старомодной машинописи, я понял в полной мере слова Вячеслава Яковлевича, сказанные там, в далёкой Ялте: «А без вымысла — какая жизнь».
С грустью покинув волшебный мир сказки, я сел в прозаический троллейбус и отправился в рукописный отдел Пушкинского дома. Вячеслав Шишков представлен здесь несравненно богаче, чем в Публичной библиотеке. Тут к моим услугам было больше двадцати рукописей Шишкова, и между ними, что всего важней, «Краля». Я просмотрел рассказ, затем слетал ещё раз в Публичную библиотеку и, вернувшись через день снова в Пушкинский дом, к дожидавшимся меня рукописям, установил, что передо мной оттиск публикации «Крали» в «Заветах», наново выправленный автором, очевидно для книги рассказов.
Правка была основательной и жёсткой. Отвергались и выкидывались целые абзацы, целые куски рассказа. Многое вписывалось наново. Многое изменялось и дополнялось. Были и поправки, связанные с той заповедной фразой, ради которой я предпринял свои розыски, поправки важные, принципиальные.
Прежде всего о самой фразе. Она снова подвергается изменению. Для того чтобы чётче уяснить себе, что это за изменения и чего ради они делались, придётся вернуться к тексту первой публикации «Крали» тринадцатого года в журнале «Заветы». Рассказывая о знакомстве своём с журнальным текстом «Крали», я горестно констатировал: чудной фразы «Тихо падал снег — гость небесный» не было и в первой публикации.
Теперь я должен прибавить к этому, что там не было и той фразы, что я видел во всех более поздних книжных изданиях. В «Заветах» фраза была ещё длинней и выглядела так: «Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный — и прикрывал всё белым саваном».
Так было напечатано в тринадцатом году. Правя рассказ десять лет спустя, Шишков, по-видимому, прежде всего вымарал мрачный саван, вовсе не годившийся для умиротворяющей концовки рассказа, вымарал так решительно и так основательно, что прочесть его сквозь густую помарку было бы невозможно, если бы я не знал этого слова по предыдущему тексту. Вслед за тем и, видимо, не так решительно, а, напротив, колеблясь и сомневаясь, автор вымарал и весь конец фразы, то есть слова «и прикрывал всё белым», предшествовавшие слову «саваном». Теперь фраза стала такой, какой мы читаем её во всех изданиях от двадцать четвёртого до пятьдесят восьмого года: «Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный».
И ещё одна поправка очень интересна по связи с теми, о которых я рассказал. В самом начале рассказа есть такой трехстрочный абзац: «Тёмным вечером, по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге ехали купец Аршинин да ещё доктор Шер».
Отдельной строкой за этим абзацем идёт фраза: «Ехали путники вот уже третьи сутки». Правя рассказ спустя десять лет после его написания, Шишков вычеркнул эту фразу вовсе. Потом, наверно после изрядного раздумья, вписал её снова от руки. А потом, снова поразмыслив, опять вычеркнул. Второй раз вычеркнул он её, я думаю, после того, как вычеркнул продолжение фразы о падающем снеге. Он снял удлиняющий её конец «и прикрывал всё белым саваном» и тогда, вернувшись к началу рассказа, зачеркнул строку «Ехали путники вот уже третьи сутки».
В обоих случаях вымараны удлинения, загромождающие текст ненужными объяснительными словами; и совершенно очевидно, что обе поправки, обе купюры связаны одна с другой. Мучаясь необходимостью объяснить появление колёсного тарантаса на снегу, автор стремился дать поездку купца и доктора во времени, чтобы успел выпасть снег под колёса едущего тарантаса. Это вызвало и первоначальную добавку о выпавшем снеге, и строчку о том, что путники ехали третьи сутки. Заботой о полноте картины, не оставлявшей автора при позднейшей доработке текста, продиктованы все эти поправки, как и зачёркнутые варианты поправок. Вот как трудно жить даже в своих, уже написанных вещах требовательному к себе художнику.
Вячеслав Шишков был взыскателен к себе до конца дней своих, до последнего движения пера, отложенного, как я уже упоминал, лишь за двенадцать дней до смерти.
А тайну чудной песни-фразы я всё же не теряю надежды когда-нибудь раскрыть до конца... А может быть, уже и раскрыл, — поскольку открылась мне тайна расположения отдельных частей повествования в общем целом и место и смысл фразы в системе равновесия частей?
О вымышленной правде и правдивом вымысле
О вымысле и домысле я уже имел случай говорить в главе «Убил ли Сальери Моцарта?». Но сказалось далеко не всё из того, что хотелось бы сказать, что теснило ум и полнило душу. Очень хотелось бы, например, помянуть добрым словом чудесного Аркадия Гайдара. С него, пожалуй, и начну.
Я люблю Гайдара за многое, что было в его жизни, и за многое, что есть в его книгах. Гайдар не только отлично писал сущее, прожитое, виденное и чувствованное, но и отлично выдумывал. И вымысел его оказывался очень нужным для всамделишной жизни. Он выдумал Тимура, и сотни тысяч тимуровцев расселились по нашей земле, делая своё доброе мальчишечье и девчоночье дело, уча иной раз и взрослых уму-разуму.
Увы, далеко не все склонны идти путём Гайдара. Иные романисты наших дней весьма робки в доброй выдумке. Прекрасную страну Воображения они покинули в самом нежном возрасте и с тех пор в неё не заглядывали. Они катастрофически поумнели. Они давно уже смекнули, что ни леших, ни домовых, ни Синих птиц, ни цветков папоротника на свете нет, а крылья Мечты и крылья Мужества, как ангельские крылья в рассказе Бабеля «Иисусов грех», повесили в платяной шкаф, присыпав нафталином, чтобы не потратила моль.
Они, конечно, ни к чему — эти лёгкие, белоснежные крылья, но на всякий случай пусть себе висят. Может, к какому-нибудь юбилею или кампании вдруг набежит журналист и станет выспрашивать про творчество, про планы и прочее в этом роде. Тут и можно показать крылья. Всё-таки вроде истории литературных дерзаний, полёта, так сказать.
Да, это уже только история дерзаний, и, пожалуй, меньше того — просто смутные, как детский сон, воспоминания. Что касается самих романистоз, то им уже давно не снятся ни полёты, ни лазоревые гроты, ни прочее в этом роде. Во сне они по большей части пережёвывают мелкие дневные заботы и ссорятся с критиками.
Вот так и живут подобные романисты, откинув воображение. Пишут дотошно, мелочно и мелко, бесстрастно и бескрыло, громоздя деталь на деталь, как муравьи веточку на веточку в своём муравейнике. И результаты получаются муравьиные — бесформенная куча отдельных деталей постройки, не скреплённых прекрасным замыслом.
Есть, конечно, и другие писатели — и среди прежних, и среди ныне живущих. Книги их исполнены движения и мысли. В каждой — неоглядная широта мира. В каждой — кипение дел и жар сердца.
Но, увы, рядом с ними немало и муравьиных дел мастеров, которые ничего не вымысливают, ни на что не замахиваются, боясь оторваться от будничных деталей, от непосредственно наблюдённого.
Я не против наблюдений вообще и не против так называемых будней. Ратуя за вымысел, я вовсе не собираюсь подрывать корни реализма или вымысел противопоставлять жизни живой. Я полагал и полагаю, что реализм был, есть и будет важнейшим и основным методом живого и животворящего прогрессивного искусства. Я полагаю само собой разумеющимся, что жизнь — это всё содержание искусства.
Но искусство не есть сама жизнь. У него свои особые законы, по которым оно живёт и без которых быть ему невозможно. Оно, как утверждает М. Горький, «требует воображения, догадки, выдумки». Развивая эту мысль в своей статье «О прозе», Горький говорит, что выдумка «совершенствует изображение в целях придать ему наибольшую убедительность, углубить его смысл — показать его социальную обоснованность и неизбежность. «Выдумка» создала «Дон-Кихота» и «Фауста», «Скупого рыцаря» и «Героя нашего времени», «Барона Мюнхгаузена», «Уленшпигеля», «Кола Брюньона», «Тартарена» и т. д. Вся большая литература пользовалась и не могла не пользоваться выдумкой».
«Совершенствуя изображение» жизненных явлений и жизненных типов, выдумка тем самым обогащает жизненную руду, из которой выплавляется звенящий металл искусства. От того жизнь не в проигрыше, а в выигрыше. «„Ревизор" — сплошная, почти невероятная выдумка, — говорит А. Н. Толстой в одной из своих статей, посвящённых писательскому делу, — но городничие и Хлестаковы раскланиваются с нами в трамваях».
С выдуманными персонажами можно встретиться не только в трамвае, но иной раз и в зале суда и даже на комсомольских собраниях. Это свидетельствуют, например, «Правда», «Ленинградская правда» и «Смена», в которых встречаются заголовки: «Тяпкины-ляпкины», «Советские маниловы», «Комсомольские молчалины». Этим, конечно, далеко не исчерпывается список старых литературных знакомцев, встречаемых нами в жизни. Разве не случалось нам сталкиваться в быту с обломовыми, беликовыми, да и с нашими современниками, ну хотя бы с шолоховским Давыдовым, к примеру? Разве Павел Корчагин не воевал вместе с нами в Великой Отечественной войне?
Я помню одну встречу на фронте с молодым лётчиком-истребителем Александром Арустаменко. Он, и будучи на фронте, поддерживал тесную связь с музеем Николая Островского в Сочи и с родными писателя: сестрой Екатериной Алексеевной, матерью Ольгой Осиповной, а также с секретарём Островского Александрой Петровной Лазаревой. Саша Арустаменко писал им регулярно. В ответных письмах, вместе со строками самыми сердечными и горячими, какими наполнены бывали письма тех дней из тыла на фронт, сообщалось, что в музее Николая Островского в Сочи побывало за два года тридцать семь тысяч человек, среди которых много бойцов и командиров Красной Армии. Лазарева писала: «У нас есть два экземпляра книги «Как закалялась сталь», долгое время бывших на передовых с бойцами (одна из них — в Севастополе)».
Тут же к письму приложена маленькая листовка-лозунг: «Молодёжь нашей великой чудесной Родины!
Я зову тебя к борьбе за твоё светлое будущее. Когда грянет гром и настанет кровопролитная ночь, тысячи бойцов встанут на защиту родной страны. Но меня среди вас не будет, друзья мои. И я прошу вас — рубайте за меня, рубайте за Павку Корчагина».
Да, Островского уже не было. Он умер за пять лет до начала Великой Отечественной. Но в предчувствии, в предзнании войны он звал бить врага родной земли. Он был участником этого боя, этой войны — и он сам, и книги его. Они сражались под Севастополем, они шли в атаку в ревущей машине Саши Арустаменко, они были в окопах и блиндажах, в землянках и капонирах, всюду, где были готовые к бою солдаты революции, или, как назвал их однажды М. И. Калинин, «критики с винтовками в руках». Так воевали с нами Николай Островский и его герои. И разве не партизанил в бесчисленных отрядах народных мстителей наш давний друг фадеевский Левинсон?
Нет, вымысел вовсе не отторгает писателя и его материал от действительности, а, напротив, «совершенствуя изображение», укрепляет эти живые связи искусства с жизнью. Вымысел, случается, настолько сливается с жизнью сущей, что часто и сам писатель не в силах бывает точно обозначить границы вымысла и бытия. Вымысел ему самому кажется столь естественным и живым, что перестаёт быть вымыслом. И тогда, закончив фантастическую «Шагреневую кожу», Бальзак неожиданно заявляет: «Писатели ничего не выдумывают».
Не менее решительно в этом смысле высказывается Гоголь, который в «Авторской исповеди» говорит: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято мной из действительности». И дальше: «Я никогда не писал портретов в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем больше вещей я принимал в соображение, тем у меня верней выходило создание».
Довольно неожиданные высказывания — не правда ли? Что же приключилось на Олимпе выдумки? Почему автор «Прощённого Мельмота», создавший персонаж, который заявляет: «Я не завишу ни от времени, ни от места, ни от расстояния. Весь мир мне слуга», — автор рассказа, в котором на протяжении нескольких последних страниц фантастическая неземная сила вездесущего и всемогущего сатаны четырежды передастся от одного человека к другому, вдруг заявляет: «Писатели ничего не выдумывают». В чем тут дело?
И почему другой неуёмный выдумщик — автор «Ревизора», в котором всё «сплошная, почти невероятная выдумка», автор «Заколдованного места», «Вия», «Майской ночи», «Пропавшей грамоты», «Вечера накануне Ивана Купалы» и других прекрасных небылиц, в которых прихотливое и изощрённое воображение плетёт тончайшие кружева вымысла, вдруг вздумал открещиваться от самой способности воображать, утверждая, что вовсе никогда «не имел этого свойства»?
Что сей сон значит? Почему два величайших выдумщика предают анафеме самую возможность вымысла? Что за странная прихоть? Что за вопиющее противоречие с самим собой и со своей художнической практикой?
Спокойствие! Ничего страшного не произошло. Не бойтесь за судьбу вымысла. Противоречие тут кажущееся. Не от вымысла отрекаются прекраснейшие в мире выдумщики, а от лжи. У Гоголя одна забота, чтобы «верней выходило создание». Правда жизни — вот чему страшится изменить Гоголь. Потерять опору своей выдумки в реальном — вот что устрашает Бальзака. Но страхи их напрасны. Ни тому, ни другому измена жизненной правде никогда не угрожала.
В «Прощённом Мельмоте» последний на земле наследник всесветной сатанинской мощи — мелкий писец нотариальной конторы — умирает нищим на холодном чердаке большого парижского дома от дурной болезни. Демоны, вызванные из небытия могучей силой воображения писателя, укрощены, и могильную насыпь над ними писатель венчает ироническим диалогом некоего немецкого демонолога и старшего нотариального писца. Земля не потерпела урона от демонических превращений, и правда жизни сущей, явленная нам во всей её беспощадной обнажённости, правдой и осталась.
То же и с Гоголем. Как ни невероятна выдумка «Ревизора», как и сколько ни нагромождает ложь на ложь стрикулист и лгунишка Хлестаков, автор, вызвавший его из небытия силой фантастического вымысла, не солгал ни на йоту созданием своим, не изменил правде созданного им характера, не изменил жизни живой, одно из явлений которой показывает миру под нужным ему гримом забавной выдумки.
Всё, что сказано в этой главе о литературе, в равной мере может быть адресовано любому другому из видов искусства да, пожалуй, и самой жизни. Иной раз жизненный факт выглядит более невероятным, чем самая фантастическая выдумка, а выдумка выглядит убедительней и правдоподобней факта.
Вот для иллюстрации два примера. Старая, двухтысячелетней давности побасёнка или притча — называйте как хотите — повествует о двух древних греках, которые поспорили, кто лучше визжит поросёнком.
Взяв в арбитры самого беспристрастного судью, состязающиеся приступили к делу. Первый из них завизжал по-поросячьи столь натурально, что заранее считал себя победителем. Что касается другого, то, решив перехитрить соперника и уж наверняка обеспечить себе победу, он принёс с собой под плащом живого поросёнка и, делая вид, что подражает визгу, в то же время щипал поросёнка, который, естественно, начинал визжать. Обман его не был раскрыт, но от этого обманщик мало что выиграл, так как победа была присуждена его противнику. Живой поросёнок визжал, оказывается, не так натурально, как имитатор.
Трудно сказать, сколь достоверна эта древняя история. Но мы имеем другой, и весьма схожий с этим, случай уже из жизни нам современной, и случай совершенно достоверный. На этот раз речь пойдёт не о подражаний поросёнку, а об имитации образа живого актёра.
В Англии не так давно проведён был конкурс на лучшего Чарли Чаплина. Участвовать в забавном конкурсе выразили готовность многие первоклассные актёры. Для того чтобы авторитет имени не мог оказывать на жюри влияния, решено было, что состязающиеся будут выступать под псевдонимами и их настоящие фамилии будут опубликованы только после объявления результатов конкурса.
И вот наступил день конкурса. За столом восседало самое авторитетное жюри, какое только можно было себе представить. Не хватало разве что только самого Чарли Чаплина, которого, признав недостаточно беспристрастным судьёй, в состав жюри не включили.
Впрочем, он не горевал и решил отомстить жюри на свой манер. Скрывшись за псевдонимом, он принял участие в конкурсе псевдо-Чаплиных. Он явился на конкурс во всеоружии — не были забыты ни всесветно знаменитые усики, ни котелок, ни тросточка, ни огромные башмаки, ни традиционные чаплинские ужимки.
Всё это, увы, не помогло Чарли. Он занял на конкурсе только восьмое место. Первые семь оказались по приговору авторитетнейшего жюри более правдоподобными Чаплиными, чем сам Чаплин.
Таковы многотрудные и хитроумные взаимоотношения факта и вымысла. Однако вернёмся к литературе, где я, естественно, чувствую себя более уверенно. Здесь в основном всё, как в других родах искусства. Законы, по Которым живут рядом действительное и вымышленное, утверждают не противостояние их, а соседствование и тесную связь. Роман, повесть, поэма, драма — это переформирование реального в особую систему, не вполне с реальным совмещаемую, но родственную ему. Вымысел — не противостоящая правде ложь, а обогащающее дополнение.
Ещё Василий Тредиаковский двести лет тому назад сказал: «По сему, что поэт есть творитель, ещё не последует, что он лживец, ибо поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь могла и долженствовала быть».
Спустя сто лет после Тредиаковского ту же мысль, но в форме более лапидарной, высказал в предисловии к «Принцу и нищему» Марк Твен: «Пожалуй, это было, а пожалуй, и не было, но всё же могло быть». В этой короткой формуле, освещённой лукавой улыбкой выдумщика, утверждается неотъемлемое право реалиста на вымысел. Было или не было — это частность. Решающим является то, что это могло быть, если речь идёт о вчерашнем, и может быть, если дело касается завтрашнего.
Если писатель смел и умён, он всегда сумеет написать бывшее таким необыкновенным, каким это нужно для того, чтобы привлечь к нему особое и пристальное внимание. И он может написать небывшее столь обыкновенным, что обязательно этому поверят.
«Заставить всё происходить так, как будто оно не может происходить иначе, вот в чём заключается дело гения», — писал Г. Лессинг в «Гамбургской драматургии». Это так, с той необходимой поправкой, что это дело не только гения, но и каждого писателя, которому дорого то, что он пишет.
Конечно, это нелегко, и иной раз ощущается как непосильный труд даже самыми великими из великих. Недаром же Лев Толстой, перечтя свои повести «Детство», «Отрочество» и «Юность» много лет спустя после их написания, сетовал в своих «Воспоминаниях» на «нескладное смешение правды с выдумкой», какое обнаружил в своих созданиях.
Для того чтобы в полной мере постичь многотрудное искусство превращения прекрасного вымысла в живую жизнь, а жизни живой — в прекрасный вымысел, сам писатель должен многое претерпеть и через многое пройти. Прежде волшебных превращений материала должны произойти эти превращения в самом писателе. Ведь известно, чего нет в писателе, того не может быть и в его книге. Гёте, утверждавший, что книга — это автопортрет автора, конечно прав. Да, картина жизни и одновременно автопортрет автора, факт и авторский к нему домысел. К слову сказать, и с фактом писатель должен обращаться особым образом. «Два обязательства, — писал Стивенсон, — возлагаются на всякого, кто избирает литературную профессию: быть верным факту и трактовать его с добрыми намерениями». Чтобы трактовать факт, и нужен домысел, и, по мнению Стивенсона, обязательно добрый домысел.
Все ли так думают? Очевидно, нет. Стендаль однажды записал в дневнике: «Меня интересуют факты, не имеющие другой цены, кроме абсолютной подлинности».
Это как будто прямо противоположно только что приведённому мной утверждению Стивенсона, которого кроме факта интересует и трактовка его определённым образом, но только как будто. Оба, в сущности говоря, требуют правдивости, ставя это во главу угла писательского дела.
К этой точке зрения примыкает и современная шведская писательница Муа Мартинсон, ставя при этом правду своего дела в обязательную связь с правдой всех, кто ему сопричастен или даже будет сопричастен. В предисловии к серии своих автобиографических романов она пишет: «Правда обо мне — это правда о вас, уважаемые читатели».
Мартинсон ищет для своей правды самую широкую основу, какая только возможна. Но даже и в её правдивых романах существует и домысел и вымысел. И это понятно, — без этого её романы не были бы романами. Искусство в равной мере не может жить как без правды, так и без вымысла. В конечном же счёте всякая правда искусства, не полностью совмещаясь с правдой жизненной, есть вымышленная правда, как и всякий вымысел искусства, знаменуя собой знак действительных жизненных отношений, есть вымысел правдивый.
Так обстоит дело со всяким добрым искусством, со всяким настоящим искусством, со всяким человеческим искусством, поставленным на службу человеку и его доброму делу на земле.
Было два письма Татьяны Онегину
Из названия главы явствует, что центр тяжести её — письмо Татьяны Лариной Евгению Онегину. Тут же должен признаться, что заголовок не соответствует строгой истине и интригующая его заострённость — скорее литературный приём.
Письмо было, конечно, одно, но Пушкин писал его дважды, и это-то я и имел в виду своим заголовком. В первый раз письмо Татьяны Пушкин набросал в виде плана-черновика, и притом прозой.
Что же явилось причиной, побудившей приняться за план письма? Наверно, их было множество — этих причин. О всех нам дознаться удастся едва ли, но две кажутся мне безусловно существеннейшими.
Одна из них — особая приверженность Пушкина к созданному им романическому образу. В этом он подобен был Пигмалиону, влюблённому в изваянную им Галатею. Татьяна первой пришла в роман в те дни, когда даль его ещё неясно различалась «сквозь магический кристалл». Вспоминая в конце романа о его начале, Пушкин говорит:
Промчалось много, много дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явилися впервые мне.Татьяна, видите, названа первым персонажем романа, явленным поэту «в смутном сне». Онегин явился уже «с ней». «Татьяны милой идеал», к которому обращается Пушкин и в последней строфе последней главы «Евгения Онегина», прощаясь со своим детищем, всегда был по-особому дорог Пушкину. За девять лет работы над романом поэт сжился с этим образом, как с живым и родным его душе человеком. С явным и живейшим участием рисуя состояние Татьяны после горького объяснения с Онегиным в саду Лариных. Пушкин, адресуясь к читателю, прямо говорит:
Простите мне: я так люблю Татьяну милую мою!Итак, одна из важнейших двух причин создания предварительного плана письма Татьяны — особая приверженность Пушкина к героине крупнейшего своего произведения и ко всему, что с ней связано, — приверженность очевидная и неизменная.
Вторая причина состоит в том, что названный черновик был просто рабочей заботой, рабочей потребностью и рабочей необходимостью при написании романа. Об этом свидетельствует строфа, стоящая непосредственно перед «Письмом Татьяны к Онегину». Вот начало её:
Письмо Татьяны предо мною: Его я свято берегу, Читаю с тайною тоскою И начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, И слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, Безумный сердца разговор И увлекательный и вредный? Я не могу понять...Это завершающее «Я не могу понять» для нас — ключ к пониманию того, почему семьдесят девять строк письма Татьяны, являющиеся, в сущности говоря, каплей в океане пяти с лишним тысяч строк романа, потребовали отдельного плана.
В самом деле — откуда у юной, неопытной, неискушённой в сердечных да и просто в жизненных делах Татьяны столь острая и щедрая нежность, столь «увлекательный», столь «безумный сердца разговор», столь изощрённая «слов любезная небрежность»?
Если Пушкину, уже создавшему письмо Татьяны в окончательном виде и держащему его в руках, это чудо, совершённое им самим, всё ещё непонятно до конца, то как же всё это было невнятно, смутно, неразборчиво в той стадии, когда письмо это только вызревало в творце его, когда нужно было понять не только то, что уже сделано Татьяной, но и то, что ещё должно ей сделать? Надо было думать за Татьяну и вместе с ней вжиться в будущее письмо, войти в его строй, в скрытое пока от глаз и ума существо его. Надо было уяснить себе всё предстоящее, чему и должен был помочь план письма, набрасываемый Пушкиным в прозе.
План был поиском содержания, какое Татьяна должна была вложить в своё послание Онегину. План был поиском тональности, в какой должна писать Татьяна, переполненная новым своим чувством. План был поиском конкретных средств выражения душевного смятения Татьяны, той «слов любезной небрежности», того «безумного сердца разговора», который и был найден поэтом. Наконец, план был поиском логики движения материала письма, расположения этого материала на пространстве повествования.
Всё это, предстоящее автору, было тем трудней, что речь шла не о Евгении, помыслы, чувства, привычки, даже образ жизни которого был близок тому, что знал, чувствовал, переживал сам поэт. Задача была иной, более сложной, так как предстояло следовать законам ума безыскусственного и сердца, не тронутого скверной расчёта, каковы были ум и сердце юной «барышни уездной», от имени которой должен был писать автор. Взвесив всё это, вы не удивитесь, почему для письма Онегина Татьяне в восьмой главе романа предварительного плана Пушкину не понадобилось, а для письма Татьяны составление такого плана оказалось необходимым.
Анализ стихотворного текста и сравнение его с прозаическим планом должны убедить нас в том, что план составлен не напрасно. Но чтобы сравнивать и сопоставлять, надо знать не только письмо Татьяны в окончательном его виде, то есть в том виде, в каком оно известно нам по тексту «Евгения Онегина», но знать и упомянутый уже прозаический план, обнаруженный в черновой рукописи романа. Привожу его полностью, ставя, как обычно принято, в скобки то, что Пушкиным при правке черновика вымарано. Итак, план письма таков:
«(У меня нет никого)... (Я не знаю вас уже). Я знаю, что вы презираете... я долго хотела молчать, и думала, что всё увижу... Я ничего не хочу — хочу вас видеть, — у меня нет никого, придите... Вы должны быть и то, и то; если нет, меня бог обманул. (Зачем я вас увидела, но теперь уже поздно. Когда...) Я не перечитываю письма, и письмо не имеет подписи, отгадайте, кто...»
Таков план-черновик. Похоже ли это собрание отрывочных, подчас кажущихся бессвязными фраз на то чудно стройное целое, исполненное душевного трепета и чистоты, выраженных в плавно льющихся стихах, каким предстаёт перед нами письмо Татьяны в окончательном тексте «Евгения Онегина»?
С первого взгляда на план почти всякий, пожалуй, скажет — нет, не похоже. И жестоко ошибётся. Для того чтобы убедиться в этом в полной мере, давайте сличим оба текста — прозаический и стихотворный — строчка за строчкой. Для того чтобы облегчить эту работу и сделать её наглядней, я выписываю каждую фразу плана или часть её, играющую в общем тексте свою роль, в отдельную строку. В начале каждой строки, в соответствии с тем, какое место занимает эта фраза или слово в прозаическом плане письма, я ставлю номер.
Исключение составляют только две начальные фразы. Первая («У меня пет никого»), вычеркнутая Пушкиным, повторяется и уже не вычёркивается позже. Вторая («Я не знаю вас уже»), тоже вычеркнутая, осталась не расшифрованной мной и кажется мне в несогласующихся своих частях просто опиской. Мне представляется, что слова «не» и «уже» взаимно исключают друг друга в этой фразе. Или фраза должна была звучать так: «Я знаю вас уже» (без «не») или: «Я не знаю вас» (без «уже»). В обоих случаях фраза имела бы определённую направленность, соединяющуюся с общим смыслом письма. В первом случае смысл был бы примерно такой: «Я знаю вас уже давно, но до сих пор не подозревала...» и т. д. Во втором случае смысл фразы мог бы быть таким: «Я не знаю вас, но сердце моё...» и т. д. Ни тот, ни другой смысл не согласуется ни логически, ни грамматически с фразой, данной Пушкиным: «Я не знаю вас уже». Фраза, очевидно, и самому автору плана показалась негодной, и он её вычеркнул. Оставим же и мы её в покое.
Весь остальной текст, за исключением двух указанных фраз, укладывается в отдельные смысловые строки так:
1 Я знаю, что вы презираете...
2 я долго хотела молчать,
3 и думала, что всё увижу...
4 Я ничего не хочу — хочу вас видеть, —
5 у меня нет никого,
6 придите...
7 Вы должны быть и то, и то;
8 если нет, меня бог обманул.
9 (Зачем я вас увидела,
10 но теперь уже поздно. Когда...)
11 Я не перечитываю письма,
12 и письмо не имеет подписи, отгадайте, кто...
Теперь, положив перед собой томик Пушкина с «Евгением Онегиным» и раскрыв его на соответствующей странице, разыщем те места в письме Татьяны, где строки предварительного плана нашли своё отражение в окончательном тексте письма.
Первый пункт плана — строка «Я знаю, что вы презираете...». Если учесть две отброшенные и ненумерованные строки плана, то это третья фраза плана. В окончательном тексте также третья фраза гласит:
Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать.Налицо если не полное тождество строк плана и окончательного текста, то совпадение в главном мотиве и его выражении. В обоих случаях речь идёт о презрении, которое, по мнению Татьяны, может вызвать в Онегине её письмо.
Второй пункт плана — фраза «я долго хотела молчать». Она находит место спустя три строки в окончательном тексте, и притом мало изменяется. Повторённая почти в точности (изменено только слово «долго») в романе, фраза звучит так:
Сначала я молчать хотела...Третий пункт плана — продолжение предыдущей фразы: «и думала, что всё увижу...». Этот мотив и в окончательном тексте следует непосредственно за предыдущим стихом и развит так:
Поверьте: моего стыда Вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела Хоть редко, хоть в неделю раз В деревне нашей видеть вас.Мотив — я бы молчала, если б знала, была уверена, что увижу вас, — в обоих случаях полностью совпадает, хотя в окончательном тексте, разумеется, развит основательней и аргументированней, чего в плане и не требовалось.
Четвёртый пункт плана — фраза «Я ничего не хочу — хочу вас видеть» нашла своё выражение и развитие в окончательном тексте и тоже непосредственно после предыдущей фразы о том, что Татьяна хочет видеть Онегина. В желании этом отсутствует полностью что-либо преднамеренно рассчитанное, меркантильное, практическое, корыстное. Татьяна хочет, жаждет, рвётся видеть Онегина не для того, чтобы увлечь его, кокетничать, располагать к себе, завоёвывать его внимание или его самого. Ничего такого не мыслится Тане, не нужно чистой её душе. Она сразу говорит: «Я ничего не хочу» от вас, просто «хочу вас видеть», ради вас самих, ради безрасчётливой своей душевной потребности. Этот бескорыстный порыв, это открытое «Я ничего не хочу — хочу вас видеть» развито в окончательном тексте так:
Чтоб только слышать ваши речи, Вам слово молвить, и потом Всё думать, думать об одном И день и ночь до новой встречи.Ничего большего не надо, кроме того, чтобы видеть любимого, чтобы потом «думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи». В этом радость её, это её сердечная жажда. Мотив развит в окончательном тексте превосходно, но это мотив плана, стоящий в общем развитии плана и письма в одном и том же месте.
Пятый пункт плана — фраза «у меня нет никого» логически вытекает из предыдущей фразы «Я ничего не хочу — хочу вас видеть». Татьяне нужно видеть любимого, как родного человека, потому что у неё нет никого, потому что близкие её далеки ей по духу. Это вытекает не только из ситуации, возникшей в этой третьей главе, где Татьяна пишет письмо Онегину. Это вытекает из всего облика героини, из условий её существования в определённой среде, из характера её, развившегося под влиянием определённых обстоятельств. В предшествующей, второй главе, рисуя облик своей любимой героини, автор пишет:
Дика, печальна, молчалива, Как лань лесная боязлива, Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой.Чужая среди родных... Строчка плана «у меня нет никого» говорит и об этом, но не только об этом. Она многозначна для всего романа, для характеристики взаимосвязей и взаимоотношений героини со средой. Это романический ход не только в прошлое Тани, но и в её будущее, когда в сцене объяснения с Онегиным после его письма Татьяна говорит страшные слова о равнодушии к жизни, опустевшей для неё после ухода из её жизни Онегина:
...для бедной Тани Все были жребии равны...Какая горечь в этом позднем признании и раннем душевном опустошении. Какая чёрная бездна равнодушного фатализма. Какой страшный конец жизни, прожитой напрасно — без цели, без радостей, и всё это заложено, как будущее дерево в малом зерне, в одной полуфразе плана письма Тани к единственному, к тому, кому она много лет спустя может сказать в лицо:
Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана...И с тем другим, которому она отдана, Таня снова в чужой среде, живучи в которой она снова может повторить: «у меня нет никого». Мотив этого трагического одиночества, брошенный как вопль в пустыне строкой плана «у меня нет никого», блистательно, хотя и очень коротко развёрнут в жгучих, призывающих признаниях:
Вообрази: я здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна.Следующая за этими четырьмя стихами строка «Я жду тебя» — это зов и мольба о помощи, это последняя надежда спастись.
Шестой пункт плана заключает в себе тот же призыв-мольбу: «придите...». Он совершенно однозначен со стихотворной строчкой в окончательном тексте: «Я жду тебя».
Седьмой пункт плана — фраза «Вы должны быть и то, и то». Это «и то, и то» — не тональность Татьяны и её разговора с Онегиным, а просто беглое обозначение автора для себя того, что в этом месте Татьяна в письме своём должна обмысливать и перечислять воображаемые ею свойства и качества Онегина, говорить, чем он для неё является, какие душевные струны заставляет он звучать в ней. Этот мотив в окончательном тексте письма развит в целую картину, со всем многообразием художнических красок, со всем богатством оттенков в чувствах и переживаниях Татьяны, даже касаясь и биографических черт её. Это центр письма, самая важная и указующая часть его, самая глубокая по раскрытию характера пишущей письмо, по рисунку душевных состояний юной Татьяны, подхваченной вихрем чувств, мыслей, переживаний, каких раньше она никогда не знала. Вот как воплотилось всё это в романе:
Вся жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой; Я знаю, ты мне послан богом, До гроба ты хранитель мой... Ты в сновиденьях мне являлся, Незримый, ты мне был уж мил, Твой чудный взгляд меня томил, В душе твой голос раздавался Давно... нет, это был не сон! Ты чуть вошёл, я вмиг узнала, Вся обомлела, запылала И в мыслях молвила: вот он! Не правда ль? я тебя слыхала: Ты говорил со мной в тиши, Когда я бедным помогала Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души? И в это самое мгновенье Не ты ли, милое виденье, В прозрачной темноте мелькнул, Приникнул тихо к изголовью? Не ты ль, с отрадой и любовью, Слова надежды мне шепнул?Какая блистательная панорама мечтаний и помыслов пылающей в огне любви Тани, какое бесконечное разнообразие образов любимого в воспалённом воображении влюблённой, какая изобретательная множественность ипостасей любимого: вся жизнь — только залог встречи «с тобой», «ты мне послан богом», «ты хранитель», «ты в сновиденьях», «ты мне был уж мил», «твой чудный взгляд», «твой голос», «ты вошёл», «тебя слыхала», «ты говорил со мной», «ты... милое виденье», «ты... шепнул», — всё «ты», и «ты», и «ты» — упоительные повторения, напоминающие о любимом. И всё это родилось из одной строки плана «Вы должны быть и то, и то». Сформулировав для себя задачу одной фразой, Пушкин спешит дальше. Он знает, что этой фразы-напоминания для него в логическом течении мыслей о предстоящей работе вполне достаточно, что важно указать место, где должно развить фразу в картину. Важно скорей установить связь элементов, поставить рядом выводную мысль. Вот и она.
Восьмой пункт плана — конец предыдущей полуфразы: «если нет, меня бог обманул». Эти сомнения — не обман ли вся картина воображаемых ипостасей любимого — выражены в непосредственно следующих за приведёнными стихами пяти строках:
Кто ты, мой ангел ли хранитель, Или коварный искуситель: Мои сомненья разреши. Быть может, это всё пустое, Обман неопытной души!Девятый пункт плана — строка «Зачем я вас увидела». В окончательном тексте письма она воплотилась почти в идентичную стихотворную строку:
Зачем вы посетили нас?Мотив этот и в плане и в окончательном тексте имеет продолжение.
Десятый пункт плана — окончание фразы, начатой в предыдущем пункте: «но теперь уже поздно. Когда...». Последнее слово, как это часто случается в пушкинских планах и как мы видели в пункте седьмом («Вы должны быть и то, и то»), только намёк на картину, которая должна быть развёрнута при осуществлении плана в окончательном тексте. Означает это слово вместе с предыдущими, что теперь уже поздно сожалеть о том, что Онегин посетил Лариных, когда сердце Тани полно горячей безоглядной любви. Это развёрнуто в строки, следующие за только что приведённой, и вместе с ней составляет полное воплощение в окончательном тексте пунктов девятого и десятого плана:
Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья Я никогда не знала б вас, Не знала б горького мученья. Души неопытной волненья Смирив со временем (как знать?), По сердцу я нашла бы друга, Была бы верная супруга И добродетельная мать. Другой!.. Нет, никому на свете Не отдала бы сердце я!Вот как воплощены слова плана «Зачем я вас увидела, но теперь уже поздно. Когда...». Воплощены с удивительной логикой ума и сердца.
Наш анализ и наши сопоставления приходят к концу. Остаётся немногое — одна последняя фраза плана. Она разбита мной на два пункта.
Одиннадцатый пункт плана — первая часть фразы: «Я не перечитываю письма». В окончательном тексте слова эти переданы почти в точности, но усилены эмоционально:
Кончаю! Страшно перечесть...Двенадцатый пункт плана — окончание предыдущего: «и письмо не имеет подписи, отгадайте, кто...»
Последние два слова отброшены, как наивно игривые и снижающие пафос и горячую взволнованность письма. Накал, который получило письмо, вовсе не идёт этим словам, записанным в плане тогда, когда об этом эмоциональном заряде письма автор не мог ещё знать всего. «Отгадайте, кто» — это не те слова, которые могли бы венчать такое накалённое чувствами и переполненное мыслями письмо. Они не пригодились. А начало этой фразы о том, что письмо не имеет подписи, осуществлено тем, что в оригинале письма действительно не поставлено подписи. Условия, в которых письмо могло попасть в руки Онегину, — внук няни, который неведомо как передаст письмо, неизвестность последующей судьбы письма, возможные сплетни, — не позволили Тане подписать своё послание. В плане Пушкин для себя оговорил это, и письмо осталось неподписанным. Следовательно, и тут план был выполнен.
Итак, всё двенадцать пунктов плана нашли своё место в строках окончательного текста письма. План вошёл в него целиком, всеми частями, всеми качествами своими. Поток плана стал потоком стихотворного текста письма, слова плана — словами письма, мысли плана — мыслями письма. План вёл и направлял перо поэта и его ищущую мысль. Он влился в текст письма, воплотился в исполненный силы и нежности, страсти и мысли, упругий и плавный, пластический и музыкальный, строгий и стройный, дивно вычеканенный пушкинский стих.
И всё это выросло из плана, как высокое, ветвистое, цветущее дерево вырастает из малого зёрнышка. План — превосходнейший и, кажется, необходимейший инструмент в творческой мастерской Пушкина, инструмент, которым поэт владеет виртуозно.
И инструмент этот всегда под рукой. План предшествует и «Цыганам», и «Борису Годунову», и «Капитанской дочке», и другим произведениям Пушкина. Иногда составляются планы отдельных стихотворений и даже отдельных строф.
План — это каркас произведения, конструктивная его основа. Тут работает могучий разум, расчёт, «соображение понятий», «сила ума», как выражается Пушкин в заметке «О вдохновении и восторге». И если — да здравствует вдохновение, то раньше того — да здравствует план! Этому, как и многому другому, учит нас вдохновенная, трудолюбивая и мудрая пушкинская муза.
Тень тополевой ветки
Прежде чем говорить о милой мне тополевой веточке, стоящей в воде возле листа бумаги, на котором я сейчас пишу, необходимо изъясниться по поводу своего отношения к зеркалам, что, как вы увидите из дальнейшего, имеет прямую связь и с тополевой веткой и с её тенью.
«Зеркало» — слово красивое, звучное, да к тому же и многозначное. Оно в большом ходу и в нашей повседневной речи и в словаре поэтов. У Никитина в стихотворении «Буря» есть такие живописные строки: «В зеркале вод отразились небо и берег, Гибкий высокий тростник и ракит изумрудная зелень».
У Гоголя в «Тарасе Бульбе» столь же живописно «блестит речное зеркало, оглашённое яченьем лебедей». Пушкин в «Осени» восклицает с заразительной оживлённостью: «Как весело, обув железом ноги, Скользить по зеркалу стоячих ровных рек!»
В «Обыкновенной истории» Гончаров говорит об одном из персонажей, что он умел владеть собой, чтобы «не давать лицу быть зеркалом души». С этим перекликается и ходячее выражение «Глаза есть зеркало души».
Режиссёры, случается, толкуют о «зеркале сцены», гидрологи — о «водном зеркале» прудов, озёр, даже морей.
Но «зеркало» постоянно не только в обиходе поэтов и учёных. Его иной раз берут на вооружение и в ожесточённых публицистических и политических схватках. В блистательной статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Владимир Ильич Ленин говорит: «Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции».
Из приведённых мной примеров явствует, что «зеркало» отлично несёт великую службу слова и в умных, умелых, могучих руках является сильным оружием.
Однако с оружием следует обращаться осторожно, чтобы ненароком не нанести повреждений и себе и другим. Вот, к примеру, Стендаль утверждает, что роман — это зеркало, проносимое над дорогой. Метафорическое зеркало в данном случае, в приложении к теории романа, кажется мне не очень убедительным. Зеркало как инструмент познания окружающего мира, а кстати, и как бытовая вещь малопочтенно. Большинство нормальных людей получают мало удовольствия, глядясь в зеркало. Подумаешь, в самом деле, какое приятное занятие — разглядывание своих бородавок и прыщей, которые, кстати говоря, есть у всякого — красивого и некрасивого, старого и молодого, умного и глупого.
Зеркало может доставить удовольствие только неисправимым нарциссам или писаным красавицам. Необходимо же оно в научных приборах и в актёрских уборных, чтобы актёр по ошибке не надел на себя иную, чем потребно в данную минуту, личину.
Вообще зеркало употребляется в основном при надевании личин, примеривании улыбок и определении пригодности данного человека в данных условиях к флирту и лжи. Во всех случаях оно — аппарат сугубо утилитарный и проверочный.
Само собой разумеется, что такой жалкий прибор не может исчерпать задач и потребностей искусства вообще, литературы в частности. И к чему проносить его романисту над дорогами? Лучше идти дорогой самому и вбирать всё сущее собственными глазами.
Зеркало, как и объектив фотоаппарата, малопригодно для целей искусства. Зеркальное изображение бесстрастно (недаром Горький в «Жизни Матвея Кожемякина» назвал зеркало «мёртвым стеклом»), и это одно отбрасывает его далеко от границ искусства. Рабски верная, бездушная зеркальная копия сущего не может явить чуда, без чего искусство жить не может. В зеркальной копии нет необходимых искусству приблизительностей, недоговоренностей, намёков, нет простора воображению. Изображение в искусстве должно быть по-своему несколько фантастичным. В портрете всегда должно быть не только то, что есть в оригинале, что лежит на поверхности рядом с прыщами и бородавками, но и то, что можно разглядеть только глазом, вооружённым художнической зоркостью, наконец, то, чего нет в оригинале, но что художник считает необходимым в портрете для раскрытия его внутреннего существа.
Зеркало ничем не может наделить человека. А художник всегда должен чем-то наделить человека сверх того, что тот получил от слепой судьбы и статистически оформленного случая. Как только он перестаёт это делать, он перестаёт быть художником.
Нет, не зеркало орудие художнического труда. Очевидность его норм воспроизведения окружающего не даёт художнику необходимых ему неузаконенных закономерностей, необходимой свободы выбора. И не лучше ли уж заменить тогда зеркальное отражение тенями, условность которых иной раз лучше отвечает строю и природе искусства? Откиньте лишние страхи и не бойтесь слова «тень». При вдумчивом отношении, при той степени зоркости, какие необходимы художнику, переменчивая игра теней много может дать, привести ко многим догадкам и открытиям. Кроме того, они нарушают привычные мерности и развивают воображение, что всегда полезно художнику.
Всё это однажды пришло мне в голову и с той поры не оставляет меня. Я сидел и работал. Солнце глядело в окно. Слева от меня на подоконнике стояла вазочка с тополевой веткой, унизанной заострёнными почками — фиолетово-зелёными, маслянистыми, клейкими, набухающими жизнью.
Работая, я время от времени поглядывал на готовящиеся жить почки, потом на рукопись. Лежащий передо мной роман тоже набухал жизнью, готовился жить. Мои усилия направлены были на то, чтобы угадать его будущую жизнь, помочь ей стать подлинной и полнокровной. Это очень трудное и истощающее занятие. Жизни пока ещё не было в этих лежащих передо мной листках. Были пока только контуры её, какие-то тени, вроде той, которая падала на мой лист бумаги от стоящей на подоконнике ветки. На окне живая ветка, на бумаге — её тень, повторяющая рисунок этой живой ветки.
Я думал: а мой роман? Его жизнь тоже тень живой, доподлинной жизни? Да. Конечно. Только тень, сколько бы ни уверяли заносчивые авторы, что строки их — сама жизнь. Только тень. И это не так уже мало. Это по крайней мере обязывает быть очень точным в рисунке.
Как удивительно точна в рисунке тень этой милой тополевой веточки. И как благодаря этой точности переданы не только формы, но и состояния. Веточка молода. И тень молода. Наивность и неразвитость линий молодой жизни отпечатлены тенью превосходно. Тень всегда имеет возраст. Надо только приглядеться повнимательней, и это легко распознаётся.
Неправда, что тень однотонна. Нет, это вовсе не чёрная нашлёпка на полу или в дорожной пыли. Тень имеет глубину, по краям она светлей, иногда как бы растушёвана.
Тень очень подвижна и даже оживлённа. Она может лежать у ног или забраться на потолок, на вершину сосны, а то и на гору. Она может жестоко исказить оригинал и превратить его в карикатуру. Она может разозлить и рассмешить, может заставить грустно задуматься.
Впрочем, она способна и на иное. Она может подчёркивать не только недостатки, но и достоинства. Она помогает увидеть незримое и угадать незнаемое. Ты не в состоянии иногда отыскать глазом точные телесные линии, скрытые в рыхлых формах современной одежды. Она поможет их обнаружить. Она чётко очертит линии, и ты вдруг с необыкновенной отчётливостью увидишь на тени, как тонка девушка, идущая с тобой рядом, как прям её стан, как гибка талия. Ты увидишь это, не поворачивая к девушке лица. И смотри, как бы тень не сосватала тебя. Она коварна.
Она не скована мертвенной неподвижностью. Она может трепетать и переливаться, как тончайшая серо-серебристая ткань, и пока догадаешься, что это молоденькая берёзка качается за твоей спиной на ветру и игра теней её ветвей и листьев смешалась с твоей тенью, очарование этих смазанных, растушёванных зноем переливов уже вселилось в твою душу и сделало в ней своё доброе дело.
Тень может быть весёлой и пятнисто-солнечной под широкой кроной старой липы, и она может быть строгой, как монашка, под устремлённым ввысь кипарисом. Она то трепетно вздрагивает, то стыло-неподвижна.
Она может научить видеть. Вот та пятнистая пёстрая тень под липой открыла тебе, что крона липы сплетена из тончайших кружев. Ты поднял голову и увидел: да, там наверху зелёные кружева.
И неправда, что тень бескрасочна. Она может быть синей в морозный погожий денёк, розоватой на зорьке, зеленоватой в лунную ночь, серой и летучей от клубящегося из трубы дымка, фиолетовой в горах.
Роман, который лежит передо мной в исписанных и ещё чистых листках, — тень жизни живой, условный рисунок её, преображённый в плоскости повествования. Но и этот условный рисунок может быть богат оттенками и многоцветен.
Надо вглядеться в него, пристально вглядеться в «даль свободного романа», и только тогда писать.
При этом нельзя забывать — какой бы ни была тень, как причудливы ни были бы её формы, она всегда привязана к тому, что даёт эту тень, к живому.
Не может быть тени тополевой ветки без живой ветки, как не может быть тополевой ветки, растущей без самого тополя. Глядя на тень тополевой ветки, надо видеть тополь. Это и есть главное в искусстве — нарисовать тень тополевой веточки так, чтобы все увидели живой тополь. По роману читатель должен увидеть не только тот уголок жизни, который в нём условно написан, но всю громаднонесущуюся жизнь, которая лежит за рамками романа. Так нужно писать.
Все эти мысли пришли ко мне вместе с тенью тополевой веточки, случайно упавшей на лист бумаги, который я покрывал в увлечении торопливыми иероглифами душевных движений и сердечных затрат. Впрочем, «случайно» — слово, явно негодное в этом рассказе о роящихся вкруг меня мыслях. Ничто в нём не случайно — ни мысли, ни веточка тополя. Я сам поставил веточку на подоконник, как ставлю каждую весну. Я сам привёл к себе нужные мысли. Они родились не сегодня, эти мысли. Они были всегда со мной, очень давно во всяком случае. Но вместе собрал их я всё же сегодня. Это удалось сделать, глядя на тень ветки.
Кстати, тень появляется только тогда, когда есть свет, есть солнце.
А роман? Где же солнце романа? И есть ли оно вообще? Несомненно есть. Солнце романа — это его автор. Он должен освещать всё сущее в романе, как и всё лежащее за его условными рамками, своим собственным светом, своим знанием того, что ложится на строки и между строк тенями живого. Он должен осветить всё негасимым огнём своего пылающего сердца, своей совестью. Пожалуй, самое главное — своей неподкупной и неусыпной совестью.
Враг мой — друг мой
В разных главах по разным поводам я говорил о работе писателя над языком. Но всё это было мимоходно и не подчинено задаче если и не исчерпать вопроса, то хотя бы наметить основы языковой работы, попытаться поставить хотя бы главные вехи на этом труднейшем из писательских путей.
Теперь пришло время и для этих попыток. Тяжко чувствую свою недостаточную вооружённость для столь ответственного предприятия — и всё же вхожу в него: нельзя же оставить вовсе втуне это важнейшее для художника слова направление его работы. Итак, решаюсь заговорить об основах работы над языком.
«Чинить и даже строить мосты, лечить и делать всякие другие практические дела, конечно, можно по рецептам, по наглядке, но прямо, судя по опыту, оказывается, что наилучшим способом, то есть наивыгоднейшим по затрате времени, средств и условий, практические дела Делаются только исходя из общих начал».
Эти слова о неразрывности конкретной практики и общих начал принадлежат Д. Менделееву, работы которого сами являются блестящим образцом соединения конкретных данных и общих начал.
Частность и общие начала — это два полукружия, расходящиеся из одной точки только для того, чтобы неотвратимо сойтись вновь. Писатели, особенно если они молоды, далеко не всегда в работе над языком учитывают необходимость этого сочетания. Многие из нас, если не большинство, работают либо «по рецептам», либо «по наглядке», и не столь уж многие задумываются над общими началами, над положениями, обязательными для каждого, кто хочет плодотворно работать над языком — этим, по выражению М. Горького, первоэлементом литературы.
Каковы же «общие начала» работы над словом?
Первое из них, которое, как мне кажется, совершенно обязательно для всякого писателя, сознающего свою ответственность за написанное, может быть сформулировано так: слово — это слуга, а не господин мысли. Никакого самостоятельного, вне мысли, значения оно никогда не имело, не имеет и иметь не будет. Человек, отделившийся от других животных, вложил в крик, в звук смысл, мысль, и тогда звук стал словом. И сколько человечество существует и сколько будет существовать — это единственное назначение слова останется неизменным. Всякий нормальный человек подчинён этому закону, всякий писатель подчинён ему вдвойне...
Это не мешало некоторым писателям проделывать со словом варварские эксперименты, отрывать его от смысла, возводить звуковое его начало в самоцель. Тогда писались заумные стишки вроде таких:
Син е псёл Вер тум дах гиз.Мы идём не от звука к смыслу, а от смысла к звуку, точней — от мысли к слову, к его организации. Искусство наше прежде всего искусство, наполненное реальным содержанием, оснащённое большими идеями. Коммунист Прекль в «Успехе» Фейхтвангера говорит: «Литература, если она хочет жить и дальше, должна иметь в своих парусах ветер эпохи». Отлично сказано. Ветер эпохи, идеи эпохи наполняют паруса нашей литературы. Безыдейность, безмыслие — смертельны для литературы. Никакие формальные словесные ухищрения не в состоянии заполнить пустоты.
«Формализм как манера, как литературный приём, — говорил М. Горький, — чаще всего служит для прикрытия пустоты или нищеты души. Человеку хочется говорить с людьми, но сказать ему нечего, и утомительно, многословно, хотя иногда и красивыми, ловко подобранными словами, он говорит обо всём, что видит, но чего не может, не хочет или боится понять».
Считаю нелишним напомнить ещё раз, что стилистика, язык, слово — это категории служебные, а не самодовлеющие. Пушкин, говоря о художественной прозе, утверждал, что «она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат».
Второе положение, обязательное для каждого писателя в работе над языком, над словом, над стилем, может быть сформулировано так: язык всякого художественного произведения должен точно соотноситься с его содержанием. «Форма всегда прекрасна, — писал Белинский, — когда согласна с идеей». А. Н. Толстой, говоря о внешнем соответствии фразы её содержанию, говорит, что «работать над стилем — значит, во-первых, сознательно ощущать это соответствие».
Даже бегло присматриваясь к творческой практике крупных писателей, легко заметить, как они стремятся к тому, чтобы языковая ткань каждого произведения соответствовала его содержанию. Приведу два довольно элементарных, но ярких примера из этой области. Вот стихотворение Пушкина «Бесы»:
Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле; Колокольчик дин-дин-дин... Страшно, страшно поневоле Средь неведомых равнин! «Эй, пошёл, ямщик!..» — «Нет мочи: Коням, барин, тяжело; Вьюга мне слипает очи, Все дороги занесло; Хоть убей, следа не видно; Сбились мы. Что делать нам! В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам. Посмотри: вон, вон играет, Дует, плюёт на меня; Вон — теперь в овраг толкает Одичалого коня; Там верстою небывалой Он торчал передо мной; Там сверкнул он искрой малой И пропал во тьме пустой». Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет кружиться доле; Колокольчик вдруг умолк; Кони стали... «Что там в поле?» — «Кто их знает? пень иль волк?» Вьюга злится, вьюга плачет; Кони чуткие храпят; Вот уж он далече скачет; Лишь глаза во мгле горят; Кони снова понеслися; Колокольчик дии-дин-дин... Вижу: духи собралися Средь белеющих равнин. Бесконечны, безобразны В мутной месяца игре Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре... Сколько их! куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине, Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне...Задача поэта — изобразить буран, ночную вьюгу в открытом поле, метелицу, бег коней, бурное движение. И с первых же строк вся речевая ритмика, словарь, строение фразы таковы, что с огромной изобразительной яркостью передают заданное вихревое движение. Все элементы языковой ритмики приспособлены к быстроте, к передаче бурного движения: строка коротка, фраза стремительна. Почти нет фраз больше чем в одну строку, зато во многих строках по две короткие фразы. В предложении убрано всё, что замедляет его ход, всякие объяснительные слова, всякие причастные словообразования, убраны все элементы, округляющие фразу, делающие её плавной, медлительной. Оставлено самое необходимое, множество предложений имеют только подлежащее и сказуемое — два слова: «Мчатся тучи», «Вьются тучи», «Мутно небо», «Ночь мутна», «Кони стали», «Вьюга злится», «Вьюга плачет». Нагнетаются отдельные, быстро сменяющие друг друга схожие слова: «дует, плюёт», «бесконечны, безобразны». Повторяются одно за другим одни и те же слова в сочетании с разными показателями движения: «Вьюга злится, вьюга плачет», «Мчатся тучи, вьются тучи».
Отбираются короткие, отрывистые слова: из двухсот пятнадцати слов, составляющих стихотворение, сто семьдесят — в один-два слога. Включено большое количество стремительных, предельно коротких, скачущих слов: «эй», «бес», «нас», «ночь», «нет», «все», «вон», «мне», «мы», «что», «да», «но», «там», «он», «вдруг», «кто», «пень», «волк», «уж», «лишь», «мгла», «их», «рой».
В односложные слова превращаются даже двусложные, чтобы укоротить их, сделать ударней, резче, стремительней, подвижней. «Среди» обращено в «средь», «или» в «иль», «хотя» в «хоть».
Не довольствуясь отбором коротких слов, поэт соединяет их в такие сочетания, при которых ударный, скачущий ритм их усиливается: «Пень иль волк», «сил нам нет», «вот уж он».
Диалог — языковая форма, менее подвластная автору, ибо принадлежит не только ему, но и персонажам, менее поддающимся подталкиванию, убыстрению, — и тот обращён на службу необходимому движению. Он также построен по преимуществу на короткой, стремительной фразе: «Эй, пошёл, ямщик!..» — «Нет мочи»; «Что там в поле?» — «Кто их знает? пень иль волк?». И в словах, которыми обмениваются ямщик и путник, — тот же убыстрённый темп, обилие коротких слов, восклицания.
С фразы снято всё тормозящее, замедляющее, как с гоночного автомобиля. Она принимает как бы обтекаемую форму, приспосабливается к быстрому движению. И движение поистине головокружительно — мчащиеся, храпящие кони, мчащиеся тучи, злящаяся вьюга, летучий снег, играющие, дующие, плюющие, кружащиеся, мчащиеся рой за роем бесы, визг, вой, храп, тьма, ночные страхи застигнутого бураном в поле путника, вскрики, прислушивания, слепящая игра метелицы... Невозможно пластичней передать движение, роение, вихревое кружение этой ночи. Замысел авторский осуществлён в блестящем слиянии со средствами осуществления.
К этим своим соображениям о слове в «Бесах» я хотел бы прибавить до чрезвычайности выразительные и своеобычные замечания, которые делает Марина Цветаева, говоря в «Моём Пушкине» о своих читательских ощущениях от «Бесов»: «Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луною, ездоком, шарахающимся конём, и — о сладкое обмирание — ими! Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там в беспредельной вышине, на разные голоса не выл, и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полёта: саней и туч, и в каждом ты — летишь».
В этих выразительнейшей лепки словах Цветаевой есть для меня две указующие примечательности, и первая из них та, что стихотворение названо состоянием. Превосходное определение. Поистине, стихия пушкинского стиха такова, что она и обнимает тебя, и входит в тебя. Она становится не только чем-то воспринимаемым тобой извне, но твоим собственным состоянием.
Вторая примечательность цветаевских уяснений — это вскользь брошенное, в скобки взятое «нельзя не быть»; то есть дело не только в том, что, читая «Бесов», можно быть и луной, и ездоком, и шарахающимся конём, а в том, что ими нельзя не быть читателю. Могучая сила воздействия пушкинского слова такова, что она обязательно берёт в плен, ведёт за собой, заставляет быть в нём, перевоплощает тебя самого в стих, в атмосферу стиха, даже в его материал, заставляет тебя лететь вместе с тучами, с кибиткой, с бесами. Тебе уже нельзя не лететь вместе с ними, не мчаться. «Два полёта: саней и туч, и в каждом ты — летишь». Я бы сказал — три полёта: саней, туч, тебя.
Таковы эти пушкинские бесы, увлекающие в даль, в высь, в метель, в поэзию.
А теперь, с сожалением оставляя их, обратимся к юношам, играющим в простонародные русские игры: один — в бабки, другой — в свайку. Изваяли их скульпторы Н. Пименов и А. Логановский. Сейчас чудесные эти статуи находятся в Русском музее в Ленинграде. Сразу после создания их, в тысяча восемьсот тридцать шестом году, обе статуи были показаны на выставке в Академии художеств. Там их увидел Пушкин, и тотчас появились два стихотворных экспромта. Вот один из них — «На статую играющего в свайку»:
Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый, Строен, лёгок и могуч, — тешится быстрой игрой! Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся, Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.Легко убедиться, что вся ритмика, вся языковая структура этого стихотворения построена на принципе, прямо противоположном принципу организации языкового материала в стихотворении «Бесы», и нетрудно понять — почему. Принципы организации языкового материала противоположны ровно настолько, насколько противоположны описываемые состояния. Если в «Бесах» — всё движение, то в стихотворении «На статую...» — всё в неподвижности. Самое движение, которое передаётся в мрамор, застыло, окаменело. Самое положение человека, незримо входящего в материал, — неподвижность. Он созерцает статую юноши. В то время как путник в «Бесах», невольно захвачен движением, зритель статуи невольно захвачен её статикой. Он созерцатель этого недвижного изваяния. Он весь в статике и в медлительном течении разглядывания. Состоянию этому вполне соответствует медлительная ритмика всего языкового строя. Плавно, медленно развёртывающийся гекзаметр, с раздумчивыми остановками и новым плавным движением. Строение фразы точно приспособлено и к этому плавному движению, и к остановкам. Фраза медлительна, длинна, округла. Слова полновесны, неторопливы. Односложных слов почти нет. Тут не требуются операции по укорачиванию слов, убыстрению их звучания. Наоборот, можно удлинять слова и вместо короткого, энергичного «клянусь» поставить растяжное, плавное «клянуся», — словом, прямо противоположный приём, прямо противоположный ритмичный ход диктуется прямо противоположным содержанием материала. Соответствие построения языкового материала содержанию полное. Служебная функция слова выступает как нельзя более ярко.
Третье положение, обязательное в работе над словом, может быть сформулировано так: языковая ткань должна быть прозрачной. Мысль не должна быть скрыта словом, но наоборот — с предельной ясностью раскрыта.
«Стиль, как прозрачный лак, — говорит Стендаль, — не должен изменять окраски, то есть действия и мысли, им прикрываемые».
Стефан Цвейг — большой мастер языкового дела — пишет, что «слово не должно выпирать лирически, при помощи затейливых колоратур, «фиоритури» итальянской оперы, на первый план, — наоборот, оно должно исчезать за предметностью, оно должно, как хорошо скроенный костюм джентльмена, не бросаться в глаза и лишь точно выражать душевное движение».
Это совсем не похоже на высказывание одного молодого писателя, имеющего уже некоторое имя, который в разговоре о языке, желая подчеркнуть необходимую, по его мнению, выразительность слова, сказал мне как-то буквально следующее: «Слово должно горбылём стоять». Конечно, если того требует художническая необходимость, слово может стоять и горбылём и ещё как угодно. Но, увы, слишком часто слово у нас торчит горбылём без всякой на то необходимости, лезет назойливо на глаза, путает и сбивает мысли. Нагороженные в нашей литературе в ненужном изобилии, эти словесные «горбыли» весьма неприятны и, как правило, свидетельствуют лишь об отсутствии вкуса у автора, о его литературном малокультурье и вносят путаницу туда, где должны безраздельно царить прозрачность и ясность.
Вот один образчик «горбылеобразной», энергично уродливой прозы. Он взят из рассказа начинающего писателя, рукопись которого мне довелось рецензировать:
«Колька в кино себя показал; ребятам билеты купил. Сам зайцем: неинтересно с билетом. Ребят в буфет повёл.
— Кто пирожное хочет?
Отказа нет.
Пирожное покупает Колька. Выбирает получше. Ребята кругом тесно облепили. Вытянул Колька руки, полстола закрыл. Стараются ребята из-под его рук... последним Колька отходит. Буфетчик в крик, а они в уборной, дверь на крючок. Когда стихло, вышли.
В тёмном зале нашли места.
Картина хваткая. Колька словечками заковыристыми картину поясняет. Весело».
Выражаясь языком автора, «картина», представшая нам в этом отрывке, действительно «хваткая», и, подобно своему герою, автор «словечками заковыристыми картину поясняет». За этой хваткостью пропали и смысл, и вещи (не слово «исчезло за предметностью», как это отлично выражено у Цвейга, а предметность пропала за словом), и движения, и события. Вместо хорошей русской речи — речевая уродливая гримаса, на каждом слове спотыкаешься о расставленные «горбыли» и никак не можешь понять, что «облепили» ребята, зачем и откуда «вытянул Колька руки», как «полстола закрыл», что значит «стараться... из-под рук», откуда «отходит» Колька, почему «буфетчик в крик», как ребята попали в уборную, что «стихло» после этого. И хотя автор кончает эпизод словечком «весело», читателю, конечно, совсем не весело.
Суть замысловатой этой мешанины сводится в конце концов к тому, что Колька зашёл с товарищами в кино, съел с компанией в буфете несколько пирожных и, не заплатив, скрылся. К чему было всё это превращать в таинственные ребусы, оснащённые залихватским стилем, — непонятно. Получилась путаница, словесная свалка, в которой до вещей, до действия, до смысла не доберёшься. Ни ясности, ни прозрачности языковой ткани и в помине нет.
Наконец, ещё одно требование, обязательное в словесной работе. Оно относится к единообразию, к плотности всей языковой ткани произведения. Ткань эта не должна представляться лоскутным одеялом, сшитым из отдельных обрывков, разных по окраске и плотности. Целостность произведения — вот первая забота всякого автора. Каждая строка должна плотно сидеть в своём гнезде и быть точно прилаженной к остальным. Древние греки говорили, что «скорее можно у Геркулеса вырвать его палицу, чем у Гомера изъять хоть единственный стих».
Языковая ткань должна быть единообразной, непрерывной, поточной. Эта поточность повествования держит всё произведение на одной языковой тональности, Делает его монолитным, целостным, плавным.
К этому приспосабливаются весь строй речи, все отдельные его части. «Мне надо, — говорил В. Г. Короленко, — чтобы каждое слово, каждая фраза попадала в тон, к месту, чтобы в каждой отдельной фразе, по возможности, даже взятой отдельно от других, слышалось отражение главного мотива, центральное, так сказать, настроение».
М. Зощенко, подчёркивая важность поточности всего произведения, говорил: «То, чему научиться наиболее трудно, — это, так сказать, плавное течение рассказа, одно дыхание, если так можно назвать это отсутствие швов».
Я не стану утверждать вместе с М. Зощенко, что поточность в рассказе, в художественном произведении — самое трудное. В литературной работе есть и другие, не меньшие трудности — раскрытие человеческого характера, сюжетное движение и многое другое. Трудности уменьшаются или увеличиваются, перемещаются, так сказать, на пространстве повествования из одного пункта в другой в зависимости от индивидуальных склонностей пишущего, его способностей, подготовленности, знаний в той или иной области. Но одно несомненно, что «плавное течение рассказа» (это относится в равной степени и ко всем другим литературным жанрам, ко всяким видам литературной работы, в том числе и к работе над стихом), «одно дыхание», «отсутствие швов» — необходимейшее и важнейшее качество стилистики. Каждая фраза выверяется на избранном тоне.
В. Каверин, анализируя принципы писательской своей работы, утверждает, что поиски основного языкового потока ведутся во время всей работы, и когда этот основной тон найден в какой-нибудь фразе, она становится «как бы камертоном, к которому всё время прислушиваешься, проверяя верность всего стилевого строя».
Константин Федин раскрывает нам даже технику пользования этим камертоном. «Перед началом работы, — пишет он в одной из своих статей, посвящённых анализу творческой работы писателя, — я читаю написанное ранее, ввожу себя в ритмический строй рассказа и послушно следую ему».
Приведённые высказывания принадлежат писателям, очень разнящимся по своей стилевой манере друг от друга, но всех объединяет одна постоянная забота о целостности языкового строя, каким бы термином каждый из них ни обозначал этот языковый строй. «Попадание в тон», «главный мотив» и «центральное настроение» Короленко, «одно дыхание» Зощенко, «камертон» и «стилевой строй» Каверина, «ритмический строй» Федина — всё это различные индивидуализированные обозначения одного и того же. Всё это — заботу о поточности, монолитности, спаянности всей языковой ткани повествования — Ю. Тынянов называет «словесной походкой», а А. Толстой — «прочностью текста».
Мы имеем в литературе поразительные образцы этой «прочности текста», этой языковой слитности. Вот один из них, взятый из «Мёртвых душ» Гоголя. Это так называемая «Повесть о капитане Копейкине». Когда слух об афере Чичикова с мёртвыми душами распространился вместе с иными невероятными толками в городе, чиновники переполошились. Собравшись у полицеймейстера, они долго совещались, что им предпринять, долго гадали, как поступить с Чичиковым и вообще — кто такой Чичиков. Тут-то и высказал почтмейстер предположение, что Чичиков — не кто иной, как капитан Копейкин, и на вопрос присутствующих, кто такой капитан Копейкин, ответил рассказом, живописующим злоключения несчастного капитана. Я привожу без выбора самое начало рассказа почтмейстера (по редакции, зачёркнутой в своё время цензором):
«После кампании двенадцатого года, сударь ты мой, — так начал почтмейстер, несмотря на то, что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро, — после кампании двенадцатого года, вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли, или под Лейпцигом, только можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда ещё не сделано было насчёт раненых никаких, знаете, этаких распоряжений: этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведён, можете представить себе, в некотором роде, гораздо после. Капитан Копейкин видит: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу: отец говорит: «Мне нечем тебя кормить, я, — можете представить себе, сам едва достаю хлеб». Вот мой капитан Копейкин решился отправиться, сударь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости: «что вот-де, так и так, в некотором Роде, так сказать, жизнию жертвовал, проливал кровь»... Ну, как-то там дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе, этакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним — свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада».
«Прочность текста» в этом отрывке, как и во всей «Повести о капитане Копейкине», поразительна. Все элементы повествования соединены в неразрывное целое, плотное, текучее, поточное, тщательно организованы в единую языковую систему.
Необходимо заметить, что стилистическую плавность, языковую поточность повествования не следует путать с утомительной монотонностью. Не следует понимать плавность как медлительность. Повествование может быть очень плавным в смысле строгой последовательности соседствующих фраз, но в то же время резким по интонации и по движению. С этой точки зрения «Бесы» Пушкина очень плавны, то есть непрерывны в языковом движении, хотя самое движение материала скачущее, вихревое, фразы коротки и стремительны. Говорить о слитности текста — это вовсе не значит говорить о его округлости. Он может быть и угловат и обрывист, но тогда его угловатость и будет основным речевым камертоном. Каков бы ни был характер словаря и строения фразы, любые из этих отдельных частей объединимы и должны составлять текст, прочный в целом.
Ещё одно последнее примечание к разделу о языковом единстве текста. Один из начинающих спросил меня после беседы в литературной группе на эту тему, не приведут ли заботы о монолитности текста к оскудению его, к единообразию элементов, которые сами по себе очень разнообразны. В повествовании ведь множество языковых оттенков. Существуют авторская речь, язык каждого отдельного персонажа, диалоги, спокойные повествования, бурные споры, наконец, существуют отдельные участки повествования, очень различные между собой по настроению, по динамике, по содержанию. Любовное объяснение, и героическая смерть в бою, и описание половодья — всё это может быть в одном и том же романе. Как же совместить это в одно, как эти разнородные элементы можно держать слитно на одном языковом стержне, как держать при таких условиях языковую монолитность текста?
Любовное объяснение, и половодье, и смерть могут быть и в рассказе Пушкина, и в рассказе Гоголя, но описаны они будут в совершенно разных манерах, и каждый будет держать все эти отдельные части повествования в своей, присущей ему и данному повествованию, языковой манере, в своём языковом строе.
Приведу для ясности два различных описания смерти. Первое — описание смерти князя Андрея — взято из четвёртой части «Войны и мира» Л. Толстого, второе — описание смерти прадеда Данилки — взято из романа Юрия Яновского «Всадники».
Л. Толстой описывает смерть князя Андрея так:
«Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не, отходившие от него, чувствовали это... Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя, страшная сторона смерти, и они не находили нужным растравлять своё горе. Они не плакали ни при нём, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали.
Они обе видели, как он глубже и глубже, медленна и спокойно опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо...
Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Марья и Наташа были тут.
— Кончилось?! — сказала княжна Марья после того, как тело его уже несколько минут неподвижно, холодея, лежало перед ними. Наташа подошла, взглянула в мёртвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нём».
У Яновского смерть Данилкиного прадеда описана следующим образом:
«И утро было позднее, когда Данилка проснулся, а прадед стоял, как и с вечера, берег пустой — рыбаки поехали на улов.
«Пойдём, сынок, — сказал прадед, — сегодня Симона-Золота и копают целебные травы, пойдём натощак пра-корень искать, чтоб тебе долго ещё топтать грешную землю, а мне предстать к ответу».
Голос прадеда был торжественный и потусторонний, ушли от моря и углубились в степь, в лощинках ещё лёгкий пар поднимался от трав, степная большая птица парила под небом, ни ветерка, ни звука, и вот вышли как будто на самое высокое место. Солнце пекло и размаривало. Данилка нёс полные руки трав, и корней, и цветов, дажкорень пахнул сладким хлебом. «Вот тебе, Данилка, и степной турецкий слез», — сказал прадед и нагнулся к цветку, и вдруг подломился и раскинул руки, словно обнимая землю, упал, словно тайну услышав, утонула в траву белая борода, мутные глаза блеснули на Данилку, «топчи землю, сынок», и прадед стал неживым».
Описания, относящиеся к одному и тому же факту (смерти), как видите, совершенно различны. Уже первые слова авторов (у Толстого — «Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто»; у Яновского — «И утро было позднее...») говорят о резко различном языковом строе в обоих случаях. Предельная простота, с одной стороны (в первой фразе описания Толстой подчёркивает, что всё происходит «обыкновенно и просто»), и приподнятый стилевой строй, с другой стороны (первая фраза описания у Яновского начинается с часто повторяющегося «и» — «И утро было позднее...»), проступают совершенно очевидно, и в каждом случае — это стилевой строй всего произведения.
Все частности целого можно и должно держать в своём языковом строе, в языковом строе всего романа, рассказа и т. д.
Всё это относится не только к авторским описаниям, но в равной мере и к речи персонажей, к диалогам. Они входят в общее повествование как голоса живых людей, не нарушая общего тона в такой же мере, в какой каждый из нас, выступающий на каком-нибудь собрании, своей индивидуальной интонацией не нарушает общего стиля собрания.
Речевые оттенки персонажей подчинены целому. В «Степане Разине» Чапыгина, скажем, разные персонажи говорят каждый своё и по-своему, но вы не спутаете речь ни одного из них с речью любого из персонажей, скажем, романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Эта разница ощутима не только в произведениях, рисующих разные эпохи, как взято для наглядности в данном примере, но и в произведениях, относящихся к одной эпохе. Маленький человек — какой-нибудь «мученик четырнадцатого класса» Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» Пушкина и тот же коллежский регистратор у Гоголя говорят разно, всегда несколько авторски, оставаясь в то же время самими собой и имея индивидуальный строй речи. Они, как и всё в повествовании, приспособлены к общему речевому строю, взяты как бы той стороной своей, которая больше и лучше прилаживается к целому. Кроме того, индивидуальные голоса, давая ритмическую перемену повествованию, как бы поддерживая ритмическую волну, вовсе не сбивают общего курса литературного корабля. Каждый пассажир ведёт себя сообразно своей индивидуальности, но все они входят в организованный на корабле порядок. Корабль ведёт по курсу, в конечном счёте, воля и властный голос капитана, сколько бы ни кричали пассажиры.
Разноречия тут никакого нет. Пусть каждый персонаж говорит по-своему, но при его речи есть авторский жест, авторская реплика, указание на интонацию, походку, психическое состояние говорящего персонажа, одновременное описание обстановки и многое другое, что соединяет речь персонажа невидимыми нитями с целым и прочно держит общий стилистический строй.
Таковы четыре основных положения, обязательных, как мне кажется, при работе над словом: подчинение слова мысли, возможно более полное слияние формы описания с сущностью описываемого, прозрачность речевого и стилевого строя и, наконец, плотность, поточность, прочность, связность языковой ткани.
Добавить к этому остаётся немногое. Язык — оружие гибкое, тонкое, острое. Чтобы оно не затупилось и не потускнело, его нужно чистить и оттачивать целую жизнь. Как же, однако, это делается? Как уверенная Рука мастера делает его разящим? И где границы словесного мастерства, его пределы?
Что касается границ и пределов, то тут всё ясно — границ мастерства, как и пределов, не существует, и это непреходящая радость мастера. Всегда есть возможность, а у настоящего мастера и потребность, писать лучше, чем пишешь, тоньше, проникновенней, искусней, Касательно же того, как оттачивается оружие слова и что для достижения высокого мастерства потребно, то тут ни малейшей ясности нет, да, пожалуй, и не может быть.
Разве что всяческие сопутствующие мысли и ещё аналогии. Кстати, вот одна из них.
Существует известный анекдот об иностранце, который, дивясь на изумительные газоны лондонского Гайд-парка, допытывался у местного старожила, чем и как достигается столь прекрасный и ровный рост травы, такой живой цвет, такая упругость, что она не мнётся ни от беганья детей по ней, ни от лежанья взрослых.
— О, это очень просто, — спокойно ответил флегматичный абориген иностранцу. — Для того чтобы поддерживать газоны в должном состоянии, ничего особенного делать не надо. Следует только, как это мы и делаем, в течение трёхсот лет каждый день подстригать и поливать газон — вот и всё.
Рецепт лондонского старожила, мне кажется, пригоден не только для парковых газонов, но и для садов словесности. Для должного состояния языкового хозяйства надо только каждый день в течение стольких лет, сколько их отпущено тебе для жизни в искусстве, поливать слово собственным потом, изострять и оттачивать его всем умением, какое удастся приобрести за эти годы упорной работой над словом. Кроме того, необходимо отличнейше знать язык, любить его страстно, самозабвенно, непреходяще. Впрочем, это далеко не всё, что потребно для успеха в словесной работе. Нужно и ещё очень многое, чего никто не знает, а может только угадывать. Помочь этому угадыванию нужного и лучшего могут только талант, напряжённый труд и вечное негасимое желание преодолеть непреодолимое.
Если всё это налицо, тогда может посчастливиться злую поговорку «Язык мой — враг мой» обратить в добрую: «Язык мой — друг мой».
Живи с молнией
Песни Верстака
Песня приходит в срок к каждому человеку. Но у каждого свой срок. К одному она приходит тогда, когда он ещё в колыбели, к другому поспевает только на похороны. Она наконец пришла, но тот, для кого она звучит, уже не слышит её.
Это самый жестокий случай запоздания милой и желанной. гостьи. Но не знаю, лучше ли тот случай, когда живой человек глух к песне.
Говоря так, я имею в виду не физическую глухоту. Блестящий поэт Ронсар был глух. Глухой Бетховен написал Девятую симфонию. Музыке нужны не только уши. Нужней душа.
Первые песни, которые прозвучали в моей душе и оставили в ней заметный след, были Песни Верстака.
Они пелись старшим братом за работой.
Он опиливает только что отлитое обручальное кольцо или полирует его. В руках его напильник или другой инструмент. Он поёт. У брата отличный слух, редкостная память, и он знает великое множество песен. Я сижу рядом и тоже что-нибудь делаю, помогаю. А когда делать нечего, я седлаю вальц для прокатки металлических слитков в пластинки или проволоку и отправляюсь в воображаемое путешествие. Вальц на своих растопыренных тонких ногах — это волшебный конь. Я мчу на нём, как Ашик-Кериб на своём волшебном коне. О Ашик-Керибе я только что прочитал в сказке Лермонтова, и я повторяю его маршрут. Я мчусь над горами и Долами, и вместе со мной мчится песня. По углам мастерской залегли чёрные таинственные тени. Колдовской зелёный глаз колбы уставился в ночь. Брат поёт:
Шумел, горел пожар московский, Дым расстилался по Москве, И на стенах её кремлёвских Стоял он в сером сюртуке.Наполеон и в песню пришёл в своём традиционном сером сюртуке. Столь же традиционна и красная рубаха Ваньки Ключника. Глухо выпевает брат последние слова песни:
И повесили Ванюшу Во заветном во саду, А княгиня жизнь кончает На булатном на ножу.И снова из Задонского княжества, где вершится злой суд над Ванькой Ключником, разлучившим князя с молодой женой, мы переносимся в златоглавую Москву:
Точно море в час прибоя, Площадь Красная шумит, А на площади высоко Плаха чёрная стоит.На плаху всходит «вольный атаман» Степан Разин. И его конец печален. Песни полны трудного и трагического. Сюжеты их жестоки. Но они очень динамичны. В них много событий, сильных страстей, борьбы, драматизма. И позже именно у них я буду учиться сюжетному движению.
Невеселы и другие песни: «Ноченька», «Не осенний мелкий дождичек», «Дубинушка», «Вот мчится тройка почтовая». Но странно, печальные эти песни не гнетут душу. Они горьки, но ведь и горькие корни нужны. И они питают.
Я слушаю песни брата и смотрю на его руки. И мне кажется, что если оборвутся вдруг песни, то и руки прекратят свои ловкие движения. Тогда и работа встанет. Песня и труд — это что-то неразрывное, слитное.
Я, конечно, понятия не имел тогда о существовании книжки Бюхнера «Работа и ритм», так же как и о высказываниях Энгельса, касающихся происхождения искусства и связи трудовых рабочих ритмов с песней. Я просто видел труд и слышал песню, и одно с другим некрепко и навсегда соединилось в моём сознании. Ни о чём другом, более мудром, я не помышлял и, случалось, сидя на своём волшебном коне, засыпал под Песни Верстака.
Но и во сне жила во мне песня. И туда врывался Ванька Ключник, идущий на казнь в красной рубахе, которая «к белу телу так и льнёт». Вились по ветру его русые кудри. Он шёл навстречу смерти смело, с бесшабашной удалью. Он не боялся старухи с косою. И мне бы хотелось, чтобы он научил этому всех, и меня в том числе.
Первый сеанс колдовства
Приходская школа в Архангельске, где я начал учение, помнится плохо. Школьные дни сливаются в общую и неразличимую массу, выделяется среди них для меня лишь один.
В этот день мы писали пересказ. Высокий, малоподвижный и сумрачный учитель наш Николай Тихонович, явственно выговаривая слова и по-вологодски окая, прочитал вслух из хрестоматии «Живое слово» коротенький рассказ о мальчике, который сперва поймал птичку и посадил её в клетку, а потом, полюбив её, выпустил на волю.
— А теперь, — сказал Николай Тихонович, закрыв хрестоматию, — напишите этот рассказ своими словами. Не торопитесь. Подумайте хорошенько.
Мы погрузились в длительные размышления. Вместе с другими размышлял и я — размышлял и воображал. Мне нравилось сидеть так и воображать то, что я буду писать. И это был вовсе не пересказ. Я должен был написать собственный рассказ. История, которую прочёл Николай Тихонович, и была и не была. У меня был свой мальчик, своя клетка и своя птичка — не те, о которых говорилось в услышанном мной хрестоматийном рассказе.
Переместился как-то незаметно для меня и центр всей истории. В прочитанном рассказе героем был мальчик, у меня всё дело было в птичке. Мне было жаль её, и я был рад, что могу выпустить её на свободу. И уже не мальчик, а я выпускал её.
Позже, уже будучи взрослым, я узнал свои тогдашние переживания, прочтя последние строки пушкинской «Птички».
Я стал доступен утешенью: За что на бога мне роптать; Когда хоть одному творенью Я мог свободу даровать!Если бы я тогда натолкнулся на эти добрые строки, я бы, наверно, очень обрадовался: поэт и я чувствовали одно и то же. Я был счастлив и горд, что выпустил птичку из клетки. Именно я это сделал, а не тот безликий мальчик из прочитанного Николаем Тихоновичем рассказа. Поэт, ликующий потому, что мог «свободу даровать» хотя бы такому крохотному узнику, был мне дорог. Он раскрыл усатому дяде душу десятилетнего мальчонки, который тоже в конце сочинённой им сказки-пересказки открыл клетку и «даровал свободу» маленькой пленнице.
Я так и назвал птичку — «пленницей», и даже больше того — «крылатой пленницей». Да. Так я и написал: «И он выпустил на свободу свою крылатую пленницу».
Я написал это с радостью, и радость была двойной. Я сделал хорошее, душевное дело и нашёл для него красивые слова. И это были мои слова, которых не было в прочитанном рассказе.
Это был первый в моей жизни сеанс колдовства словом, которое неведомо как удалось мне и неведомо откуда пришло.
Я всегда помнил об этой птице. И в иные минуты очень остро заново переживал сделанное в те далёкие годы. Такая минута случилась и совсем недавно, когда я прочёл стихотворение Жака Превера «Как нарисовать птицу».
Жак Превер начинает своё стихотворение так:
Сперва нарисуйте клетку с настежь открытой дверцей, затем нарисуйте что-нибудь красивое и простое, что-нибудь очень приятное и нужное очень для птицы; затем в саду или в роще к дереву полотно прислоните, за деревом этим спрячьтесь, не двигайтесь и молчите.За этими настораживающими и настороженными строками следует превосходно написанное ожидание птицы. Иногда она прилетает быстро, но иногда приходится ждать её долгие годы.
Когда ж прилетит к вам птица (если только она прилетит), храните молчание, ждите, чтобы птица в клетку влетела, и, когда она в клетку влетит, тихо, кистью дверцу заприте и, не коснувшись ни пёрышка, осторожно клетку сотрите. Затем нарисуйте дерево, выбрав лучшую ветку для птицы, нарисуйте листву зелёную, свежесть ветра и ласку солнца, нарисуйте звон мошкары, что в горячих лучах резвится, и ждите, ждите затем, чтобы запела птица.Заключительные строки стихотворения утверждают: если птица не запоёт — значит, нарисованная вами картина никуда не годится. Если же птица запоёт — значит, картина хороша, вы можете ставить под ней свою подпись.
В этом стихотворении, переведённом М. Кудиновым, всё мне кажется прекрасным и верным. Картина сказочна и правдива одновременно. И это понятно: ведь речь идёт о самой редкой птице — об искусстве.
Очень важное следствие вытекает из «законов нарисованной птицы». Чтобы птица запела, нужно научиться рисовать свежесть ветра, ласку солнца и звон мошкары в зное. А это трудно.
Понятно, что этим вовсе не исчерпывается то, что необходимо в искусстве. Есть вещи и поважней: жизнь, люди, события века, борьба. Но это я выношу за скобки, как само собой подразумевающееся.
А сейчас очень важна мне эта удивительная колдовская птица, нарисованная кистью или написанная словом, но поющая. Мне важны и неотделимы от неё свежеть ветра, ласка солнца и звон мошкары в зное.
Повторяю, писать это очень трудно, но без этого колдовство словом состояться не может.
А начаться это колдовство в душе человека может очень рано. Я не сгущал красок и ничего не переиначивал в том, что действительно было, рассказывая, как писатель начал рождаться ещё в десятилетнем парнишке, сидящем на ученической скамье в начальной школе.
В подкрепление своей правды сошлюсь на старого опытного педагога Андрея Митрофановича Топорова, обучавшего ещё отца космонавта номер два Германа Титова. В одной из статей, напечатанной в «Литературной газете», он прямо говорит: «Школьник тоже маленький писатель».
Ну конечно же так. Все способности и склонности взрослого заложены в ребёнке, в том числе и способность к колдовству словом. Может статься даже, эта способность — особенно. Мальчишки и девчонки очень любят носиться с воображаемым, а это ведь почти постоянное состояние пишущего.
Являться муза стала мне
В городке Пушкине под Ленинградом, против здания бывшего Лицея, стоит памятник Пушкину работы скульптора Роберта Баха. Это один из лучших памятников писателям, какие я знаю. На простом цоколе очень хорошо найденных пропорций стоит скамья со сквозной резной спинкой. На ней — молодой Пушкин в распахнутом лицейском мундирчике. Он облокотился о спинку скамьи и задумался. Вся фигура его удивительно легка. Кажется, вот сейчас прервётся набежавшая задумчивость и резвый лицеист сорвётся с места, чтобы мчаться, лететь в то прекрасное далёко, которое только ему одному и видится.
Каждое крупное произведение искусства заключает в себе некую колдовскую силу, некую тайну неведомого и необъяснимого очарования. Тайна эта у всякого художнического создания своя. У Венеры Милосской она скрыта в поразительной гармонии пропорций, у Джоконды — в неразгаданной улыбке, у микеланджеловского Давида — в пленительном мужестве взрастающей юности.
У памятника Баха, с которого начался разговор, тайна очарования — в поражающей лёгкости сидящей фигуры, в одухотворённости, в окрылённости всего облика юноши Пушкина. Вес бронзы преодолён чудодейственным искусством скульптора. Нет её «тяжкого многопудья». Нет давящей власти материала над художником, и это и есть проявление силы и свободы художника.
Памятник превосходен, и прежде всего, пожалуй, тем, что вовсе не похож на памятник. Это просто живой Пушкин, который присел на скамью в лицейском саду и задумался. Здесь мы его случайно и застали.
И хорошо, что мы его застали именно здесь, потому что именно здесь
В те дни в таинственных долинах, Весной, при кликах лебединых, Близ вод, сиявших в тишине, Являться муза стала мне.Эти строки, взятые из первой строфы восьмой главы «Евгения Онегина», высечены в камне на цоколе памятника, и они здесь как нельзя более к месту.
Но музы являются не только великим. Они гостят у всех, кто открывает им настежь двери и сердце.
Почти каждый прозаик начинал со стихов. Я не был. исключением. Впрочем, ещё раньше самостоятельных стихов был как бы приготовительный класс стиховой школы, живая стихотворческая игра. Затеял её мой старший брат Давид, хотя это было вовсе не его изобретение. Называлась игра буриме, что значит в переводе с французского «рифмованные концы». Пришла она к нам из парижских салонов галантного века и заключалась в том, что участники её писали стихи на заданные рифмы.
Впрочем, подобными играми забавлялись во Франции ещё в пятнадцатом веке. Знаменитая «Баллада поэтического состязания в Блуа» Франсуа Вийона начинается строкой «От жажды умираю над ручьём», заданной хозяином празднества в замке Блуа принцем Карлом Орлеанским.
В нашей игре была задана не целая строка, а только окончания, рифмы каждой из строк стихотворения. К этим заранее заданным рифмам приписывалось и приспосабливалось всё содержание стихотворения — у каждого из играющих иное.
Игра эта вовсе не была пустой забавой. Условия игры требовали словесной ловкости, обширного словаря и отличного владения материалом. Можно было писать что угодно и о чём угодно, но нельзя было уклониться от обязательного окончания строки. Таким образом, допускалась полная внутренняя свобода, и в то же время требовалась строгая самодисциплина, а кроме того, и находчивость, и остроумие, и многое другое, что делало игру и интересной, и далеко не бесполезной.
Начали мы игру скромно, задав участникам её всего одно четверостишие.
Игра, по безмолвному уговору между всеми участниками, сразу принята была именно как игра. Излишняя серьёзность и чопорность с самого начала были сняты характером задаваемых рифм. Для первого конкурса были заданы рифмы: «шило», «рот», «мило», «капот»; для второго: «лет», «ноги», «кисет», «боги».
Конкурсов буриме было у нас множество. Во всех я принимал самое деятельное участие, но лаврами победителя не был увенчан ни разу.
Потерпев несколько неудач на конкурсах буриме, я решил всё же доказать, что «в механике и я чего-нибудь да стою», и стал сочинять стихи без стеснительных конкурсных условий. Но и тут особых успехов на первых порах я не оказал.
И всё же я не бросал своих трудов на ниве стихосложения и продолжал усердствовать. К четырнадцати годам я сочинил наконец первое своё самостоятельное законченное стихотворение.
Первые стихи обычно бывают либо возвышенно чувствительные, либо пейзажные — про берёзки, про тополя, про закат. Я решительно порвал с этой обветшалой традицией и сразу выступил с гражданственно-обличительной тематикой. Я клеймил порок, и в частности курение табака.
Сочинение стихов оказалось нелёгким, хлопотливым и неблагодарным делом. Помню, как долго бился я над тем, чтобы подыскать приличную рифму к слову «потолок» и найти хорошую соседку строчке
Дымил он в потолок.Как я ни усердствовал, сколько ни пыхтел и ни натуживался, ничего путного не получилось. В конце концов пришлось нехотя употребить крайне неудачный оборот
Пуская дым, как ток.В сопоставлении этих двух строк была явная нелепица, потому что электрический ток, о котором я вёл здесь . речь, распространяется мгновенно, в то время как дым поднимается к потолку очень медленно. Сравнение явно не подходило к случаю, но ничего лучшего, никакого другого образа и иной рифмы я подыскать не смог, и стихотворение осталось, так сказать, под током.
Много лет спустя, прочитав в газетном отчёте об открытии Волховской гидроэлектростанции, что «рубильник включили, и ток медленно потёк к Ленинграду», — я вспомнил своё первое стихотворение и от души рассмеялся. Техническая осведомлённость корреспондента была примерно на том же уровне, на каком находился я в четырнадцать лет, сочиняя своё первое стихотворение. Надо сказать, что ошибки, подобные моей, совершают не только четырнадцатилетние поэты. Вот недавно я прочёл у поэта Игоря Михайлова строки: «Гудят провода — это мчится ток высокого напряжения». Поэта, видимо, не смущает то обстоятельство, что тока высокого напряжения в природе не существует, что напряжение присутствует в сети, передающей ток, но не в самом токе.
Но оставим эти ошибки на совести поэтов, им многое прощается, и вернёмся к собственным, что, правда, менее приятно, но зато более плодотворно. В моем первом стихотворении, кроме общественно-благонамеренной тематики, других достоинств разглядеть, я думаю, не удалось бы даже в электронный микроскоп. В нем не было ничего поэтического, а поэзия без поэтического жить не может. И поэтического мышления следует спрашивать с поэтов прежде всего — как с маститых и иной раз уже забывших о поэзии, так и с начинающих несмышлёнышей, которые ещё не подозревают о том, что такой метод мышления существует и что поэт не только может, но и обязан мыслить поэтически. Вне этого особого, напряжённого, образного, поэтического мышления нет У поэта путей в заповедную страну, которая зовётся Поэзией.
Кстати, для путешествия в эту заповедную страну не обязательно карабкаться на Олимп, чтобы оседлать Пегаса. Можно запрячь и простого Пегашку или Серка, как это сделал Твардовский, отправив Моргунка на поиски обетованной Муравии. За неимением конной тяги и других транспортных средств можно в конце концов попасть куда угодно и пешком.
Но какой бы вид и способ передвижения ни был избран, одно неизменно и очевидно — в страну, которая зовётся Поэзией, может вступить только поэт. Таков непреложный закон, который обойти никому не удалось и никогда никому не удастся. Это надо знать и понимать. И чем раньше придут эти знания и понимания, тем лучше.
Я узнал об этом не вдруг и не скоро. Напротив, я зарабатывал необходимые мне понимания горбом, постоянно спотыкаясь о, собственные ошибки, незрелость, невежество и постоянно споря с критиками, с самим собой и с собственными героями. Споры затянулись до сегодняшнего дня и, по-видимому, не будут окончены и завтра, но это не смущает меня, и никого не должно смущать и останавливать на избранном пути. Для того чтобы двигаться вперёд, вовсе не обязательно застёгиваться на все пуговицы и ждать исчерпывающих указаний о путях-дорогах от регулировщиков.
И ещё одно следует понять и уяснить себе. Для того чтобы быть поэтом, вовсе не обязательно говорить а рифму, клясться ямбами и приподниматься на цыпочки. Можно быть поэтом и работая над повестью, пьесой или даже критической статьёй — случай, правда, редкий. Забавно то, что один и тот же человек, написав стихи и прозу, в стихах может оказаться прозаиком, в прозе подлинным поэтом. Так случилось, например, с Гоголем. Его «Ганс Кюхельгартен» — весьма скучная проза, а «Мёртвые души», «Тарас Бульба» или «Вечера на хуторе близ Диканьки» — высокая поэзия.
Поэзия не только обязательный спутник литературы, и живёт она не только в литературных заповедниках. Всё, что делал кинорежиссёр Александр Довженко, пронизано поэзией. Его «Арсенал» и «Земля» истинно поэтичны.
Поэзия и рядом с нами, и в нас. При желании и жажде поэтического её можно обнаружить решительно повсюду. Она присутствует во всём, хотя в руки, как золотоперая жар-птица, даётся не всегда и не всем.
Что касается музы, то залучить её «на пир младых затей» не так уж трудно. Она является по первому зову во всех тех случаях, когда явление её вызывается действительной и жаркой потребностью души зовущего. Она весьма демократична и является без промедления не только к всесветным знаменитостям, но и к нам грешным, представляющим меньшую литературную братию. К каждому приходит она в своё время, как первая любовь, и приход её всегда в радость. Впрочем, когда это было впервые, обычно сказать затруднительно. Случается, что первое её явление на поверку оказывается вовсе не первым, что ещё прежде того душа твоя встречалась с ней когда-то «в смутном сне», как это рассказано в той же восьмой главе «Евгения Онегина».
Опять она у меня под пером — эта глава. Ею я начинал разговор, ею и заканчиваю. Одно упоминание о ней доставляет мне удовольствие, потому что во всей бескрайней стране, зовущейся Поэзией, нет для меня создания дороже и учительней.
Зелёная глина
Архангельск девятисотых годов жил лесом и треской. Треску привозили снизу, через морские ворота, на маленьких тресковых шхунах или в, бездонных трюмах больших пароходов Мурманского пароходства.
Лес шёл с верховьев Северной Двины. Огромная полноводная красавица река несла к городу нескончаемые караваны плотов. Здесь они кончали свой долгий неспешный путь. Их ставили на прикол вплотную к берегу, после чего начиналась выкатка леса на берег.
Делалось это так. Плоты развязывались и разбирались баграми по бревну. От кромки воды на берег и по берегу до каждого из штабелей леса протягивали две нитки из брёвен, отстоящие одна от другой сажени на две. По образовавшимся рельсам-каткам и вытаскивали брёвна на берег к штабелям.
На вывозке брёвен к каждому штабелю работали две лошади, управляемые двумя коногонами. Упряжка рабочей лошади была до крайности проста. Она состояла из хомута и привязанной к нему длинной верёвки. К свободному концу верёвки прикреплялся большой железный крюк. Этот крюк коногон одним ловким взмахом всаживал в торец бревна. Второй коногон проделывал то же самое по другую сторону катков. Потом коногоны Ударяли в кнуты, и лошади, натянув верёвки, волокли бревно на берег, к штабелям.
По мере того как штабель рос, втаскивать брёвна наверх становилось всё труднее. Впрочем, и по низу тащить огромные сырые неокоренные брёвна было непросто. Я достаточно нагляделся на работу коногонов и лошадей, чтобы верно судить об этом. Как ни был и мал в то время, я всё же понимал, как тяжёл и надсаден их труд.
Это на целую жизнь засело в памяти: вот почему и сейчас, более семи десятилетий спустя, мне ясно видится, как низкорослые лохматые лошадёнки с выпирающими на боках рёбрами, натуживаясь и в такт мелким шажкам поматывая головами, тянут огромные брёвна. Они с трудом выдирали дрожащие ноги из вязкой зелёной глины. Рядом брели коногоны, и им приходилось не легче, чем лошадям. Закатав бумажные штаны выше колен, они вместе с брёвнами волокли к штабелю на ногах по крайней мере по полпуда глины. Чем дальше, тем больше её налипало. С громким чавканьем коногоны вытягивали ноги из липкого месива, потом снова с трудом всаживали в него и снова с натугой тащили вверх. Они задыхались и обливались потом, проклинали на весь берег и брёвна, и лошадей, и себя, и весь остальной свет, особенно эту проклятую глину.
В обед коногоны купались, шумно кидаясь с плотов в стеклянную тёмную воду. Потом кто-нибудь приносил из казёнки шкалик водки, и все садились на брёвна перекусить.
Случалось, они пели, и песня была тягучей и надсадной, точно и она брела с ними вместе по липучей, вязкой глине.
Летом я целые дни пропадал на реке, пристав к шумной ватаге таких же, как я, огольцов. Мы купались по десять раз на дню, ныряли под плоты, обследовали лодки, стоявшие под высокосвайными пристанями, собирали ракушки и мелкие камешки для рогаток, ловили мальков на мели.
Занятый всеми этими многосложными делами, я не очень внимательно прислушивался к надсадным песням коногонов, день-деньской копошившихся в зелёной глине. И всё же эти песни вошли в мою жизнь, — ведь я слышал их и в восемь, и в девять, и в десять лет, и позже.
В двадцать три года случилось со мной одно примечательное песенное событие. Хотя и на этот раз дело происходило в Архангельске, но теперь я сидел уже не на плотах, а в партере городского театра, и пели песни не коногоны.
Пела сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова. Её только недавно вывезла с далёкой Пинеги Ольга Озаровская, кочевавшая по глухим углам огромной — в три-четыре европейских государства — Архангельской губернии и очень много сделавшая для того, чтобы стали общенародным достоянием драгоценные песенные и сказочные клады русского Севера.
Как и где разыскала Озаровская Марью Дмитриевну и как судьба свела их? Сама Озаровская в своей книге «Бабушкины старины» рассказывает об этом так: «Давным-давно в. деревне Усть-Ежуга, при впадении реки Ежуги в Пинегу, Стояла маленькая чёрная избушка. В ней семь голодных ртов... мать — работница неустанная, а с ней четверо ребятишек, да старая бабка, да огромный столетний дед... Мать оставит ребятишек в избе, уйдёт на работу, а дед с ними... Дед в молодости ходил по Зимним Кедам, бил морского зверя; оттуда вынес свои старины... И ребятишки пристают:
— Дедушко! спой старину. Дедушко! спой былину...
И «внялась» в эти старины одна крошечная Машутка, всё упомнила и пронесла сквозь скудную тяжёлую жизнь... С десяти лет пришлось побираться, ходить по кусочкам... Пришли годы: выдали Машу замуж в деревню Шотогорку... муж пил, и на руку нечист был, и бродяжить любил... Дети умирали, мужа убили бродяги на дороге, осталась одна дочь.
Дочь вышла замуж в деревню Веегоры тоже бедно... И на старости лет с корзинкой в руках крошечная сморщенная Марьюшка бегает по деревням, собирает кусочки... Ночует где бог приведёт... И так до семидесяти двух лет, до чуда встречи с Московкой».
Московкой этой и была Ольга Озаровская. А встреча случилась летом пятнадцатого года в деревне Великий Двор, в доме Прасковьи Андреевны Олькиной, которая, кстати, жива и сейчас, и хотя перебралась к дочери в Кировск, но каждое лето приезжает в родную Пинегу. О встрече своей с Кривополеновой в Великом Дворе и о том, что произошло после того, Озаровская рассказывает дальше:
«Есть примета на Севере: если съешь у нищего от трёх кусков, будет тебе счастье.
Старая нищенка, Марья Дмитриевна Кривополенова так сердечно угощала меня тёплыми, только что поданными в городе шанежками, что я незаметно для себя съела заветные три куска.
И вышло счастье. Для нас обеих.
Нельзя было не полюбить бабушку с первой встречи. А когда рассыпала она перед нами свой старинный словесный жемчуг, ясно увидели мы, что перед нами настоящая артистка.
— Бабушка, поедем в Москву?
— Поедем!
Храбрая, как артист. Односельчане руками всплёскивали:
— Куда ты, бабка? Ведь помрёшь!
— А невелико у бабушки и костьё, найдётся-ле где место его закопать!
И поехала бабушка со мной в Москву. А в Москве не одной мне, а многим тысячам показала, какая она артистка. Маленькая, сухонькая, а дыханье — как у заправского певца. Три зуба во рту, — а произношение чёткое на диво!
Семьдесят два года, а огня, жизни — на зависть молодым!»
Таков рассказ Ольги Озаровской о своей встрече с Марьей Дмитриевной Кривополеновой. В Москве, куда привезла Озаровская свою подопечную, Кривополенова имела огромный успех. Москвичи были зачарованы её старинами, её пением, её редкостным сказительским талантом, её личностью.
Гостьба эта была столь приятна для Кривополеновой, что уже в следующем, шестнадцатом году старая, несмотря на свои годы и трудности пути с далёкой Пи-неги, снова приехала в Москву.
А пять лет спустя, летом двадцать первого года, вызванная телеграммой первого наркома просвещения Советской России Луначарского из Веегор, где жила у дочери, Марья Дмитриевна приезжает в Москву в третий раз.
В этот свой приезд Кривополенова выступает перед делегатами третьего конгресса Коминтерна, выступает, как всегда, бесстрашно и с великолепным артистическим темпераментом. О том, как, в какой атмосфере проходили выступления Кривополеновой тем летом в Москве, свидетельствует очевидец одного из таких выступлений.
Очевидец этот — Василий Иванович Стирманов — весьма примечателен и сам по себе. Это знаток Севера, энтузиаст северного краеведения, учитель, во время гражданской войны — начальник оперативной части штаба Пинежского участка фронта, сейчас заведующий Пинежским филиалом Архангельского краеведческого музея. Он знал Кривополенову в детские свои годы, позже встречался с ней, и ему ведома жизнь Марьи Дмитриевны, вероятно, больше, чем кому бы то ни было другому. Вот что рассказывает он об одном из московских выступлений:
«Летом в 1921 году мне привелось быть в Москве. Смотрю, афиша: в зале консерватории выступает сказительница Кривополенова. С трудом достал билет на балкон. Наша «Махонька» — на столичной сцене. «Махонькой» звали Марью Дмитриевну в деревне за очень маленький рост, да и прозвище это созвучно было её имени. Запела бабушка «Посеяли девки лён». А перед этим предупредила публику: «Как руцькой махну, платоцьком тряхну — всем припевать». Студенты консерватории подхватили припев дружно и слаженно.
По окончании концерта многие забрались на сцену. Как пушинку подняли бабушку на руки, обнимали, целовали...»
Приведённое описание выступления Кривополеновой в Московской консерватории взято мной из книги В. Страхова «На лесной реке». А попала ко мне эта книга не случайно. В конце лета шестьдесят девятого года я получил небольшой пакет, заключавший в себе газету «Пинежская правда». Я не подписчик этой газеты, выходящей в Карпогорском районе Архангельской области, но, получив газету, не удивился, так как в моей Довольно большой почте частенько случаются сюрпризы, и по преимуществу приятные. И на этот раз сюрприз был приятен, и даже вдвойне: во-первых, газета пришла с далёкого, с милого мне Севера, а во-вторых, в ней был очерк, называвшийся «Встреча с Кривополеновой». В очерке цитировалась главка, посвящённая Кривополеновой, из недавно вышедшей моей книги «Сумка волшебника» (первое издание).
Очерк подписан был В. Страховым. Я не знал Страхова, но был благодарен ему за то, что он напомнил мне о Марье Дмитриевне, ставшей живой частицей моей души, моей юности, моей памяти.
Так как на пакете, содержащем газету, значился обратный адрес приславшего её Страхова, то я написал ему, поблагодарил за неожиданное приятство, какое доставил он мне, прислав «Пинежскую правду», и просил сообщить мне, что знает ещё о Кривополеновой, о её жизни. Поблагодарил я и редактора «Пинежской правды», обратившись и к нему с той же просьбой.
Вскоре я получил и от редакции и от Виктора Евгеньевича Страхова ответы. В редакционном ответе было сказано о том, что Страхов является автором книги «На лесной реке», одна из глав которой посвящена Кривополеновой. Я попросил эту книгу у Виктора Евгеньевича и вскоре получил её вместе с обстоятельным письмом, содержащим много интересного и нового для меня из биографии чудной пинежской старицы. «Пинежская правда» в свою очередь прислала мне номер газеты полуторагодовалой давности с новыми для меня материалами о Кривополеновой.
В сопроводительном письме редакция сообщила мне адрес Стирманова и советовала обратиться к нему за интересующими меня материалами.
Я написал в Пинегу Стирманову. Василии Иванович тотчас отозвался, и завязалась переписка. Длилась она, впрочем, недолго, так как месяца через полтора Стирманов оказался по делам в Ленинграде и навестил меня.
И вот мы сидим по обе стороны диванного столика, и Василий Иванович рассказывает мне о Кривополеновой, о тяжкой жизни пинежской нищенки.
Семья Стирмановых жила в той же деревне Веегоры, что и Кривополенова. Но та селилась на дальнем нижнем краю, а Стирманов — в самой середине деревни. Пока старая нищенка, собирая куски по другим местам, добредала до центра Веегор, она уставала и у Стирмановых отдыхала, а частенько и на ночь оставалась.
Сердобольная хозяйка дома каждое утро выпекала по двадцать небольших хлебцев, чтобы подавать их захожим нищим и убогим.
Случалось, когда Махонька оставалась ночевать, Настасья Егоровна Стирманова посылала ребят по соседям звать их на посиделки.
Соберутся девки и бабы, сядут прясть. Выпросит себе прялку у хозяйки и Махонька, а то с вязаньем сядет. Вязала она очень сноровисто и красиво трёхцветные рукавички или чулки. Вяжет и приговаривает:
— Хороший человек-от, видать, дак нать ему чулки связать.
Потом опустит работу на колени и станет старины и сказки сказывать и петь скоморошины.
Малый Вася Стирманов с жадным вниманием слушал Махоньку, а старины и сказки её запали ему в душу навечно.
Шестьдесят лет спустя, в Ленинграде, сидя напротив меня, Василий Иванович с яркой картинностью живописал мне обстановку, в какой всё это происходило, описал худенькую, необычайно оживлённую Махоньку с торбочкой за плечами, пересказывал и её старины. Он и сам говорил сейчас, наверно, как Махонька говорила, окая по-пинежски и произнося как-то по-особому звук «ц».
Долго сидели мы с Василием Ивановичем в тот вечер, говоря о прошлом, о чудеснице Махоньке, дивясь и её таланту и тому, что любовь к ней и верность её памяти свела нас с разных концов страны и посадила друг против друга.
Такими вот долгими, сложными, дальними путями, по которым вместе со мной шли многие добрые люди, приходил, собирался, копился материал этой главы.
Однако достаточно ссылок на чужие глаза и уши. Пора обратиться к своим и рассказать о встрече моей с Марьей Дмитриевной Кривополеновой. Но прежде всё-таки ещё несколько о том, что предшествовало этой встрече. Кривополенова, как уже было сказано, с пятнадцатого по двадцать первый год трижды побывала а Москве. Но дело не ограничилось Москвой. Она была и в Петрограде, Твери, Саратове, Харькове, Екатеринославе. Выступала она в научных учреждениях, в школах, вузах, театральных залах. Выступала перед учёными-специалистами, перед детьми, рабочими, писателями, художниками. И в любой аудитории, в любом городе реакция слушателей была восторженной.
Из Москвы в конце лета двадцать первого года Марья Дмитриевна возвратилась со славой блистательной сказительницы, и старость её была обеспечена. Но сама она не изменилась. И из Москвы поехала опять к себе на Пинегу, хотя ей предлагали остаться навсегда в столице, давали квартиру и секретаря.
По дороге домой Марья Дмитриевна на несколько дней остановилась в Архангельске. Здесь мне и довелось слушать её. Было ей тогда уже около восьмидесяти лет. Тем не менее голос у неё был гибок и звонок, и, как мне показалось, даже звончей, чем у двух девушек-подпевал, хотя каждая из них была вчетверо моложе Марьи Дмитриевны.
Пела старуха удивительно, передать невозможно, как пела. При этом она владела залом совершенно, распоряжаясь им властно и уверенно, то понуждая всех подпевать себе, то заставляя смолкнуть и заворожённо затаить дыхание.
Счастливая для меня встреча длилась часа три, и в эти кратчайшие часы я впервые и навсегда понял, что такое русская стародавняя песня, в которой выпевались все горести и радости народа-великана, что такое героическая былина, о которой так скучно и казённо говорили нам в школе.
После выступления Кривополеновой я говорил с ней, и старая покорила меня во второй раз в этот вечер родниковой чистотой души. Она показывала большую медаль Географического общества, выданную ей в Москве. Медаль бережно хранилась ею на груди, на одном гайтане с нательным крестом, но в отдельной, сшитой для того ладанке.
Глядя мне в глаза своими удивительно светлыми глазами, Марья Дмитриевна рассказывала с доверчивой радостью и простодушной гордостью, как была в Москве, как сидела у наркома просвещения Луначарского (она произносила — Лунацярьского). При этом она убеждена была, что нарком вызвал её в Москву не только из-за песен и старин, но и затем, чтобы посоветоваться с ней, «как осударсьвом править».
Я слушал её и не улыбался этим наивным словам. Впрочем, так ли уж наивны они были? Наивный простак Иванушка в старых сказках под конец торжественно вступал в стольный град, получал во владение целое царство и оказывался на поверку вовсе не простаком. Что же странного было в том, что теперь и сама сказочница заступила его место, что и её вот позвали по государственным делам в столицу? Недаром же член правительства, нарком просвещения Луначарский назвал Кривополенову «государственной бабушкой».
Я стоял перед сухонькой маленькой старушкой в старинном поморском повойнике и в платочке поверх него, повязанном у горла вековечным бабьим узлом. Я смотрел в её изрезанное морщинами, дублённое временем лицо и не мог наглядеться. Лицо поражало внутренней оживлённостью черт и простодушной ясностью. И мне очень захотелось вылепить это лицо, чтобы я мог всегда глядеть в него. Я увлекался тогда лепкой и в тот же день притащил с берега ведро тяжёлой зелёной глины, той самой, что замешана была натруженными ногами коногонов. Из этой глины я и принялся лепить голову Кривополеновой.
Работал я с чрезвычайным увлечением и непреходящим усердием. И сейчас, полстолетия спустя, они живо чувствуются мной и проникают в сегодняшнюю мою работу. И это мне важно.
Однажды, лет тридцать тому назад, будучи в Москве и зайдя по обыкновению в Третьяковскую галерею, я неожиданно для себя увидел знакомое лицо, глядящее на меня столь памятным мне простодушным ясным взглядом. Это была встреча с ожившей передо мной стародавней стариной и одновременно с собственной молодостью. Не знаю, сколько времени стоял я перед превосходным «Портретом сказительницы Кривополеновой», созданным колдовскими руками Сергея Конёнкова. Портрет сделан в девятьсот шестнадцатом году, го есть за пять лет до того, как мне довелось увидеть и услышать эту удивительную старуху. Вырезанная из дерева голова сказительницы чрезвычайно выразительна, и, глядя на неё, понимаешь, как мудро и находчиво поступил скульптор, избрав материалом для этой работы именно дерево. Морщины этого выдубленного годами, старого лица, став древесными морщинами, так же чудно выразили материал, как сам материал помог скульптору выразить простодушную мудрость ясных глаз сказительницы и весь её облик, очертить высокий, крепкий лоб, за которым незримо таятся сокровища старин, скомороший, былин и волшебных сказок.
Само собой разумеется, моя голова Кривополеновой не могла идти ни в какое сравнение с чудесной скульптурой чудесного мастера. Мой скульптурный портрет Марьи Дмитриевны был работой дилетантской. И всё же та работа была мне в те годы нужна и многое важное сделала тогда во мне.
Долго стояла на моём рабочем столе голова в старинном повойнике и смотрела неотрывно, как я писал свои первые рассказы.
Спасибо ей за напутствие в науку делать чувства, мысли, образы материалом своего труда.
Спасибо и глине — той тяжкой и трудной глине. И она учила труду, из которого рождаются песни.
Александр Пушкин приходит на консультацию
Писателю очень повезло, если в его профессиональном стаже числится хотя бы несколько лет газетной работы. Газета — превосходная школа писательского дела.
Она постоянно тренирует бесстрашие перед неожиданно вздыбившимся фактом и независимость от лживых показаний документа.
Она учит праведному гневу против лжей и кривд.
Она ополчает против ползучей изворотливости и внушает отвращение к мерзкому высокомерию.
Она сдёргивает с нас слюнявчики и заставляет засучивать рукава.
Она до основания разрушает нелепый миф о недостойности мелких дел, ежечасно демонстрируя, как великое складывается из каждодневных малых дел.
Она срывает всякие и всяческие маски и указывает всеми десятью пальцами на голых королей.
Она кладёт конец словесному шаманству и навсегда излечивает от снобизма и парения «над».
Читая книгу, вы живёте вместе с её героями; беря в руки газету, вы со всем человечеством. У газетчика острей, чем у беллетриста, развито драгоценное чувство времени. Он всегда на переднем крае дел и дней. Обозная психология ему глубоко чужда. Он всякий день ходит в атаку. Голова его вечно в заботах, ноги в движении, пальцы в чернилах. Пульс времени бьётся в каждой его жилке.
Что может быть лучше этих добрых привычек и качеств для человека, берущего перо в руки?
Я люблю крепкорукое, быстроногое, хваткое, неусыпное и громкоголосое племя газетчиков и многие годы провёл в их шумном стане.
Я долго шагал по ступеням длинной лестницы газетных университетов, начав с самой низшей ступеньки. Я поставлял на потребу дня трехстрочные заметки без заголовков и печатал серии очерков с продолжением. Я вышагивал по городам и весям четырёх стран с корреспондентским блокнотом в кармане и проводил ночи в типографии, засыпая под стук печатной машины на грудах бумажного срыва.
Печатался я во множестве газет, начиная с заводской многотиражки «Электросиловец» и кончая «Правдой», спецкором которой был всю Великую Отечественную войну.
Газетные полосы были для меня и школьной скамьёй, и полем битвы, и клубом, и трибуной. Здесь всё было важно и интересно — даже неважное и неинтересное, потому что всё было кипением жизни живой.
Когда в романе «Тыл» мне пришла нужда в одном сгустке дать многообразие и многоцветность, накал и ширь наших дел, я взял около сотни заголовков и коротких выдержек из газет одного ленинградского дня и сделал из них нужную мне главу. Я не прибавил ни слова от себя. За меня говорила газета, говорила кратко, резко, горячо и красноречиво.
Позже я без особых переживаний подтопил этим романом печь. Но это ничуть не умаляет достоинств включённого в него газетного материала. Глава была хорошая. Вообще в романе было много хороших глав. Но как целое он был плох. И вслед за романами «Дитя из подземелья», «Огнестрой», «Записки дипломата» и многими другими моими опусами он был брошен в печь.
Однако вернёмся к нашим баранам, как говаривал незабвенный Панург. Много интересного и поучительного дала мне газета. Но самое интересное и самое поучительное из всего были люди, с которыми она меня сталкивала. Во время своих корреспондентских скитаний и в прокуренных шумных комнатушках редакций я встречался со множеством людей самых разных профессий, взглядов, устремлений, жизненных навыков, каждый из которых был ходячим романом, поэмой, драмой.
Кого только не случалось в этой огромной коллекции характеров и биографий. С кем только не скрещивались мои пути-дороги. Липа Чапаева, дочь легендарного комдива, и некий мерзкий подросток с лицом херувима и семнадцатью приводами, с которым столкнулся я в колонии малолетних правонарушителей. Белоголовый академик Абрам Иоффе, с юношеским пылом говоривший мне два часа о том, каким он видит завтрашний день, и непокладистый Александр Покрышкин, сбивший пятьдесят девять вражеских самолётов, за что отличён был тремя золотыми звёздами Героя. Чемпион мира начала века по фигурному катанию на коньках, необыкновенно складный в движениях Николай Панин и живая героиня прогремевшего в двадцатые годы фильма «Красные дьяволята» Дуня Косенкова, горя и приключений которой достало бы на добрый десяток биографий.
А однажды в редакцию «Смены» явился ко мне на консультацию сам Александр Пушкин. Он положил на стол тетрадочку со стихами и попросил прочесть её.
Газетчика трудно чем-либо удивить, и, явись в редакцию той же «Смены» Кай Юлий Цезарь, он, думается, не произвёл бы большого впечатления. Секретарь редакции спокойно снял бы телефонную трубку и позвонил бы в больницу для умалишённых, чтобы навести соответствующую справку, — только и всего.
Я никуда звонить не стал, а, усадив своего неожиданного гостя рядом с собой, взял его тетрадочку и стал читать стихи.
Стихи оказались довольно слабенькие. Просмотрев их без особого энтузиазма, я повернулся к поэту и сказал ворчливо:
— Знаете, нехорошо, что вы избрала себе такой псевдоним. Неловко.
Поэт тяжело вздохнул и сказал сокрушённо:
— Все говорят так же вот. А что я могу сделать, когда это вовсе не псевдоним, а настоящая моя фамилия? И имя настоящее. И отчество, как на грех, Сергеевич. Вот какое дело.
Я сочувственно покачал головой и спросил:
— А чем вы занимаетесь кроме стихов? Какая у вас специальность?
Поэт робко ответил:
— Я председатель колхоза. — Он покосился на свою тетрадочку, которую я продолжал листать, делая на полях карандашные пометки, и счёл нужным прибавить: — Вы не думайте, колхоз у меня не из плохих.
В голосе его звучало твёрдо осознанное право говорить так о своём колхозе. Я сразу поверил в это его право, и посетитель сразу же стал мне вдвое интересней. Я отложил тетрадочку со стихами в сторону и, повернувшись к нему, стал выспрашивать о колхозных делах. Из краткого и дельного рассказа я убедился, что колхоз его стоит на более верном пути, чем его муза.
Впрочем, и стихи, к которым мы вскоре вернулись, не были вовсе безнадёжны. В них хоть и слабо, но тлела живая искорка поэтического чувства природы. Видимо, колхозник помог поэту в его стиховом деле. Может статься, и поэт помог колхозному делу председателя, которое в его руках шло в гору.
Подсобить живому делу жизни живой — для поэта и честь и радость. Помочь укреплению этого прекрасного двуединства тоже честь и радость, и я с живым удовольствием провёл эту не совсем обычную консультацию.
Когда час спустя мы с поэтом-председателем расстались, заведующая отделом искусства, присутствовавшая при последних минутах нашего разговора, спросила, кивнув вслед уходящему:
— Кто это?
— Александр Сергеевич Пушкин, — ответил я, не вкладывая в свой ответ ни малейшего историко-литературного оттенка. — Дай-ка закурить!
— Держи, — откликнулась моя начальница, кидая через комнату папиросу, и, видимо решив не реагировать на неостроумную мою шутку, прибавила довольно спокойно: — Занятный, кажется, парень.
— Да, — кивнул я, подхватывая папиросу. — И дельный.
Мы закурили и стали обсуждать план литературной страницы, которую собирались дать в воскресном номере силами только что сорганизовавшейся литературной группы «Смена».
Двенадцать из восьмисот
О литературной группе «Смена» мне хотелось бы рассказать несколько подробней. Родилась она из очевидной и весьма естественной потребности друг в друге людей, занимающихся одним и тем же интересным и Дорогим для них делом. Думаю, что так начинаются всякие настоящие человеческие сообщества.
Поначалу трудно было ждать от литгруппы особенно быстрых успехов.
Составляли её юноши, которые хотели писать, но не знали, как это делать. Руководил группой я, который не знал, как надо руководить подобными группами. Никаких планов работы у меня не было, и я не чувствовал никакой потребности в них. Планировала мою работу сама работа, а учился учить я у своих же учеников.
Что касается моих точек зрения на своё дело, то я полагал, что первое, что я должен привить своим подопечным, — это искусство распознавать, что такое хорошо и что такое плохо. Это многотрудное дело осложнялось ещё тем, что я сам не был ещё достаточно твёрд в этом искусстве, хотя за плечами у меня уже были роман, две повести и сборничек стихов. Я пытался обратиться к опыту других, которые превосходно умели распознавать плохое и хорошее. Мастером в этом деле был Владимир Маяковский, писавший:
Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо.Всё чётко, ясно и основательно, как и про другого мальчика, совсем иных навыков и иного характера:
От вороны карапуз убежал, заохав. Мальчик этот просто трус. Это очень плохо.Мои мальчики были иного возраста, и я не мог с такой же вещной очевидностью показать им и доказать, что такое хорошо и что такое плохо. Часто случалось, что они считали хорошим то, что я считал плохим, и наоборот. Мальчики были трудные, своенравные, занозистые, и каждый не походил на соседа.
И всё же, очень разные, мы находили общие точки зрения. Косноязыча и запинаясь, мы отыскивали в конце концов нужные слова и нужные мысли, помогая друг другу, чем только были в состоянии помочь. Задыхаясь от спешки, спотыкаясь и иногда больно ушибаясь, мы всё же нащупывали верные пути и в трудном, общем для нас движении вперёд понемногу набирались ума и вкуса, копили уменья.
Как же, однако, рождались эти уменья из общения друг с другом неумелых? Я, наверно, не смогу достаточно ясно разобраться в этом неочевидном, неприметном для глаза процессе, но мне кажется, что началом всех начал у нас была любовь к делу, которую мы старались сохранить в своей среде прежде всего. Это была главная наша забота и главная наша сила.
В самом начале я сказал, что наша литературная группа родилась из естественной потребности друг в друге людей, занимающихся одним и тем же дорогим для них делом. Это так. Но всё-таки как же она составилась? Ведь всё в мире имеет начало. Попробую доискаться начала.
В двадцать четвёртом году я стал работать в газете «Смена» репортёром, а с тридцать третьего мне поручили вести литературную консультацию. Стиль работы тех лет сильно отличался от нынешнего. Многое было хуже, но многое и лучше. Меньше, чем сейчас, было официально обязательного, меньше всяческих инстанций и согласований. Больше было ошибок, самостоятельности, поиска, горячки, увлечённости, руготни. Начальство казалось как-то меньше ростом, и меньше в нём было начальственности и приказательности. Если ты принимал какое-то решение, ни с кем не согласовывая, думая только о самом деле, и если дело при этом получалось, то в общем никто к тебе особых претензий не предъявлял.
На отведённом мне участке деликатной человеческой деятельности я делал, в сущности говоря, всё, что считал нужным и полезным для дела, никакими иными соображениями не будучи озабочен. Я призван был растить литературную молодёжь — я и пытался, как мог и как умел, растить. Я призван был помогать работать в литературе тем, кто не умел ещё работать, но уже имел на эту работу право. Я и пытался помогать.
Как я это делал, касалось главным образом меня и тех, кто непосредственно был заинтересован в этой работе. Мне не давали делать больших глупостей, но не дёргали ежеминутно за полы пиджака.
Никакого штата у литературной консультации не было. Я был всё — и начальство, и штат, и законодатель, исполнитель, и мозговой трест, и технический аппарат. Я вёл огромную переписку и целые дни толковал с молодыми поэтами и усовещивал молодых прозаиков, доказывая, что нельзя писать «молоко с кровью», а надо писать «кровь с молоком», что нельзя писать «скрипя сердцем», а нужно писать «скрепя сердце».
В течение первого года моей работы за всех в литературной консультации я узнал восемьсот несостоявшихся писателей и они узнали меня — очно и заочно.
На восемьсот первом номере я задумался. Что же дальше? Доколе же я буду давать всем, кто на меня случайно набежит, приблизительно полезные советы? И неужели моя миссия, на этом начавшись, на этом же и кончается? Я стал в раздумье перелистывать свою пухлую тетрадь с восемьюстами фамилиями, и мало-помалу эти фамилии стали оживать и обрастать плотью. Передо мной прошла длинная вереница людей и характеров, особенностей и способностей. Больше всего меня интересовали способности. И я нашёл, что по крайней мере двенадцать из восьмисот по-настоящему одарены. Очевидно, с ними нужно было делать что-то большее и лучшее, чем случайные разговоры по случайному поводу.
Об этом я и заговорил назавтра с четырьмя из этих двенадцати, когда они по установившейся уже привычке пришли вечером в «Смену» и уселись вокруг меня, осыпая пеплом мой стол и покрывая стихотворными строчками и закорючками синий лист настольной бумаги.
На мою декларацию о необходимости общих налаженно сообразных действий первым откликнулся странноватый, курносый и задумчивый Коля Верховский, что-то торопливо писавший в замусоленной школьной тетрадке в клеточку. Не поднимая головы от тетрадки, он пробормотал, повторяя только что написанное:
Люблю я птиц, Особенно носатых.— Возьмём на заметку, — сказал тощий, разумный и насмешливый Толя Чивилихин.
— Ребята, — сказал внушительно Игорь Михайлов, блестя стёклами очков. — Давайте всё-таки серьёзно отнесёмся к делу.
— Это значит, прежде всего справимся, что говорил по этому поводу Умка-медведь?
Михайлов, услышав про Умку, резко повернулся к Чивилихину и начал краснеть от затылка к носу. Очевидно, назревала очередная перепалка между сторонниками Сельвинского и Маяковского. Я пресёк её в корне, вернув аудиторию к текущему моменту.
— Если оставить в стороне птиц, медведей и прочую живность, то что же мы всё-таки предпримем? Высказываться слева направо.
Толя Чивилихин отозвался с левого фланга:
— Давайте, Илья Яковлевич, созовём в ближайшую субботу всех перечисленных вами двенадцать апостолов, и всё. Я прочитаю свои новые выдающиеся стихи.
— И я, — отозвался Михайлов.
— Ага, — буркнул детским хрипловатым голоском Вадим Шефнер, до сих пор не проронивший ни слова.
Верховский молча кивнул головой, давая понять, что и он и его носатые птицы голосуют за собрание двенадцати, которое мы и назначили на ближайшую субботу. Шефнер, в виде аванса и тренировки к субботнему выступлению, стал читать стихи про обезьян, устроивших митинг в манговом лесу, увитом лианами и полном экзотических штук, о которых слушатели имели весьма смутные понятия, как, впрочем, и сам поэт.
Так или почти так составилась литературная группа «Смена», которая позже была благословлена и терпима начальством. Правда, время от времени мне делали головомойку, ставя на вид странности в поведении некоторых из маловоспитанных сменовцев и незрелость их творений. Но в общем в редакции газеты к нам относились довольно благожелательно, и каждую субботу прокуренные, ободранные стены редакции оглашались воплями поэтов, читавших свои стихи, и спотыкающейся скороговоркой смущённых прозаиков. Тут же прочитанное каждым из выступавших разделывалось на все корки каждым из слушавших.
На мою долю выпадало в конце собрания подводить итоги и рассуживать читавших и слушавших, без обиняков и скидок выговаривавших всё, что думали о прочитанном. Надо было отметать излишние запальчивости, проливать бальзам на полученные раны, утверждать справедливость и равновесие разноречий, внушать добрые надежды и, главным образом, поддерживать в группе бодрый, творческий тонус и хорошее рабочее состояние.
Я обязан был направлять своенравный летящий бег Пегаса, то сдерживая его, то погоняя, но всё время держа на строгой узде. Иногда это удавалось, иногда нет. Случалось, что крылатая животина брыкалась и набивала шишки и мне и юным седокам. Но жаловаться на это было некому, и никто не жаловался. Мы потирали ушибленные места и, покряхтывая, снова принимались за прежнее, то есть за дружную, незрелую, старательную и горячую свою работу.
Позже сменовцы стали ядром центральной литературной группы при Союзе писателей, руководить которой поручили мне же. Многих из бывших сменовцев (В. Шефнера, С. Ботвинника, И. Михайлова) я встречаю как равноправных членов Союза писателей на писательских собраниях и вечерах. Иные (В. Лившиц, Б. Шмидт) работают в писательских организациях других городов. Иные (Г. Чайкин, Н. Мельников, С. Виндерман, А. Чивилихин, А. Клещенко) погибли на фронтах Отечественной войны или умерли в послевоенные годы, став уже писателями. Иные потерялись в жизненной сумятице, и куда их забросила судьба — я не знаю. Не знаю и того, помнят ли они свою родную группу и своих товарищей, стали они писателями или нет. Но и не зная этого, я твёрдо верю, что, куда бы они ни попали и что бы ни делали, то, что нажито нами вместе в литгруппе «Смена», не вовсе растеряно нами. Хоть малое зёрнышко доброго, брошенное в душу каждого из них всеми его товарищами, зреет и даёт свои плоды.
О молниях, поэтах и ученье
Ученичество у мастеров — древний и хороший обычай. Старые художники обязательно имели учеников. Будущий живописец проходил все ступени ученичества и мастерства, начиная с растирания красок и кончая необъяснимым чудом светописи. С течением времени художник передавал ученикам все тонкости мастерства и все тайны искусства, какими сам владел и какими владели другие мастера.
Чаще всего школа мастерства была одновременно и школой жизни, так как ученики входили и в дом, и в обиход, и в мастерскую, и в душу учителя.
Хороший учитель всегда преподаёт не только свой предмет, но обязательно преподаёт и жизнь. Мне, к сожалению, не довелось учиться у таких учителей, но я встречал их, знал и одного из них написал в романе «Светлый мир». Корней Иванович Макарьев — главный герой романа — имеет реального прототипа. Это Виктор Ильич Алексеев — тренер и воспитатель несметного множества отличных спортсменов, среди которых немало чемпионов и рекордсменов страны, Европы, мира и пяти последних олимпиад.
Виктор Ильич — человек удивительных качеств и поразительной цельности. Он одержим тем, что делает, и к этому своему делу приладил всю свою жизнь, все свои способности, все свои интересы и помыслы. Его дело — это весь он, целиком и без остатка. Его ученики — это его друзья, его помощники в работе с другими учениками, его окружение, его атмосфера, его семья. Он их тренирует, определяет в школы и вузы, рекомендует на работу, празднует с ними их праздники и даже болеет их болезнями.
Среди писателей трудней, пожалуй, найти таких учителей. Писатель, если он деятелен и много пишет, настолько поглощён своим трудом, что у него недостаёт ни силы, ни времени, ни страсти на учеников.
И всё же ученики случаются и у писателей. Правда, это ученики особого рода, которых трудно назвать учениками.
В нашей советской практике учения искусству особую роль играют литературные группы. Их коллективный метод освоения начал литературного мастерства во многом очень поучителен. Очень интересна для всякого писателя работа руководства группой, и прежде всего тем, что, уча, руководитель в то же время обязательно и учится. Я знаю эту обязательную обратимость учебного процесса по собственному своему опыту.
Более четверти века довелось мне руководить различными литературными группами Ленинграда. Но особенно запомнилась и запала в сердце литгруппа «Смена». Я рассказал о ней, и довольно подробно, в предыдущей главе, но, признаться, до конца не выговорился. Среди бывших сменовцев есть такие, с которыми душа моя особенно сроднилась. О двух из них я хочу поговорить отдельно.
Анатолий Чивилихин пришёл ко мне в литературную консультацию со стихотворением «О тех, которые сволочи». Стихотворение было гражданственное, бичевало бюрократов и с талантливой старательностью повторяло приёмы, манеру и лексику Маяковского. Я сказал представшему предо мной худущему и очень скромному аз-тору, показывая на листки со стихами:
— Но это же не вы.
— Я, — возразил автор, с неожиданной твёрдостью глядя в меня необыкновенно светлыми глазами и встряхивая узкой головой, увенчанной жёлтым ёжиком волос.
— Нет, это не вы, — настаивал я и стал говорить о своеобразии поэтического языка, какой обязан иметь поэт, и прочих, идущих к случаю, вещах.
Чивилихин слушал, выгнув тоненькую, жилистую шею, и не знаю, о чём думал. Потом вдруг заспорил — неловко, застенчиво и в то же время с несокрушимой верой в свою правоту. Спор, впрочем, длился недолго, и к концу его не оказалось ни победителей, ни побеждённых. И я, говоря «это не вы», и автор, утверждающий обратное, были правы. Это был и он, и не он. Передо мной был Чивилихин, который не умел ещё быть Чивилихиным и даже не подозревал, как это необходимо и как трудно. Задача моя заключалась в том, чтобы помочь ему стать в поэзии самим собой, научиться обретать себя, чувствовать себя в каждой крупице жизненного материала, поступающего на обработку в его руки.
Мастер, обрабатывающий материал, должен как бы оставлять на нём печать своего мастерства. Это нечто подобное отпечаткам пальцев, практикуемым в криминалистике. В обоих случаях отпечатки неповторимо-своеобразны, но в писательской «дактилоскопии» есть дополнительные трудности, заключающиеся в том, что отпечатки пальцев автора не должны быть заметны, не должны входить в рисунок материала и его фактуру. Писатель должен одновременно и присутствовать в материале, и отсутствовать. Он, как человек-невидимка, существует, но незрим.
Итак, мои первые усилия в работе с Чивилихиным направлены были на то, чтобы помочь ему увидеть и почувствовать себя в материале. Это удалось, и с быстротой, которой трудно было ожидать.
Человек вообще способен к поражающе быстрому росту, если попадёт в благоприятствующую ему среду. Очевидно, литературная группа «Смена» была для Чивилихина именно такой благоприятствующей средой, и он рос на глазах.
Заметным рубежом на первых этапах поэтического пути Чивилихина стало стихотворение «Охота на мамонта», написанное полгода спустя. За ним последовали «Огонь» и ещё несколько стихотворений о первобытном человеке. Сам собой составился цикл стихотворений о рождении человека, его ума, умений, знаний и власти над слепыми стихиями. Вместе с рождением человека рождался и поэт — его ум, его знания, уменье и его власть над стихией стиха. Он добивался этой власти упорно, настойчиво, неустанно. И добился.
Передо мной на столе пять книжек Чивилихина. Самое раннее из напечатанных в них стихотворений помечено тридцать пятым годом, самое позднее — пятьдесят третьим. Я знаю почти каждое из этих стихотворений. Многие строки их пронёс через три десятилетия.
Когда после четырёхлетних скитаний по фронтам Великой Отечественной войны я вернулся в Ленинград, одним из первых гостей, переступивших порог моего ещё не устроенного дома, был Толя Чивилихин. Мы обнялись, потом сели за небогато убранный стол, и я сказал:
— Ну, докладывай...
И Чивилихин стал читать «Битву на Волхове», законченную в последние месяцы войны. Потом читал «Голоса на ветру», написанные в сорок четвёртом.
Это был отчёт о проделанном за время разлуки. К концу вечера я попросил почитать старое, относящееся к дням литгруппы «Смена». Он читал. Прочёл и мою любимую «Жизнь», оканчивающуюся строками:
Я проживу сто лет, И постепенно Виски обзаведутся сединой. Вернусь сюда — к деревьям невысоким, К долинам, неизведанным вовек. И все поймут — осины и осоки: К ним умирать явился человек. На озеро взгляну, на старый тополь, Что под зелёной пошей изнемог. И вновь пойму — я наглядеться вдоволь И надышаться досыта не смог.Так всё и было. Он был жаден до жизни и так и не смог, не успел вдоволь наглядеться и досыта надышаться.
Одно время Чивилихин был руководителем Ленинградской писательской организации. Он был скромен, чист, нелукав. Начальственная роль не шла ему. Я говорил ему: оставь это, пиши стихи. Он смущённо молчал. Я не знаю, о чём он думал. Я никогда не знал, о чём он думает, когда молчит. Он любил молчать. Я тоже. Наши встречи не сопровождались излияниями, хотя мы были душевно близки друг другу.
В руководителях Союза писателей Чивилихин удержался, как и следовало ожидать, недолго. Вернулся к стихам. Перо его было умным и уверенным. «Водительства высокое уменье», которое он прокламировал в своих стихах, в них же и осуществлялось.
Как-то ему дали на рецензию мою повесть «Страна Желанная», выходившую в Детгизе. Между прочим он написал в рецензии: «У Бражнина написано «своеобычный». Редакторы обязательно захотят переделать на «своеобразный». Не надо этого делать. Пусть всё будет так, как хочет автор. Он имеет на это право».
Ему было всё вдомёк. И он знал характеры редакторов. В борьбе с ними я опирался на его рецензию.
Он умер так, как это написано было в стихотворении «Жизнь». Только «осины и осоки», кажется, не поняли, что к ним «умирать явился человек». И люди не поняли, хотя это были те люди, которые обязаны были понимать.
Он хотел прожить сто лет. Прожил только половину. Вторую половину (да и больше, я думаю) проживут его стихи. Но это всё равно что он, потому что весь он был в своих стихах.
Совсем не похож на Чивилихина Вадим Шефнер. Придя в первый раз ко мне в «Смену» на консультацию, он принёс стихи про неведомые лазоревые гроты, про тропики и джунгли. Писалось про все эти незнаемые автором вещи с умозрительной приблизительностью.
Первый разговор наш вышел не очень приятным для обоих. Я должен был высказать молодому поэту «тьму низких истин», должен был попытаться убедить его, что принесённые им стихи — это пока ещё не подлинная поэзия, а скорее умозрительно написанные декорации, что это не его подлинный мир и что не в своём мире поэт жить не может и не должен.
Всё это и многое другое нужно было сказать в лицо и с той мерой доброго осуждения, которая не обескрыливает и не отбивает охоты и вкуса к работе, нужно было, так сказать, спустить человека с небес на землю, и так, чтобы он смог сразу встать твёрдо на обе ноги, а потом, пожалуй, почувствовал бы к тебе и благодарность. Это довольно трудно, но всё же возможно. Я имею тому неопровержимое доказательство в виде дарственной надписи на одной из книг Шефнера. Надпись гласит: «С лучшими чувствами, в число которых входит и чувство благодарности».
Благодарность эта, по существу, обращена не только ко мне, но и к товарищам по литературной группе «Смена», ставшей поэтической колыбелью Вадима Шефнера. Они много поработали вместе с ним над ним, пока из стихов Шефнера исчезли умозрительные слоны, обезьяны, лазоревые гроты, лианы и вместо них появились настоящие вещи, настоящие люди, настоящие мысли. Стихия мысли стала как-то незаметно для нас всех основой его стиховой работы. Романтическая муза Шефнера стала мыслящей.
Есть у Шефнера стихотворение «Цветные стёкла». Оно написано примерно тогда же, когда и чивилихинская «Жизнь». Это было этапное для Шефнера стихотворение, одно из тех, в которых негромкий ещё голос молодого поэта стал приобретать звонкую твёрдость. Я думаю, что с этого стихотворения и начался настоящий, сегодняшний Шефнер. Привожу это стихотворение целиком:
Покинул я простор зелёный И травы, росшие внизу, Чтобы с веранды застеклённой Смотреть июльскую грозу. И, в рамы тонкие зажатый, Такой привычный, но иной, На разноцветные квадраты Распался мир передо мной. Там через поле шла корова, И сквозь стекло была она Сперва лилова и багрова, Потом желта и зелена. Но уж клубились вихри пыли, И ливень виден был вдали, И в пёстром небе тучи плыли, Как боевые корабли. И, точно пламенем объята, Сосна, где с лесом слился сад, Вдруг из зелёного квадрата В багровый вдвинулась квадрат. И разбивались о карнизы Потоки крупного дождя, И пылью опускались книзу, Из цвета в цвет переходя. И тучи реяли, как флаги На древках молний, И во мгле Чертили молнии зигзаги И льнули к трепетной земле. Так, по земле тоской объяты, Под ветра судорожный вой Они прошли Сквозь все квадраты — И цвет не изменили свой.Я очень обрадовался, когда впервые познакомился с этим стихотворением. Это было то, чего и я и все сменовцы желали и ждали от Шефнера, да и от других также. Сосны и коровы, тучи и полосы дождя менялись в зависимости от цвета квадрата, которым проходили. Молния не меняла цвета. Она оставалась такой, какой была. Она была сама собой при всех обстоятельствах.
Поэт подобен молнии. Он обязан всегда оставаться самим собой. Он не должен перекрашиваться в зависимости от квадрата, которым проходит. Он несёт с собой немеркнущий свет своей совести, пронизывающий мир, как молния.
И это ещё не вся трудность поэтического бытия поэта. Самое трудное заключается в том, что, оставаясь самим собой, надо постоянно и непрерывно меняться. И тут он подобен молнии. С момента рождения до конца — молния и поэт в стремительном движении.
И ещё одно: о молнии и поэте. Молнии сверкают над нашей планетой непрерывно и во множестве: более восьми с половиной миллионов молний в день. Все они рождаются в небесах, но все без исключения падают из землю.
То же и с поэтами. Самый высокий строй поэтического обязывает в то же время к приземленности. Поэт — сын неба и сын земли одновременно. Он беседует с небесами и помогает землянам в их каждодневных делах.
Поэт подобен молнии во всём, но в одном он резко отличен от неё. Молния быстротечна — жизнь её длится одну тысячную долю секунды. Поэт, напротив, только тогда настоящий поэт, когда жизнь его творений долга. Молния мгновенна; поэзия бессмертна.
Но и тут есть поправка. Поэзия и бессмертна, и молниеносна. Краткость озарения мыслью, образом, краткость выражения — одно из величайших преимуществ поэтического слова перед всяким другим. Логика многословна; поэзия краткоречива. Как длинно толковал я о свойствах молнии, сравнивая их со свойствами поэта, А Шефнеру, для того чтобы сказать те же мысли, понадобилось всего три строки о молниях:
Они прошли Сквозь все квадраты — И цвет не изменили свой.Кратко и выразительно. Завидую поэтам. Люблю их. Шефнера люблю по-особому. Да он и сам особый. И богат по-особому. Не так давно я прочёл в «Литературной газете» его заметки о поэтическом деле и поэтах: «Цепочка мыслей о поэзии». Что же это за мысли? О чем думает автор заметок? Мыслей много, и они стоят того, чтобы знать о них.
Вот Шефнер говорит об успехах, сделанных в последние «лет двенадцать» молодыми поэтами, успехах, изменивших даже соотношение и расстановку поэтических сил, и объясняет это тем, что «поэтам помогло время. Но ведь и они помогли времени», став бродильным началом и подняв «интерес читателей к поэзии вообще».
Тонкое наблюдение над видоизменениями современной поэтической жизни и тонкая выводная мысль.
Не менее интересно замечание, что «поэзия начинается с удивления». Несколько ниже Шефнер снова возвращается к этой полюбившейся ему мысли и предлагает такую параллель: «Горожанин хорошо знает город, но впечатления деревенского парня, прибывшего в город впервые, могут быть полнее и глубже впечатлений коренного горожанина». И тут же добавляет настойчив. «Поэт и должен быть таким удивлённым парнем».
В этом же абзаце и совсем рядом есть соседствующая мысль: «Если большие поэты долго писали хорошо — это не столько от опыта, сколько от душевной молодости».
Любопытны замечания о том, что поэт «тщательно снимает оболочки с сути вещей», что «героя нашего времени легче представить себе по стихам, нежели по прозе», что поэты прошлого «не все были профессионалами, но все жили в поэзии, как в своём доме. Мы же иногда бываем слишком профессиональны».
Хороша мысль о том, что «не смерть приговаривает поэтов к забвению, а жизнь, — её стремительное течение, смена поколений и вкусов. И та же самая жизнь включает в свой поток тех, чьи стихи нужны людям».
Если вы помните, первая фраза первой главы этой книги начиналась так: «Книга — это чудо». Шефнер развивает эту мысль, это утверждение. Он не мог прочесть этой моей фразы раньше, чем написать свою, так как его заметки из записной книжки, которые я цитировал, опубликованы в апреле шестьдесят седьмого года, а моя «Сумка волшебника» вышла в свет только в следующем, шестьдесят восьмом году.
Точно так же и я, выписывая своё «Книга — это чудо», не мог знать мыслей Шефнера о том же, так как начал писать книгу в шестьдесят четвёртом, то есть тремя годами раньше публикации Шефнера.
Не зная о том, что думает другой, мы с ним думали. об одном и том же, и мысли наши о книге-чуде, о поэтах, о поэзии, о судьбах пишущих и мыслящих, о живущих и действующих, о творческих феноменах и каждодневных делах наших шли параллельно. Думали мы с Шефнером врозь, но в то же время и как бы вместе. Ну что ж. Это естественно и радует меня. Может статься, это результат того, что когда-то, четыре с лишним десятилетия тому назад, мы жили слитно в литгруппе «Смена». Если это не совсем так, то отчасти так безусловно. Учение — всегда процесс обоюдосторонний, и ещё неизвестно, кто больше выигрывает при этом — ученик или учитель.
Общение наше с Шефнером, в сущности говоря, не прерывалось во все эти десятилетия, протёкшие с добрых сменовских времён.
Нынче я живу с Шефнером под одной крышей, точней и прозаичней — в одном доме. Правда, он забрался двумя этажами выше, но я не в претензии на него. Я прозаик, а он поэт. Ему надлежит быть ближе к звёздам.
Музы идут на фронт
Десятая муза
Старая поговорка гласит: «При громе оружия музы молчат». Плохая поговорка.
И плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут безмолвствовать, не помышляя о помощи борющемуся народу.
По счастью, не все музы таковы. Мне ведомы и иные. Они сами, без зова, являлись на мобилизационные пункты, получали назначения и потом в солдатских шинелях и кирзовых сапогах спешили на передовую. Их часто видели в окопах и землянках бойцов; они делили хлеб и судьбу, труды и опасности с теми, кто грудью стоял за свою землю.
И так было всегда. Нет никаких сомнений, что первенец русского литературного труда — «Слово о полку Игореве» — не только вдохновенная поэма, но и военный очерк очевидца, созданный свидетелем описываемых событий. У меня нет никаких сомнений в том, что автор «Слова» проделал вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до конца. В противном случае «Слово» не было бы столь достоверным и столь зримым в деталях, увидеть и запомнить которые мог только участник похода. Самая тональность «Слова» не могла бы быть столь пронизанной живейшим участием к бедам и испытаниям, какие выпали на долю Игоревых полков, не могла бы быть такой, если бы сам певец не делил ратных трудов и судеб с дружинниками.
То же было и позже, в годины народных бед, в дни военных гроз. «Певец во стане русских воинов» появился в дни Отечественной войны восемьсот двенадцатого года, в военном лагере под Тарутином, где находился вступивший с началом войны в ополчение В. Жуковский. В разгар войны поэт Денис Давыдов стал во главе партизанского движения и бил врага и днём и ночью, в лесах и в открытом поле, в зимнюю стужу и в осеннюю распутицу.
Этим славным традициям певцов-воинов следовали поэты и прозаики в Отечественной войне тысяча девятьсот сорок первого — сорок пятого годов. Они отдавали кровному делу родной земли своё перо, а часто и самую жизнь. Смертью храбрых пали Аркадий Гайдар, Иосиф Уткин, Семён Гудзенко, мои земляки Лев Канторович, Юрий Инге, Евгений Панфилов, Олег Цехновицер, Алексей Лебедев, многие-многие другие — вечная им память и вечная слава.
Мне выпало на долю в этой войне пройти от Баренцева моря до Чёрного, побывать в семидесяти городах и сотнях селений, пересечь Кольский полуостров и полуостров Рыбачий, пройти с армией Сальские степи и Ростовщину, Донбасс и Приазовье, Прикарпатье и Закарпатье, Крым и Польшу, Чехословакию и Германию.
Я был тощ, как сушёная вобла, подвижен, как головастик, деятелен, как муравей, и ожесточён, как всякий, кто сражается. Я считал, что перо моё, как перо всякого честного писателя в эти тяжкие для моей страны годы, должно быть поставлено на службу войне, и только на службу войне. Службу эту надо нести со всем напряжением, на какое способен и какое в силах выдержать. Писатель — это солдат, боец, политработник. Соответственно этой установке и надо работать. Всякие литературные палисаднички, всякая украшательская цветистость — непозволительны. Надо писать просто, ясно, сильно. Надо писать факт. И надо писать много, работать не покладая рук. Надо делать засуча рукава самую чёрную, каждодневную газетную работу.
Так я думал. Так и работал. Писал всё, чего требовали война, обстоятельства, нужды армейской газеты. Рассказов почти не писал, а если и понуждали к тому, писал неохотно, выцеживая их как бы сквозь стиснутые зубы. Охотней всего мотался по частям, по аэродромам и писал оперативные корреспонденции и тактические очерки.
Но сколько и как бы я ни работал, покоя душе не было, и свою профессию военного корреспондента я по большей части жестоко клял, как стороннюю войне и малоактивную. И началось это с первых же дней войны. Примерно через неделю после приезда своего в Мурманск и вступления в обязанности военного корреспондента в газете Четырнадцатой армии «Часовой Севера» я отправился по заданию редакции в первую свою командировку — на один из ближайших аэродромов. Попал я на аэродром в очень худой для него день. Рано утром аэродром бомбили. А рядом посёлок, в котором жили семьи лётчиков. Несколько бомб ударило в этот посёлок. Среди погибших оказались жёны и дети лётчиков.
Этого несчастья могло и не быть, если бы семьи были своевременно вывезены подальше от аэродрома, от района боевых действий. Но на войну все мы глядели ещё какими-то мирными глазами. Уже свирепо дрались со смертельным врагом, а сознание ещё на военный лад не перестроилось. Воевать тут, как и везде, учились в ходе самой войны, после многих её жертв. Только после бомбёжки отдан был наконец приказ о том, чтобы вывезли всех из посёлка, и он опустел.
Первые жертвы всем были очень тяжелы. На аэродроме и в полку было не до меня. Я бродил по безлюдному посёлку. Потом сел на бревно возле бесформенной груды изломанного дерева и исковерканного железа. Несколько часов тому назад всё это было небольшим светлым домом; теперь это — груда мусора.
Я сидел один, вертя в руках подобранный с земли осколок бомбы, и думал о том, как скверно устроен мир, вдруг обрушивший на всех бесчеловечную, кровавую войну. Занятие для военного корреспондента было не очень подходящим, но что ж тут поделаешь, если так тяжело на душе. Тяжело было и видеть горе, тяжело и сознавать, что ничем не можешь помочь людям в беде их, что профессия твоя им сейчас бесполезна и ненужна. Это ощущение малой нужности было, пожалуй, самый горьким в моей новой профессии военного корреспондента. Быть всегда свидетелем и наблюдателем, а не участником и действователем — это очень тяжело. Это ранило сердце и уязвляло совесть.
Это состояние было не только моим состоянием, и мысли — не только моими мыслями. Многие мои товарищи, и знаемые мной и незнаемые, думали и переживали то же. У Александра Твардовского в его записной книжке, изданной уже после войны, есть такая запись, относящаяся к сорок четвёртому году: «Почему так устала душа и не хочется писать? Надоела война? Верней всего, по той причине, по которой мужик, помогавший другому мужику колоть дрова тем, что хекал за каждым ударом того, первым устал, говорят, и не то отказался, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны: издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются, когда человек воюет».
Очень хорошая запись, верно и чётко выразившая и мои тогдашние мысли и объяснявшая истинную их подоплёку. Ту же мысль в своём «Военном лётчике» выразил Антуан Сент-Экзюпери: «Мне всегда была отвратительна роль свидетеля».
Оба приведённые мной свидетельства достаточно красноречивы и внушают полное доверие. Да. Так думали и чувствовали Твардовский, Сент-Экзюпери, и не только они сами. Они выражали мысли и чувства тысяч тех, которые думали так же, как они.
Так же думал и я. Трудно, очень трудно «хекать», когда другие рубят; трудно, очень трудно быть свидетелем, наблюдателем, когда другие действуют, дерутся с лютым врагом не на жизнь, а на смерть. От этого действительно душа устаёт.
И всё же я с увлечением и с полной отдачей занимался своей корреспондентской работой. Из всех доступных мне писательских занятий в те дни это было всё же наилучшим и самым честным. Дела чисто литературные меня тогда вообще не интересовали ни в малейшей степени.
Я вёл на фронте обширную переписку. Много писем получал (иной раз до тридцати с лишним одновременно) и много писал. Писал и родичам, и старым друзьям, и военкорам, и читателям, откликавшимся на мои очерки и корреспонденции, печатавшиеся в армейских газетах и в «Правде», спецкором которой я был всю войну. Большая переписка завелась у меня с новыми и дорогими мне фронтовыми друзьями, приобретёнными во множестве за четыре года скитаний по частям с потрёпанным и распухшим блокнотом в болтавшемся на боку планшете.
Но писателям я не писал. Единственное письмо, которое я послал писателю в те дни, было письмо Илье Григорьевичу Эренбургу в начале сорок третьего года.
Эренбург выступил тогда на каком-то писательском собрании, а потом и в печати со словом о том, что охранять сейчас литературные палисаднички со всякими красивыми цветиками — занятие чистоплюйское, что нечего печься о том, как бы из-за спешки и злободневности в работе писателя не пострадала, сохрани боже, литература, что защищать литературу надо сейчас на фронте.
Это было боевое, гражданское выступление, как все выступления и очерки Эренбурга в дни войны. Я был целиком на его стороне и против тех, кто пёкся о судьбах литературы, сидя в далёких и тёплых домах, даже незатемнённых, — так далеко были эти дома от гроз и бурь дня. Я, как и Эренбург, не был озабочен судьбами тихих литературных палисадничков и забыл о литературном Олимпе, вершившем где-то в непостижимом мной далеке какие-то непонятно особые писательские, литературные дела.
Я написал Эренбургу о своих мыслях по этому поводу и о своём полном сочувствии его, Эренбурга, мыслям и делам. Я утверждал, что после войны на литературном Олимпе должны произойти решительные перемены.
Я не просил и не ждал ответа, так как знал, насколько загружен был Илья Григорьевич огромной по объёму и великолепной публицистической работой, да и общественной тоже. Но Эренбург отозвался тотчас же, как только до него дошло моё письмо. Он успокаивал меня и, говоря о своём согласии со мной, рекомендовал без особых треволнений ждать времени, когда оно само рассудит нас с «олимпийцами».
Эренбург в те дни выступал в газетах почти ежедневно с острыми, резкими, блистательными фельетонами и очерками, бьющими врага в самые уязвимые места. Насколько чувствительными для врага были эти удары, я убедился, подобрав однажды в поле сброшенную с немецкого самолёта листовку, в которой изобличаемые фельетонами Эренбурга фашисты остервенело рычали на него, заклиная не верить «этому тыловому жиду Оренбургу» и грозя всеми карами, какие только могли придумать.
Да, Эренбург умел выбирать уязвимые места врага и бил в них метко, хлёстко, беспощадно. Сидя в землянке и читая и перечитывая полученное от Эренбурга письмо, я с благодарностью и любовью думал о той высокой работе, которую с таким напряжением и таким блеском делал он всю войну. Сам не зная того, он помогал и моей работе, несколько примиряя меня и с моим ремеслом военного корреспондента.
В конце концов я подумал, что, может быть, ремесло это действительно чего-нибудь да стоит, если так досаждает врагу и помогает другу. Оно, пожалуй, и искусству не чуждо. Правда, это пока не выяснено, и у военных корреспондентов нет ещё своей штатной музы, как у других искусств. На Парнасе наш брат не имеет ни своих представителей, ни ходатаев по нашим всегда срочным делам. Но когда я читал Эренбурга, я склонен был признать, что под его пером рождается настоящее искусство, что и на газетном листе, случается, присутствует муза. Она пока не имела имени, эта нештатная, десятая муза военных корреспондентов, но она, несомненно, сродни Нике, которая в майские дни сорок пятого года взмыла на своих широких крылах в Берлине поверх алого знамени, водружённого над полуразрушенным рейхстагом.
В один из вечеров, близких к тому знаменательному дню, мы с солдатами в землянке выпили по пятьдесят граммов скверного спирта за здоровье Ильи Эренбурга — очеркиста и бойца, а также за безымянную, боевую, идущую с пером наперевес в строю атакующих, десятую музу — музу военных корреспондентов.
Как бы трудно ни складывалась фронтовая жизнь, моя подружка муза всегда была со мной.
Её ничто не могло остановить, ничто не могло напугать, ничто не могло принудить бросить работу или хотя бы ослабить её напряжённость. Она была работягой. И она была верна мне. На какие бы чёртовы кулички ни заносила меня переменчивая судьба военного корреспондента и жадная до животрепещущих новостей журналистская душа, куда бы я ни мчался, куда бы ни лез, она была со мной.
Разлетался ли в щепки винт самолёта, на котором я летел, как это было в Приазовье, трясся ли я целую ночь на сорокаградусном морозе в открытом грузовичке, как это было под Кандалакшей, шатался ли я, заблудившись, восемнадцать часов кряду на «ничьей» полосе между своими и немцами, как это случилось в горах Кольского полуострова, стоял ли я в тесном окопчике светлой от прожекторов и светящихся авиабомб штурмовой ночью, как это было под Севастополем, — она была рядом, всегда рядом.
Она не оставляла меня ни на мгновение, и у нас с ней никогда не было ни минутки свободного времени. А когда, отвоевавшись, она вернулась вместе со мной в мой горько полуопустевший за войну дом, она села со мной за пустынный и печальный стол, и мы немедля начали кропотливую мирную работу.
Работа эта продолжается и по сей день и не прекратится до тех пор, пока милушку мою музу не сменит скверная старуха с косой. Но мы не боимся л её. Нам просто некогда обращать на неё внимание. Мы работаем.
Не бойтесь старухи
Монтень в своих «Опытах» говорит: «Кто учит людей умирать, тот учит их жить».
Тонкое замечание, исполненное ума и глубины. Но оно, пожалуй, излишне остро приправлено. Четыре столетия спустя ту же мысль с большей полнотой и большим изяществом высказал в книге «Земля людей» соотечественник Монтеня, превосходный писатель и превосходный лётчик Антуан Сент-Экзюпери.
«То, что придаёт смысл жизни, придаёт смысл и смерти», — утверждает он с полной убеждённостью, так как во время смелых своих полётов сам нередко бывал на грани жизни и смерти. Так же думал и Николай Некрасов, писавший в стихотворении «Памяти Добролюбова»:
Учил ты жить для славы, для свободы, Но более учил ты умирать.И Монтень, и Сент-Экзюпери, и Некрасов правы. На фронте, где жизнь и смерть соседствуют тесней, чем где бы то ни было, я не раз имел случай убедиться в этом. Вот один из таких случаев.
В июле сорок первого года я приехал как военный корреспондент на один из аэродромов на Крайнем Севере. Мне нужен был молодой лётчик Алексей Небольсин.
Я нашёл его в дежурном звене. Он сидел в тесной кабине маленького истребителя «И-16», готовый в любое мгновенье взлететь по боевой тревоге. Разговор, естественно, пошёл о лётных делах полка, эскадрильи и о тех двадцати трёх боевых вылетах, которые уже довелось сделать в первые дни войны самому Небольсину. Я спросил Небольсина, что он считает самым важным в бою для командира, для лётчика. Небольсин долго молчал. Потом, обшаривая внимательными глазами небо, сказал, словно думая вслух:
— Видите ли, самое важное, по-моему, это знать своё место в бою.
Я захотел уточнить его слова. По-видимому, он имеет в виду тактику? Он говорит, значит, о самой выгодной позиции, которую лётчик должен выбрать в бою?
Небольсин впервые за всё время разговора глянул мне прямо в глаза. Взгляд его был пристален, серьёзен.
— Я говорю о самой нужной позиции. Самая нужная — не всегда самая выгодная. Понимаете, самое важное — это знать, что делать и для чего делать. Этим и определяется твоё место в бою.
Нам не удалось окончить разговор. Стоявший в нескольких шагах от нас полевой телефон вдруг настойчиво зазуммерил. Телефонист снял трубку. Небольсин, оборвав себя на полуслове, посмотрел мимо меня так, как будто меня вовсе не существовало. Он смотрел на телефониста. Тот кинул трубку, выпрямился и побежал к баллону со сжатым воздухом, что-то быстро сказав на бегу Небольсину.
Это была боевая тревога. Я отбежал к краю дорожки. Качнулся винт. Взревел мотор. Из-под колёс машины взвился песчаный вихрь. Маленький истребитель ушёл в воздух.
Больше я никогда не увидел ни этого самолёта, ни управлявшего им пилота. Небольсин из этого полёта не вернулся. Самолёт его во время боя был подбит и загорелся в воздухе. Резкими эволюциями самолёта Небольсин попытался сбить пламя. Это не удалось. Теперь оставалось только одно: выброситься из горящей машины и дёрнуть кольцо парашюта.
Но звено Небольсина, преследуя противника, пересекло линию фронта и находилось над вражеской территорией. Воспользоваться парашютом — значило попасть в плен к врагу. Это Небольсин считал для себя невозможным. И он выбрал другое. Внизу, под ним, проходила по шоссе автоколонна с боеприпасами и горючим. Небольсин ввёл свой горящий самолёт в пике и живым факелом обрушился на вражескую колонну.
И он, и Гастелло, и многие другие советские лётчики, последовавшие их примеру, учили своей смертью, как надо сражаться и жить, как выбирать своё место в бою — не самое выгодное, но самое нужное.
Да, Монтень, Сент-Экзюпери, Некрасов правы: можно учить и смертью.
Всё, что когда-либо случается в жизни писателя, оставляет свой след, всё впрок, в науку. Встреча с. Небольсиным вышла недолгой, всего двадцать минут. Но то, что я узнал в эти минуты, наполнило многие дни моей жизни и сквозь трудную толщу их прошло в моё сегодня. Мне видится прямой ход от тех дней и тех мыслей к сегодняшнему дню. Я думаю о месте в бою и о позиции художника, которую он для себя выбирает.
Художник — всегда боец. Он всегда на чём-то настаивает, что-то отстаивает, за что-то борется. Это борьба за то, что он считает важным и решающим в жизни. И это определяет его позицию, независимо от того, велик он или мал, опытен или только начинает свой трудный и неведомый путь в искусстве. Величина дарования и опыта не отменяет, даже не изменяет ни прав, ни обязанностей художника, ни законов художественного труда. Они едины и обязательны для всех, даже для тех, кто ничего о них не знает.
Мёртвый горизонт
Летом сорок третьего года по заданию редакции армейской газеты мне довелось отправиться в Шестой гвардейский полк лёгких ночных бомбардировщиков. Ехал я с удовольствием, так как гостил в полку не раз, любил в нём бывать, хорошо знал его лётчиков. Полк стоял в степном лесхозе, и, чтобы поглядеть на июньскую придонскую степь, я не полетел, а поехал в полк на полуторке. И я нагляделся на степь вдоволь, признаться, даже чуть больше.
О моих впечатлениях от этой поездки степью я пять лет спустя передоверил рассказать герою моей пьесы «Крылья» — конструктору самолётов Алексею Степановичу Шатрову. Вот начало его рассказа:
« — Постойте, когда же это было... Ну да, в июне сорок третьего года, за Доном. Я тогда ездил посмотреть, как мою конструкцию в боевой обстановке эксплуатируют. И вот, знаете, еду я, еду степью. Уже вечереет. Солнце уже садиться стало. А кругом степь неоглядная, и ни конца ей, ни краю. Я, знаете, человек лесной, и от степей у меня глаза устают, да и душа тоже. И очень я поэтому обрадовался, когда уже совсем к вечеру зачернелись передо мной вдалеке деревья какие-то, поросль, этакий зелёный остров среди бурой степной пустыни. Назывался этот оазис в пустыне Донской лесхоз, и в нём как раз и стоял полк, в который я ехал. Через час я уже был на месте, а через день знал всю историю лесхоза».
Всё, рассказанное моим героем, в полной мере соответствует тому, что я сам пережил, за исключением разве последней фразы, касающейся истории Донского лесхоза. Историю эту я узнал не через день, а через пять дней. Первые дни я употребил целиком на знакомство с боевыми делами полка и общение с его людьми, не интересуясь до поры до времени историей лесхоза.
Среди лётчиков, с которыми я прожил пять дней, были превосходные ночные бомбардиры. Я мог бы очень много интересного рассказать почти о каждом из них. Но сейчас передо мной иные задачи, и в первую очередь я бы хотел продолжить рассказ, начатый героем пьесы «Крылья» и посвящённый Донскому лесхозу, в котором стоял полк.
Лесхоз занимал полторы тысячи гектаров и расположен был довольно живописно в степных балочках. Росли в нём клён, ясень, вяз, дуб и даже несколько сосен, песок для которых возили издалека. В лесхозе водилась всякая живность. Особенно много здесь было птиц, среди которых кроме пеночки, славки, коршуна, ястреба-пустельги и ночных сычей водились и соловьи. Правда, они здесь не очень искусны, но всё же это первые певцы. Но главной примечательностью здешних мест было, пожалуй, озерцо, расположенное в самом центре лесхоза.
Озерцо это невелико, но вода в нём очень чистая, так как со дна его бьют родниковые ключи. На середине озеро довольно глубоко, и в нём водились солидные карпы весом до трёх и даже до четырёх килограммов. Однако рыбаков на нём не видно было. Не те времена были, чтобы предаваться таким идиллическим занятиям, как ловля рыбы. Да и место вовсе неподходящее — стоянка полка, вблизи аэродром. Постоянные бомбёжки.
И всё же одного рыбака я приметил. Это был маленький старичок в старой соломенной шляпе, из-под которой виднелась седая, кругло подстриженная бородка и седые же усы.
Белый, сутуловатый и спокойный старичок подолгу высиживал на невысоком берегу озерца, возле торчащего у колен удилища, и невозмутимо следил за плававшим на прозрачной воде поплавком.
Этот штатский старичок, спокойно сидящий у тихих вод со своей удочкой, соломенной шляпой и белой аккуратной бородкой, был поистине странным и удивительным зрелищем среди шумного и беспокойного военного лагеря, каким был в те дни Донской лесхоз.
Я решил обязательно познакомиться с безмятежным и бесстрашным рыболовом. Осуществить это удалось не сразу, так как я целые дни вместе с лётчиками пропадал на аэродроме, и до белоголового старичка очередь дошла только накануне моего отлёта из полка.
В этот день, встав на заре, я снова увидел рыболова на его обычном месте и подошёл. Мы разговорились, и я был приглашён зайти вечером к нему домой. Домик его стоял в ста шагах от берега, в густой зелени. Вечером, в назначенный час, я постучался у его дверей и был принят с предупредительным радушием.
Хозяин домика, кандидат наук Дмитрий Владимирович Померанцев, оказался человеком приветливым и разговорчивым. Несмотря на свои семьдесят четыре года, он был подвижен и оживлён. Мы сидели в его маленьком домике, который занимал Дмитрий Владимирович со своей сестрой. Старушка тотчас принялась хлопотать по хозяйству, поставила самовар и угостила меня почти настоящим чаем из чистого стакана с почти настоящим пирожным наполеон собственного изготовления. Я наслаждался почти чаем с почти пирожным наполеон и того больше рассказами Дмитрия Владимировича. Рассказывал же он главным образом о жуках, гусеницах и прочем таком, так как был энтомологом.
Свои рассказы Дмитрий Владимирович иллюстрировал Показом экспонатов из огромной коллекции жуков, собранной им за полстолетия своей работы с ними. Жуки, собственно говоря, были главными обитателями домика у озера. Высушенные, аккуратно наколотые, снабжённые соответствующими надписями, они покоились в бесчисленных коробочках, заполнявших несколько шкафов.
Так как, кроме сестры, никто больше с Дмитрием Владимировичем не жил, а сестра, по-видимому, уже давно выслушала всё, что мог старый энтомолог рассказать о дорогих его сердцу жуках, то Дмитрий Владимирович изголодался по аудитории, и я должен был выслушать обстоятельный доклад о жуках и просмотреть множество коробочек с редкими и нередкими представителями этого, к моему сожалению, очень многочисленного отряда насекомых, характеризующегося, по словам Померанцева, «превращением первой среднегрудной пары крыльев в жёсткие подкрылья, или элитры». После того я узнал, что у жуков «переднегрудь свободная, образующая вместе с головой передний отдел тела, подвижно сочленённый с задним отделом», что «брюшко состоит из девяти сегментов» и кучу других сведений, которые, по мнению моего приветливого и обстоятельного хозяина, я должен был непременно себе уяснить.
Я не совсем убеждён был в этом, но держался стойко до тех пор, пока не узнал, что отряд жуков насчитывает сто сорок семейств, объединяющих до трёхсот тысяч видов. К этому седенький энтомолог прибавил, что в его коллекции имеются представители всех ста сорока семейств и множества видов, и предложил, если я пожелаю, убедиться в этом собственными глазами.
Я не хотел убеждаться в этом и осторожно высказал опасения, что если посвящу своё время осмотру всей его коллекции, то война окончится без моего участия. Посему я поспешил перевести разговор на интересующую меня тему — откуда и как появился в пустынной степи этот зелёный оазис и каким образом очутились здесь, в Придонье, дуб, клён и даже сосна?
Дмитрий Владимирович с явным сожалением отставил в сторону коробочки с жуками и стал объяснять, что все эти породы деревьев, какие я вижу в Донском лесхозе, называвшемся ранее Донским лесничеством, — не местные породы. Все это искусственные, опытные насаждения пород, чужеродных этим краям. Несмотря на это, все они, кроме, впрочем, вяза, отлично прижились здесь.
— Кроме вяза? — удивился я. — Но почему же кроме вяза? Что с ним такое произошло — с этим вязом?
— О-о, это довольно любопытная история, — заметно оживился притихший было хозяин мой. — Дело в том, что вяз, как и все прочие породы, посаженные вместе с ним, отлично развивался первые десять лет после посадки, но на одиннадцатый начинал сохнуть и погибал. Мы повторяли опыты, высаживали серии новых экземпляров, но история повторялась. Десять лет рос вяз нормально, а на одиннадцатый начинал сохнуть. Мы долго ломали над этой тайной головы и в конце концов разгадали-таки её. Всё дело, оказывается, было в количестве влаги, которое получал саженец из почвы. Степь-то суха. Влаги в ней мало. Снег весной стаёт, и вешние воды напитают влагой только верхний слой почвы. За десять первых лет, пока корни вяза распространяются в этом верхнем слое, всё идёт хорошо. Но дальше вглубь лежит сухой, лишённый влаги слой почвы, так называемый мёртвый горизонт. И тут уж всё решает сила корней. У дуба, например, корни мощны, и он, пройдя, пронизав ими насквозь мёртвый горизонт, входит в следующий за ним слой, питаемый родниковыми водами. А у вяза корни слабоваты — они хорошо развиты в горизонтали, но недостаточно по глубине. Для преодоления мёртвого горизонта им недостаёт силы, и вяз сохнет.
Такова эта поучительная история, узнанная мной в домике, упрятанном в молодом лесу. Я ушёл из него поздно вечером, оставив хозяину всех его жуков и унеся с собой мёртвый горизонт.
— Мёртвый горизонт вы мне дарите, Дмитрий Владимирович, — сказал я на прощанье, пожимая сухонькую, лёгкую руку хозяина. — Хорошо?
— Сделайте одолжение, берите, — отозвался Померанцев, провожая меня на крыльцо. — Счастливого вам пути, и счастливо прийти домой.
— Спасибо, — сказал я в ответ. — Постараюсь, хотя и не ручаюсь.
Мы расстались. Старый учёный вернулся к своим жукам, я — к своим лётчикам. Впрочем, я ещё довольно Долго бродил под звёздами на берегу озера и всё думал о мёртвом горизонте. Он ведь не только для вязов гибелен. Бывает то же и с людьми. Идёт человек в рост. Потом вдруг останавливается, застынет, не в силах будучи преодолеть свой мёртвый горизонт.
Видел я и лётчиков, застрявших на этом проклятом губительном горизонте. Иной раз были превосходные воздушные бойцы, которые прекрасно дрались, свалили два, иногда три десятка, а то и больше вражеских самолётов. Их по заслугам отличали, награждали самыми высокими наградами; о них говорили и писали; их выделяли из всех и возносили; их выдвигали на командные должности. И вот вчерашний лейтенант очень скоро уже майор и командир полка; а там уже и в командиры дивизии прочат его.
И начинает новый командир командовать, и мной раз очень скоро выясняется, что командир хороший из него не выходит.
Не хватает кругозора, знаний, умений, такта. Он достиг предела в своём развитии и дальше не идёт. А тут ещё иной раз и ржавчина зазнайства и высокомерия начинает разъедать отличённого.
Я встречал таких среди знатных лётчиков, которым слава вскружила голову. Позже, в октябре, я заговорил об этом с начальником политотдела истребительной дивизии полковником Мачневым. Недавно по дивизии было объявлено два строгих приказа и один по армии, в которых говорилось о недопустимости зазнайства, о случаях нечёткости в несении боевой службы.
Я сказал Мачневу, что собираюсь написать рассказ «Мёртвый горизонт», который, может статься, помог бы соскоблить ржавчину с некоторых лётных душ, помог бы им преодолеть свой мёртвый горизонт.
Дмитрий Константинович весьма одобрил моё намерение и сказал, что это очень нужно сейчас, что я бы сделал хорошее, полезное для армии дело.
— Нам, политотдельцам, в частности, вы очень помогли бы таким рассказом в нашей работе, — добавил в конце разговора Мачнев.
Разговор в политотделе вышел большой и интересный. Он ещё больше утвердил меня в мыслях о мёртвом горизонте, о необходимости писать об этом. И я сел за рассказ. Я так и назвал его: «Мёртвый горизонт». Я писал его горячо, увлечённо, гневно, с большим запалом, заранее предвкушая, как, читая этот рассказ, морщатся тронутые духовной ржавчиной лихие зазнайки. Спустя пятнадцать минут после окончания работы над рассказом я уже был у редактора нашей газеты, чтобы порадовать его горячей новинкой и, разумеется, тотчас отправить рассказ в типографию.
Вышло всё несколько не так, как мне думалось. Правда, «Мёртвый горизонт» был напечатан, но в сроках я немножко ошибся. В типографию рассказ попал не через пятнадцать минут, а через пятнадцать лет, то есть в пятьдесят восьмом году, когда Воениздат напечатал его в моём сборнике «Совсем недавнее».
Что ж поделаешь. Автор, вооружённый даже отличной, активной темой, не всегда выходит победителем в подобного рода борьбе. Печально, но факт. Впрочем, отличная и активная тема моя от меня не ушла. Мысль о мёртвом горизонте, подстерегающем нас на путях наших, не осталась втуне. Вернувшись с войны, я в сорок шестом году написал пьесу «Крылья», которая и была поставлена в Ленинграде Академическим театром драмы имени Пушкина. В пьесе этой речь идёт уже не столько о лётчиках, сколько об учёных.
Та же тема опасности мёртвого горизонта есть и в повести. «Главный конструктор», напечатанной в сорок девятом году. Сейчас мне кажется, что этими тремя вещами я всё ещё не исчерпал сложной и вечной темы вечного движения человека вперёд и помех, случающиеся на путях его, как внешних, так и таящихся в самом человеке. По-видимому, я ещё вернусь к этой теме, ибо ещё не перестал хлопотать о том, чтобы мёртвый горизонт для каждого из нас был зачёркнут раз и навсегда.
Ещё несколько слов о мёртвом горизонте, а кстати, о живом движении писательского материала. В марте шестьдесят пятого года, то есть двадцать два года спустя после разговора в Донском лесхозе, случай свёл меня под Ленинградом с профессором-ботаником Арсением Ивановичем Стратоновичем. Как-то, сидя рядом с ним за обеденным столом, я рассказал ему о Донском лесхозе, о встрече своей с Померанцевым, о мёртвом горизонте. Арсений Иванович очень оживился и тотчас накидал кучу хвороста в костерок моего незатухающего интереса к теме мёртвого горизонта. Он бывал в Донском лесхозе, где издавна ведутся интересные экспериментальные работы. Вообще степные эти места весьма примечательны. В середине прошлого века здесь работал известнейший русский лесовод, энтузиаст идеи облесения южнорусских степей Виктор Егорович Графф, а после него, в конце века, крупнейший геоботаник и лесовод Григорий Николаевич Высоцкий, а также другие превосходные учёные — почвоведы, ботаники, биологи, лесоводы.
Они много лет экспериментировали в южнорусских степях, высаживали самые разнообразные породы деревьев и кустов. И выяснилось, действительно, что ильмовые — ильм, вяз и другие — не выживали долго, а, скажем, клён, ясень и дуб росли отлично. К слову сказать, насчёт корневой системы дуба — всё верно. У дуба корни могучие и проникают до одиннадцати метров в глубину. В конце концов, в результате многочисленных опытных работ, пришли к заключению, что для тех степных мест лучше всего высаживать дуб и при нём подлесок из кустарников, которые не давали бы разрастаться сорнякам и сохраняли бы в почве влагу.
Что касается мёртвого горизонта, то Померанцев не обманул меня. Дмитрий Владимирович — крупный учёный, и, хотя по специальности энтомолог, но всё сказанное им относительно мёртвого горизонта верно...
Разговор наш с Арсением Ивановичем затянулся, и мы порядочно засиделись за обеденным столом. А потом, оставшись одни, я ещё долго обмозговывал слышанное и дивился странности и сложности путей, какими приходит к писателю его материал, и тому, как материал этот десятилетиями уплотняется наслоением всё новых и новых деталей. Слой, положенный на мои накопления Арсением Ивановичем, может статься, не последний, и мои счёты с мёртвым горизонтом ещё не окончены. Так мне, по крайней мере, думается.
Так заканчивалась новая редакция «Мёртвого горизонта». Но и она оказалась не последней. Думалось мне о продолжении темы не напрасно. Спустя месяца полтора после разговора со Стратоновичем я встретился в, дачном поезде Комарове — Ленинград с профессором Даниилом Львовичем Соколовским. Зная, что Соколовскнй является крупным гидрологом, я заговорил с ним о водных феноменах степи, о Донском лесхозе, о мёртвом горизонте. Я дознавался, отчего образуется этот самый мёртвый горизонт.
Даниил Львович был обо всех подобных делах весьма осведомлён и сказал, что, по его мнению, мёртвый горизонт оттого лишён воды, что она уходит сквозь образующиеся в почве трещины глубже и таким образом пласт мёртвого горизонта обезвоживается.
Так лёг последний пласт на мой материал о мёртвом горизонте. Так открылась мне последняя (для меня) тайна мёртвого горизонта. Что касается темы в более широком плане, то она ещё для меня существует. Тут ещё для всякого рода открытий и находок большой простор.
Севастопольские рассказы
Рассказов этих всего три. Первый из них называется «Красный мак». Привожу его полностью:
«К ночи город был окончательно очищен от немцев. Несколько часов он стоял примолкший, точно боец, отдыхающий после трудного и долгого боя. Только на рассвете он ожил, зазвенел, загрохотал. Улицы заполнились повозками, походными кухнями, автомашинами. Поток их был буен и непрерывен. Меж повозками проталкивались запылённые бойцы.
И повозки, и машины, и одежда людей были окрашены в один цвет — цвет войны, цвет хаки. За три года войны мой глаз привык к нему, и я жадно искал глазами новые оттенки, новые краски. И я нашёл их. За полуразрушенной низкой оградой из желтоватого туфа я увидел яркое цветение красного мака. Это был маленький огород. Он лежал среди развалин — этот крошечный цветущий островок, как символ неукротимой жизни, стоящей над смертью и разрушениями войны.
Около грядки мака стояла женщина. Она была немолода. Утомлённое лицо её носило следы жестоких испытаний. Но сегодня это измученное лицо улыбалось. Сегодня был её праздник. Ютясь в развалинах, среди грохота орудийной канонады, она ждала своего часа, часа избавления. И она дождалась. Он пришёл. Вот идут мимо неё весёлыми толпами русские люди — её сыны, её братья. И она стоит у грядки маков и смотрит на них ненасытными сияющими глазами. Она разделала эту грядку в редкие часы затишья, и сегодня её красное поле украшает общий праздник.
Я постоял возле этих маков, возле этой женщины, Хотел зайти во двор, заговорить. Но бурный поток движения увлёк меня дальше. Я кружил вместе с ним по городу многие часы. И вдруг внимание моё привлёк знакомый цвет. Это опять были красные маки. На этот раз они были собраны в один яркий пучок, и они двигались. Они были воткнуты рдеющим букетом в радиатор грузовой автомашины. Машина шла медленно, пробивая себе путь широкой железной грудью, и над ней, как пламя, рдели алые маки. Потом я встретил самокатчика с таким же алым букетиком у руля. Потом я увидел один цветок в руках. Его держал коренастый запылённый боец.
Я остановился. Немолчно гудящий поток вынес меня к тому месту, где я был несколько часов тому назад. Вот и низкая полуразрушенная ограда из желтоватого туфа, вот и маленький огород, вот и грядка... Но красных маков на ней уже нет. Из земли торчат бледно-зелёные низкие стебли, но цветов нет. Последний из них — в руках женщины, стоящей у ограды.
Она держит его у груди, как ребёнка. И лицо её улыбается всё той же улыбкой. И она всё так же смотрит на происходящее ненасытными, сияющими глазами. Навстречу ей идёт боец в пёстром маскировочном костюме. На широкой блузе его переливаются зелёные, чёрные, коричневые пятна. Лицо его буро от загара, серо от пыли. Он перехватывает улыбку стоящей у ворот женщины и улыбается ей в ответ. Тогда женщина протягивает ему свой последний цветок.
Он останавливается, берёт цветок из её рук, что-то говорит ей и, сунув стебель за пазуху, идёт дальше. Головка цветка алеет на его груди, ярко выделяясь среди бурых и чёрных пятен маскировочной блузы. Это яркое пятно плывёт среди зелёного потока войны. Зелёный цвет — цвет войны, алый — цвет крови и победных знамён. На севастопольских улицах рдели алые маки».
Второй рассказ называется «Ведро воды». Он совсем коротенький, и я приведу его, как и первый, полностью — без сокращений и поправок. Вот он:
«Девочка-подросток лет двенадцати несёт ведро воды. Её тоненькое, исхудавшее тельце клонится в сторону от тяжести. Острое плечико приподнято. Она озабоченно пробирается меж повозок и машин, спеша домой. Дома нужна вода.
Проходящий боец останавливает девочку. Его усталое лицо серо от пыли. Сухие губы запеклись и потрескались.
— Дочка, дай напиться, — говорит он хрипловато и вытирает руками со лба обильный пот.
— Пожалуйста, — с готовностью откликается девочка и ставит ведро на землю.
Боец отстёгивает от пояса флягу, наполняет её из ведра и подносит к губам. Он пьёт с жадностью. Струйка воды стекает по подбородку, и светлые капли скатываются на сухую мостовую, застывая на ней тёмными пятнышками.
Мимо движется непрерывный поток людей. Все они так же запылены и усталы, как этот пьющий боец, всех их томит жажда. Вокруг стоящего на земле ведра образуется кружок жаждущих. Город в развалинах, воды почти нет, и никто не знает, где её достать. Через несколько минут ведро пустеет.
Девочка так и не донесла его до дому. Но она нимало об этом не жалеет. Она улыбается бойцам, ласково окликающим её то Марусей, то дочкой, и когда ведро пустеет, она подхватывает его и снова бежит за водой. Идти надо довольно далеко, за три квартала, и второе ведро она также не доносит до дому. Третье ведро с водой она донесла почти до самых ворот своих, ко тут опять кто-то попросил напиться, и ведро снова быстро опустело. Я встретил её, когда она несла пятнадцатое ведро. И когда проходящий боец попросил у неё напиться, она снова поставила ведро на землю.
— Пейте, пожалуйста. Всё одно не донести до дому, — сказала она и звонко засмеялась.
Боец тоже засмеялся, хотя и не совсем понял слова девочки. Он смеялся просто потому, что ему было сегодня весело, что сегодня он вошёл в Севастополь победителем, что девочка с ведром напомнила ему его дочь, что вода была прохладно-приятной. Он смеялся и когда пил, и вода бежала меж его пальцев смеющейся светлой струйкой.
Я смотрел на него, я смотрел, как пустеет ведро, уже окружённое жаждущими. Я смотрел на двенадцатилетнюю девочку, глядящую на пожилых бойцов сострадающими глазами матери и весёлыми глазами любопытствующего ребёнка. Кто-то ласково растрепал её светлые волосы. Она засмеялась, подхватила пустое ведро и побежала за водой в шестнадцатый раз. Но я думаю, что и в этот шестнадцатый раз она не донесла воду до Дому».
Таковы эти два рассказа. Они написаны на другой день после возвращения из Севастополя, то есть одиннадцатого мая сорок четвёртого года. Напечатал я их, только вернувшись с войны домой, в одном из номеров журнала «Ленинград» сорок шестого года.
Главу эту я начал словами: «Рассказов этих всего три». А где же третий рассказ? Почему не привёл я и его? Может быть, его вообще не существовало?
Нет, он существовал и назывался «Голова Тотлебена». Написал я его в те же дни, что и два приведённых мной рассказа, но во время одного из бесчисленных переездов потерял его вместе с полевой сумкой, в которой он лежал.
Напечатать его я не успел и привести ни целиком, ни в выдержках не могу.
Но мне хочется рассказать, что привело к написанию его, какой жизненный материал лёг в его основу. Что касается первых двух рассказов, то материал их ясно видится, как очевидный и наблюдённый автором.
А как же с головой Тотлебена? Что она? Видел ли я её?
Нет, я не видел и не мог её видеть в тот день, так как гитлеровцы оторвали её. Они осквернили и испакостили в городе всё, что было в нём дорого севастопольцам, в том числе исковеркали и памятники героям знаменитой севастопольской обороны прошлого века.
На памятнике Тотлебену — одному из руководителей обороны Севастополя и создателю всех его инженерно-оборонительных сооружений — недоставало головы: её отбили фашистские бандиты. Обезглавили они и несколько фигур матросов на цоколе памятника.
Когда я в середине дня поднялся на холм, увенчанный памятником Тотлебену, на площадке вокруг памятника было человек десять — двенадцать. Все они были, как и я, людьми пришлыми, и только один оказался коренным севастопольцем. Это был пожилой моряк — коренастый, меднолицый, в бескозырке без ленточек.
Он медленно передвигался по краю площадки и, протягивая вперёд трость, на которую до того опирался, говорил:
— Вот Графская пристань, а там Минная. Тут и Минная башня, очень старинная. А там вон Северная сторона, и на ней виден хорошо собор старый на Братском кладбище...
Моряк указывал то туда, то сюда, давая живые описания мест, на которые указывал, подробно перечисляя примечательности их, называя число колонн, даже количество ступеней лестницы, ведущей на Графской пристани к причалу. Описания были ярки и зримы, хотя человек, делавший их, не видел того, о чём говорил. Он был слеп...
Я не спрашивал у матроса, как и когда он ослеп и повинны ли в том гитлеровцы. Вопрос этот как-то невозможно было выговорить. Матрос так подробно описывал окружающий пейзаж, как будто он видел его, как будто глаза его были зорки и примечали малейшие детали улиц, бухт, зданий и пристаней, о которых шла речь.
Но в то же время мнимая зоркость этих глаз изобличала их действительную слепоту. Пейзажа, который видел и описывал этот человек, не существовало. Не было ни Графской пристани, ни старинной Минной башни, ни собора на Братском кладбище. Всё это было разрушено, сожжено, взорвано коричневыми варварами.
А слепой матрос, с такой цепкой, живой, поражающе ясной пространственно-живописной памятью, постукивал палочкой по краю площадки, которую медленно обходил, и время от времени поднимал руку или палочку в сторону Дома офицеров, или Телефонной пристани, или другой, не существующей уже достопримечательности, милой сердцу старого севастопольца, и говорил, говорил, говорил, упоённый радостью встречи с родными местами, освобождёнными от проклятых насильников.
Потом матрос повернулся в сторону памятника и стал подробно описывать его, а когда дошёл до головы, то сказал о ней:
— Голова у него гордая. И взгляд далеко видит, всё охватывает. Это сразу заметно. Вы поглядите только...
Все, кто ни был на площадке, поглядели туда, куда указывал слепой матрос и где не было головы, о которой он говорил. Все молчали — молчали хмуро, ненавистно, сжав зубы. Они не могли сказать старому севастопольцу, что всего, что видится ему памятью некогда зрячих и зорких глаз, теперь уже нет, что нет и головы у Тотлебена, головы, которая виделась ему гордой и зорко глядящей вперёд, в дали морские, в дорогой сердцу город...
И тогда вдруг молодой боец, чуть заметно прихрамывая, подошёл к матросу и, осторожно тронув его за рукав, сказал негромко и хрипло:
— Послушай, папаша. Ты тут нам про голову Тотлебена... Так её же нету.
Матрос вздрогнул и круто повернулся к бойцу:
— Ты что говоришь? Что говоришь? Как так — нету?
— А так нету, что фрицы сорвали с памятника голову напрочь, кинули в море, бандюги, а может, в другое место...
Все, кто ни был на площадке, сгрудились вокруг старого матроса и молодого бойца. И все, как видно, осуждали бойца, который сказал старому о голове. Зачем это? Зачем напрасно причинять боль человеку, тревожить, ранить его сердце, разрушать дорогой ему заповедник памяти, лишать старого слепого человека последней его радости... Все явно не одобряли поступка молодого бойца...
Я одобрял его. Больше того, а сущности говоря, это был мой собственный поступок, потому что... Ну, словом, всё действительно было так, как я рассказал здесь, — и памятник Тотлебену, которого гитлеровцы в своей звериной злобе против нас обезглавили, и старый слепой моряк, рассказывающий о несуществующих достопримечательностях Севастополя, и люди, которые слушали его молча, боясь неосторожным словом разрушить мир дорогих ему памяток несуществующего прошлого. Повторяю, всё это было. Не было только молодого бойца. Его я придумал.
Зачем я это сделал? Прежде всего затем, что в рассказе «Голова Тотлебена» я без этого молодого бойца обойтись не мог. Без него рассказ не мог состояться. Без него мог быть написан очерк о том, как я вошёл в Севастополь, как, бродя по городу, видел то-то и то-то, как судьба бродяги-журналиста привела меня к обезглавленному памятнику Тотлебену и как слепой матрос говорил мне и другим окружавшим его людям о гордой голове Тотлебена. В этом очерке была бы тема варварства гитлеровцев, но не было бы темы ненависти к ним и темы необходимости ненависти для борьбы с мерзким фашизмом, темы воспитания этой необходимой ненависти.
Всё это пришло только с появлением молодого бойца, который делает слепые глаза матроса зрячими, но не псевдозрячими, видящими то, что запомнили из прошлого, из счастливой поры родного города, а зрячими по отношению к действительности, видящими подлинное, сущее.
Молодой боец вывел старого моряка из мира приятных иллюзий и сделал его свидетелем действительных злодеяний и мерзостей фашизма. Он покончил с благодушной слепотой неведения старого севастопольца, чтобы зажечь в душе его священное пламя ненависти к античеловеческому фашизму. Этим он превращал слепого моряка из обманутого созерцателя несуществующего благополучия в борца против действительного неблагополучия, беды, горя народа, в борца с лютым врагом его, с осквернителями и разрушителями родного края.
Вот та работа, которую призван был проделать в душе старого севастопольца молодой боец, говорящий слепому о голове Тотлебена:
— Так её же нету...
Вот для чего мне понадобился молодой боец. Вот почему, случайно не встретясь с ним, я вымыслил его.
И только с его появлением очерк превратился в рассказ. С приходом его материал обогатился, стал весомей и значительней. А этого мне и надо было.
Книги и люди
Княжна Джаваха и другие
Книги — неизменные спутники всех путей человеческих, нелицеприятные свидетели дел и дней. Это вехи на бескрайной, опоясавшей мир дороге, открытой всем ветрам, всем бурям. На их тонких, покрытых иероглифами души листах — все твои неспетые песни, нерассказанные сказки, несбывшиеся помыслы и неразрешённые сомнения, все были и небыли, всё, чего ты желал в этой жизни, и всё, чего бежал, все твои тайны и радости, пороки и доблести, все сладостные откровения и вся горечь потерь, всё, что ты нажил за целую жизнь, и всё, чего не сумел и не успел нажить, что не случилось ещё ни с одним из живущих и не приснилось ни одному из спящих, что ещё не узнано, не названо, не почувствовано и даже не заподозрено.
И всё это — твоё. Распахни страницы, раскрой эти колдовские окна в мир. И бери из него всё, что тебе по душе.
Никто не принесёт тебе дара богаче.
Никто не одарит щедрей.
Я рано пристрастился к книгам. Книги были всегда для меня как хлеб, с той разницей, что хлеба я мог проглотить весьма ограниченное количество, а голод мой на книги был безграничен и неутолим. Я читал запоем, читал дни и ночи, что придётся и где придётся. «Тома Сойера» я, помнится, дочитывал, спрятавшись от всех под кровать, «Мартина Идена» — в проливной дождь на сеновале, а «Ингеборг» Келлермана — на банном полкé, в крохотном городишке Шенкурске, куда я приплыл по Ваге на колёсном пароходике всего на несколько дней. Я почти не расставался с книгой и даже самый людный в Ленинграде перекрёсток на углу Невского и Садовой, случалось, переходил, ткнувшись носом в книгу. Приходя в гости, я тотчас же пристраивался к этажерке или книжному шкафу и копался в их недрах до тех пор, пока не находил интересной для себя книги, от которой потом весь вечер меня уже трудно было оттащить.
От сказок, которых я перечитал несметное количество, я перешёл к книгам для подростков и юношей. Я перечитал, кажется, всё, что только возможно, и думаю, что в чтении юношеской литературы у меня нет серьёзных пробелов.
Но если пропусков у меня было мало, то лишнего я начитался в избытке. Не было, например, никакой нужды читать все сорок восемь томов сочинений Александра Дюма. Но я прочитал их все, так как именно Дюма давали в качестве приложения к журналу «Природа и люди», который выписывал один из моих приятелей.
Приятели мои и приятели моих приятелей были одним из источников добывания книг для чтения. Но главным источником были, конечно, библиотеки. Я был постоянным и ревностным читателем трёх архангельских библиотек — школьной, городской и Общества трезвости. Читал я с чрезвычайной быстротой и постоянно изводил библиотекарей приставанием дать что-нибудь новенькое.
Всё в чтении моем было наугад, на ощупь, без плана и разбора. Элементы системы если и входили иной раз в мой читательский обиход, то совершенно случайно. Такой набежавшей на меня системой была выпускаемая издательством Вольфа «Золотая библиотека».
Это были красивые подарочные книжки, напечатанные на плотной веленевой бумаге с золотым обрезом. В этой серии я прочитал много хороших книг. Первой из них была «Маленький лорд Фаучтлерой». За этим маленьким аристократом последовал демократический «Том Сойер», а за ним и приятель его «Геккельбери Финн». Дальше шли «Принц и нищий», «Хижина дяди Тома», «Гулливер в стране лилипутов», «Робинзон Крузо», «Овод», «Всадник без головы», «Зверобой», «Маленькие женщины», «Маленькие мужчины», «Айвенго», «Дон-Кихот», «Серебряные коньки», «Макс и Мориц», «Маленький оборвыш» и, конечно, «Княжна Джаваха».
О последней книжке придётся сказать особо. Она пользовалась небывалым успехом, а сочинившая её третьеразрядная актриса Александрийского театра Лидия Чарская была кумиром гимназисток и институток. Ею зачитывались до умопомрачения. Исступлённые юные читательницы засыпали её полуобморочными письмами, в которых заласкивали, зацеловывали, зализывали её, возводя в ранг великих писателей. По читаемости в библиотеках она была первой среди юношеских писателей. Ни Вальтер Скотт, ни Фенимор Купер, ни Жюль Берн не могли с ней конкурировать.
Книги Чарской были нафаршированы самыми дешёвыми эффектами и самыми пошлыми положениями. Девочки-героини то и дело падали в обморок, рыдали, целовали благодетельницам руки, устраивали истерики, клялись, ели мел и обожали, обожали, обожали. Эта атмосфера исступлённого обожания и истерической экзальтации, которая так взвинчивала юных поклонниц Чарской, была мне глубоко чужда и противна. Из множества романов и повестей плодовитой Чарской я прочитал «Княжну Джаваху» и «Большого Джона». Этого с меня было вполне достаточно. Я отложил Чарскую в сторону и больше никогда к ней не возвращался.
У моих приятелей отношение к Чарской было примерно такое же, как и у меня. Чарская для нас была «девчоночной» писательницей, а мы увлекались совсем иного рода литературой. В десятые годы газетные киоски завалены были тоненькими книжечками, в которых суконным языком рассказывались разные сногсшибательные детективные истории. Каждая книжечка имела ровно тридцать две странички и стоила пять копеек. На обложке её яркими красками аляповато и безвкусно нарисован был какой-нибудь сыщик с квадратным подбородком и с непременным револьвером в руке. Он отчаянно боролся с настигнутым им преступником, вооружённым огромным кинжалом. Борьба велась на краю пропасти, на мосту или в подземелье, причём лица борющихся освещались или пожаром, или потайным фонариком.
Первым из подобного рода героев был Нат Пинкертон. Он создавался анонимными авторами книжонок по образу и подобию конан-дойлевского Шерлока Холмса, но походил на него не больше, чем горилла на человека, Шерлок Холмс был не только сыщиком, но и человеком разносторонних интересов. Нат Пинкертон был человекоподобной собакой-ищейкой, состоящей на службе у полиции и умеющей только выслеживать и драться. Шерлок Холмс был явлением литературным. Нат Пинкертон никакого отношения к литературе не имел. В этих жалких книжонках, делавшихся руками голодных студентов для рабовладельцев-издателей, не было ничего, кроме преступлений и погонь, — ни людей, ни характеров, ни языка, ни мыслей.
Но двенадцати или тринадцатилетние мальчишки, составлявшие основную массу читателей этих книжонок, не входили в стилистические тонкости и, случалось, разыгрывали сцены из очередного выпуска Ната Пинкертона в полном соответствии с подлинником. Особенно горяч был на этот счёт мой закадычный дворовый друг — магазинный мальчик на побегушках Никанорка Чапыгин. Схватив меня за горло, он кровожадно вопил, цитируя из «Злого духа Фловерголлы» или из «Убийства на Бруклинском мосту»:
— Негодяй! Ты окончишь жизнь на электрическом стуле!
При этом он выхватывал из-за пазухи деревянный револьвер, и начиналась борьба не на жизнь, а на смерть. Трещали рубахи, летели пуговицы, гневно сверкали глаза. А через пять минут мы — то есть знаменитый сыщик Нат Пинкертон и его помощник Боб Руланд — дружно «шли по следу». Низко пригибаясь к земле, мы ощупывали руками отпечатки подошв какого-то прохожего и многозначительно переглядывались.
Каждую субботу мы с нетерпением ожидали выхода нового выпуска Ната Пинкертона. Пяти копеек на его покупку у нас обычно не оказывалось, но копейку, которую требовал газетчик за прочтение выпуска, мы почти всегда находили.
Нат Пинкертон недолго оставался в одиночестве. Смекнув, какие выгоды сулит увлечение публики детективами, оборотистые издатели час от часу умножали героев пёстрых субботних выпусков. Появился «знаменитый сыщик Ник Картер», за ним ещё пяток сыщиков рангом пониже, потом даже сыщик в юбке Этель Кинг. Потом, повернув на сто восемьдесят градусов, героем сделали не сыщика, а преступника, и вот на аляповатых, пёстрых обложках появился одетый во фрак элегантный «вор-джентльмен» лорд Листер.
Но и вор скоро надоел так же, как и сыщики. Тогда принялись за исторических бандитов и даже палачей. Рядом с Пинкертоном и лордом Листером в газетных киосках появились выпуски с описанием сомнительных подвигов знаменитого французского разбойника Картуша и немецкого — Лейхтвейса. Вскоре к ним присоединился «Палач города Берлина» л многие другие, им же несть числа.
Эта эпидемия типографской «чёрной оспы» длилась года два и потушена была первой мировой войной, начавшейся в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года. Как во время всякой эпидемии, были жертвы. Я не значился в их числе. Я болел сравнительно легко. Меня спасли хорошие книги, которые были всегда, даже в самые чёрные времена.
Впрочем, и плохие книги не вовсе бесполезны. Древние римляне говорили: «Нет такой худой книги, которая бы к чему-нибудь не годилась».
Высочайше ценил книги Пушкин, за несколько минут до смерти обратившийся к книжным полкам со словами: «Прощайте, друзья». Он считал, что «изобретение книгопечатания — своего рода артиллерия». Ту же мысль о силе воздействия книги на человека выразил Джон Рид, сказавший однажды, что «артиллерийский снаряд, раскат грома и океанский прибой не обладают мощью книги».
Он же, после своей знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир», работая над новой книгой о России и будучи до чрезвычайности увлечён её материалом, восклицал: «Это необыкновенно, это удивительно! Достанет ли у меня ума, чтобы всё это осмыслить? Хватит ли сердца, чтобы прочувствовать? Найду ли я слова, чтобы это выразить? Я должен об этом писать, я буду об этом писать! И если я окажусь в каторжной тюрьме и в руках у меня не будет ничего, кроме железного гвоздя, этим гвоздём я нацарапаю свою книгу о России на стенах тюремной камеры!»
Какая сила чувств, какой эмоциональный заряд, какая железная воля к свершению! Поистине это мощней и артиллерийского снаряда, и раскатов грома, и океанского прибоя.
Белые лилии
Недавно, знакомясь с монографией, посвящённой Клоду Моне, я особо задержался на трёх его картинах: «Белые кувшинки», «Бассейн в Живерни» и «Нимфеи». Одну из этих картин («Нимфеи») я видел в Московском музее изобразительных искусств; две другие — в репродукциях.
Названия картин различны, но тема у всех одна и та же. На каждой из них почти всё полотно занимают плавающие на воде крупные белые цветы и овальные плоские листья. Цветы эти зовут и кувшинками, и водяными лилиями, и нимфеями, и ненюфарами, и, наконец, белыми лилиями. Я издавна звал их белыми лилиями; так буду звать и нынче.
Картины Моне, о которых я говорил, написаны в разное время. Первую от третьей отделяют два десятилетия. В этот временной промежуток укладывается ещё одиннадцать картин, изображающих всё те же белые лилии. Две из них находятся в частных собраниях. Для двенадцати других в Париже построен особый павильон. Почему так много картин на одну и ту же тему? Почему на протяжении большей части жизни художника так упорны возвраты к ней? Я думаю, это объясняется сложностью художнической жизни автора.
Всякий художник живёт одновременно и в обыденном, и в фантастическом, им самим созданном, мирах. Жизнь его обязательно обычна, ибо он земной человек и обязан быть земным человеком, — это питает подлинными соками его искусство. Но в такой же степени жизнь художника и необычна. И она должна быть необычной и питаться необычным, потому что искусство начинается с волшебства, с нарушения нормы жизненного, обычного, с привнесения в жизненный факт, в жизненную картину своего особого взгляда, своего особого необычного ракурса при изображении сущего.
Необычно-обычная жизнь художника сложна и многопланова. Художник открывает для себя какую-то область приложения художнических усилий и некоторое время пребывает в этой рабочей области, в этих определившихся пристрастиях, в этой теме.
Потом наступает (иногда очень постепенно и неприметно, иногда резко и отчётливо) черёд других пристрастий, время других тем.
А потом, случается, художник вдруг возвращается к прежней теме. Она не была, оказывается, исчерпана, она ещё живёт в нём, она ещё требует его новых усилий. И художник снова пишет то же, что писал раньше, но теперь вглядываясь в это прежнее пытливей, вживаясь в него глубже и открывая в нём новое и доселе не увиденное.
Потом тема эта снова может быть оставлена художником, а за этим может последовать новый возврат к ней.
Так художник кисти, резца, слова постоянно живёт в кругу своих излюбленных образов, тем, красок, героев, которые идут с ним о бок через всю жизнь. По этим спутникам жизни художника, по этим пристрастиям его, по звукам, словам, краскам, свойственным ему одному и никому другому в мире, мы узнаём художника среди других художников, узнаём всегда и всюду. Шопена невозможно спутать с Моцартом, а Рубенса с Ван-Дейком.
Но вернёмся к белым лилиям, к которым я с самых юных лет питал особое пристрастие. Их первозданно чистые, звездчатые чашечки на тихих, неподвижных водах болотцев, затонов, озёрец казались сказочно-колдовскими.
С этими водяными колдуньями многое связано в памяти моей. Кое-что и написано о них. Прежде другого написался рассказ «Белая лилия». Это было в сорок шестом году. Журнал «Костёр» объявил в начале года конкурсе на рассказ для детей. Мне предложили участвовать в этом конкурсе.
Я недавно вернулся с войны. Война — дело скверное и грязное. Очень устала душа от неё. И когда предложили мне писать рассказ для детей, так захотелось написать что-нибудь светлое.
Но сердце, ум и память были ещё заполнены только что закончившейся войной, и пока ни о чём другом невозможно мне было думать. Стал ворошить недавнее прошлое, разыскивая в нём нужное к случаю, и остановился вот на чём.
Поздней осенью сорок третьего года прямо с госпитальной койки попал я на короткое время в военный санаторий под Свердловском. Санаторий помещался в Верх-Нейвинском, на берегу Большого пруда. Этот огромный пруд, в одиннадцать километров длиной и три шириной, был частью давно заброшенной системы прудов, плотин, водосбросов, вертевшей старинные водяные колёса на уральских заводах в те далёкие времена, когда о паровых машинах ещё и слуху не было.
Теперь всё было иначе. Большой верх-нейвинский пруд никакого практического значения не имел и в прибрежье зарос осокой, камышом и белыми лилиями. Белые лилии эти увидел я на пруду при обстоятельствах, не вовсе обыкновенных.
Первые дни пребывания в санатории я был ещё слабоват и почти не выходил. Потом, окрепнув, я стал отваживаться на небольшие прогулки. Однажды спустился я к Большому пруду. Он уже несколько дней как замёрз, и замёрз, видно, в безветрие и штиль. Лёд был ровен и прозрачен, как стекло. Соблазнившись его блестящей ровностью, я спустился на пруд и пошёл потихоньку вдоль берега. И тут-то и приключилось со мной чудо, которого я вовек не забуду.
Скупое низкое солнышко вдруг проглянуло сквозь туманное марево и ударило в лёд серебром. Я остановился, поглядел себе под ноги и вдруг увидел, что у меня под ногами лежит неведомое и таинственное подводное царство.
В первое мгновение я испугался: тонкий и прозрачный ледок у меня под ногами почти не виделся, и я прямо висел над тёмной водяной бездной, от которой меня ничто не отделяло. Но потом я забыл о страхе, — то, что я увидел внизу, было так прекрасно, что у меня захолонуло сердце от живой и трепетной радости. Подо льдом был целый мир — застывший, призрачный, чудесный. Откуда-то из глубины тянулись к поверхности мохнатые водоросли, целый лес водорослей. Крупные листья кувшинок лежали подо мной точно не подо льдом, а под прозрачным стеклом. И возле одного из них, в холодной, зеленовато-чёрной вязи стеблей, я вдруг увидел... белую лилию.
С минуту я стоял оторопев, не зная, верить или не верить своим глазам, потом осторожно лёг на лёд, загородился от солнца ладонями и, приблизив лицо ко льду, жадно вглядывался в зелёно-чёрный полумрак, в котором мерцали белые лепестки лилии.
Долго лежал я так на льду, не в силах оторваться от представшего передо мной так внезапно сказочно-прекрасного мира, от милой моей лилии. Долго ходил, точно опьянев от того, что пережил. Потом написал жене длинное письмо, в котором всё рассказал. А спустя три года, уже в Ленинграде, всё это написал в конкурсном рассказе, так и назвав его — «Белая лилия».
Меня самого, как действователя, в рассказе не было. Повествование велось другим, вымышленным лицом. Ему я и передал свои виденья, свои переживания, чувствования, мысли, свои открытия мира Прекрасного.
Но я незримо присутствовал в рассказе, и это, очевидно, чувствовалось, и довольно явственно. Хотя конкурс «Костра» проходил в закрытом порядке и рассказы не подписывались, а их авторы стали известны только после присуждения премий по девизам, приложенным к рассказам в отдельных запечатанных конвертах, тем не менее я был узнан — одним из членов жюри во всяком случае.
Этим членом жюри была Елена Катерли — автор отличного романа «Некрасов» и других хороших книг. Когда конкурс был окончен и премии присуждены, она сказала мне как-то:
— А знаешь, мне сразу показалось, что автор «Белой лилии» — именно ты. — Потом прибавила не без лукавства: — Ну признайся — эту белую лилию подо льдом ты не видел. Этого не могло быть. Ты сам её придумал?
Я сказал, что на этот раз я не придумал, хотя придумывать я люблю, что написал то, чему в самом деле был свидетелем.
Она не поверила, и я очень этим огорчился. Я всё ещё никак не мог привыкнуть к тому, что так часто вымысел в наших книгах принимается за истинную правду, а правда за вымысел.
Чтобы убедить самого себя в том, что не забыл пережитого, не перепутал, я помчался домой и попросил у жены раскопать мои письма военных лет, и нашёл среди них то самое письмо из Верх-Нейвинского, в котором подробно описаны все мои приключения на Большом пруду. Всё было так, как я написал в рассказе.
Много лет спустя, и совсем нежданно, я обрёл достойного всяческого доверия свидетеля, подтвердившего, что белые лилии подо льдом мне не привиделись. Свидетель этот — художник Константин Панков. Он ненец и в Ленинградский институт народов Севера приехал с далёкой и холодной своей родины. Вспоминая о ней, он пишет: «В моем краю зима и пето соседи. Ещё горы стоят летние, земля красная — она покрыта ягодами, и только листья на деревьях кое-где пожелтели. Но вдруг пришёл мороз — и реки застыли. Среди лета лежат зимние реки. Снега нет, лёд прозрачен, можно увидеть уснувших рыб».
Как видите, не я один мог любоваться зимой подводным царством. Я видел его не во сне, а в яви.
Но видеть, хотя виденное было прекрасно, мне всё же было мало. Мне ещё хотелось, и очень, узнать, как белая лилия могла уйти под воду, в то время как замерзал пруд, как оказалась подо льдом в целости и сохранности. Целых два десятилетия прошли, прежде чем всё это для меня объяснилось. Но об этом несколько позже, а теперь возвратимся к конкурсу «Костра» на рассказ для детей.
Совершенно неожиданно для меня «Белая лилия» была отличена на конкурсе, и мы вместе с Виталием Бианки разделили первую премию. Кстати, тут мы и познакомились. Я был весьма рад этому знакомству, так как всегда ценил и любил этого чудесного писателя. Радость знакомства была тем большей, что Виталий Валентинович оказался и человеком интереснейшим и своеобычным. Узнав о том, что я премирован вместе с ним, он позвонил мне по телефону, поздравил с отличием и попросил рукопись «Белой лилии», чтобы прочитать рассказ раньше его напечатания. У него был редкий дар общения и жаркое любопытство к работающим рядом. Он не знал скверны писательской ревности, столь широко распространённой в нашем цехе.
В ответ на телефонный звонок Виталия Валентиновича я помчался к нему с рукописью. После того были ещё звонки, и Виталий Валентинович читал вновь выправленную и переписанную «Белую лилию».
Рассказ этот давался мне трудно. Премию я давно проел, а рассказа всё не мог довести до состояния, которое меня бы полностью удовлетворяло. Мучился, бросал на год, на два, потом снова вдруг телефонный звонок или личная встреча, во время которой Бианки спрашивал:
— Как с «Белой лилией»? Бросили? Нельзя. Не имеете права. Рассказ должен получиться. Давайте снова почитаем.
И мы снова читали. И снова я хмуро и неудачно работал, бросал, потом снова переписывал. Как жаль, что мне не довелось подарить Виталию Валентиновичу книгу, в которой наконец была напечатана «Белая лилия». Он умер от жестокой и мучительной болезни в пятьдесят девятом году, а рассказ был напечатан только в шестьдесят третьем в книжке «Сто шагов в сказку». Семнадцать лет отделяет опубликование рассказа от его премирования на конкурсе. Несколько странновато, не правда ли? Но я привык к подобного рода странностям, как, вероятно, и многие другие писатели с не очень гладкой писательской судьбой.
Бианки был красив и добр. Но доброта его не была всеядной и безразборчивой. Он умел быть и резким и непримиримым, когда требовал хорошей работы, справедливого отношения к людям, честности в науке.
Он много писал о птицах. И мне всегда казалось, что. в нём самом жила душа маленькой весёлой птицы с большим и редкостно красивым голосом. Понимал Бианки в природе и знал о ней, кажется, всё. И любил людей. Они постоянно роились вокруг него. Немалому числу из них он помог найти себя — и человечески, и писательски.
Я помню, как он, собрав вокруг себя небольшую группу писателей, читал рассказы нигде ещё не печатавшегося и впервые слышанного нами автора. Рассказы были очень хороши по тонкости наблюдений над природой и своеобразной сказочности, открываемой автором в обыденном.
Нынче Николай Сладков — автор свыше тридцати чудесных книжек о природе — широко известен и любим многими. Но тогда никто из слушавших первые рассказы Сладкова не знал автора — молодого военного топографа, бродившего где-то в горах Кавказа. Знал его один Виталий Валентинович, который и держал в своих руках его писательскую судьбу. Руки были надёжные, умелые, дружеские, и они помогли рождению на свет интересного и своеобычного писателя. Так помогал он и многим другим.
Помогали нам и его книжки. Я думаю, книжки Виталия Бианки есть в каждом доме. На могиле его лежат цветы всей России. Пусть же и моя «Белая лилия» будет цветком памяти о добром друге и превосходном писателе.
Ещё один рассказ о белых лилиях
На этот раз дело происходило в Архангельске — городе моего детства и моей юности. Однажды в осеннее сумрачное предвечерье я сел в лодку и, пересекши полутора километровую Северную Двину, причалил к пустынному Кегострову.
Оставив лодку в прибрежных кустах, я прошагал под начавшимся нудным дождиком пять километров по плоской унылой равнине в глубь острова и наконец добрался до цели своего путешествия — небольшого болотистого озерца, заросшего по зыбким берегам ивняком, мелким осинником, папоротником и осокой.
Для чего мне понадобилось на ночь глядя забираться в такую глушь? Это была совершеннейшая тайна, о которой никто не должен был знать. Чтобы никого не посвящать в свою тайну, я предпринял свою поездку к кегостровским озёрам в полном одиночестве, соблюдая строжайшую конспирацию.
И вот я на месте. Дождь перестал. Вода лежащего передо мной озерца неподвижна, плоска, темна. От неё несло сыростью, ржавчиной, тиной. Серым осенним вечером всё это выглядело довольно мрачно, но это меня ничуть не смущало. Мне было восемнадцать лет, и мрачных мест на земле для меня не существовало. Пусть озерцо выглядит не слишком весело, зато на воде то тут, то там белели матовые чашечки белых лилий. Ради них-то я и добирался сюда с таким трудом. Но если добраться до лилий было нелегко, то рвать их ещё трудней. С берега до них не дотянуться, а лодка — за пять километров от меня. Оставалось одно — лезть в воду.
И я лезу в чёрную холодную воду, хотя это страшновато. Я лезу не раздеваясь — в брюках и прочем. Раздеться нельзя, — осенняя вода резко холодна, в ней плавают отвратительные пиявки, дно вязко и закидано острыми, скользкими сучьями.
Целый час брожу я по тёмному болотистому озеру, охотясь за белыми лилиями. Вязкое дно затягивает, как болотная трясина. Стоишь по грудь в воде, а ноги ушли в тинистую грязь почти по колено. Лилии коварно приманчивы — чем дальше от берега, тем они крупнее и белоснежней. Еле выдирая ноги из липкого дна, с натугой шагаешь к ним, тянешься, всё глубже уходя в чёрную, до озноба холодную воду и всё ниже оседая в неверное дно. Ко всему ещё эти проклятые скользкие сучья на дне. Поскользнись, свались на бок — забьёшься в этой вязкой путанице и, пожалуй, пропадёшь. Помощи-то ждать неоткуда — на пять километров вокруг ни живой души. Даже никто из родных не знает, где я.
В конце концов всё обошлось благополучно. Я вылезаю на топкий берег, и в руках у меня по крайней мере полсотни лилий с длинными, тянущимися по земле стеблями.
Немедля пускаюсь в обратный путь, и спустя полтора часа я снова в городе. Оставляя грязные мокрые следы на хлипких деревянных мостках, заменяющих тротуары, я бреду через весь город. К ночи он обезлюдел, притих. В окнах мелькают и переливаются огоньки. Сколько их — этих живых трепетных огоньков? Сколько окон, за каждым из которых своя жизнь, своя тайна?
Впрочем, сейчас эти тайны не очень влекли меня, ибо, по совести говоря, из тысяч городских окон меня интересовало всего одно, то, к которому и несли меня усталые ноги со всей скоростью, на которую были ещё способны после утомительного похода к кегостровским озёрам. Перед этим окном невысокого первого этажа, выходящим во двор, я вскоре и остановился — промокший до нитки, облепленный грязью, прозябший, но с охапкой нежных белых лилий.
Всё, что я рассказал сейчас, случилось со мной на самом деле. Именно так добыты были мной эти трудные лилии. Тут нет никакой придумки, никакой беллетристики. Но позже эта самая беллетристика всё же появилась, потому что... ну, просто потому, что я же беллетрист. Всё, что случается с писателем, все его жизненные радости, все его горести, все его находки и все потери, все крупные поворотные события его жизни и все мелкие повседневности — рано или поздно, целиком или частично оказываются под его пером.
Так случилось в конце концов и с моим походом за белыми лилиями к кегостровсклм озёрам. Всё, что со мной случилось тогда, стало эпизодом в жизни вымышленного героя написанного мной рассказа «Ненужные цветы и нежное их ученье». Написан был рассказ не сразу по следам событий, лёгших в его основу, а только сорок пять лет спустя. Вот как долго приходится иной раз отлёживаться в копилке писателя событиям его жизни, прежде чем тень их ляжет на чистый лист бумаги.
Почему так долго жизненному факту приходится иной раз ждать своей очереди для того, чтобы стать фактом литературным? Я думаю, прежде всего потому, что жизненный факт, для того чтобы стать литературным, должен наслоиться на какую-то изначальную авторскую мысль, идею, горячую убеждённость его в чём-то, что важно и дорого ему, и не только ему одному, но что должно стать важно и дорого другим, что обязательно надо поведать миру.
Эта потребность выражения своих мыслей и убежденностей должна не только возникнуть в авторе, чтобы он обратился для подкрепления её к определённому жизненному материалу, но созреть в нём, созреть вполне. Романы и поэмы, повести и драмы вызревают в писателе подобно хлебам в поле. У хлебов есть несколько стадий спелости: молочная, когда зерно ещё зелено, но уже содержит в себе белый налив, восковая спелость, когда зерно начинает желтеть, и, наконец, полная спелость, когда жёлтое, полновесное, налитое зерно созрело совершенно.
Материал в писателе тоже созревает постепенно, проходя различные стадии готовности к воплощению. В течение долгого времени, иногда всю жизнь, идёт незримый внутренний отбор материала к вызревающим в писателе мыслям, идеям, намерениям, планам. Позже наступает стадия сознательного отбора материала из жизненной копилки писателя для конкретного, уже точно намеченного произведения. И наконец, когда намерения начинают воплощаться, тогда извлечённый из копилки памяти и опыта жизненный факт становится литературным.
Как вызревали во мне мои белые лилии? Лучшая почва для всяческого произрастания — любовь. Я всегда любил их. Попадая на какое-нибудь озерцо, пруд, затон, где растут белые лилии, я не мог противостоять желанию завладеть этими милыми белоснежными красавицами и поселить их в моём доме.
Но, увы, они приносили не только радости, но и огорчения. Их почти невозможно было хранить в цветении. Они свёртывались, желтели, сохли и погибали в руках человека. И мне всегда казалось, что в этом умирании их повинны и руки, рвущие и держащие их, — руки неловкие, неумелые и жестокие. Чистая нежность лилий молила о добрых руках, взывала всем своим видом к доброте и внимательности. А если этого не было — они умирали. Они не терпели, не могли переносить недоброты...
Я не заметил, как с течением времени физические категории переросли у меня в нравственные, и я создал в себе легенду о чистых и нежных цветах, умирающих не только от грубости рук, их держащих, но и от чёрствости сердца, от его лукавости, от лжей и неправд человеческих.
Герой моего рассказа принёс свои лилии девушке, у которой на подоконнике, брошенные в небрежении, они и погибли. И он соединяет их гибель в горьких мыслях своих с поведением этой девушки, обманывающей его, лукавящей с ним, лгущей ему. Он убеждён, что «их убили эти маленькие лжи и лукавинки, которых с каждым днём становилось всё больше и которые сами становились всё крупней. Их убили. Они были так нежны. Их нежнейшая белизна учила чистоте... Я тогда послушался этого ученья, и никогда не жалел об этом. Если о чём и приходилось жалеть мне позже, так разве о том, что, увы, не всегда я слушался этого их белого и нежного ученья».
Третий рассказ о белых лилиях
В рассказе «Ненужные цветы и нежное их ученье» белые лилии умерли. Но во мне они ещё живут. Я по-прежнему привержен им, и мне ещё хочется писать о них. По крайней мере, ещё один рассказ о белых лилиях я бы очень хотел написать. Он уже зреет во мне, но пока ещё, кажется, не достиг даже молочной спелости, хотя жизненный случай, который мог бы лечь в основу его, уже несколько лет тому назад опущен в писательскую копилку.
Произошло это в Комарове, в Доме творчества писателей, в марте шестьдесят четвёртого года. В те солнечные и белые дни одновременно со мной жил в Доме и поэт Михаил Дудин.
Впервые встретился я с ним в конце сорок пятого года, вернувшись после четырёхлетних фронтовых скитаний в Ленинград. Но слово его дошло до меня раньше, ещё в дни войны.
Те из писателей, кому в трудные дни выпали на долю фронтовые скитания, поневоле были отъединены друг от друга, раскиданы по городам и весям, по лесам и полям, по блиндажам и землянкам — каждый на своём месте, на своём посту. Тем отрадней было, когда случалось, хотя бы из необозримой дали, услышать голос друга, даже если этот друг был пока незнаем тобой. Именно так случилось мне впервые через тысячи километров узнать молодого и нового для меня поэта. Эта произошло в сорок четвёртом. Мы стояли тогда в небольшом и неуютном силезском городе Глейвице. Не помню уж, каким счастливым случаем в руках у меня оказалась «Ленинградская правда» трёхнедельной давности. В ней-то я и прочёл памятные мне строки:
Так выходи, живое слово, На караул солдатом встань И подними, как штык, сурово Свою отточенную грань.Под этими строками стояла подпись — Михаил Дудин. Прочитанные мной первые же строки его запомнились навсегда, и для того, чтобы сейчас процитировать их, мне не было нужды заглядывать в стихотворные сборники Михаила Дудина. Сборников этих, кстати сказать, немало на моих книжных полках. Последние четыре — дарственные. В свою очередь и я с удовольствием дарю поэту свои книги.
В дни, когда мы жили вместе с ним в Комарове, я подарил ему только что вышедший сборничек рассказов о природе «Сто шагов в сказку».
Он прочёл книжку и несколько дней спустя, сидя рядом со мной в вестибюле Дома творчества, заговорил о ней, вспомнив при этом о случае, тоже связанном а его жизни с белыми лилиями.
Было это на рыбалке, поздним летним вечером. Небольшое озерцо, на котором рыбачил в лодке Дудин, под берегами словно застлано было овальными листьями белых лилий. Странным казалось, однако, то обстоятельство, что, несмотря на изобилие листьев, на поверхности не видно было ни одного цветка. Подумалось: отчего бы это? Но обмыслить увиденное до конца не удалось. К ночи начался клёв, и заниматься белыми лилиями было тут недосуг.
Но летом ночи у нас коротки, и скоро показалось снова солнце. Оно нежно озолотило воду и всё пригрело вокруг. Теперь можно было уже и оглядеться повнимательней. Оторвавшись от успокоившегося поплавка, рыболов поднял голову и диву дался. Совсем недавно не виделось ни одного цветка на воде, а теперь вдруг сотни белых чашечек появились вокруг. Сперва как-то непонятно было — откуда они вдруг взялись? Но когда то тут то там начали выныривать из-под плававших на воде листьев всё новые и новые цветы, стало понятным, что на ночь лилии прятались под воду, но как только проглянуло солнышко, все они потянулись на поверхность.
— Вот тебе, пиши, собрат, третий рассказ о белых лилиях, — закончил Михаил Александрович.
Что ж. Спасибо за подсказ. Может, и в самом деле напишу. Но даже если и не напишу, то история эта не пропадёт даром и рассказана мне не напрасно. Она мне открыла глаза на тайну моей белой лилии, которую я увидел подо льдом верх-нейвинского Большого пруда двадцатью годами раньше. Я вспомнил слова Елены Катерли, сказанные ею после прочтения рассказа «Белая лилия»: «Ну признайся — эту белую лилию подо льдом ты не видел. Этого же не могло быть. Ты сам её придумал».
Нет, я её не придумал. Это так и было, как мной рассказано. Я видел это собственными глазами. Но объяснить, как оказалась чашечка белой лилии подо льдом, я не мог — ни сомневающейся в действительности случившегося Катерли, ни себе самому.
Теперь, после услышанного от Дудина рассказа о случившемся с ним на одном из озёр Карельского перешейка, я могу объяснить себе, что случилось со мной на Большом пруду Верх-Непвинского. Днём, как известно, воздух теплей, чем вода, и цветы белых лилий раскрываются навстречу солнцу, плавая на поверхности. Но ночью вода теплее воздуха, и белые лилии, полусвернувшись, уходят под воду, чтобы утром, с первыми лучами солнца, снова вынырнуть на поверхность. Таков жизненный обиход белых лилий, и он, по-видимому, одинаков как на Урале, так и под Ленинградом. Белые лилии под водой, а значит, и подо льдом, — явление самое естественное. Никакого чуда на Большом пруде под Верх-Нейвинским не было. Просто была холодная осенняя ночь, и белые лилии поспешили укрыться под воду. А ночью ударил морозец, и Большой пруд затянулся прозрачной ледяной коркой. К утру мороз усилился. Корка льда нарастала всё толще и толще, и лилиям до весны так и не суждено было снова пробиться на поверхность. Так и остались они подо льдом, где я их и увидел.
Таков механизм этого волшебства, этого чуда, явленного мне однажды счастливым случаем. Было это более тридцати лет тому назад. Как же медленно, чёрт возьми, и какими странными путями приходят к нам узнавания. Как виденное, испытанное, почувствованное нами однажды обогащается потом, обрастает новыми пластами узнаваний, пониманий, чувствований. И как хорошо, что постоянно обогащаются первоначальные наши чувствования и переживания, что сумка волшебника, которую каждый из нас носит целую жизнь за плечами, непрерывно полнится и тяжелеет.
Когда я заговорил как-то об этом публично, меня после выступления спросил один из слушателей:
— А вам не кажется, что раскрытие механизма чуда убивает само чудо? Вам не жаль расставаться с чудом, хотя и иллюзорным, и получать в качестве оплаты за драгоценную потерю мелкую разменную монету рационального и обыденного? И не кажется ли вам, что вы при таком обмене оказываетесь в проигрыше?
Нет. Мне это не кажется. Я не в проигрыше. И чудо не перестаёт быть чудом от того, что я узнаю о нём то, чего не знал прежде. Чудо — эго не фокус. Возможно, что после объяснений фокусника, каким образом из-под носового платка, положенного на столик с тайным двойным дном, он спустя минуту извлекает вспархивающего к куполу цирка голубя, вы уже и потеряете интерес к фокусу и не захотите смотреть его второй раз. Допускаю. Но чудо есть чудо, и у него своя особая природа, вовсе не схожая с природой фокуса. Я знаю, что под пышными, прекрасными розами положен навоз, из которого они вырастают, но от того они в моих глазах не менее прекрасны. Анна Ахматова, будучи уже мудрым и зрелым мастером, писала в сороковом году:
Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как жёлтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дёгтя запах свежий, Таинственная плесень на стене... И стих уже звучит, задорен, нежен, На радость вам и мне.Это правда. И Анна Ахматова, и все мы знаем, «из какого сора», из какого подчас мелкого обыденнейшего жизненного явления вырастает высокое и прекрасное. Но это знание ничуть не мешает нам постигать это высокое и прекрасное и наслаждаться им. Тут, пожалуй, к месту будет вспомнить тыняновскую формулу: «Знание знанием, а сознание сознанием».
Это так. Чудо чудом, а знание знанием. И да здравствуют чудеса, без которых скучно было бы жить на белом свете. И конечно, да здравствуют знания, без которых жить было бы и вовсе невозможно.
Вот и кончились мои рассказы о белых лилиях, а мне всё жаль расставаться с чаровницами. Я понимаю Клода Моне, который так много писал белые лилии. И не только понимаю, но даже, как вы уже убедились, прочтя предыдущие три главы, не прочь следовать его примеру.
Голубая Земля
Сильный ветер вздымает высокую волну. Крупные события глубоко вспахивают слежавшиеся пласты привычного и, случается, раскалывают историю надвое. Тогда всё, что было до этого события, становится резко отличным от того, что следует после него. Различие остаётся навечно. Человечество начинает новое летосчисление.
Именно так случилось, когда Земля начала новую, космическую эру. Начало этой новой эры Земли можно определить с совершенной точностью. Она была открыта двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года, в девять часов семь минут по московскому времени.
В это ясное, солнечное утро скромный, никому не ведомый майор Гагарин взмыл на чудо-корабле «Восток» в космос, стал спутником Земли, совершил по воздуху кругосветное путешествие и спустя сто восемь минут вернулся на планету всесветной знаменитостью.
Магеллану на кругосветное путешествие понадобилось три года. Юрий Гагарин потратил на это немногим более полутора часов.
Кухарка из записных книжек Чехова хвасталась: «Я жнаю, жачем жемля круглая».
Она не была оригинальна в своих воззрениях, эта чеховская кухарка. Если оставить в стороне нарочито смешное «жачем», то все мы находимся примерно в том же положении. Мы только знаем, что Земля кругла. Юрий Гагарин первым из людей своими глазами увидел её шарообразность. Он совершил огромный скачок из мира умозрительного в мир очевидного. Мы видим не Землю, а только её поверхность — поле, мостовую, озеро, холм. Гагарин один из всех видел не поверхность Земли, не её кожу, а самую планету, именно планету Земля.
Первым из всех нас Юрий Гагарин вырвался из всевластного извечного плена Земли, преодолел её притяжение и испытал ни с чем не сравнимое ощущение невесомости своего тела.
Первым из всех Юрий Гагарин поднялся на высоту в триста километров, превысив в десять раз всё, чего достигал человек, в этом смысле, до него.
Первым из всех Юрий Гагарин мчался в небо со скоростью примерно двадцать восемь тысяч километров в час, перенося для всех нас скорость движения человека в пространстве из категорий очевидных в категории непредставимые.
Первым из всех Юрий Гагарин видел земное небо не над головой, а под ногами, поднявшись выше неба наших представлений, ибо наше представление о небе неразрывно связано с плотным слоем земной атмосферы, над которым проносился корабль «Восток».
Первым из всех Юрий Гагарин видел небо космоса — чёрное, непроницаемое, бесконечно далёкое.
И ещё одно удивительное видение дано было пережить Юрию Гагарину. Первым из землян он увидел свою Землю голубой.
Но об этом я должен говорить особо.
Для всех людей мира полёт Юрия Гагарина был полётом в страну Прекрасного, о котором, во сне или наяву, так или иначе, мечтал и грезил каждый из нас. Всё мы в этот чудесный день были подхвачены одним восторженным порывом, стиравшим разницу лет, темпераментов, воззрений, навыков, умонастроений и вкусов. Для всех людей день этот был великим праздником. Но в этом всеобщем празднике были и есть у каждого из нас ещё и свои особые меты. Для меня полёт Юрия Гагарина имел особый смысл и значение, так как Гагарин осуществил, претворил в бытие не только мою мечту, но и мечту моих героев.
В дни, когда мир потрясён был полётом первого космонавта, произошло совсем крохотное по сравнению с этим событие: вышел в свет очередной, четвёртый номер журнала «Звезда». В этом номере была напечатана моя повесть «Он живёт рядом». Главный герой её — студент-физик Гриша Савушкин. Он гибнет от руки убийцы, защищая честь и достоинство совершенно чужой ему девушки, которую впервые в жизни видит. После его смерти на столе находят письмо Гриши к матери, в котором он пишет о своих планах на будущее. Среди других загаданных Гришей для себя свершений значилось и такое: «Я ещё должен увидеть красную траву, чёрное небо и Голубую Землю».
Увы, Гриша мой не смог побывать в космосе. Ему не суждено было осуществить свою мечту. Почти никто не узнал о самом существовании згой мечты, даже его мать, с которой он делился в не дошедшем до неё письме своими планами на будущее. Знали об этих планах только я, редактор повести и некоторые из самых близких мне людей, читавших повесть в первоначальном варианте, до её напечатания. Но редактор да и некоторые из друзей моих находили строки Гришиного письма, относящиеся к подробностям его космических планов, излишними длиннотами повести. Они уверяли меня, что о таких вещах матерям не пишут, что эти космические мотивы надо изъять из письма. Я не был согласен с этим, но малодушно поддался на уговоры и вычеркнул и красную траву, и чёрное небо, и Голубую Землю, о чём сейчас горько сожалею.
Так никто и не узнал о заветной мечте Гриши Савушкина, которая одновременно была и моей мечтой. Но вот пришёл солнечный апрельский день, когда мечты наши стали былью. Сделал это Юрий Гагарин, который с борта космического корабля «Восток» увидел чёрное небо, Голубую Землю и, вернувшись, рассказал об этом. У меня перехватило горло, когда я читал этот рассказ о Голубой Земле. Мечту моего героя превратил в деяние другой герой, и уже не литературный, а живой.
И ещё одну мечту ещё одного моего героя воплотил в живое деяние Юрий Гагарин, а вслед за ним и другие космонавты. Что это за герой? Кто он? И какое Отношение имеет он к освоению космоса?
Есть у меня повесть «Мечта бессмертна». Герой её — народоволец Николай Кибальчич — первый в мире дал проект реактивного летательного аппарата тяжелее воздуха, который не зависел от. среды и мог бы летать в безвоздушном, межпланетном пространстве.
Это был первый человек, указавший человечеству путь к звёздам.
Техническая смелость Кибальчича, опередившего . свою эпоху более чем на полстолетия, равна его революционному мужеству. Свой гениальный проект он создал в тюремном каземате накануне казни, на которую был осуждён за цареубийство.
В середине апреля тысяча восемьсот восемьдесят первого года двадцатисемилетнего Кибальчича всенародно казнили на одной из центральных площадей Петербурга. Но мечту казнить нельзя, и в середине апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года двадцатисемилетний Юрий Гагарин вознёс пламенную мечту Николая Кибальчича в чёрное космическое небо, распростёртое над нашей Голубой Землей.
Полёт Юрия Гагарина был чудом, и, как всякое чудо, оно явлено было нам нежданно. И в то же время это было и жданно, и желанно давно. Чудо стояло у порогов наших домов. Мы были уверены, что человек будет в космосе и что им будет наш советский человек. В последние дни мы жили уже не только предчувствием и предзнанием того, что должно свершиться, но и с живым трепетным ощущением грядущего.
И так оно и должно было быть. Грядущее, прежде чем стать настоящим, незримо проделывает в нашей душе свою работу, иначе его пришествие было бы невозможно, — ведь в пустоте ничто родиться не может.
Писатель — повитуха грядущего. Он обязан готовить это грядущее вместе со всеми и, может статься, больше всех. Писатель всегда должен смотреть из будущего в настоящее.
Настоящее — это мост из прошлого в будущее. Искусство должно держать караул по обе стороны моста. Ничто в искусстве, как и в жизни, не живёт отдельно. Всё связано, сцеплено в неразрывную волшебную цепь. Не приди ко мне однажды Николай Кибальчич — не явился бы в моей сегодняшней книге и Юрий Гагарин, первый космонавт Голубой Земли.
Кстати, видение космонавтом номер один Голубой Земли было четыре месяца спустя подтверждено и засвидетельствовано космонавтом номер два Германом Титовым. И он видел Голубую Землю.
Он доставил эту радость и моим глазам, привезя из космоса превосходные цветные снимки Голубой Земли и напечатав их в своей книге «700000 километров в космосе».
Космонавт номер два, само собой разумеется, должен был пойти дальше космонавта номер один, иначе его полёт не был бы для нас таким радостным и окрыляющим движением вперёд, потерял бы значение нового этапа в развитии космонавтики. Герман Титов выполнил то, что должен был сделать космонавт номер два: он вырвался из плена Земли уже не на полтора часа, а на целые сутки. Он совершил в космосе не одно кругосветное путешествие, а семнадцать. Как и Юрий Гагарин, он тоже первый совершил то, что никому до него совершить не было дано. Они равны — как и остальные их друзья, космонавты, пришедшие сегодня в эту мою книгу.
Книга всегда многосложна. Искусство всегда сплав. Но то, ради чего стоит жить в искусстве, всё же не само искусство, а жизнь, и не просто жизнь, а жизнь, шагающая по баррикадам, жизнь борющаяся, жизнь созидающая, жизнь зовущая, жизнь, глядящая в Завтра. Она прекрасна и трудна.
Трудно, всегда трудно тем, кто видит не только Сегодня, но и Завтра, кто работает на это Завтра. Как много хотелось бы сделать для него и мне, и горько думать, как малы мои способности для таких задач. Я понимаю, что я совсем не оригинален в этих мыслях и чувствах. Каждый писатель постоянно испытывает и переживает то же. Жизнь всегда больше их трудов и их возможностей.
Что ж. Может статься, это и хорошо. И даже наверное хорошо. Всегда можно равняться по большему, чем ты сам, и желать большего, чем можешь. Я полностью разделяю точку зрения Веры Инбер, в своём «Пулковском меридиане» сказавшей: «В том-то всё и дело, чтобы превзойти свои пределы». Именно так. Именно в том-то всё и дело.
А трудности — они ведь всегда были и всегда будут. Оставим же страхи перед ними и будем придерживаться доброго принципа, которого придерживался мой Гриша Савушкин, так жарко стремившийся увидеть Голубую Землю: если жизнь трудна, значит, она настоящая.
Галатея оживает каждый день
Эллинам в наш трудный и хлопотливый век не повезло. За множеством неотложных дел и технических новинок их вовсе забыли, как и несравненное творение их — мифы. В наших школах о греческих мифах много лет даже и не упоминалось, да и не только в школах. Крылатого Пегаса заменил комфортабельный воздушный лайнер, в котором писатель уютно и быстро мчал к своему материалу. Выполняющая план ткачиха с Самойловской фабрики и не помышляла о первоткачихе греческих мифов Арахне, которая в своём неподражаемом искусстве превосходила не только всех смертных, но и самих богов. Что касается Аполлона, то он давно уже не требовал «к священной жертве» поэтов.
В шестидесятых годах нашего столетия произошло как будто некое благотворное движение в сторону мифов. О них вспомнили и в школе и в искусстве. В романах, стихах, на экранах кинематографов стали мелькать имена и фигуры богов и героев древней Эллады.
Увы, это не всегда оказывалось к добру. Геракл из одноимённого итало-американского фильма выглядел кровным родичем Тарзана и нимало не напоминал Геракла эллинов. Немногим лучше был и Одиссей в фильме, посвящённом его странствиям, а также и спартанский царь Леонид из американского же фильма «Триста спартанцев». В литературе дело обстояло немногим лучше.
Мне думается и верится, что эти неудачи не превратятся в хронические и что для волшебного белого мира эллинских мифов близится новое Возрождение. Что до меня, то я был бы безмерно рад такому обороту дела. Мир греческих мифов всегда был домом души моей.
Боги эллинов весьма многочисленны, и функции их многообразны до чрезвычайности. Любовь, война, земля, море, утренняя заря, лесные дебри, песня, мщение, смех, музыка, торговля, даже мошенничество и воровство — все области человеческой деятельности, все человеческие состояния, все явления природы управлялись каждое каким-нибудь божеством. Иногда боги, близкие по свойствам и назначению, мирно сожительствуют, и тогда богиней луны становятся одновременно и Селена, и Артемида, и Геката, и Персефона. По-видимому, играет тут некоторую роль и местный патриотизм, — каждая область хочет иметь на Олимпе как можно больше своих представителей. К примеру, несмотря на обилие небожительниц, заправляющих лунными делами, Фракия прибавляет ещё одну собственную богиню луны — Бендиду, Малая Азия — Беллону, а остров Крит — Бритомартиду.
Иной раз дело не обходится мирным сосуществованием, и один бог стремится начисто поглотить конкурента, уничтожить его. Так воинственная Афина, одолев отца самой богини победы Нике по имени Паллант, обращает на себя его функции и самое его имя, получив отныне двойное наименование, — Афина Паллада.
Многообразие, многосложность и многозначность греческих мифов безграничны, как беспредельна красота их и поэтичность. Ни один народ ни до, ни после эллинов не создал такого пленительного эпоса, не породил столь поэтических сказаний, столь светозарных героев их.
В их мифах — всё человечество, со всеми его интересами, горестями, радостями, страстями. В них и глубокая трагедия, и весёлый фарс, судьбы человеческие и бесконечное разнообразие характеров, высокий героизм и чистая, истинно святая простота.
Боги, созданные эллинами по образу и подобию своему, далеко не всегда всесильны. Герои же подчас весьма простоваты, бесхитростны и подобны большим детям. И всё, вместе взятое, в высокой степени человечно, светло, поэтично. Кажется, что источник их — сама поэзия. Недаром все исследователи греческой мифологии, и даже самые глубокомысленные из них, постоянно ссылаются как на первоисточники мифов — на поэтов, обращаясь прежде всего к Гомеру, Гесиоду, Пиндару, Мосху, Аполлонию Родосскому, позже — к Эсхилу, Софоклу, Еврипиду, ещё позже — Вергилию, Овидию и многим другим поэтам.
Недаром же и влияние эллинизма, которому привержены были все народы цивилизованного мира, сильнее всего сказалось в области культуры, и прежде всего наложило неизгладимый отпечаток на искусство.
Я не знаю ни одного европейского поэта новых времён, у которого бы так или иначе, в большей или меньшей степени не фигурировали бы мысли, мотивы, образы, словарь древнегреческих мифов.
Творчество таких титанов, как Вольфганг Гёте, Анатоль Франс и Александр Пушкин, я бы сказал, пронизано эллинизмом, пропитано его соками, просквожено его солнцем, проникнуто его мироощущением, его гармонией, его радостью, его светлостью, проникнуто настолько, что они уже и сами готовы стать мифотворцами.
Вот тому один пример из многих, который можно было бы привести и который вы разыщете сами, если дадите себе труд оглядеться вокруг и труд узнавать и сравнивать.
Помните миф, объясняющий происхождение эхо? Впрочем, мифов, посвящённых эхо, существует довольно много, и придётся выбирать и наиболее подходящий к случаю, и наиболее поэтичный. Мне кажется самым поэтичным тот, что рассказывает о лесной нимфе Эхо, которая полюбила Нарцисса. Любовь была жестокой и безответной. Нарцисс — сын речного бога Кефисса и наяды Лириопы — был прекраснейшим из греческих юношей. Всякий, кто видел его, не мог не почувствовать любви к нему. Даже сам Нарцисс не составлял исключения. Увидя однажды в прозрачной глади лесного ручья своё отражение, он влюбился в него и с этой минуты больше ни на кого, кроме себя самого, не желал смотреть.
Напрасно влюблённая в него нимфа Эхо ходила по его следам, сопутствуя ему всюду в лесных его скитаниях, неотступная как тень. Напрасно молила она о любви, о ласке, хотя бы об одном взгляде в её сторону. Даже этой малой доли внимания от своего любимого лесная нимфа добиться не могла. Нарцисс глядел только на себя, любовался только собой. Целые дни проводил он на берегу какого-нибудь тихого лесного озера, не сводя влюблённых взоров с Нарцисса, отражённого в водном зеркале. Весь поглощённый собой и лицезрением себя, он забывал обо всём и обо всех на свете.
А бедная нимфа Эхо час от часу любила Нарцисса всё сильней и сильней, тосковала по нем, сохла от мук неразделённой любви, пока не высохла как былинка. А потом жизнь по капле стала уходить и из былинки, пока бедная верная Эхо не истаяла от любви. Но исчезла она не совсем, как не может исчезнуть совсем и бесследно великая любовь. От умершей нимфы остался голос, отзывающийся на всякий зов, на всякий иной голос, повторяя и повторяя его, как влюблённая повторяет имя любимого.
Таков этот чудесный поэтический и назидательный миф о верной и неизменной любви до последнего смертного часа, о любви, зовущей и находящей отклик-эхо даже и после смерти, как находит в наших душах живой и звучащий отклик любовь уже переставшей жить Джульетты.
Я упомянул уже о том, что мифов, посвящённых эхо, существует довольно много. Но кроме всех канонических древних мифов есть ещё один, родившийся сравнительно недавно, созданный в веке, в котором и я родился. Я не стану его пересказывать. Это займёт больше времени и места, чем сам он в подлиннике. Миф этот привожу полностью.
Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея, Феб, увидев её, страстию к ней воспылал. Нимфа плод понесла восторгов влюблённого бога; Меж говорливых наяд, мучась, она родила Милую дочь. Её прияла сама Мнемозина. Резвая дева росла в хоре богинь-аонид, Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой, Музам мила; на земле Рифмой зовётся она.Ни в каких трудах по греческой мифологии, ни в каких мифологических словарях вы не найдёте такого мифического персонажа, как Рифма. Миф о ней породил Пушкин, стихотворение которого «Рифма» я процитировал, и надо сказать, что милая дочь Эхо должна чувствовать себя среди муз-аонид, лесных нимф и наяд вполне полноправной. Мне кажется, это не вызывает сомнений.
Передо мной любовно изданный словарик мифологических имён и мест, упоминаемых в произведениях Пушкина. Их много — этих имён и мест в пушкинских стихах, что-то около четырёхсот. Но дело не в количестве их. Дело в той свободе, с какой паломничает по этим местам Пушкин. Дело в проникновении в материал, в родственности его поэту. Надо быть своим человеком в белом доме мифов, чтобы знать, куда ступить в этом волшебном доме, что сказать и как сказать. Надо, чтобы мир мифов стал твоим миром, Тогда и язык мифов станет твоим языком, как полнопевный, мускулистый гекзаметр в пушкинской «Рифме» стал привычным нашему слуху языком мифа.
Ведя разговор о древнегреческих мифах, нельзя не сказать об изобилии в них мотивов искусства, чего нет в эпосе, легендах, сказках ни одного другого народа. Поэты, актёры, музыканты, танцоры, певцы имели множество своих богов-покровителей. Главнейший из них, Аполлон, предводительствовал целым отрядом муз-богинь, покровительствующих искусствам и наукам. С покровительством наукам, надо сказать, дело было поставлено отнюдь не на широкую ногу. Из девяти муз только две, Клио и Урания, ведали науками — историей и астрономией. Остальные семь занимались искусствами, и занимались весьма усердно.
Это соотношение между науками и искусствами на Олимпе, где обитали эллинские боги, в полной мере соответствовало земным пропорциям наук и искусств. Науки в Древней Греции пребывали в младенчестве. Искусство, напротив, процветало необыкновенно, пронизывало всю жизнь народа и достигло такой степени совершенства, что наследникам эллинов во всём мире приходилось только завидовать. И сегодня, две с лишним тысячи лет спустя, едва ли в этой области что-нибудь может сравниться с Венерой Милосской или Пергамским алтарём Зевса. Недаром К. Маркс утверждал, что древнегреческое искусство и эпос и посейчас «в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца».
Аполлон Мусагет и предводительствуемые им музы по праву занимали на рукотворном греческом Олимпе одно из почётнейших мест. Кстати, кроме Олимпа у них было собственное обиталище на горе Парнас, а кроме того, ещё и на горе Геликон.
Гора эта весьма примечательна связанным с ней в высокой степени поэтичным мифом, повествующим о том, что однажды хор поющих муз привёл гору в такой восторг, что она стала расти и достигла было небес. Это обстоятельство обеспокоило ревнивых богов, которые не могли допустить, чтобы кто-то или что-то превышало их Олимп. По приказу одного из важнейших богов — Зев-сова брата Посейдона — волшебный конь Пегас мощным ударом копыта вернул зазнавшуюся гору на землю.
Этот мифический удар копытом крылатого коня поэтов имел и другое следствие. Он не только вернул поэтическое земле, но из того места, в которое пришёлся удар Пегасова копыта, забил источник Иппокрена, воды которого обладали волшебной силой вселять в поэтов высокое вдохновение. Кстати, это же свойство приписывали и Кастальскому ключу на горе Парнас.
Ещё один традиционный мотив в этом мифе мне хотелось сделать приметным для всех. Мотив этот — всесильная власть искусства не только над людьми и богами, но и над самой мёртвой природой. Гора Геликон, заслушавшаяся пением муз, — не единственный случай подобного рода реакции окружающего на высокое искусство. Старшая из муз Каллиопа, считавшаяся богиней песнопений и музой эпической поэзии, имела сына Орфея — певца и музыканта, а по некоторым вариантам мифов о нём — даже изобретателя стихосложения и зачинателя музыки. В искусстве пения и музыки он не только не уступал матери своей, но даже превосходил её. Музыка его исторгала слёзы даже у жестоких и беспощадных богинь мести — эринний. Она укрощала диких зверей, заставляла деревья и травы склоняться перед певцом и кифаредом Орфеем. Недвижные камни, веками лежащие на своих местах, при звуках голоса и кифары Орфея сдвигались с места, стараясь приблизиться к Орфею, чтобы лучше слышать его.
Едва ли у какого другого народа найдётся такой миф, такая легенда, такое сказание, поверье, сказка, которые так высоко ставили бы искусство и так беспредельно оценивали влияние его на окружающих. На такое способны были только эллины, наделённые особой, необыкновенной чуткостью к прекрасному.
Орфей — не единственная фигура певца и музыканта в греческих мифах. Немало сказаний связано с именем фиванского певца и кнфареда Лина, обучавшего игре на кифаре юного Геракла. Лин славился не только как певец и кифаред, но и вообще как величайший знаток музыки. Чудесная одарённость Лина не принесла ему, впрочем, достойных его лавров, а, напротив, погубила его. Вступив в состязание с самим Аполлоном, Лин оказался более искусным в игре на кифаре, и разгневанный бог убил его.
Та же, и даже ещё более жестокая, участь постигла и Марсия, дерзнувшего состязаться с Аполлоном в игре на флейте. Победив его, Аполлон содрал с живого Марсия кожу и повесил её на дерево.
Немногим легче было наказание, которому подвергся фригийский певец Тамирис, дерзнувший вызвать муз на музыкальное соревнование. Дерзкий был ослеплён, лишён голоса и дара игры на лютне да ещё вдобавок к тому ввергнут в мрачный подземный Аид, куда нисходят души умерших.
Не менее поучительна история состязания в рукоделии лидийской мастерицы Арахны и дочери Зевса богини Афины. Уверенная в своём искусстве ткачиха Арахна однажды гордо заявила:
— Пусть приходит сама Афина Паллада состязаться со мной. Не победить ей меня, не боюсь я этого.
Богиня приняла вызов, и вот обе выткали по тончайшему покрывалу, изобразив на них сцены из жизни богов-олимпийцев. При этом Афина изобразила богов величественными, могучими и прекрасными; в сценах же, вытканных искусницей Арахной, боги представали слабыми, подверженными всем человеческим страстям. В том, что выткала Арахна, видно было неуважение к богам и даже презрение. Этого Афина снести не могла. Разорвав вытканное Арахной покрывало, она ударила соперницу челноком, а затем превратила в паучиху, обрекая её вечно ткать только паутину.
Так расправлялись боги со смертными, дерзавшими ратоборствовать против них. Всякий раз смертный оказывался в споре с небожителями достойным противником, иногда даже и более искусным, и всякий раз его постигала кара мстительных и гневливых богов. Несмотря на это, образ героя-богоборца был очень распространён в греческой мифологии.
Первый из них — титан Прометей. Он восстал против самого Зевса, защищая смертных людей и делая всё, чтобы облегчить их жизнь. Он похитил для людей небесный огонь, научил их счёту, чтению, письму, искусствам, земледелию, лечению болезней, постройке кораблей и кораблевождению. За всё это Зевс возненавидел мятежного титана и жестоко покарал его, велев приковать к скале, и каждый день посылал к нему орла, который выклёвывал печень Прометея, выраставшую затем снова. И так длилось века.
Прометей был титаном и, следовательно, полубогом. Но среди богоборцев есть немало и смертных людей. На щите Этеокла — одного из семи вождей аргосцев, воевавших против Фив, был изображён воин, взбиравшийся по лестнице на стену осаждённого города. Под ним был начертан девиз: «Сам бог Арес не остановит меня».
Ещё больше гордости и дерзости при штурме Фив выказал другой из семи аргосских предводителей — Капаней. Он бросил прямой вызов повелителю богов, воскликнув перед стенами Фив, что сам громовержец Зевс не остановит его.
Этого Зевс не мог простить человеку. Дерзость Капанея была наказана, и с обычной для богов беспощадностью и хитрой расчётливостью. Зевс поразил героя молнией как раз в тот момент, когда Капаней взобрался уже на фиванскую стену.
Случалось, что смертные выступали перед богами не только как дерзкие спорщики, ко и как прямые противники в схватке. Могучий боец Идас из Мессены вступил в бой с Аполлоном, когда тот хотел отнять у Идаса его невесту Марпессу. При осаде Трои Диомед сражался с покровительствующими троянцам богами Аресом и Афродитой и ранил обоих.
Присматриваясь к фигурам богоборцев и к противникам их — олимпийцам, убеждаешься, что первыми богоборцами были сами создатели мифов. Это ещё одна поразительная особенность греческих сказаний.
Кончая рассказ о милых мне греческих легендах, хочу вернуться к теме искусства, тонко и многозначно разработанной в них. При этом, само собой разумеется, невозможно пройти мимо мифа о Пигмалионе и Галатее, повествующего об одном из обыкновенных чудес искусства.
Кипрский скульптор Пигмалион изваял статую морской нимфы Галатеи. Статуя так удалась, что от неё не отвести было глаз. Часами любовался ею и сам скульптор. Он был известен на Кипре не только как знаменитый художник, но и как женоненавистник. Ни одна женщина до той поры не могла привлечь его внимания, остановить на себе его взор, внушить любовь.
И вот случилось так, что изваянная Пигмалионом прекрасная девушка совершила в его сердце то, чего не удавалось ни одной живой женщине. Пигмалион так долго любовался статуей, что в конце концов полюбил её. Впервые суровый художник любил. Но, увы, та, к которой обратилось его сердце, была неживым человеком, а статуей, созданной им самим.
И тогда отчаявшийся влюблённый обратил горячие мольбы к богине любви Афродите, прося её даровать ему живую такую же прекрасную женщину, как сделанное им изваяние. И так горячи были его молитвы, так велика его любовь, что на глазах его совершилось чудо — статуя ожила и сошла к нему с пьедестала.
Этот миф, изложенный в «Метаморфозах» Овидия, особенно дорог художникам, как знак живой связи искусства и жизни. Подлинная любовь, как и подлинное искусство, всегда способна к волшебству и чуду. Высокое произведение искусства так близко к жизни, что готово и может влиться в жизненный поток живой частицей его. Чудо искусства, произведения которого могут стать живыми, как сама жизнь, совершают мастерство и сердце художника, приверженность его к своему кровному делу, к искусству, к созданиям его. В мифе этом интересен и значителен ещё один мотив — о влиянии искусства на самого художника. Суровый женоненавистник Пигмалион под влиянием изваянной им Галатеи смягчается сердцем, меняется в своём отношении к окружающим. Художник, влюблённый в своё дело, обязательно становится богат и щедр сердцем. Таков ещё один смысл этого чудесного мифа. Поразмыслив, можно найти в нём и иную, более сложную многозначность, всегда свойственную подлинному произведению искусства.
Ожившая Галатея — это чудо и волшебство. Но, в сущности говоря, это чудо и волшебство совершается в искусстве постоянно. Разве Наташа Ростова или Татьяна Ларина не живые для нас образы, к которым мы привязаны сердцем, умом, душой? А наши современницы, такие, как Аксинья из шолоховского «Тихого Дона», — разве они не живут рядом с нами?
Конечно, живут. И конечно, миф о Пигмалионе и Галатее нисколько не состарился за две с лишним тысячи лет. Галатея и нынче оживает каждый день.
«Гаудеамус»
Последний раз довелось мне петь «Гаудеамус» в обстановке, самой для того неподходящей. Было это на фронте, в конце сорок третьего года. Созвали совещание писателей, работавших в армейских газетах Четвёртого Украинского фронта. Я приехал на совещание от газеты Восьмой воздушной армии.
После окончания работы совещания редактор фронтовой газеты полковник Кокорев собрал несколько писателей и повёз к себе в гости. Вечер провели в добром дружестве. Говорили о разлучённых с нами близких наших, вспоминали о светлых днях, какие выпадали в прошлом. Потом полковник вдруг затянул не очень уверенно «Гаудеамус». К нему присоединились Савва Голованивский, я, ещё кто-то. Получился не очень стройный, но очень воодушевлённый студенческий хор.
Удивительно приятен был среди неурядиц и бед войны этот неожиданный «Гаудеамус».
А когда-то, помнится, слушал я, да и сам певал «Гаудеамус» едва не каждый день. Было это в десятых годах. Два старших моих брата были уже студентами. В доме нашем товарищи братьев — тоже студенты — бывали каждый вечер. Каждый вечер пели хором — спетым и согласным — русские и украинские песни, а потом обязательно и «Гаудеамус». Мне было тогда лет десять — двенадцать, и вместе с другими пел и я, хотя ни слова не понимал из латинской премудрости, которую выпевал очень старательно.
Когда позже я стал студентом, о «Гаудеамусе» уже забыли. Студенты его не знали и не пели. В университете я учился недолго и, в сущности говоря, остался недоучкой. Годы ученья моего в средней школе и в вузе совпали с труднейшими для страны годами. Нас настигали голод, разруха, мор, нашествие, смены точек зрения, законов, вкусов, учений, навыков. Вершины достигнутого внезапно проваливались в пропасть небытия, а новый день заставал нас карабкающимися на новые вершины. Города превращались в пустыни, а в пустынях вырастали новые города. Мир шатался и трещал по всем швам. Он одновременно и разрушался и созидался.
Я хлебнул всего понемногу, хотя, вероятно, и не больше, чем многие другие. Реальное училище я кончил в семнадцатом году. Тот год мы больше митинговали, чем учились. На уроки ходили, когда хотели, и делали на них, что хотели. Если говорить по совести, то последний год пребывания в училище трудно было назвать учебным годом. Тем не менее я, как и другие выпускники этого года, аттестат получил.
В университет я попал только через пять лет после окончания средней школы. Два с лишним года побродил я по знаменитому коридору Петроградского университета, изредка заглядывая в аудитории, в которых мало кого находил. На лекциях случалось по пять-шесть слушателей. Помню, на лекции профессора Льва Штейнберга по этнографии мы сидели вдвоём с ним.
Но бывали лекции и иного характера. Когда читал молодой философ-материалист Боричевский, аудитория была полна. Он проходил по коридору решительный, быстрый, коренастый, с замызганным портфелем под мышкой, без шапки, в короткой куртке и крагах. Так ходил он по улицам, так являлся и в университет. Излагал он курс интересно, оживлённо, с воодушевлением, часто поминая немецкого физика-материалиста Больцмана, к которому питал явное пристрастие.
Материалистическая философия, с которой на этих лекциях мы знакомились, сколько я сейчас помню, усваивалась нами довольно поверхностно и ученически, но в общем она помогала нам жить и заряжала необходимой в ту эпоху воинственностью и непримиримостью ко всякого рода идеализму, поповщине и прочей имевшей ещё хождение скверне.
Учение моё в университете на так называемом ФОНе, то есть факультете общественных наук, проходило под знаком бурных и непрерывных перемен. Страсть к переменам программ, методов и форм обучения в школах и вузах, распространённая и в наши дни, свирепствовала тогда с особенной силой. С двадцать второго по двадцать четвёртый год я, помимо своей воли, несколько раз оказывался на ином отделении факультета, имеющем иной профиль, иную программу и иное наименование, а приступив к последнему году обучения, почему-то числился в археологах.
В том же двадцать четвёртом году, приготовив экзамен по истории и не найдя, кому бы его сдать, я охладел к университетским делам, перестал ходить на лекции и постепенно отстал от учения.
Оставив университет, я унёс с собой память о приятно вольной студенческой жизни, черновики двух рефератов — о леонардовской Джоконде и рубенсовской Елене Фоурман, прочитанных на семинарах по западному искусству, и несколько иронически окрашенную неприязнь к гуманитарным специальностям.
В отместку жизнь сделала меня самым что ни на есть заядлым гуманитарием и засадила навеки за письменный стол. Как вершатся подобного рода жизненные парадоксы, для меня до сих пор остаётся непостижимой тайной.
Когда я снова очутился в студенческой среде, я был уже автором сборничка стихов, повести и романа. Это было в тридцатом году, когда, задумав писать новый роман — о студентах-медиках, я отправился на разведку в Первый медицинский институт.
Начал я разведку с комсомола. Разыскал секретаря комсомольской организации и поговорил с ним. Секретарём тогда был Лёша Фомин — славный, светловолосый, ясноглазый паренёк. Он посоветовал мне пожить со студентами, чтобы как следует узнать их. Я последовал этому доброму совету и на полгода поселился в одной из комнат студенческого общежития.
Я просил Фомина не говорить ни моим сожителям по комнате, ни кому другому из студентов о том, что я писатель. Он дал слово, и сдержал его. И тем не менее я вскоре почувствовал, что мои товарищи студенты, с которыми я делил и хлеб и время и жил как будто совершенно их интересами, стали как-то выделять меня из общей студенческой среды, разгадав моё самозванство. Я где-то ошибся, в чём-то оказался неорганичен среде и не сумел по-настоящему врасти в общую со студентами жизнь. Я как будто всё увидел и узнал, что потребно для романа, а когда года полтора спустя он вышел, оказалось, что роман плох, безжизнен, придуман и ужасающе литературен.
Детище моё («Жестокая ступень») оказалось недоношенным, невыстраданным, ненастоящим. Произошло это, по-видимому, потому, что моя студенческая жизнь у медиков тоже была ненастоящей. Я не получал крохотной стипендии, не нуждался в куске хлеба, частенько не ночевал на своей койке в общежитии, а спокойно спал дома. За эту подделку под общую со студентами жизнь я был свирепо наказан. Результатом ненастоящей жизни явился ненастоящий роман.
Недавно в «Литературной газете» я прочёл напечатанную посмертно статью Н. Заболоцкого о поэтической работе, в которой он говорит: «Поэт работает всем своим существом». Хорошо сказано, и верно сказано. Только так и можно работать. Я жил среди студентов и работал над «Жестокой ступенью» не всем своим существом, и получил по заслугам.
«Жестокая ступень» — не единственная моя книга, посвящённая студентам. Героиня повести «Даша Светлова», вышедшей десять лет спустя, — рабфаковка, а затем студентка.
Спустя ещё два десятилетия я обратился снова к той же тематике и к милым моему сердцу студентам. Повесть «Он живёт рядом», вышедшая в шестьдесят втором году, рассказывает о жизни и учении, о помыслах и судьбах студентов-физиков.
Работая над повестью и накапливая сырьё, я избрал иной путь, чем тот, каким я шёл, работая над «Жестокой ступенью». Полтора года, изо дня в день, навещал я физфак Ленинградского университета, не скрываясь, не надевая докучной личины, не чувствуя себя ни актёром, ни человеком, живущим по фальшивому паспорту. Я приходил на физфак как писатель, и все — от декана до первокурсника — знали, что я писатель и работаю над повестью о студентах-физиках. Я даже выступал на собраниях студентов, даже напечатал в стенной факультетской газете «Физик» отрывок из повести.
На этот раз всё было так, как было. Открытый для всех, с кем общался, я работал весьма усердно и успел поговорить с тридцатью профессорами и преподавателями и почти двумя сотнями студентов.
Я бывал на лекциях и на собраниях, на праздниках и на спектаклях, на спевках и на вечеринках, в аудиториях и в столовых, в спортзалах и в общежитиях, в актовом зале и в частных квартирах, в патрулях дружинников и в лабораториях.
Я вызнал, кажется, всё, что можно узнать о студентах, и написал это, как сумел, в повести.
Материал оказался неисчерпанным даже вполовину, и двумя годами позже я написал маленький роман «Сирень на Марсовом поле», в котором опять живут и действуют физфаковцы и учащие их.
Кстати, на физфаке, впервые после двадцатилетнего перерыва, я снова услышал «Гаудеамус». Пел его на первомайском факультетском вечере хор физфака. Хор был превосходный, и я получил большое удовольствие от хорошо спетого, громоносного, оживлённого «Гаудеамуса». Я был рад тому, что ожил и прозвучал старый студенческий гимн, прозвучал и заставил задуматься над тем — какими качествами и свойствами определяется живучесть, долговечность песни, стихотворения, романа, статуи, картины?
Ответ на этот вопрос, казалось бы, очень прост. Долговечность художественного произведения полностью зависит от его художественных достоинств. Это, конечно, так, но не только так. Есть превосходные творения искусства, которые умерли навсегда для жизни живой и остались только фактом истории. И напротив, есть произведения вечно молодые и вечно воздействующие на нас.
Глеб Успенский, родившийся на две с лишним тысячи лет позже, чем создана была Венера Милосская, плакал, увидя её впервые.
Тайна долголетия произведения искусства есть не только тайна мастерства, но и тайна воздействия на живого человека, то есть тайна особого, индивидуального, личного обаяния статуи, картины, строфы.
Головки Луини — любимого ученика Леонардо да Винчи — прекрасны, и на лицах их трепещет та же улыбка, что и на лице леонардовской Моны Лизы. Но вместе с тем улыбка Джоконды стала чем-то неоценимо дорогим для мирового искусства, а улыбки на портретах Луини не стали ничем, кроме улыбок на портретах Луини.
Я не могу точнее пояснить свою мысль и лучше проанализировать предмет. Искусство ведь всегда искусство, то есть всегда чудо, а по поводу чуда объясняться весьма трудно. И потом, знаете, у каждого произведения искусства есть не только свои особенности, но и своя судьба. Судьба эта и строгая справедливость оценок, к сожалению, не всегда равнозначны.
Особенно несправедливы бывают в оценках произведений искусства современники. «Вспомните, что две лучшие комедии Гольдсмита не были сперва приняты на сцене», — говорит в своих мемуарах знаменитый английский актёр Гаррик. «Кармен» была освистана. «Пиковая дама» провалилась. Первые представления моцартовского «Дон-Жуана», чеховской «Чайки» и чудеснейшей глинковской оперы «Руслан и Людмила» не имели ни малейшего успеха. Всесветно прославленный роман Флобера «Мадам Бовари» поначалу издатели отказывались печатать. Великого Иоганна Себастьяна Баха забыли на сто лет, и только исполнение Мендельсоном его «Страстей» наново открыло миру гения. Шуберта при жизни мало кто знал и ценил. Моцарт похоронен в безвестной общей могиле. Бессмертный Фидий, которого называли Гомером скульптуры, после создания лучшего из своих творений — статуи Зевса — был посажен в темницу. Умер в нищете и безвестности и создатель несравненного «Уленшпигеля» Шарль де Костер. Зато весьма незаметного в истинном искусстве Бестужева-Марлинского в своё время у нас ставили выше Гоголя. А кто нынче читает Марлинского?
Таковы современники. А многим ли лучше их потомки? Сколько неповторимо прекрасных, бесценных античных статуй разбито вдребезги позже пришедшими! Где руки Венеры Милосской? Где важнейшие части гениального Пергамского алтаря? Где блистательный подлинник Аполлона Бельведерского? Где творения Скопаса, Праксителя, Фидия, Лисиппа, Леохара? Только жалкие останки, да и то в копиях, дошли до нас.
Однако пора вернуться к «Гаудеамусу». Это не великое творение. Это просто хорошая, традиционная студенческая песня, но второе рождение её, пожалуй, столь же знаменательно, как и возрождение внимания к древнегреческим мифам. Это явления разного значения, но одного порядка.
Возрождая «Гаудеамус», мы подчёркиваем преемственность культур и уважение к сделанному до нас. Это благородно. Это хорошо. Это верно.
«Гаудеамус», на мой взгляд, достоин такого к себе отношения. В нем есть что-то вечнозелёное, неувядаемое, воодушевляющее. Первая строка этой песни: «Gaudeamus igitur juvenes dum sumus» — в вольном переводе на русский язык значит: «Да здравствует юность».
Прекрасное начало песни. Да здравствует юность! Я готов повторять это сколько угодно. Я и повторял это всегда — своим пером, своими книгами: начиная с первого моего романа «Прыжок» и до последней строки этой книги. Всю свою жизнь я писал о молодых и для молодых.
После потопа
О книге можно сказать всё, что можно сказать о человеке. Как и человек, книга может быть и дурной и хорошей, благородной и бесчестной, мудрой и глупой. Она может быть и наставником и развратителем.
Все свойства и качества человеческие и все многообразные способности человека живут в книгах. Но многое в них живёт и сверх того.
Я считаю величайшим счастьем и величайшей честью для себя то, что могу написать книгу, но при этом меня угнетает страшное чувство огромной ответственности. Раньше этого чувства не было. Теперь оно появилось, и я знаю — теперь мне уже никогда от него не избавиться.
Книга сопровождает меня всю жизнь. Существует древний обычай хоронить человека вместе с тем, что он больше всего любил при жизни. Я прошу похоронить меня с книгой.
Я люблю книгу, как люблю человека. Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который, не боясь обвинений в пристрастиях, попытался бы захватить с собой всех своих любимцев. Само собой разумеется, что чем меньше был бы ковчег, тем мне было бы трудней и печальней. Если бы можно было взять с собой тысячу книг, затруднения мои были бы не так велики, как если бы выбор был ограничен сотней. И уже невыносимо трудно было бы мне, если б сотню сократили до десятка.
И всё-таки. Какие же из миллионов книг вошли бы в число заветных? Какие десять я стремился бы спасти от всемирного потопа?
Первая книга — это, конечно же, стихи Александра Пушкина. Ничто не имело и не имеет для душевной жизни моей, для жизни в Прекрасном того значения, какое имел и имеет Пушкин. Он пришёл ко мне с колыбели, он останется со мной до конца. Он был всегда со мной — и в дни радости, и в дни печали, и в часы труда, и в годы войны. Это была единственная книга в моём военном багаже. В те тяжкие времена Пушкин говорил мне:
Во цвете лет, свободы верный воин, Перед собой кто смерти не видал Тот полного веселья не вкушал И милых жён лобзанья не достоин.Я старался быть верным воином свободы. Я видел перед собой смерть. Я стремился быть достойным лобзанья милых жён.
О Пушкине я говорил уже много в этой книге и могу сказать ещё очень много. Но разговор о Пушкине без самого Пушкина невозможен. А посему вот хотя бы одно пушкинское стихотворение, то, что мне всех милей и дороже.
Я вас любил: любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадёжно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим.Я не знаю ничего лучшего в мировой лирической поэзии. Я не знаю ничего более чистого, ясного, человечного, благородного. Это сама Поэзия, само Сердце. И то и другое необходимы мне всегда. Без них я жить не могу.
Вторая книга — это «Война и мир» Льва Толстого. Этой гигантской книге обязаны, в той или иной мере, почти все писатели, писавшие после Толстого. Это книга глубочайшего проникновения в человеческий материал и широчайшего охвата. Никто не умел и не умеет так глядеть в человека, так понимать, так раскрывать, так любить и жалеть его. Это «Илиада» и «Одиссея» человеческие, вместе взятые. И потом это свод стольких человеческих и писательских слабостей и ошибок, что уже одним этим отрицает всякое высокомерие. Ничто не может быть уже и безнадёжней высокомерия, которое нам, хвастливым и крикливым, угрожает с особенной очевидностью.
Третья книга — это «Мёртвые души» Николая Гоголя. Гоголь — явление чрезвычайное. Мне кажется, никто не писал смелее и доказательнее. Образы «Мёртвых душ» невозможно оспорить. В силу своей исключительности, как мне думается, Гоголь не создал и не мог создать школы. Следовать ему невозможно. Он — гильотина для своих героев, и никто больше во всей литературе не смог быть с созданиями своими столь беспощадным. Страшная сказка, рассказанная в «Мёртвых душах», прекрасна и беспощадна одновременно. Другой такой никто придумать и рассказать пока не смог. При этом никто не смог быть столь прекрасным и столь живописным в описании уродливого.
Четвёртая книга — это «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Конечно, местами она груба и даже неуклюжа. В ней недостаёт чувства меры. Но тем не менее это великая книга, потому что главный герой её — правда, а для искусства ничего выше правды не было, нет и не будет. Руссо учит быть верным правде, значит, учит главному в искусстве. А без главного обойтись невозможно никогда и нигде. Я беру Руссо с его бессмертной «Исповедью» в свой ковчег.
Пятая книга — это «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке». Автор её — Шарль де Костер. О том, что он существовал и создал своего блестящего Тиля Уленшпигеля, вспомнили почти сто лет спустя. Я напоминаю об этом хотя бы для того, чтобы установить, способны ли краснеть потомки великих. Думаю, что нет. Давайте же забудем их, как они забыли незабываемого Костера, и, показав км спину, обратимся лицом к милому, неунывающему, щедрому, безоглядному и лукавому удальцу и весельчаку Тилю.
Без него, честное слово, было бы трудно жить порядочному человеку. Он — лучшее лекарство от дряхлости сердца, окостенения мозга и душевного ревматизма. Этот славный малый борется за свободу своего народа, не корча постной рожи и не проповедуя кислых добродетелей. Он живёт и борется, и радуется солнцу. При этом он не утверждает, что радоваться солнцу имеет право только тот, кто радуется на его манер, а всех других надо лупить в хвост и в гриву. Он лишён мерзкой гордыни надутого дурака, думающего, что лучшие в мире штаны — это обязательно те, которые носит он, что лучшие мысли те, которые приходят в его деревянную голову, а лучшая нравственность та, которая спит с ним.
О милый, непритязательный и несравненный Тиль, как близок ты моей поздно проснувшейся душе! Я иду с тобой рука об руку, дружище, и да сгинут унылые ортодоксы, больше всего на свете боящиеся утонуть в живой воде, да провалятся в тартарары угрюмые трезвенники и благонравные школяры. Пусть себе подыхают от скуки, пусть испустят дух на своих тощих добродетелях и подавятся своим слюнявым благонравием. В ковчег, Тиль! В мой литературный ковчег! В нем достаточно солнца и озона. Плесени в нём нет и в помине. И ты будешь в прекрасной компании, заверяю тебя.
Шестая книга — это «Маугли» Редьярда Киплинга, книга о человечьем детёныше, выросшем среди зверей. Эта книга столь же благоуханна, как Песнь Песней. Она поражает своей первозданной свежестью. В ней благородны даже хищники. И они понимают жизнь. Когда во время засухи река Джунглей Вайнгунга пересыхает и всем без изъятья грозит чёрная смерть, кровожадная пантера Багира ложится у остатков воды рядом с ланью. Не в пример матёрым зоологическим болванам из дипломатов и воротил современного Запада, у неё достаёт ума понять, что случаются обстоятельства, в которых единственная форма существования — это сосуществование.
Книга прекрасна своей сказочной реальностью, своеобразной условностью безусловного и живительной новизной. Когда в пятьдесят втором году я, неподвижный и полумёртвый, лежал в инфаркте, я просил читать мне вслух киплинговского «Маугли». С помощью старого добродушного медведя Балу, мудрого питона Каа, свирепой и самоотверженной пантеры Багиры я овладевал наново трудным искусством жить. Друзья Маугли были моими друзьями, и братья Маугли — моими братьями. Опираясь на их могучие плечи, я встал с постели и сел к письменному столу. Сегодня я предоставляю им место в своём ковчеге, и это самое малое, что я должен для них сделать.
Седьмая книга — это несравненные «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Этот чудный поп научил нас важнейшему из искусств — искусству преувеличивать.
Он умел, как никто, балагурить всерьёз и врать взаправду. Он умел доходить до предельных границ дозволенного в искусстве, до самого обрыва Тарпейской скалы, с которой сбрасывали преступивших. Он не боялся, что его сбросят, не боялся и сам оступиться. Обманывая, он не страшился говорить, что обманывает, и потому ему всегда веришь. При этом ты смеёшься вместе с ним над своей доверчивостью, и следовательно, никто не обманут и никто не в проигрыше.
Его чрезмерность — лучшее лекарство от излишнего благонравия, а его дурачества — от глупости.
Он гнал из искусства ханжей и лицемеров, как Христос в евангельской легенде гнал из храма торгашей.
Мне всегда было хорошо и легко с этим изощрённым варваром, так хитро позаботившимся одновременно и о мудром устроении духовной жизни в непорочном Телемском аббатстве, и о скоромных забавах подрастающего Гаргантюа с его податливыми нянюшками.
Он родил своего Гаргантюа через ухо (подобно тому, как Зевс родил мудрую Афину Палладу из головы), показывая, что нет в мире единственных и привилегированных путей. Этим он раз и навсегда разделался с начётчиками, бубнящими по шпаргалкам о единственной дороге в царствие небесное и земное.
Его тёзка Франсуа Вийон, будучи приговорён к смертной казни, воскликнул горестно и недоуменно:
Но как понять, где правда, где причуда?
Рабле, нимало не затрудняясь, ответил на этот вопрос решительно, остро и исчерпывающе. У него правда всегда причудлива и причуда правдива. Для того и другого у Рабле нет различий. Главная обязанность шута не только шутка, но и правда. Если шутка не колюча и не тычет в лицо правдой, не стоит и шутить.
Для того чтобы прийти к этому, нужно мужество и душевное здоровье. Я не знаю другого писателя, который обладал бы таким поистине геркулесовым душевным здоровьем. Люди душевного здоровья необходимы в искусстве как воздух, иначе мы задохнёмся в затхлом мирке тех писателей, которые, как шакалы на падаль, набрасываются на всякую гнильцу, на всё, что с душком, с брачком, с трещинкой, утверждая своим отбором материала, своими творческими устремлениями, что ничего здорового, ясного, надёжного, доброго в мире нет, быть не может и, по-видимому, не должно, что здоровое примитивно и плоско.
За всех этих пророков трещинки и гнильцы я не отдам и мизинца моего жизнелюбивого и мужественного патера Франсуа Рабле, дай бог ему на том свете жирной трапезы, тёплого места у очага и стакан доброго бургундского. Всё это я постараюсь обеспечить ему и в моём ковчеге, а кроме того, всё, чего он пожелает и чем я сам владею.
Восьмая книга — это стихи Владимира Маяковского. Я не люблю Маяковского, и поэтому мне нелегко решиться взять его с собой. Путешествовать по неверным хлябям литературной истории запертым в тесном ковчежке на десять персон, постоянно имея под боком того, кого не любишь, неприятно и трудно. Неприятности и трудности этого совместного путешествия усиливаются тяжёлым и неуживчивым характером Маяковского. Он слишком много якает. Он излишне часто пускает в ход локти, форсируя к тому же свою лужёную глотку. Он постоянно наступает всем на ноги и не считает нужным извиняться.
Он подобен медведю, забравшемуся в посудную лавку. При каждом его неуклюжем движении звенят осколки и летят черепки. Многое из разбитого — штучная дешёвка, которой ничуть не жаль. Но вместе с дрянью, случается, бьётся вдребезги и искусно выделанный редчайший фарфор, и тот магический кристалл, сквозь который только и можно разглядеть «даль свободного романа».
И тут уж ничего не поделаешь. Единственно правильный подход к этому скандальному случаю — подсчитать, чего больше — убытка или, пользы, и в зависимости от подсчётов мириться или нет с крутым нравом и скверным характером медведя. Я почёл за благо примириться и постараюсь объяснить причины своей кротости.
Но прежде не могу не сказать несколько слов о произведённых разрушениях. Их немало, но самые жестокие пришлись на исконно прекрасный русский стих. Хотя Маяковский, гримируясь лестничками, рваными строками и рваными ритмами, и придерживался в основном стародавнего и испытанного ямба, но ямбы его так растрёпаны, развихрены, расшатаны огромным напором, клокочущим темпераментом и бурным движением материала, что их не скоро и узнаешь. Стихи Маяковского — как края пробоины в стальной броне, резкие, рваные, раздирающие нервы, душу и слух. Тебя то мороз по коже продирает, то в жар бросает. Нет с этим поэтом ни минуты покоя, и никакие дольче фарниенто с ним и присниться не могут.
И тут начинается счёт достоинств и прекрасных качеств Маяковского, с лихвой покрывающих все его недостатки. Эти недостатки, к слову сказать, имеют одну превосходную и радующую особенность — это недостатки подлинно современного поэта, и они подчас дороже моему сердцу, чем присыпанные нафталином почтенные достоинства самых почтенных из классиков. Разрушение излишнего почтения к классикам, на мой взгляд, одно из важнейших дел, какие сделал Маяковский. Эта мертвящая почтительность давила нас и ещё продолжает давить, как могильная плита. В этом культе литературных предков теряются иной раз всякие и всяческие масштабы. Достоинства иного из чтимых писателей исчерпываются тем, что он жил сто или двести лет тому назад. По совести говоря, он очень вовремя умер, не оставив своим наследникам ничего, кроме неоплаченных векселей по неоправданным надеждам, но нас почему-то продолжает волновать его малоинтересная деятельность, и мы из года в год проводим китайские церемонии у пустой могилы.
Я глубоко благодарен Маяковскому, много потрудившемуся над уничтожением рабского культа предков и объявившему однажды, и весьма своевременно, что «время пулям по стенкам музеев тенькать».
Эта ненависть к чинопочитанию, угодничеству, всяческим культам всяческих личностей, и особенно культу литературных предков, у Маяковского понятна, потому что он самый современный из современных писателей. Он бесценно современен. Он современен весь, целиком с головы до пят, стихом, душой, материалом, манерой, хваткой, темпераментом, формой, неуравновешенностью, словарём, отношением к прошлому, настоящему и будущему. Он, несомненно, наиболее яркий представитель современности в поэзии, наиболее полно выражающий современность.
В искусстве есть ещё только один человек, который, подобно Маяковскому, весь современность — это Дмитрий Шостакович. К сожалению, он в музыке, и я не могу приютить его в своём литературном ковчеге. Утешаюсь лишь тем, что Маяковский ответит за обоих. Громоносная музыка его стиха сродни музыке Шостаковича. У обоих одни и те же заботы и одни и те же радости, всегда связанные с сегодня и с Левым маршем.
В опере Шостаковича «Нос» есть отличный дуэт балалайки с флейтой. Тут же фигурирует в оркестре в качестве музыкального инструмента обыкновенный венский стул. Я сам видел, как на нём играли барабанными палочками. Выходило хорошо. Маяковский может ещё лучше. Он может играть прямо на вашем черепе. Его нимало не затруднит дуэт пивной бочки и арфы или любовная серенада, сыгранная на собственном позвоночнике. Изобретательность Маяковского безгранична. Его прямота всегда прицельна.
И он боец — всегда и во всём. И первооткрыватель. И первопроходчик. Он профессиональный Колумб. Это его призвание и его специальность. Прекрасная и ни с чем не сравнимая специальность.
Маяковский огромен и гремящ. Его революционный темперамент полностью совпадает с эпохой. Он сам эпоха. И сам революция. Он написал про всё. Место его в моём ковчеге весьма почётное и одно из первых. А что я не люблю его, что ж тут поделаешь. Оттого он не меньше.
Девятая книга — это «Прощённый Мельмот» Оноре Бальзака. Это совсем небольшая книжка, даже не книжка, а всего-навсего рассказ в тридцать девять страниц. Но мне думается, что эти тридцать девять страниц стоят многих томов известнейших и пространнейших сочинений. Это литература, которая больше, чем литература. Она стирает грани между реальным и фантастическим. Это колдовство в превосходнейшей степени. Тут даже не всё сразу и поймёшь. Но это не беда. В один раз ничто хорошее понять невозможно. Понимание придёт потом, позже. На первый случай вполне достаточно изумления и благодарности. Если именно это почувствуете, прочтя «Мельмота», значит, вам стоит заниматься таким трудным и ответственным делом, как чтение книг.
С подобного рода оценками «Прощённого Мельмота» я неожиданно для себя оказался в хорошей компании, прочитав однажды письмо Карла Маркса Фридриху Энгельсу от двадцать пятого февраля тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года. В письме этом говорится следующее: «Кстати о Бальзаке: советую тебе прочесть его «Неведомый шедевр» и «Прощённый Мельмот». Это два маленьких шедевра, полных тонких ироний».
Однако вернёмся к нашему ковчегу.
Итак, девять мест заполнены и остаётся свободным только одно — десятое, последнее и теперь единственное. И оттого, что оно единственное, — мне всего трудней. За дверью ковчега толпится ещё множество достойнейших. Выбрать одного было бы легко, но отвергнуть остальных — просто невозможно. Каждый из отвергнутых столь же значителен и интересен, столь же ярок и неповторим, как и все избранные. Что же мне делать? На что решиться?
В крайнем смятении и ещё не зная, к чему прийти и что предпринять, я выглянул в приоткрытую кем-то Дверь. Этот кто-то, впрочем, тотчас был мной запримечен. Мой милый и быстроумный Тиль, видимо догадавшись о моих затруднениях, поспешил мне на помощь. Опередив меня, он приоткрыл дверь ковчега пошире и поманил кого-то пальцем. И тут всё решилось в одно мгновение и само собой. Передо мной у самого порога стояли тощий и длинный гидальго в измятых латах и коротенький толстяк в поношенной крестьянской одежде. Я узнал их с первого взгляда и распахнул дверь настежь. Нагнувшись, чтобы не удариться о притолоку низкого ковчега, Дон-Кихот вошёл внутрь. За ним протиснулся Санчо Панса, кряхтя и бормоча что-то вроде: «Ну и погодка, прости господи».
Так случилось, что в ковчеге моем вместо десяти постояльцев появилось одиннадцать. Ну что ж. Не беда. Могло случиться, что туда набилось бы бог знает сколько народу. Ведь за дверью всё ещё осталось множество самых неоспоримых кандидатов в лучшие.
Когда я прочёл эту главу нескольким своим приятелям, первое, что я от них услышал, был возмущённый возглас одного из слушателей:
— Как? В ковчеге нет Чехова и Горького? Это невозможно.
Я был смущён, и смущение моё усилилось, когда вслед за этим другой слушатель воскликнул:
— Позвольте, а Гамлет? Где же Гамлет? Тиль есть, а Гамлета нет? Это немыслимо.
Пока этими возражениями дело ограничилось, но думаю, что, если бы я прочёл свои списки ещё и другим, я бы обязательно услышал:
— А Фауст?
— А Кола Брюньон?
— А Одиссей?
— А Жюльен Сорель?
Что я могу ответить на эти и подобные им вопросы? Только одно. Ковчег мой, и я поместил в него тех, на ком побудили меня остановиться мои вкусы, мои склонности, наконец, моя любовь. На всё это нет законов. Математика есть математика, а искусство есть искусство. Оно часто зиждется на никому не ведомых «чуть-чуть», и тут сговоры, оценки, определения и отбор почти никогда не бывают всеобщими. Если вам мой выбор не нравится, заводите себе свои собственные ковчеги и спасайте в них всех, кто вам будет угоден и кто вам по душе.
Вон французский романист и драматург Жан Жироду, готовясь к воображаемой робинзонаде и собираясь на необитаемый остров, брал туда с собой «Манон Леско» аббата Прево и «Персидские письма» Монтескьё. И это понятно. Именно такого рода книги могли быть по душе тонкому и саркастическому Жироду.
Интересен выбор пяти книг, которые предпочёл всем другим космонавт номер четыре Павел Попович. Когда корреспондент «Комсомольской правды» задал вопрос, какие книги взял бы он с собой в кабину космического корабля, если бы мог, Попович ответил: Маяковского, «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, Остапа Вишню, шевченковского «Кобзаря», Есенина.
Набор, как видите, своеобразный. Среди пяти выбранных книг две юмористические. Кроме того, трое из пяти любимых авторов оказались поэтами.
И в данном случае, как и в предыдущем, выбор книг вполне в характере выбирающего — человека, любящего шутку и в то же время склонного к поэтическому.
Уже после того, как вышло первое издание «Сумки волшебника», я при случае спрашивал некоторых из своих друзей касательно их избранной библиотечки из десяти книг. Один из них, автор многих исторических романов, предложил следующий список: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «Война и мир», Тютчев, Бунин, «Три мушкетёра», «Давид Копперфильд», Чехов, Мопассан.
Другой не столь известный, сколь оригинальный писатель пожелал взять с собой в воображаемый ковчег Библию, «Дон-Кихота», «Илиаду», «Гулливера в стране лилипутов», «Гамлета», письма Чехова, Диккенса, «Робинзона Крузо», «Героя нашего времени».
После этого я стал просматривать архив своих газетных вырезок и обнаружил, что любимые авторы академика Соболева — Чехов и Тургенев, что первая книга школьников — «Три мушкетёра», что альпинисты — участники штурма пика Победы высотой более семи тысяч метров — брали в труднейший поход сверх своего большого груза по одной любимой книге. Таким образом, на одну из высочайших горных вершин мира поднимались вместе с альпинистами Юрий Олеша, Сергей Есенин, Омар Хайям и... «Элементарная физика плазмы».
На вопрос корреспондента газеты «Смена» Вит. Засеева, какие три книги взяты были бы в случае грядущей командировки на Марс, композитор Вано Мурадели ответил: «Пушкин, том в котором есть «Вакхическая песня», и „Война и мир"». Директор Государственной библиотеки Ленина в Москве И. Кондаков брал с собой тоже Пушкина, а кроме того, «Войну и мир» и шолоховскую «Поднятую целину». Актёр Михаил Ульянов предпочитал «Братьев Карамазовых», Игорь Ильинский — «Войну и мир», Леонид Утёсов — Расула Гамзатова, Михаила Светлова и «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Композитор Александра Пахмутова не могла обойтись без «Евгения Онегина», актёр Серго Закариадзе — без «Витязя в тигровой шкуре».
Другие, опрошенные лично мной, в ковчег забирали кроме перечисленных книг ещё К. Паустовского, М. Цветаеву, Шолома Алейхема, Г. Гейне, А. Блока, Э. Хемингуэя, Х. Андерсена.
Как видите, каждый из опрошенных мной и другими делал иной, отличный от моего выбор. То же было бы, вне всяких сомнений, если бы продолжать эту анкету и опрашивать других людей. Каждый раз списки любимых книг были бы или частично несхожими, или даже вовсе иными, чем у других. И это нетрудно понять. Ведь чтение книги — это акт творческий, в который всякий раз читающий привносит свой жизненный опыт, свои нравственные правила, с которыми он и подходит к оценке прочитанной книги. И, понятно, у каждого составилась за его долгую читательскую жизнь своя собственная десятка избранных и любимых. Думается, что это-то и всего важней, всего отрадней в нашем случае. А что десятки у многих могут оказаться иными, чем моя, да, пожалуй, и столь же спорными, — ну что ж. Я не вижу в том беды. Давайте спорить.
Чтобы быть писателем
Руки мастера
Когда я впервые в жизни поднялся в воздух на самолёте, меня поразили не ощущения полёта, к которым я скоро привык, а земля, увиденная сверху, неожиданная очевидность, наглядность преображения её человеком.
Внизу, передвигаясь по земле пешком или в машине, мы всегда видим лишь малую дольку её, тупичок, ограниченный стеной дома, рощицей, луговиной, чуточный лоскуток её поверхности, который может оглядеть незоркий наш глаз.
И только поднявшись в воздух, открываешь неоглядные пространства её, зримый чертёж сделанного на земле. Светлая стрела шоссе рассекала подо мной тёмные купы зелени.
Мягко изогнувшись на большом округлом повороте, убегали к краю земли блестящие полоски рельсов. Меж холмов прилёг городок. Дружно скученные прямоугольники домов разграфлены строгими линиями улиц и переулков. Через стеклянные речки протянулись палочки мостов. Строго расчерченные, лежали в стороне от них разноцветные полосы посевов.
Только плоскости и линии видны были сверху отчётливо и резко, только чертёж сделанного. Подо мной была земля, преображённая руками человека.
Я всегда любил руки и всегда завидовал людям, делающим вещи. Будучи сам гуманитарием, я носил в себе давнюю неприязнь к профессиям гуманитарным я особую приверженность к действователям и делателям вещей.
Я, конечно, понимаю, что прежде чем сделать вещь руками, её надо вымыслить головой. Я не могу не видеть, не уяснять себе, что нужны и теоретики-биологи, и педагоги, и другие гуманитарии. Я понимаю, что важно не только вырастить хлеб и построить дом, но и окрылить душу человека. Но понимание пониманием, а склонность — статья особая.
Вот почему и в художнике я всегда ценю не только художника, но и уверенного ремесленника, хорошо знающего своё дело. Вот почему и в своём писательском деле я очень люблю ремесленную его часть, ту работу, которая непосредственно связана с материалом, из которого всё и делается.
Как понятна мне радость старого Кола Брюньона, который весь искрится, говоря: «Вооружённый топориком, долотом и стамеской, с фуганком в руках, я царю за моим верстаком над дубом узлистым, над клёном лоснистым. Что я из них извлеку?.. Сколько в них дремлет форм таящихся и скрытых! Чтобы разбудить спящую красавицу, стоит только, как её возлюбленный, проникнуть в древесную глубь... Как хорошо стоять с инструментом в руках у верстака, пилить, строгать, сверлить, тесать, колоть, долбить, скоблить, дробить, крошить чудесное и крепкое вещество, которое противится и уступает, мягкий и жирный орешник, который трепещет под рукой... Радость верной руки, понятливых пальцев, толстых пальцев, из которых выходит хрупкое создание искусства! Мои руки — послушные работники, управляемые моим старшим помощником, моим старым мозгом, который, будучи сам мне подчинён, налаживает игру, угодную моим мечтам. Служили ли кому-нибудь лучше, чем мне? Ну чем я не царёк?»
Мне отрадно вместе со старым неуёмным Кола петь этот вдохновенный и радостный гимн ремеслу, гимн рукам мастера, преображающим материал в угоду чудному вымыслу. Под руками у меня не «дуб узлистый», не «клён лоснистый» и не «мягкий жирный орешник», а слово, но никакой разницы от того нет. Мой материал так же «трепещет под рукой», как и материал старого резчика. Слово, так же как и дерево, «противится и уступает», с той разницей, что противится всегда, а уступает далеко не всегда. И как же мучительно бывает иной раз это противление. Помню, я как-то сидел у Анны Андреевны Ахматовой, и мы заговорили об этом трудном в писательской работе. Я взмолился:
— Анна Андреевна, как же приходит слово? Скажите, как это у вас?
Анна Андреевна ответила в раздумье:
— Это ведь по-разному. Как когда. Я на этот вопрос дала подробный ответ в стихах. Вот. Называется «Последнее стихотворение».
Анна Андреевна взяла со стола тетрадку с высокими длинноватыми страницами и прочитала сдержанно и чуть нараспев:
Одно, словно кем-то встревоженный гром, С дыханием жизни врывается в дом, Смеётся, у горла трепещет, И кружится, и рукоплещет. Другое, в полночной родясь тишине, Не знаю откуда крадётся ко мне, Из зеркала смотрит пустого И что-то бормочет сурово. А есть и такие: средь белого дня, Как будто почти что не видя меня, Струятся по белой бумаге, Как чистый источник в овраге. А вот ещё: тайное бродит вокруг — Не звук и не цвет, не цвет и не звук, — Гранится, меняется, вьётся, А в руки живым не даётся. Но это!.. по капельке выпило кровь, Как в юности злая девчонка — любовь, И, мне не сказавши ни слова, Безмолвием сделалось снова. И я не знавала жесточе беды. Ушло, и его протянулись следы К какому-то крайнему краю, А я без него... умираю.«Последнее стихотворение» входит в цикл стихов Анны Ахматовой, носящий название «Тайны ремесла». Эти, иногда вовсе не тайные, тайны есть у каждого художника, у каждого писателя. У всякого они как будто свои, особые, и в то же время они всеобщи. «Радость верной руки», о которой так прекрасно рассказал нам старый Кола, испытывал и испытывает всякий художник и всякий ремесленник. Это очень радостная радость, очень полнящая, очень чистая. Я люблю её. Я люблю свой верстак, возле которого она селится. Я люблю его, пожалуй, сильней, чем заоблачные обиталища муз.
Работа за письменным столом мне больше по душе, чем выдумывание и обдумывание. Отдельно от стола, от лежащего передо мной листа бумаги, я вообще думаю с натугой и плохо. Только с пером в руке думается о работе и путях её хорошо, с той точной направленностью, с той ёмкостью и находчивостью, с той полнотой прикреплённости каждой конкретной мысли к общему, с той ладностью и настроем, при которых руки делают то, чего просит душа и что измыслила голова.
Всё в эти добрые часы и минуты делается с той расчётливой удачливостью, при которой обязательно найдёшь нужные слова и нужную мысль. Всё делается с рабочей одухотворённостью, которую, верно, и надо считать и называть вдохновеньем и которая одна может преображать нематериальную мысль в материальную строку, ей равнозначную.
Это вдохновение обязательно связано с увлечённостью своей работой, своим ремеслом. Без этой ремесленной увлечённости оно не является. Натуживаясь мыслью, его не вызовешь. Даже сердечной радостью его не родишь. Оно не наитие, как принято думать. Оно — рабочее состояние, связанное с самим процессом работы. Охотиться за ним в отъезжем поле и призывать, дуя в охотничий рог, — напрасный труд. Оно приходит только к верстаку, когда сидишь, так и сяк примеряясь, как бы поплотней и половчей сбить слова в строку и в сцену, как их вычертить, выплести, вылепить, высечь. А потом сидишь, прищуря жадный, ищущий и весёлый глаз, меряя не зримым никому мерительным инструментом — хорошо ли сделалось. И случается, смеёшься от радости, что так хорошо сделалось. А наутро, увидя, что всё не так и не то, перечеркнёшь сделанное, переиначишь и начнёшь всё сызнова.
Жестокая работа. Отчаянная работа. Истощающая и радостная. Мастерская дятла. Школа мужества и терпения. Школа всех свершений в искусстве. В ней обучались все великие. И через неё должны пройти все малые. И когда художник, стоя на распутье, не знает, что делать и куда идти, часто спасает ремесло. Горький советовал стоящему на распутье: начни работать, и работа сама начнёт тебя учить. Не напрасно и самый талант Алексей Максимович определял как любовь к труду.
Чтобы прочно жить в искусстве, нужно знать ремесло, и не просто знать, а отлично знать. Художник — обязательно мастер.
— Это верно, — подтвердил Константин Федин, когда я прочёл ему эту главу. — Художник — обязательно мастер.
Он задумался. Потом заговорил, привычно обжимая потухшую трубку длинными, цепкими пальцами и уставясь в меня огромными выпуклыми глазами:
— Вот. Послушайте. Как раз ваш материал. В тридцать втором году я гостил в Вильневе у Ромена Роллана. Мы сидели в его кабинете. Я обратил внимание, что на рукаве Роллана повязка из чёрного крепа. Я, конечно, не спросил, почему сегодня на нём этот траурный креп. Но он перехватил мой взгляд в его сторону и сказал: «Это память об отце. Сегодня годовщина его смерти». Мы долго сидели в кабинете. Потом прошли в столовую. И здесь я увидел массивный буфет, крепко и добротно выделанный, по-видимому, из того самого дуба узлистого, который так любил пилить, строгать и тесать весёлый искусник Кола. Буфет украшен был превосходной резьбой. Деревянные розы и плоды виделись как живые. Я залюбовался отличной работой. Роллан сказал: «Это его работа. Моего Кола. Я ведь с него, с моего отца, писал Кола Брюньона. Он умер девяноста трёх лет от роду».
Константин Александрович кончил свой недлинный рассказ. Я повторил машинально:
— Девяноста трёх лет от роду...
Я думал о старом неуёмном Кола и о том, другом, кто выделал прекрасную, долговечную вещь... Его уже нет. А сделанное им есть, живёт и долго ещё будет жить. Мастерски сработанные им плоды и цветы и сейчас радуют глаз и веселят сердце. Мастер умирает. Мастерство его остаётся людям. Оно радует и учит.
Мастер приходит в этот мир, чтобы радовать и учить. И при этом он сам учится. Учится всегда и у всех — от Рождения до последнего своего часа. И, учась, совершенствуется в трудном своём деле и совершенствует самое дело.
В этом непреходящая радость и некорыстная плата за мастерство, которую щедро получает всякий мастер.
Музы-пророчицы
Эта удивительная и правдивая история поведана нам Пушкиным в «Пророке».
Вы, конечно, знаете пушкинского «Пророка» не хуже, чем я. Но всё же, чтобы проверить ещё раз мысли, связанные с этим блистательным стихотворением, давайте прочтём его ещё раз.
Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, — И шестикрылый серафим На перепутьи мне явился; Перстами лёгкими как сон Моих зениц коснулся он: Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полёт, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник И вырвал грешный мой язык, И празднословный, и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассёк мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнём, Во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли. Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей».Итак, всё было кончено. Глаза, уши, язык и сердце были приведены к тому состоянию, которое необходимо поэту. Но почему необходимо? Для какой цели?
Цель эта явственно указана в последних строках «Пророка»:
И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей.Жгучая требовательность этих строк подводит итог всему предшествующему. Они — прообраз приказа по армии искусств, который сто лет спустя отдал Владимир Маяковский, требуя подлинного искусства и выводя на гулкие мостовые истории барабанщиков и поэтов.
В начале этой главы я говорил, что история, рассказанная в «Пророке», удивительна и правдива. Но поразмыслив, я пришёл к убеждению, что, будучи безупречно правдивой, она, в сущности говоря, совсем неудивительна и даже, напротив, обычна — для писателя во всяком. случае.
То, что случилось с поэтом в «Пророке», рано или поздно должно случиться и случается со всяким настоящим писателем.
Всякий настоящий писатель, который посвятил дни делу своему и отдал ему и мозг и душу, обязательно в один из дней должен прозреть и увидеть мир таким, каким никогда не видел.
Впрочем, это, конечно, не делается в один миг. Процесс прозрения длится всю жизнь. Способность остро воспринимать, накапливаясь каждодневно в количестве, однажды, вследствие особо благоприятного стечения обстоятельств, вдруг становится новым и поражающе заметным качеством. Это обжигает и приподнимает над самим собой. Это как удар молнии, разом озаряющей весь мир. Тот, кто пережил миг подобного озарения, никогда забыть его не сможет. Это остаётся навеки. Острота восприятия не притупляется временем. Увидевший однажды далеко и много сохраняет свой драгоценный дар навсегда.
Я сказал: рано или поздно это случается с каждым настоящим писателем. Рано или поздно он начинает улавливать утончившимися чувствами тайное тайных земли и неба, морей и недр, слов и чувств. Предела изощрённости в познании окружающего мира нет, как нет предела самому миру.
Нет поэтому ничего невероятного в том, что поэт в «Пророке», обретя чрезвычайную остроту восприимчивости, слышит «дольней лозы прозябанье».
И это не только счастливый удел пушкинской музы. В стихотворении «Творчество» Анна Ахматова так говорит об удивительном состоянии обострённости чувств, возникающем у поэта в минуты душевного подъёма:
Бывает так: какая-то истома; В ушах не умолкает бой часов; Вдали раскат стихающего грома. Неузнанных и пленных голосов Мне чудятся и жалобы и стоны, Сужается какой-то тайный круг, Но в этой бездне шепотов и звонов Встаёт один, всё победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, Что слышно, как в лесу растёт трава.Эта утончённость восприятия окружающего мира в конце концов доступна не только поэту в часы поэтического напряжения всех его душевных сил, как у Ахматовой, равнозначного напряжению и обострённости всего существа у пушкинского пророка после встречи с серафимом. Это может случиться и с самым обыкновенным человеком при определённых обстоятельствах, благоприятствующих высокому строю чувств и ощущений.
В «Анне Карениной» Левин на охоте, отстранившись от всего постороннего и слившись с окружающим его зелёным миром, начинает видеть, «как трава растёт», то есть та самая «дольняя лоза», прорастание которой улавливает обострёнными чувствами поэт в «Пророке». Оба случая сходны: Лев Толстой описывает то же, что описывал Александр Пушкин, что позже описала Анна Ахматова. В своей пьесе-сказке «Пиппа пляшет» Герхард Гауптман идёт ещё дальше. Один из персонажей пьесы, поэт и музыкант Михель Гелльригель, даже «зимой слышит, как растёт трава».
Но видеть и слышать, «как растёт трава», — это ещё не предел обострённости, чувств и состояний. Человеку и поэту доступно и большее. Вот что, например, рассказывает Илья Эренбург в книге «Годы, люди, жизнь» о своей встрече с Анной Ахматовой в июле сорокового года: «Когда я вернулся в Москву, ко мне пришла А. А. Ахматова, расспрашивала о Париже. Она была в этом городе давно — до первой мировой войны, не знала подробностей его падения. В представлении некоторых критиков Анна Ахматова — «поэтесса интимных чувств с крохотным мирком». Анна Андреевна прочитала мне стихотворение, написанное ею после того, как она узнала о падении Парижа. «Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Крапиве, чертополоху украсить её предстоит. И только могильщики лихо работают. Дело не ждёт! И тихо, так, господи, тихо, что слышно, как время идёт. А после она выплывает, как труп на. весенней реке, — но матери сын не узнает, и внук отвернётся в тоске. И клонятся головы ниже, как маятник ходит луна. Так вот — над погибшим Парижем такая теперь тишина». В этих стихах поражает не только точность изображения того, чего Ахматова не видела, но и прозрение. Часто теперь я вижу ушедшую эпоху, «труп на весенней реке». Я её знаю и не ошибусь; а для внуков она призрак, не то снесённый причал или перевёрнутая лодка».
Приведённый рассказ Эренбурга примечателен во многих отношениях, но важнейшим в нём мне кажется свидетельство достоверности безграничных возможностей поэта, а возможность, как сказал один философ, «заряжена неистовым стремлением к осуществлению». И в этом неистовом стремлении осуществить, предъявить миру свои возможности поэт способен к тончайшим и проникновеннейшим методам познания мира. Он способен не только видеть и слышать, как прорастает трава, но ему «слышно, как время идёт».
Сколько спорят, говорят, пишут физики-теоретики и философы о материальности времени, и сколько ещё тут недоказанного и недосказанного. Астроном Н. Козырев пытался досказать до конца это недосказанное, приблизить категорию времени к возможностям нашего чувственного восприятия, придать понятию времени почти наглядную вещную материальность. И всё было напрасно. Споры о категории «пространство — время» остались в сфере теоретической и недоступной нашим чувственным восприятиям. Учёные не смогли сделать время для наших представлений о нём категорией достоверно материальной. Но вот пришёл поэт и сказал: «И тихо, так, господи, тихо, что слышно, как время идёт». И нам уже не надо никаких иных формул, утверждающих материальность времени. Мы уже вместе с поэтом «слышим» его течение.
Вместе с поэтом мы не только слышим неслышимое, но и видим невидимое. И на это способен озарённый прозрением поэт. И если Эренбург свидетельствует «точность изображения того, чего Ахматова не видела», то можно смело доверять этому свидетельству. Ведь речь идёт о Париже, о том, что Эренбургу ведомо досконально, что он, Эренбург, видел своими глазами.
Такова сила поэтического прозрения. Таково волшебство муз, передающих свой дар прорицания и прозрения тем, кто «духовной жаждою томим». Пушкин писал об этом акте передачи дара волшебства с поражающей вещностью и верностью истине.
Вполне совпадает с истинным положением вещей и вся история организации языка, описанная в «Пророке». «Празднословный» язык, пригодный для малозначащей болтовни о малозначащих пустяках, не годится для работы за письменным столом. Нужно слово весомое и доброе, горячее и мудрое, несущее людям твои духовные богатства и духовные богатства других. Иным словом жечь сердца людей невозможно.
Не пригоден писателю и «лукавый», то есть лживый, язык. Не с лукавством, а с открытым сердцем идёт к людям писатель. Овладение языком — процесс длительный, трудный и подчас болезненный. Многое тут действительно приходится вырывать так решительно, как это совершается в «Пророке». И снова знакомые уже нам магические преображения. Языковые накопления и языковые поиски длятся целую жизнь, а озаряющие находки внезапны, как ожог.
Ещё несколько слов о сердце поэта. То, что совершается в «Пророке» с сердцем поэта, — как всё прежнее, и волшебство и правда. Не заменив мускульный комок, занятый только перегонкой крови, на «угль, пылающий огнём», ничего в искусстве не сделаешь.
Подлинное искусство всегда подлинно человечно и требует всего человека без остатка — всех его качеств, всех способностей, всей жизни: от первого крика до последнего вздоха. Иначе искусство в человеке жить не может. Частицей тут не отделаешься. И половинчатые решения в этом случае невозможны. Поэтому и неизбежны трудные и обновляющие встречи с серафимом. При этом каждый встречает своего серафима в своей пустыне.
Мне, пожалуй, возразят: почему же обязательно в пустыне? Можно же встречаться в других, более приятных местах. Нет. В стихотворении «Поэт» Александр Пушкин снова повторяет: пустыня. До поры до времени поэт живёт в этом мире рядом с другими людьми, ничем от них не отличаясь. Но когда его потребует «к священной жертве» Аполлон, поэт вырывается из обыденного жизненного строя.
Бежит он, дикий и суровый, И звуков, и смятенья полн, На берега пустынных волн, В широкошумные дубровы...Нарисованная в этих строках картина верна и точна. В высокие минуты творческого напряжения нужно остаться наедине с самим собой, чтобы без помех и без утаек раскрыть сундуки накопленных за целую жизнь богатств, и, выбрав самое драгоценное, сделать из них наилучшее, что можно сделать. Юрий Тынянов недаром утверждал: «Пишут, как любят, — без свидетелей».
Но одной отъединённости, одной пустыни ещё мало. Не только она нужна для начала магических перемен и высоких прозрений. Нужно ещё прежде того, чтобы поэт, как это сказано в первой строке «Пророка», был «духовной жаждою томим».
Всё начинается с духовной жажды. Если эта жажда не томит, ничего не будет: никаких побуждений к свершениям и никаких колдовских перемен с глазами, ушами, языком и сердцем. Не будет и самого поэта как поэта. Душа его будет продолжать вкушать «хладный сон», и он останется ничтожнейшим «меж детей ничтожных мира».
Не лишним будет заметить, что встреченный поэтом в пустыне серафим был шестикрыл. Я не настаиваю на шести крыльях, но крылатость потребна обязательно. Такое уж наше дело, что без окрылённости в нём не обойтись даже в том случае, если серафим будет вовсе не серафимом, а просто жизнью живой, которая и проделывает с нами все прекрасные и жестокие операции, о которых шла речь. Иносказательность серафима — это просто поэтический шифр, который ничуть не меняет ни существа дела, ни смысла. Высоким смыслом исполнена каждая строка «Пророка». Всё в этих строках — волшебство и полёт в Прекрасное, всё — от заголовка до последней точки.
К слову о заголовке. Он в такой же мере и иносказателен и реален, как серафим, как всё, что заключено в строках и меж строк.
А всё же — почему именно «Пророк»? Ведь очевидно же, что речь идёт о поэте, который рассказывает о себе, о своём жребии и назначении, о том, что сам испытал в мрачной пустыне своих трудных исканий.
В чем же тут дело? И где же искать ответ на мудрёный вопрос? Я думаю, что верней всего обратиться к первоисточнику всех поэтических чар — к музам, к которым в трудных случаях и сам Пушкин обращался с прямым призывом. Обратясь по этому адресу, мы с радостной и неожиданной для себя лёгкостью установим кровную родственную связь поэзии и пророчества. Ведь музы некогда обладали даром пророчества, полученным от Аполлона. Им Аполлон наделял тех, кому покровительствовал и кем предводил. Покровительство музам было древнейшей прерогативой бога искусств, а предводительство ими закреплено даже в прозвище, данном Аполлону эллинами, — Мусагет. Кстати, дивным даром прорицания наделены были и музы древних римлян — камены, которые в самом своём наименовании несли своё назначение, так как слово «камены» означает «поющие и предсказывающие».
Поэт и пророк, оказывается, не только родные братья, но просто сиамские близнецы, так нераздельно сросшиеся, что один без другого жить не могут. Во всяком пророчестве всегда присутствует поэзия. И в подлинной поэзии обязательно присутствует провидение, раздвигание границ обычных представлений, и ещё обязательно — говорение от лица многих. Слово «пророк» в переводе с греческого и означает: «говорящий от лица кого-либо».
Ромен Роллан утверждал в одном из очерков своих, посвящённых музыке: «Самые великие — Гендель, Бах и Бетховен думали за себя, говорили же за всех». На том же стоял Белинский, когда писал о Лермонтове «Великий поэт, говоря о себе самом, о своём я, говорит об общем — о человечестве, ибо в его натуре лежит всё, чем живёт человечество. И потому в его грусти всякий узнаёт свою грусть, в его душе всякий узнаёт свою.
Те же мысли неоднократно высказывал и Горький, настаивавший на том, что подлинный поэт не может быть только «сторожем своего сердца», но обязан стать «ухом мира». Подразумевается, конечно, что не только ухом мира, но и глазами, и языком, и сердцем, и совестью мира. Да. Именно так.
Широте писательской часто мешают предвзятость и узенькое понимание своего дела, своей миссии, своих прав, своего назначения. Очень замораживают многих сугубая приверженность к жанровым самоограничениям и нарочитая уважительность ко всякого рода нормативам, неведомо кем и неведомо когда установленным.
Очень боятся при этом преступить границы здравого смысла, сильно преувеличивая его значение. В искусстве нужно озирать мир не только глазами здравого смысла, не только блёклыми глазами Санчо Пансы, но и сверкающими, диковатыми глазами гидальго Дон-Кихота. Нужно видеть в жизни не только то, что есть и что видит уравновешенный Санчо, но и то, чего нет для него, что открывается только глазам воображения, что дано видеть одному Дон-Кихоту. И если это иногда не совсем то, что есть на самом деле, — не беда. Не бойтесь за здравый смысл. Дон-Кихот столь же необходим всякому писателю, как Санчо Панса. Больше того, сам писатель должен быть и Санчо Пансой и Дон-Кихотом одновременно. В этом состоит одна из многих, очень многих, трудностей писательской профессии.
В мастерской дятла
Вы видели, как работает мастер дятел? Приглядитесь при случае, — это очень поучительно. Честное усердие и трудоспособность мастера дятла меня всегда поражали.
Он работает не жалея сил, не зная слабых ударов и прохладцы. Голова-молот и клюв-долото делают для каждого удара такой замах, какой только позволяет шея. И в каждый удар он вкладывает силу всех мышц и вес всего тела.
Он весь в работе — от острия клюва до кончика хвоста, дающего прочную и незыблемую опору мастеру при нанесении удара. Механизм удара чудно согласован во всех звеньях. Мастер дятел превосходно владеет рабочим приёмом. И он не ленится повторять. Чертовски добросовестный мастер, внушающий уважение и невольное желание подражать.
Каждый из тех, кто работает в искусстве, обязательно убывает хоть изредка в мастерской дятла. Ведь каждый работающий в искусстве одновременно и ремесленник, хотя не всякий ремесленник доходит до искусства.
Мне довелось побывать в мастерской дятла в годы, когда я к искусству не имел ещё ни малейшего отношения. Случилось это при следующих обстоятельствах.
Однажды на уроке музыки, который давал мой брат консерваторист Абрам, я услышал, как один из его учеников (помнится, звали его Толей) играл на рояле «Знаменитый менуэт» Моцарта. Менуэт пленил меня своей гармоничностью и строгим очарованием неземной логики. Мне было четырнадцать лет, и я никогда в жизни не прикасался к клавишам рояля. Тем не менее, слушая, как Толя играет менуэт, я твёрдо положил себе, — так же как он, сесть однажды за рояль и сыграть эту чудесную вещицу.
Как только урок кончился, я подошёл к Толе и попросил его научить меня разбирать нотопись и находить нужные ноты на клавишах. Толя, которому явно льстила роль учителя, ревностно принялся за моё музыкальное образование и в течение двадцати минут обучил меня всему, что, по его мнению, мне должно было знать, записав потребное на обрывке обёрточной бумаги, расчерченной им нотными линиями и покрытой нотным знаками.
На этом и закончился взятый мной у Толи первый и последний урок музыки. Важно закурив толстую папиросу, Толя медленно удалился, а я сел за рояль поставил перед собой на пюпитре ноты и принялся за работу.
Процесс разучивания менуэта был долог, кропотлив и проходил так. Я смотрел в нотный лист и, выбрав нужную ноту, сверялся с памятной бумажкой, оставленной Толей, определяя, как нота называется. Потом по этой же записке я определял, на каком месте клавиатуры эта нота находится, и ударял по клавише. Нота была взята. Она прозвучала. С ней было покончено.
Каждую ноту, каждый такт, каждую музыкальную фразу я повторял по тридцать — сорок раз и, только твёрдо заучив, двигался дальше. Я не играл, а долбил клавиши, как дятел долбит сосновый ствол. Позже, прочтя впервые в жизни название книжки Михаила Пришвина «Мастерская дятла», я вспомнил, как сорок лет тому назад долбил клавиши несчастного рояля, и рассмеялся. Я знал, что такое мастерская дятла. Я поработал в ней.
Спустя месяц я позвал брата в комнату, сел за рояль и сказал, заранее торжествуя:
— Слушай.
И без запинки сыграл наизусть весь «Знаменитый менуэт» Моцарта от начала до конца.
Я играл как заводной музыкальный ящик, без ритмических оттенков и без малейших намёков на какие-нибудь нюансы. Но всё же я играл, и играл верно, А это составляло всё, что мне нужно было.
Брат тут же стал убеждать меня заниматься музыкой и даже брался давать мне уроки. Но я отказался. Я в те дни ещё не жаждал музыки. Я ещё не понимал Мне просто нужно было сыграть «Знаменитый менуэт» Моцарта, который полюбился мне. И я сыграл его, хотя играть и не умел.
Мастер дятел, наверно, был бы доволен мной. Он-то знал, что значит упорство. Узнал это и я. А позже узнал, сколь драгоценно оно в искусстве и сколь необходимы человеку, живущему в искусстве, бесстрашие и уверенность в том, что ты сможешь сделать задуманное.
Практика в мастерской дятла удалась. Этот месяц упорных трудов был превосходной школой. Кстати, в мастерской дятла учатся не только делать, но и думать, потому что за работой люди думают. Я не только начал играть на рояле, но начал и думать о музыке. Привёл меня к этим новым мыслям и новым чувствам Моцарт, биографию которого я тотчас раздобыл в городской библиотеке. Я не помню ни названия, ни имени автора этой книжки, но помню, что читал её, как захватывающий приключенческий роман.
Так пришёл ко мне Моцарт, без которого, я знаю, многого не было бы во мне и у меня. В частности, не было бы маленького романа «Как мимолётное виденье», герои которого, сидя в филармонии, слушают «Прощальную симфонию» Гайдна и «Деревенскую симфонию» Моцарта. Кстати, сам Моцарт, я полагаю, был постоянным и неустанным работником в мастерской дятла. Музыку Моцарта часто называют «музыкой души». Она пленяет своей гармоничностью, грациозностью, лёгкостью, какой-то удивительной душевной весёлостью и непосредственностью. Слушателям её могло показаться, что чудесный и неиссякаемый поток лился неведомым волшебством сам собой, без всяких усилий со стороны создателя её.
О, как далеко это было от истины. В посвящении Гайдну, предваряющем шесть струнных квартетов, Моцарт называет их «плодами долгого и тяжкого труда».
Труд — неустанный, беспрерывный, тяжёлый труд — был Уделом всей жизни этого «солнечного гения». Прожив всего тридцать пять лет, Моцарт написал сорок девять симфоний, шестьдесят семь сонат и вариаций, двадцать три оперы и других театральных произведений, тридцать два струнных квартета, пятьдесят пять концертов, шестьдесят восемь месс, хоралов, гимнов, а также более трёхсот пятидесяти других опyсов, преподавая в то же время музыку и разъезжая с концертами.
Наследником моцартовского трудолюбия явился родившийся через шесть лет после смерти Моцарта Франц Шуберт. Он прожил ещё меньше, чем Моцарт, — всего тридцать один год, но музыкальное наследие его огромно: более тысячи произведений, из которых одних романсов и песен около семисот.
Моцарт и Шуберт были не единственными почитателями и последователями мастера дятла в музыкальном мире. Современник Моцарта итальянский композитор Доменико Чимароза в течение тридцати лет написал семьдесят пять опер, а кроме того, большое количество ораторий, месс, симфоний, фортепьянных сонат.
Сто четыре симфонии написал за свою жизнь старший друг Моцарта Иосиф Гайдн. Но и это не предел трудодеяния. Антонио Вивальди создал четыреста сорок шесть концертов, среди которых только одних скрипичных двести двадцать один. Александр Скарлатти был автором пятисот сорока пяти сонат.
Ещё раньше Моцарта, Шуберта, Чимарозы и других явлен был миру непревзойдённый пример творческого трудодеяния. Боготворимый Моцартом Иоганн Себастьян Бах был для него великим образцом великого трудолюбия. Жизнь Баха была жизнью труженика. Каждый день и каждый час её были исполнены настойчивых и страстных трудов. Трёхсот двадцати кантат и примерно такого же количества других опусов достало бы на то, чтобы заполнить творческую жизнь доброго десятка композиторов.
Пришедшие на смену Баху показали себя достойными наследниками его. Музыка жила в них, как песня в горле соловья. Шуман говорил о Шуберте, что «всё, к чему он прикасался, превращалось в музыку».
Вместе с музыкой, и нераздельно с ней, жила в наследниках Баха — великого музыкотворца и великого трудолюбца — и радость творческого труда, и жажда его. Дожила она, к счастью, и до наших дней.
Лучший и первый из творцов музыки нашего века Дмитрий Шостакович говорил: «Работать нужно непрерывно... Это относится к любому композитору».
Да, это относится к любому композитору, но не только к композитору. Упорный труд, ежедневную напряжённую работу знают не одни творцы музыки, но и её исполнители. Лёгкость и непринуждённость, поражающие нас у скрипачей и пианистов-виртуозов, заработаны огромным методичным, неустанным трудом. Всесветно знаменитый скрипач Никколо Паганини говорил, что, если он не поиграет на скрипке всего один день, он себя не узнает, а если не поиграет два дня, его не узнают уже и слушатели.
Поучителен переданный журналистом В. Кривошеевым рассказ пианиста Артура Рубинштейна о том, как он упражняется в игре на рояле даже тогда, когда лишён возможности сидеть за инструментом. «Технику я отрабатываю на столе, — говорил Рубинштейн. — У меня есть упражнения, в которых я тренирую каждый палец. Я могу это делать в кинематографе. Сижу, а сам делаю так: тари-тари-ра (показывает, как он по колену «играет» пальцами). Никто не слышит».
Надо сказать, что в мастерской дятла трудились не только музыканты. Живописцы, пожалуй, не менее трудолюбивы. И повелось это давно. Апеллес, славнейший художник древности, придворный живописец Александра Македонского, живший более двух тысячелетий тому назад, по свидетельству римского натуралиста Плиния Старшего, «имел обыкновение, как бы он ни был занят, ни одного дня не пропускать, не упражняясь в своём искусстве, проводя хоть одну черту; это послужило основою для поговорки».
Это записано Плинием на страницах известнейшего труда «Естественная история». Столь солидное свидетельство заслуживает доверия. Кстати, поговорка, упоминаемая Плинием, была в большом ходу среди римлян и гласила: «Nulla dies sine linia» — «Ни одного дня без линии».
Поговорка пережила Апеллеса и Плиния больше чем на две тысячи лет. Эмиль Золя на вопрос анкеты-интервью журнала «Ревю иллюстре»: «Ваш девиз?» — ответил: «Ни дня без строчки». Старую поговорку Апеллеса — Плиния приводили в своих письмах Иван Франко, Фридрих Шиллер, Ромен Роллан, которые сами были большими трудолюбцами.
Апеллес был не единственным живописцем, деятельно работавшим в мастерской дятла. Гениальный Рембрандт оставил после себя шестьсот тридцать полотен и полторы тысячи рисунков, не считая сотен гравюр и офортов. Впрочем, биографы великого живописца утверждают, что всё это, «по-видимому, малая часть действительно существовавших работ Рембрандта».
В наши времена многие художники шли за великими их путём деятельного трудодеяния. Василий Верещагин, изъездивший полмира и привозивший отовсюду сотни этюдов, написал по ним более тысячи картин. Блестящий маринист Иван Айвазовский был ещё продуктивней и, если верить свидетельству современников, написал шесть тысяч картин.
Однако и это ещё не предел трудодеяния в искусстве. Выдающийся японский живописец, рисовальщик, мастер гравюры на дереве Кацусика Хокусаи, прожив сорок лет в восемнадцатом веке и почти полстолетия в девятнадцатом, сделал за долгую свою жизнь в общей сложности тридцать тысяч картин, рисунков, гравюр. Но вот недавно в Москве, Ленинграде, Киеве, Днепропетровске и других городах, состоялась выставка рисунков московской школьницы Нади Рушевой. Я расскажу об этой изумительной художнице в отдельной главе — «Надя, сиренки, Пушкин», сейчас скажу только, что, умерев семнадцати лет от роду, Наденька, несмотря на столь короткую жизнь, оставила богатое творческое наследие — десять тысяч рисунков, и каких рисунков! Можно, оказывается, и мало прожив, многое сделать. Жизнь художника измеряется не количеством прожитых лет, а сделанным за эти долгие или краткие годы жизни. Впрочем, такая мера личности человека, его жизни, цены её, может быть приложима и к каждому из живущих — художнику и нехудожнику. Не арифметика дней важна при оценке человека и жизни его, а мера совершённого им в этой жизни.
Что касается личности художника, то источником его огромного подчас трудодеяния является не только творческая энергия, данная ему природой, но и высокая требовательность к себе. Работая над памятником Бальзаку, Роден двадцать два раза переделывал его голову и сделал шестнадцать вариантов плаща. Другой французский скульптор Бурделль сделал двадцать один вариант памятника Бетховену. Строитель Исаакиевского собора в Петербурге Монферран сделал двадцать четыре проекта этого гигантского здания, прежде чем счёл наконец возможным приступить к стройке.
Австрийский поэт Р. М. Рильке, написавший монографию о Родене, приводит в ней воображаемый диалог со скульптором:
« — Как вы прожили жизнь?
И Роден ответил бы:
Хорошо.
— Были у вас враги?
— Не в их силах помешать мне работать.
— А слава?
— Обязывала меня работать.
— А друзья?
— Требовали от меня работы.
— А женщины?
— Работая, я научился восхищаться ими».
И дальше Рильке говорит о Родене: «Он начинал свой день вместе с солнцем, но кончал не с ним: ибо ко многим светлым часам присовокуплялся длинный отрезок времени при свете лампы. Поздно ночью, когда ни о каких натурщицах не приходилось и думать, его жена... всегда была готова дать ему возможность работать в убогой комнате».
И ещё: «... он работает даже за едой: читает, рисует». Описывая жизнь Родена далее, Рильке говорит: «Если вы спросите о развлечениях, об отступлениях от установленного, то в принципе их нет. Ренановское «travailler ça repose» («в работе — отдых») нигде не стало повседневной реальностью в такой степени, как здесь».
Роден говорил: «Работать, всегда работать». Это был его девиз. И при встрече с друзьями он спрашивал их не о здоровье, не о самочувствии, а приветствовал словами: «Хорошо вам работалось?»
Какое прекрасное приветствие — не правда ли?
Однако от композиторов, музыкантов-исполнителей, живописцев, архитекторов, скульпторов пора обратиться к пишущим, отличённым творческой одержимостью не менее, чем представители других родов искусств. Огромное трудодеяние — удел многих из них.
Тридцать пять вариантов вступления к роману о Петре Первом сделал Толстой. Трудно приходится, как видите, не только в процессе работы, развернувшейся Широким фронтом, но и при самом зачине её. Впрочем, не легче начала работы даётся подчас и её конец. Эрнест Хемингуэй переписывал последнюю страничку романа «Прощай, оружие!» тридцать девять раз.
Жюль Берн, заключивший со своим издателем договор, по которому должен был представлять ему по два романа в год, неукоснительно выполнял свои обязанности в течение двадцати лет, при этом накопив в запас за это время ещё десять романов.
Знаменитый испанский романист Бласко Ибаньес написал более восьмидесяти романов. Оноре Бальзак, задавшись титаническим планом создания «Человеческой комедии», которую должны были составить сто четырнадцать томов, охватывающих все стороны жизни современного ему общества, почти целиком выполнил свои намерения, написав девяносто семь томов. Он был в состоянии работать, не отрываясь от стола, дни и ночи напролёт.
Вот что писал он в феврале тысяча восемьсот сорок пятого года своей будущей жене Эвелине Ганской: «Работать... значит вставать каждый день в полночь, писать до восьми часов утра, в четверть часа позавтракать, вновь работать до пяти, пообедать, лечь спать и завтра начать всё сначала».
Спустя год с небольшим в другом письме Бальзак писал: «Я вернулся к великим традициям моего упорного труда, засыпаю в семь вечера и встаю в два утра. К утру у меня уже всегда готовы десять — двенадцать страниц».
Поразительно продуктивно работает здравствующий ныне французский романист Жорж Сименон, известный у нас больше как автор детективных романов, хотя отнюдь не ограничивающий себя этим жанром. На двадцатое мая тысяча девятьсот семьдесят первого года, когда он дал интервью сотруднику журнала «Огонёк», из которого я и почерпнул свои сведения, Жорж Сименон написал двести девять романов. Шестидесятидевятилетний романист и сейчас столь же деятелен, как прежде, и по-прежнему верен инспектору Мегрэ и другим своим героям. В том же интервью Сименон говорит о них: «Я ищу тип своего героя повсюду, иногда долго, а когда нахожу, то появляется образ, с которым я не расстаюсь ни во время прогулки в лесу, ни во время отдыха и даже обеда». Всегда со своими героями, с мыслями о них, всегда в работе — завидная доля.
Таков же был и соотечественник Сименона Александр Дюма-отец. Трудоспособность его была поистине безграничной. Он работал и днём и ночью, в будни я в праздники, дома и в дороге, в одиночестве и при гостях. Литературное наследство его составляют тысяча двести томов романов, повестей, рассказов, драм, путевых очерков. Правда, не всё, что подписано его именем, действительно создано им. Во многих случаях авторство Дюма, и даже соавторство, весьма доказательно оспаривается, а в иных случаях и категорически отвергается. Но и того, что несомненно принадлежит перу этого неистового и неутомимого трудолюбца, хватило бы по крайней мере на два-три десятка писательских биографий.
Творческая личность, одержимая трудодеянием, не снижает своей активности, случается, и тогда, когда, казалось бы, условия для этой активности крайне неблагоприятны. Роман Чернышевского «Что делать?» написан во время пребывания автора его в Петропавловской крепости. Всего же за шестьсот семьдесят восемь дней заключения в крепости Чернышевский написал двести пять авторских листов, то есть примерно десять книг по триста — триста пятьдесят страниц каждая.
Не только авторы оригинальных произведений, но и переводчики трудятся иной раз поистине подвижнически. Лео Винер — отец известного кибернетика Норберта Винера — за два года перевёл на немецкий язык двадцать четыре тома произведений Льва Толстого. Марина Цветаева, переводя на французский язык стихи Пушкина, делала к переводам некоторых стихотворений по четырнадцать вариантов.
Совершенно поразительную творческую продуктивность явили миру драматурги, особенно два из них: француз Огюстен Скриб и испанец Лопе де Вега. Скриб оставил после себя триста пятьдесят две пьесы. Что касается Лопе де Вега, которого современник его Мигель Сервантес называл «повелителем театра» и «дивом природы», то к этому необходимо прибавить, что он был одновременно и дивом трудолюбия. Он создал две тысячи пьес, написанных стихами.
С годами творческая мощь этого трудолюбца не только не оскудевала, но, казалось, возрастала. И так было всю жизнь до. самого конца. За четыре дня до смерти он закончил поэму «Золотой век», пленявшую современников силой и лёгкостью стиха.
Годы вообще не помеха для трудодеяния. Щедрость таланта не истощает и не старит его. Семидесятилетний Самуил Маршак утверждал, что после пятидесяти он сделал несравненно больше, чем до пятидесяти. Иван Тургенев, о котором Николай Некрасов писал: «Ты как подёнщик выходил до света на работу», оставался тем же деятельным работягой до конца дней своих. Недаром Лев Толстой, обращаясь к шестидесятилетнему Тургеневу, утверждал: «В вас, как в бутылке... самое лучшее ещё осталось».
Александр Островский за два дня до смерти усердно занимался переводом шекспировской драмы «Антоний и Клеопатра».
Вячеслав Шишков на вечере, посвящённом его семидесятилетию, говорил о том, что теперь, когда он приближается к концу своих дней, заветная его дума «сойти с последней ступени с пером в руках». Этой заветной думой был одержим не один Шишков и не только в наши дни. Семидесятилетний Франческо Петрарка умер сидя за работой, с пером в руках.
Работать до последнего часа, работать все дни своей жизни — удел большого таланта и судьба его. Жизнь такого гиганта литературы, как Гёте, по собственным его словам, «только труд и работа». «И я могу сказать прямо, — продолжает Гёте, — что вряд ли за мои семьдесят пять лет я провёл четыре недели в своё удовольствие. Моя жизнь была вечным скатыванием камня, который требовалось поднимать снова».
Огромная трудоспособность отличала Джека Лондона. В одном из писем он говорил: «Я, как всегда, поглощён писанием... Вчера работал восемнадцать часов и сделал довольно много. То же самое позавчера, и т. д....»
Творческая практика крупнейших русских писателей также свидетельствует об их огромной трудодеятельности. Девяносто пять объёмистых томов большого формата академического издания полного собрания сочинений Льва Толстого далеко не исчерпывают всего написанного им.
Мне думается, что число томов пришлось бы увеличить во много раз, если бы в них включались все разночтения и все варианты опубликованных в них произведений. Известно, например, что роман «Война и мир» переписывался восемь раз, «Власть тьмы» имела семь редакций, «Крейцерова соната» — девять.
Титанический труд писателя был не только профессиональным обыкновением Льва Толстого, но и жизненным его принципом. «Надо непременно каждый день писать...» — заносит Лев Николаевич в свой дневник третьего марта тысяча восемьсот шестьдесят пятого года.
Эрнест Хемингуэй, по словам вдовы его Мэри Хемингуэй, «продолжал писать до самого конца — даже в Кетчеме, когда во второй раз вышел из клиники Майо.
В Кетчеме он, как всегда, вставал каждый день в шесть утра и работал до самого вечера, пока не начинало темнеть».
О необходимости каждодневной работы за письменным столом любил говорить и постоянно говорил А. Чехов, утверждая спасительность, как он выражался, «многописания» для художника. И. Бунин в своих воспоминаниях рассказывает, что при первом же знакомстве Чехов спросил его, много ли он пишет. «Я ответил, что мало.
— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном. — Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... Всю жизнь».
Видимо, слова Чехова и наставления его не пропали даром. Впоследствии и сам Бунин говорил; «Поэзия — это ежедневный труд».
Гоголь придерживался тех же взглядов на свой труд, что и Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин. Это подтверждается многими современниками, а также и самим Гоголем в письмах к друзьям. «Я, по мере сил, продолжаю работать, хотя всё ещё не столько и не с таким успехом, как бы хотелось... — пишет Гоголь В. Жуковскому в тысяча восемьсот сорок четвёртом году и тут же продолжает: — Всякий час и минуту нужно себя приневоливать и не насильно почти ничего нельзя сделать».
Ф. Чижов — историк литературы и переводчик, сблизившийся с, Гоголем во время совместного пребывания в Италии, передаёт в одной из записей своих разговоров с Гоголем, что Николай Васильевич сказал ему: «Человек пишущий так же не должен оставлять пера, как Живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет непременно каждый день. Надобно, чтобы рука приучилась совершенно повиноваться мысли».
В. Соллогуб в своих воспоминаниях рассказывает, что Гоголь неоднократно говорил ему:
— Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом и принуждать себя писать.
— Да что ж делать, — досадовал Соллогуб, — если не пишется?
Растерянность и слабоволие собеседника не обескураживали Гоголя и не ослабляли его проповеди трудолюбия.
— Ничего... — говорил он в таких случаях. — Возьмите перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, и так далее; наконец надоест и напишется.
Каждодневный труд полагал для себя обязательным; и первый поэт России Александр Пушкин. В превосходной своей статье «Личность Пушкина», напечатанной в «Правде» десятого февраля тысяча девятьсот тридцать седьмого года, Юрий Тынянов писал о Пушкине: «Достаточно посмотреть хоть часть его бумаг... чтобы понять, что этот человек писал каждый день, что он прежде всего ежедневно работал, что это был великий труженик...»
То же свидетельствует современник Пушкина — крупнейший филолог и литературовед своего времени Я. Грот, утверждающий, что «рукописи Пушкина служат красноречивым документом его необыкновенного трудолюбия».
Жуковский писал о Пушкине: «С каким трудом писал он свои лёгкие, летучие стихи! Нет строки, которая бы не была несколько раз перемарана. Но в этом-то и заключается тайная прелесть творения. Что было бы с наслаждением поэта, когда бы он мог производить без труда, — все бы очарование его пропало».
Дело великого поэта и великого труженика не осталось втуне. Вся наша литература тому живое и яркое свидетельство. Она — дело не белоручек, но трудолюбцев, сознающих себя трудолюбцами и принципиально определяющих для себя судьбу огромного трудодеяния.
В «Разговоре с фининспектором» Владимир Маяковский с горячей заинтересованностью человека, работающего не покладая рук, заявляет:
Поэзия — та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды.Это самочувствие труженика полнит его жизнь и его дело. И он ощущает своё стиховое дело равным самым первостепенным, исполненным трудовой доблести свершениям. В стихотворении «Поэт рабочий» Маяковский с гордостью возглашает:
Я тоже фабрика. А если без труб, то, может, мне без труб труднее.Фабрика, в которой клокочет обжигающий пар, фабрика, в которой скрыто гудят огромные мощности, и в то же время мастерская дятла — вот что такое пишущий.
И кто боится клокотания и сотрясений, кто боится каждодневных, каждочасных трудовых упорств, тот никогда не должен браться за перо.
Не помню, кто из наших больших писателей сказал: «Писать — это значит уметь трудиться», но это очень чёткая и точная формула писательского дела.
«Мой письменный вьючный мул!» — говорит Марина Цветаева о своём рабочем столе в стихотворении «Стол». Кончает это своё стихотворение Цветаева так:
Так будь же благословен — Лбом, локтем, углом колен Испытанный, — как пила В грудь въевшийся край стола.Та же Марина Цветаева в своей повестн-исследовании «Наталья Гончарова», посвящённой отличнейшей художнице, чьё имя вписано в заглавие цветаевской работы, говорит: «Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара». Тут же приводятся и слова самой Гончаровой: «Я одно люблю — делать».
Резко и ярко говорит об этом предмете в своих мыслях об искусстве Бальзак: «Приходит труд и зажигает все печи; молчание в одиночестве открывает все свои сокровища; нет ничего невозможного. Экстаз творчества заглушает раздирающие муки рождения».
Известный философ Бюфои имел, очевидно, все основания утверждать, что «гений есть терпение в высочайшей степени». Поистине это так. Терпение, трудолюбие, неиссякаемый трудовой энтузиазм — вот основы всякого достижения в искусстве. Чтобы достичь в искусстве доброго и прекрасного, надо много, безмерно много работать.
В искусстве «много» — это не арифметическое множество, а нечто несравнимо большее, а кроме того, явление качественного порядка. Недаром Жюль Ренар, которого один из французских критиков назвал бесстрашным писателем, начинает свой чудесный «Дневник» словами: «Талант — вопрос количества». Николай Погодин к этому добавляет: «Труд всегда должен идти впереди таланта, ибо талант — это тот же труд, только возведённый в степень».
Но о таланте — несколько позже и особо. Это слишком важно и слишком интересно, чтобы говорить мимоходом.
Чудо таланта
Я не раз говорил — как много нужно для того, чтобы быть писателем, чтобы написать хорошую книгу. Но до сих пор я, кажется, не сказал с достаточной чёткостью и определённостью главного. Нет спору, ум, сердце, знания, умения — все это вещи, нужные для такого многотрудного дела, как писательство. Но среди нужных есть одно — самонужнейшее, без чего, будь ты хоть семи пядей во лбу и обладай хоть самыми расчудеснейшими качествами, жить в искусстве невозможно. Это самонужнейшее — талант.
Заменить талант ничем нельзя, как нельзя скрыть его отсутствие. Впрочем, не так-то легко скрыть и его наличие. Не заметить его трудненько. Он заявляет о себе сразу: с первой строки книги, с первого взгляда на картину, с первой реплики актёра на сцене, а иной раз и ещё раньше этой самой первой реплики. Так, например, случалось всякий раз, когда появлялся на сцене бывшего Александрийского театра Владимир Николаевич Давыдов.
Этого блистательного актёра ч видел на сцене много раз, и всегда повторялось со мной, да и со всеми другими сидевшими в зрительном зале, одно и то же. Появление на сцене этого актёра было подобно удару электрического тока, мгновенно рождавшему в зале маленькую молнию. Давыдов ещё не успевал подать ни одной реплики, он ещё только появлялся в дверях и останавливался, прислонясь к косяку, или делал по сцене всего один шаг — и уже всем становилось хорошо, всем радостно, всех разом осеняло и одаривало присутствие большого и яркого таланта.
Отчего так делалось, никто из присутствовавших на спектаклях с участием Давыдова объяснить толком не мог, и это вполне понятно. Талант — это волшебство, и потому объяснить тут что-нибудь очень трудно. Но и не пытаться объяснить — тоже ведь нельзя. Мы обязаны понимать всё, чтобы уяснить себе природу всякого возникающего перед нашими глазами явления, а уяснив, поставить его себе на службу, овладеть им.
Что же такое талант? Существуют ли точные определения этого странного и чудесного свойства человеческой натуры? Изучены ли все стороны и грани его? Даны ли исчерпывающие характеристики этого феномена? Нет. Ничего такого пока не сделано. Учёные ещё теснятся в робком далеке от этого жгучего солнца нашей личности. Они, очевидно, боятся обжечься. У них нет к тому же ни подходящих измерительных инструментов, ни соответствующей аппаратуры для опытов и умозаключений. Ну что ж. Придётся, по-видимому, на данном этапе обходиться без ответственных показаний и доказаний жрецов точности и обратиться к показаниям самих талантов, чтобы, справившись с их самочувствием и их точками зрения, что-то всё-таки выяснить для себя.
Вероятно, нет и не было в искусстве ни одного мало-мальски крупного и просто мыслящего человека, который не задумывался бы над тем, что такое талант, и который не пытался бы хоть для себя уяснить и определить его природу.
Свидетельств тому можно привести великое множество, и при самом беглом знакомстве с ними поражает разнообразие, если не сказать — разнобой, во взглядах на талант и его природу. Но даже сама эта разница взглядов интересна и поучительна. Попробуем же приглядеться к ней.
Начать эти интереснейшие разноречия мне хочется с Михаила Пришвина, которого я ценю высочайше и люблю за простодушную его мудрость, за кристальную чистоту души, за полнейшую открытость ума, мнений, личности, своей для всех. Говоря даже о своих задушевных потаённостях, он вводит нас в них без малейшей оглядки, с доверчивостью ребёнка, говоря нам при этом всем своим поведением: войди, смотри и бери из того, чем владею, всё, что тебе приглянется, что тебе надобно для хорошей твоей жизни.
Итак, для начала несколько строк из автобиографического романа Михаила Пришвина «Кащеева цепь». Две последние главы этого романа называются «Искусство как поведение» и «Как я стал писателем». В этих главах есть немало добрых мыслей о таланте, и первая из них та, что «талант к чему-нибудь есть общее свойство почти всех людей».
Талантливость Пришвин почитает состоянием, очень естественным для человека. «Как не чувствуешь своего голоса, записанного на пластинку, так сам и своего таланта не чувствуешь. А люди понимают талант как заготовленное от рождения счастье».
Словно иллюстрация к этому, следует отрывок из воспоминаний о раннем детстве: «Мальчишкой, бывало, проснусь раньше, чем следует, и в дырочку алькова смотрю на лицо матери. Она тоже проснулась, но в одиночестве она совсем не такая, какой мы все её знали: странная, смутная, лоб сморщенный, думает до того мучительно, что нет-нет и вздрогнет. Так станет страшно, забудешься, высунешь голову к ней, и она вдруг обрадуется, засияет, совсем будто солнце взошло». Дав эту просто и чудно нарисованную картинку утренней радости маленького детского мира, из которого открывается какая-то особая потайная дверка в мир большой человеческой радости материнства, Пришвин довольно неожиданно и без всяких переходов заключает: «На этих впечатлениях детства я и строю своё поведение в отношении того материала души, который называю талантом».
Талант как материал души — это удивительно хорошо найдено и, конечно, могло пасть на перо только Пришвину. Но всё же задерживаться на этом определении я не стану. Надо двигаться дальше, чтобы попытаться вывести талант из плена излишне. укрытых таинственных неопределённостей.
Определённей говорит об этом предмете Лев Толстой, хотя и он не выходит из круга категорий чисто моральных, нравственных, утверждая, что талант — это любовь. Как человековед, и притом ещё и всевед, Толстой углубляет своё толкование таланта, добавляя усмешливо, что поскольку талант — это любовь, то, следственно, все влюблённые талантливы. Чувства их обострены и восприятия утончены. Они ощущают и примечают то, мимо чего человек, обделённый любовью и пребывающий в обыденном своём состоянии, равнодушно проходит, не замечая ни трепета весенней листвы при ветерке, ни острой свежинки речной воды, ни настроения идущих рядом людей.
Резкое и решительное движение вперёд в суждении о природе таланта делает Максим Горький. Правда, и он, как Толстой, готов признать, что корни таланта гнездятся в любви, но при этом оговаривается — не в любви вообще, как в некоей моральной расплывчатой категории, а в любви к делу. В своих «Письмах к начинающим литераторам» он пишет: «Талант развивается из чувства любви к делу, возможно даже, что талант — в сущности его — и есть только любовь к делу, к процессу работы».
Определение Горького принципиально ново по сравнению с прежде приводимыми. Оно вводит в обращение, в круг наших пониманий таланта такую категорию, как дело, труд, а кроме того, говорит не только о самом таланте, но и о путях его развития. Этот путь развития лежит в той же плоскости, что и сам талант, который «развивается из чувства любви к делу». Горький резко настаивает на подобном определении таланта и в резкости этой готов даже начисто оторвать талант от биологии. В письме к А. Агапкиной Алексей Максимович чётко заявляет: «В прирождённую талантливость я плохо верю. По-моему, есть только один талант: умение делать всякое дело с любовью к нему».
Та же мысль повторяется в письме к С. Ахрему: «Не все родятся с талантом, его можно и выработать, развить». Выходит, что не только в развитии, но и в происхождении Горький связывает талант с делом, с трудом.
Десятью годами позже и с ещё большей определённостью развил это положение А. Макаренко. В своей статье «Товарищеская лаборатория» он утверждает свою убеждённость в том, что наукой нашей — педагогикой, наконец, действительностью нашей «будет доказано, что талант только в небольшой мере принадлежит биологии, что в самом основном своём блеске он всегда обязан влиянию общества, работы, культуры и знания.
Как видите, мы с вами уже далеко ушли вперёд от того, с чего начали свой обзор точек зрения на природу таланта. Тут речь идёт уже не о столь зыбкой почве и не о столь неопределённых туманностях, как «материал души» или «любовь». Вопрос о природе таланта переводится в социальный план. Биология в малой степени причинна в данном случае, утверждают Горький и Макаренко, главное — знания, общественная среда, приверженность своему делу, труд.
Поистине резкий поворот во взглядах на природу таланта. И поистине, при внимательном рассмотрении путей и перепутий, определяется, что все они ведут в Рим, сиречь к Пушкину. Оказывается, на сто лет раньше Антона Макаренко Александр Пушкин в заметке «Илиада Гомерова, переведённая Н. Гнедичем...» утверждал, что «когда талант чуждается труда», то поэзия «токмо легкомысленное занятие».
Не только отсутствие труда вредит таланту. Белинский настаивает на том, что талант и правда жизни и высокое понимание её неразделимы и, когда изменяют одному, от того тотчас страдает и другое. В своём блестящем письме к Гоголю по поводу его «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский, жёстко отчитывая некогда любимого им Гоголя за скверности этой книги, за фальшь её и реакционность, с горечью говорит: «... когда человек весь отдаётся лжи, его оставляют и ум и талант».
Ещё несколько определений таланта. Подобно Пушкину, Горькому и вслед за ними Чехов также утверждает, что талант — это труд, и прибавляет к тому ещё, что талант — это смелость, что талант — это знание жизни.
Отличнейший музыкант и чудесный педагог Генрих Нейгауз настаивал на том, что «талант — это страсть».
Определения таланта, как видите, не только многочисленны, но и многообразны. Каждый из тех, о ком я говорил, настаивает на своём, и, знаете, мне думается, что, несмотря на разность мнений, все они правы. Талант — это в самом деле и материал души, и любовь, и труд, и страсть, и «способность глубоко воспринимать жизнь во всей её сложности», как определила это в одной из своих статей критик Е. Усиевич.
Но талант — это не только всё перечисленное, но и очень многое ещё, чего ни критики, ни писатели, ни музыканты, ни люди других искусств, ни кто другой перечислить не в состоянии.
Но как бы ни определять и как бы высоко ни возносить талант, одного его мало для подлинных свершений в искусстве. Талант — это не алхимический философский камень, который одним своим магическим присутствием превращает грязь в золото. Талант не панацея от всех бед и не всеобщий заменитель. Я бы сказал, что он только катализатор и, как всякий катализатор, ускоряет, усиливает реакцию, но вызвать её не может. Он всё усиливает, уярчает, придаёт глазу зоркости, но заменить глаза не в состоянии. Он, как микроскоп и телескоп, вместе взятые, даёт возможность рассмотреть и далёкие миры, и мельчайшие микроявления, но если рассматривать нечего, то он ничего и не увидит. Талант помогает делать, но делать из чего-то, а не из ничего. Талант побуждает плодоносить, но сам плодоносить не может. Он не явление, а свойство.
И он раним и смертен. Он хиреет от безделья, зарастает жирком от изобилия, чахнет от изыскоз, тонет в вине, задыхается в фимиамном дыму и, случается, разменивается на медяки. Лавры ему противопоказаны, и успех чаще всего вредоносней чумы. Он тенелюбив, не выносит жирных почв и навоза. И он, как лев во время парфорсной охоты, может умереть от громкого лая собак.
Его, как топящуюся печь, надо постоянно ворошить. Его надо непрерывно совершенствовать, оттачивать, тренировать и всегда держать в узде. Его, как ребёнка, нужно воспитывать и взращивать — терпеливо, с нежной заботливостью и непреклонной строгостью.
Берегите талант, если он у вас есть, но не мирвольте ему. И напрягайте, напрягайте его. Чем трудней будут заданные ему задачи, тем лучше. Александр Блок советовал задаваться задачами, которые больше тебя самого.
Добрый совет. Следуя ему, вы однажды сможете сказать вслед за Эрнестом Хемингуэем: «Бывает, что посчастливится, и тогда я пишу лучше, чем могу».
Писать лучше, чем можешь, — возможно ли такое? Я верю — возможно. Быть в силах подняться над самим собой — это, конечно, чудо, но таланту подвластно и чудо. В конце концов задаваться задачами, которые больше тебя самого, писать лучше, чем можешь, должен стремиться каждый настоящий писатель. А если не стремиться быть настоящим писателем, тогда уж лучше, пожалуй, и вовсе не быть писателем. Нельзя ведь забывать, что работа со словом и над словом — это волшебство и всякий писатель, следовательно, волшебник. А специальность волшебника — чудо. Чего же тут страшиться?
Уже после выхода в свет предыдущего издания «Сумки волшебника» я, продолжая работу над ней, разыскал ещё несколько любопытных высказываний касательно таланта и его природы. А. Островский, к примеру, определяет талант как память чувств и способность к воспроизведению их. Известный математик академик П. Александров полагает, что «талант — есть мера своеобразия мышления». К. Станиславский утверждал: «Талант — это сердце человека, его суть, его сила жить».
О связи таланта с жизнью, и уже за границами отдельной личности, И. Крылов говорит в басне «Паук и Пчела» так:
По мне таланты те негодны, В которых Свету пользы нет, Хоть иногда им и дивится Свет.Этим Крылов накрепко приземлил талант, призвал его на действительную службу человеку, законополагая неотрывность таланта от дел и судеб человеческих, от всеземного его долга, от жизни живой.
Чётко, резко, требовательно сказала об этом же Марина Цветаева в одном из писем к Е. Черносвитовой: «И самое небесное вдохновение ничто, если не претворено в земное дело».
Не могу тут же не привести двух превосходных стихотворных строк, имеющих к трактуемому предмету прямое отношение: «Он в небо взлетает крылатый, Чтоб лучше жилось на земле». Это написано о лётчике, но в равной степени может быть отнесено, и уже как требование, к любому из тех, кто живёт в искусстве, и в первую голову к тем, кто владеет таким неоценимым сокровищем, как талант. Настоящий талант, большой талант всегда щедр, всегда человечен и общечеловечен.
Самая трудная трудность
Есть у Пушкина редко цитируемое стихотворение, которое начинается пронзающими строками:
Когда б не смутное влеченье Чего-то жаждущей души...Ах эти смутные влеченья, которые вдруг являются в человеке в самые нежданные для него мгновенья, в самые, казалось бы, спокойные и недвижные его минуты, когда всё в нём, по-видимому, определилось напрочно и навсегда, всё решено и всё незыблемо...
Не от этой ли смуты, которая кажется мне столь сродни «духовной жажде» пушкинского «Пророка», всё и начинается в художнической жизни художника? Не с этих ли нарушений привычного и мирного течения жизни, не с этих ли нарушений нормы и начинается всё в искусстве?
Я печатаюсь более полувека. Профессия моя давно для меня решена, стала делом моей жизни, моей судьбой. А я всё ещё жду чего-то. Жду всегда — каждый день, каждый час. Всё ещё мерещатся какие-то приманчивые перемены и неясно видится что-то несбывшееся и прекрасное. Это странное и непонятное чувство нередко посещает меня и тревожит душу. Думается — не то и не так делаешь. Иной раз не такими ясными и определёнными словами думается (очень ясными словами затаённое редко выговаривается в человеке), а только чувствуется, как что-то смутное и трудное. Будто среди ясного дня вдруг сумерки спустятся. Такие сумеречные состояния нередко соседствуют с рабочими состояниями и не мешают им. Писатель ведь работает и в веселье, и в печали, и в заботе, и в болезни — всегда, когда с ним его мысли и чистый лист бумаги.
Откуда же всё-таки эти трудные состояния? Отчего? Почему человек, всю сознательную жизнь занимающийся своим делом, которое знает и любит, может вдруг так трудно о нём думать? Не от трудности ли самого дела? И трудности обмысливанья его?
Горький, откликаясь на одну из литературных анкет, писал: «Печататься начал с 1892 года, но до 1895 года не верил, что литература — моё дело».
Вот видите, как оно. Три года человек писал и печатался, а всё ещё не был уверен, что это его дело — писать. Бывает, что так думают не три, а тридцать лет.
Недаром в стародавней былине об Илье Муромце рассказывается, что сидел Илья тридцать три года сиднем и только после того встал на ноги и почувствовал себя богатырём. Думается, что сказание это впору не одному Илье Муромцу, но очень и очень многим.
Богатыри рождаются не сразу. А часто люди не рождаются, а делаются богатырями — и не только в сказках и легендах, но и в жизни. С писателями тут дело обстоит точно так же, как и с людьми всех других профессий. Каков механизм превращения неписателя в писателя? Проследить это не так-то просто, но думать об этом интересно. Попробую подумать об этом вслух.
Есть у Маяковского книжка «Кем быть?». В ней перечисляется множество самых различных профессий. Перед нами, сменяя один другого, проходит столяр, плотник, инженер, доктор, рабочий, кондуктор, шофёр, лётчик, матрос. Рисуя привлекательные стороны каждой из профессий и предлагая любую из них на выбор, Маяковский кончает книжку словами:
Все работы хороши, выбирай на вкус!Это верно, все работы хороши, всякий труд почётен и интересен. И всё же один почему-то становится врачом, другой — каменщиком, а третий — зоотехником. В чем секрет различных в разных случаях склонностей? И как, в самом деле, выбирают профессию?
Мне кажется, что мало кто выбирает профессию вполне сознательно, обдуманно и безошибочно. Чаще всего, пожалуй, профессия нас выбирает. Никто не говорит: «Жребий брошен» — и после того идёт в писатели. Никто не даёт ганнибаловой клятвы всю жизнь писательствовать и после этого бежит к письменному столу поскорей выполнять клятву. Так не бывает. Вообще сдаётся мне, что все эти клятвы и прочие исторические россказни весьма сомнительны и недостоверны. В самом деле, кто знает, давал ли девятилетний Ганнибал клятву — всю жизнь ненавидеть Рим? Ох, едва ли. Смуглый мальчонка, наверно, думал совсем о другом — об игрушках, о вкусной лепёшке — и никаких приписываемых ему клятв не давал.
Совершенно неизвестно также, восклицал ли прославленный Кай Юлий Цезарь, оставив позади себя выбитый конскими копытами дрянной ручьишко Рубикон, своё знаменитое: «Жребий брошен». Скорей всего, нет. Ему было не до того. Он думал о том, как бы поскорей попасть в Рим, как бы не разбежались его легионеры, где бы взять для них провианту. Об афоризмах для истории ему думать было просто недосуг.
Мне кажется, что все подобного рода исторические изречения вовсе никогда не изрекались и никогда не существовали. Верней всего, что они придуманы позже жизнеописателями великих, как придумывается частенько блестящая тактика выигранных битв много позже самих битв.
Иногда обнаруживаются неопровержимые доказательства, что именно так и обстоит дело с историческими легендами, если можно так выразиться. Случается, что становится возможным назвать даже авторов подобных легенд. Так, совсем недавно я прочёл в книге Даниила Данина «Резерфорд», что «Фонтенель изобрёл в XVIII веке яблоко Ньютона».
Оказывается, что знаменитое псевдояблоко, падение которого будто бы дало толчок Ньютону для создания закона всемирного тяготения, вовсе и не думало падать, а, возможно, упало уже после смерти Ньютона, так как Фонтенель пережил его на тридцать лет.
Узнанная мной история падения, а вернее, непадения Ньютонова яблока укрепила ещё больше мой скепсис по отношению к подобного рода историческим легендам, если только позволительно такое выражение, и ко всякого рода шикарным и хлёстким афоризмам, время от времени изрекаемым будто бы великими людьми.
Впрочем, может быть, в конце концов не так уж важно, кто первый сказал «Э!». И когда. Важно, что оно сказано. И ещё того важней, если сказанное к месту и сегодня. Всё, что к месту, — хорошо. Для писателя это одна из самых больших трудностей — чтобы всё было сказано хорошо и всё стояло на своём обязательном месте. Впрочем, в писательстве столько ещё и других труднейших трудностей, что почти невозможно не потеряться, говоря о том, как всё это образуется, и что сперва бывает, а что потом, и как самое первое писательское рождается в неписателе, где корень всего.
Само собой разумеется, что каждый пишущий обязательно думает об этом. Мысли о своём деле, о своём призвании, о радостях и горестях его, о корнях его приходят каждому в своё время. Случается, что это мимолётные мысли, а случается, что они живут подолгу — неотступные, трудные, тяжёлые.
От писательства, если оно пришло к тебе, вошло в тебя и прижилось к сердцу, уже не отопрёшься и не открестишься. Настоящий писатель перестаёт писать только тогда, когда перестаёт жить. После смерти Жюля Гонкура, нежно любимого брата и неизменного соавтора, оставшийся в живых Эдмон Гонкур дал слово не писать. Но слова своего он сдержать не смог, и это понятно. Поскольку продолжалась жизнь, постольку не могло не продолжаться и писательство. Связь своего писательского дела с жизнью, как и неразрывность этой связи, ощущается и осознаётся каждым серьёзно работающим писателем.
«Книга должна быть окном в окружающий нас мир. — писал в одной из своих статей в «Литературной газете» в шестьдесят втором году Эрскин Колдуэлл. — Глядя в окно широко раскрытыми глазами, мы можем видеть то, чего никогда не наблюдали прежде и что так полно смысла, значения и живого трепета, как повседневная жизнь».
Жизнь как мерило делаемого в искусстве — вот эталон свершаемого в литературе, вот корень корней. Русская литература и русский писатель издавна стояли на этом. Ещё Н. Чернышевский говорил: «Прекрасное — есть жизнь». В. Белинский утверждал: «Для истинного художника — где жизнь, там и поэзия». Так было во времена Белинского и Чернышевского. Так и в наши времена. Думаю, так будет во все иные времена.
Понятно, что и корни писательства, коль скоро мы начали их поиски, следует искать именно в этой сфере, и ни в какой иной. На вопрос, заданный как-то Горькому о начале писания, он ответил: «Полагаю, что писать начал лет с 12-ти и что толчком к этому послужило „перенасыщение опытом"».
Вот, пожалуй, поиски наши и приближаются к концу. Вот и докопались мы до корня. «Перенасыщение опытом», жизнью — вот истинный, постоянный и единственный исток писательства. Профессию писателя не выбирают и не планируют. Она вызревает в человеке. Она, как дождевая туча, копится и составляется из мельчайших капель. Писательское дело рождается не из профессиональных устремлений, а из жизненных накоплений. Писательство не начинает биографию, а продолжает и венчает её. Надо было прожить такую жизнь, какую прожил Алексей Пешков, чтобы написать то, что написал Максим Горький. Лев Толстой написал «Войну и мир», «Анну Каренину», «Крейцерову сонату» и «Воскресение», то есть важнейшие из своих книг, в возрасте от сорока одного до семидесяти восьми лет.
Лучшие свои вещи «Сотворение» и «Времена года» Гайдн написал на шестьдесят седьмом и на семьдесят втором году жизни. Всесветно прославленная «Джоконда» создана Леонардо да Винчи, когда ему было шестьдесят семь лет, а пленительный и поражающий свежестью колорита «Источник» Энгра создан семидесятилетним художником. «Фауст» был завершён восьмидесятидвухлетним Гёте.
Мне могут возразить. Да. Всё это так. Но ведь можно привести примеры и прямо противоположные. Знаменитый английский писатель Томас Чаттертон, умерший в семнадцать лет, оставил богатое. литературное наследство, прославившее его. За плечами восемнадцатилетнего Лермонтова было уже около трёхсот лирических стихотворений и семнадцать поэм, среди которых были такие, как «Измаил-Бей», «Корсар», «Кавказский пленник». Последние две написаны поэтом, когда ему едва исполнилось четырнадцать лет. Примерно в этом же возрасте Пушкин написал романс «Под вечер осенью ненастной...», ставший позже народным. О другом стихотворении этого же периода, одиннадцать лет спустя, то есть в марте тысяча восемьсот двадцать пятого года, Пушкин, собираясь издать книжку «Стихотворения» и перечитывая с этой целью свои лицейские стихи, писал из Михайловского брату в Петербург: «Не напечатать ли в конце Воспоминания в Царском селе с Notoй (sic), что они написаны мною 14 лет...»
«Кстати: начал я писать с 13-летнего возраста и печататься почти с того же времени», — пишет Пушкин в своей неоконченной статье «Возражение на критику».
К этому можно добавить, что гораздо раньше указанного возраста восьмилетний Пушкин писал уже стихи по-французски.
Ну что ж. Я думаю, что оба ряда примеров не опровергают друг друга. Моцарт начал сочинять в три года, семи лет держал в руках свои первые сонаты, выпущенные в свет в Париже, в двенадцать написал первую оперу. Тринадцатилетний Бетховен был автором уже опубликованных трёх сонат, органной фуги, девяти вариаций и нескольких песен. Но всё это говорит лишь о том, что гений может проявить себя очень рано и что обычные законы для него не писаны. Однако это вовсе не значит, что законов этих не существует.
Что касается приведённых мной примеров раннего творческого созревания Пушкина, Лермонтова и Чаттертона, то во всех трёх случаях речь идёт о поэтах, а разговор о них — это разговор особый. Поэзия действительно, случается, рано осеняет избранных. В поэте ведь всегда и обязательно живёт душа ребёнка.
Но с прозой дело обстоит иначе, и тот же Пушкин, который писал стихи в самом юном возрасте, свои «Повести Белкина» написал только за шесть лет до смерти, «Дубровского» — за четыре года, «Пиковую даму» — за два года, а «Капитанскую дочку» — за год до смерти. Зрелый ум и жизненный опыт лежат в основе художнического труда всякого писателя. Никаких секретов производства в писательском деле нет, как нет и никаких рецептов. И выучиться быть писателем, как выучиться быть врачом или инженером, поэтому нельзя.
Педагогика здесь ни при чём. Что ни проделывай с человеком, который не может писать, он писать не будет. Хоть в чернилах его выкупай, хоть подсаживай его на Пегаса по десять раз на дню, хоть дай ему квартиру из семи комнат на самом верхнем этаже Парнаса и в каждой из комнат поставь по письменному столу. Нельзя научить человека сюжетности или научить находить единственное лучшее из всех слово. Нельзя научить ни самозабвению, ни горению, ни неутолимой жажде поймать неуловимое, ни душевной щедрости, без которых писатель невозможен. Это как любовь. Можно и даже весьма нетрудно научить всему, что потребно для деторождения, но нельзя научить любить.
Для того чтобы любить, нужно родиться с сердцем, полным любви. Писателем не только делаются. Писателем и рождаются. Оба пути сопряжены, и одного из них ещё недостаточно. Не родившись писателем, стать им невозможно. Но можно родиться писателем — и умереть, так и не написав за целую жизнь ни одной строчки. Врождённое надо развивать. Зерно дарования, не взращённое в добрых условиях, может погибнуть, не дав ростка. Врождённое дарование и приложенный к нему жизненный опыт — вот то, из чего рождается писательство.
Грибоедов любил говорить: «Пишу, как живу, и живу, как пишу». Я думаю, это хорошая мера, и верная мера, бытия писателя в жизни и искусстве. Конечно, писателю для писательства необходимо ещё многое и многое. И талант нужен, и широта ума, и щедрость сердца, и огромные знания, и высокий душевный настрой, и бесстрашие, и доброта, и любовь к делу, да мало ли ещё что. Мир неисчерпаемо богат — и всеми его богатствами, всеми сокровищами Вселенной должен владеть писатель, чтобы, отобрав из всего самое ценное, отдать людям. Что выбрать из этой неисчерпной чаши сокровищ, в каждом отдельном случае решается писателем по-особому. Чехов утверждал, что «искусство писать — это искусство вычёркивать плохо написанное».
Александр Блок в прологе к «Возмездию» говорит, обращаясь к поэту:
Измерить всё, что видишь ты, Твой взгляд — да будет твёрд и ясен. Сотри случайные черты — И ты увидишь: мир прекрасен.Ох как трудно, как невыносимо трудно бывает измерить всё и стереть эти случайные черты! Ведь для того, чтобы стереть именно их и не совершить непоправимой ошибки, надо с совершенной уверенностью определить, что случайно и несущественно, а что, напротив, закономерно и важно во всём многообразном и загромождённом деталями мире, предстающем глазам и уму художника, который должен преобразить, преобразовать и предать всеобщему рассмотрению этот мир в главных и определяющих его чертах. И никто не может в этом помочь художнику. Он сам должен вынести приговор каждой вещи и каждому явлению, сам должен всё измерить и взвесить на никому не зримых весах, сам определить величину и важность, случайность или обязательность черт, составляющих общую, многоцветную картину мира. В этой необходимости каждый раз вынести самостоятельное и безошибочное решение, может быть, и состоит самая трудная из всех трудностей писательского дела.
Ещё Гораций две тысячи лет тому назад, взвешивая на ладони многообразно различные слова, трудно размышлял: «Что отберёшь, что бросишь, обещанный труд создавая».
В более близкие к нам времена очень чётко в своей статье «Николай Гоголь» сказал об этом Мериме: «Отбор главного среди бесчисленных явлений природы для писателя гораздо трудней, чем простое наблюдение и точное воспроизведение». Он же в другой статье «Александр Пушкин» утверждает, что умение найти необходимую деталь характеризует все рассказы Пушкина. В этом Мериме видит одну из важнейших особенностей пушкинского гения.
В наши дни о трудностях отбора один из поэтов сказал: «Девяносто шесть дорог Есть, чтоб песнь сложить ты мог, — И любая правильна, поверь».
Вот это «и любая правильна», пожалуй, больше всего и затрудняет. Лукавый поэт, конечно, утаил от нас то, что все дороги только кажутся правильными, что на самом деле в каждом случае существует только одна правильная дорога, и именно в том-то и заключается трудность, стоящая в каждом таком случае перед художником, что из девяносто шести дорог надо найти одну-единственную.
Впрочем, девяносто шесть — это ещё не предел разнопутий. Художники Римской школы, работающие в области мозаики, употребляют для своих мозаичных картин смальту, имеющую двадцать восемь тысяч оттенков. Извольте в каждом отдельном случае выбрать из двадцати восьми тысяч один наилучший, вернее сказать, тот, который художник считает наилучшим.
А писатели — у тех задача ещё сложнее, чем у мозаистов, ибо словарь содержит в десять, в двадцать, в ста раз большее количество оттенков, чем употребляющаяся для мозаичных работ смальта.
Что тут предпочесть? Какое слово отобрать среди тысяч возможных? И как отобрать? Это «как» всего трудней определить. Пытаясь проанализировать этот сложнейший процесс, Лев Толстой не находит ничего лучшего, ничего более точного, чем сказать: «... делаю какой-то самому мне почти непонятный выбор».
Почти непонятный. Почти. Значит, не полностью непонятный. Отчасти отбор делается вполне сознательно: контролируется и разумом, и знанием, и вкусом. Знания и вкус воспитываются и приумножаются жизненным опытом и опытом в искусстве. Это отбор столь же труден, сколь и важен для художника. Недаром же усмешливый мудрец-страстотерпец литературного труда и тонкий знаток слова Гюстав Флобер сказал: «Художника формирует отбор».
Наука видеть
Я уже имел случай говорить, что работа писателя над любым его произведением начинается задолго до того, как он сел за письменный стол. Если эта необходимая предварительная работа не проделана, то можно сидеть за столом сутки напролёт, годы, целую жизнь и всё же ничего путного так и не сделать.
Многое, очень многое предшествует непосредственному творческому процессу, самому написанию, и прежде всего, конечно, видение. Материалом писателю служит весь зримый ему (и не только зримый) мир. И нужно уметь видеть этот предстоящий нам мир во всей его совокупности и во всём своеобразии. Казалось бы, этому не нужно учиться: каждый нормальный человек умеет пользоваться своими глазами. И всё же, это не совсем так. Умению видеть вещи нужно учиться. Мы часто просто не умеем видеть вещи. Мы слепы разной степенью и разными видами слепоты.
На сетчатке нашего глаза есть так называемое слепое пятно. Это — участок сетчатки, нечувствительный к световым лучам. Когда изображение предмета падает на этот именно участок сетчатки, мы не видим предмета, к которому обращён открытый глаз.
Случается, что в известные минуты весь наш зрительный аппарат является сплошным слепым пятном. Человек смотрит раскрытыми глазами на вещи и не видит их. Такое состояние известно каждому и не однажды описано в литературе.
Вот две строки из романа «Война и мир» Л. Толстого, взятые из шестьдесят шестой главы четвёртой части, описывающей события, которые последовали за получением в семье известия о смерти Пети. «Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела, не слышала её».
Вспомните маленький комический казус с гоголевским городничим в первом действии «Ревизора». Перепуганный, взволнованный, выведенный из обычного равновесия известием о приезде предполагаемого ревизора, городничий мечется, отдавая торопливые распоряжения и одеваясь на ходу. «О, ох, хо, хо-х! — горестно восклицает он. — Грешен, во многом грешен». (Берёт вместо шляпы футляр.) И дальше: «О, боже мой, боже мой! Едем, Пётр Иванович!» (Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр. )
Ослеплённый страхом, городничий не видит то, что держит перед глазами, и только когда частный пристав напоминает: «Антон Антонович, это коробка, а не шляпа», городничий наконец увидел коробку.
Над этим свойством не видеть окружающие вещи в быту много и часто подшучивают. Создалось даже ходячее нарицательное понятие человека, не видящего окружающих предметов. Героя комических недоразумений, вечно путающего свои и чужие вещи, надевающего не те галоши или отправляющегося на прогулку в знойный день с дождевым зонтом, именуют «рассеянным профессором». В сказке Маршака «Рассеянный с улицы Бассейной» герой
В рукава просунул руки, Оказалось — это брюки.Все эти литературные свидетельства слепоты и из области комического, и из области трагического — не простая выдумка. Явление это бытует, и довольно прочно, в нашей повседневности. Выражения «ослеплённый страхом», «ослеплённый горем», «ослеплённый гневом» вполне точны. Под влиянием известных внутренних психологических движений — горя (Наташа Ростова), страха (городничий), задумчивости (Рассеянный) человек слепнет, перестаёт воспринимать окружающее.
Но вот более стойкий и более страшный рефлекс слепоты, чем мгновенная и кратковременная слепота под влиянием аффекта, — это слепота привычки.
Привычка ослепляет нас не на мгновение, а иной раз на годы, на целую жизнь. Так же как мы целыми днями, сидя под стенными часами, не замечаем их тиканья, так же проходим мы мимо иных вещей десятки и сотни раз, не замечая их, не видя их. Мы смотрим на них и иногда даже физически видим их, но не отмечаем в нашем сознании их своеобразие. Они привычны, как тиканье часов, и надо, чтобы случилось что-то выбивающее нас из колеи привычных представлений, чтобы мы вдруг и каким-то толчком различили вещь, увидели в её своеобразии и наделили её, наконец, теми качествами и свойствами, которые ей присущи и которых мы до той поры не замечали, не видели.
Мы не замечаем, не видим дома, в котором живём десятилетия; не примечаем рисунка стакана, который каждый день по нескольку раз держим в руках; не замечаем в картине, пять лет висящей перед глазами, ничего, кроме деталей, замеченных в первый раз, когда мы её увидели; не замечаем особых свойств близких нам людей, с которыми живём годами. Они раз и навсегда попали в нашем сознании в проклятое «слепое пятно», и они сами превратились для нас в мутное пятно, в вещи, наделённые раз навсегда ограниченным и узким кругом свойств, далеко не определяющих вещь или человека целиком. Это окостенение окружающего мира, которое тем сильней, чем ограниченней человек, чем притупленней его сознание, чем сильней зрительное рутинёрство, обедняет наши представления, суживает их круг, потому что привычка видеть вещи в раз навсегда ограниченных качествах переносится на новые предметы. Это становится манерой видеть окружающее, манерой, с которой каждый, кто смотрит на мир не как на закостенелый, мертвенный пейзаж, а как на источник живых ощущений, познавании, обогащающих и обновляющих творческую практику, должен бороться самым свирепым образом. Эта борьба за качество видения, в конечном счёте, в переводе на творческую практику писателя есть борьба за качество читательского восприятия. Оно, это восприятие, будет тем свежей, полней, богаче, чем свежей, полней, богаче был первоисточник читательского восприятия — авторское видение.
«Произведение литератора, — говорит Горький в «Письмах начинающим литераторам», — лишь тогда более или менее сильно действует на читателя, когда читатель видит всё то, что показывает ему литератор...» Естественно, что читатель тем больше и лучше увидит, чем больше и лучше увидит (и покажет) писатель.
Увы, не всегда удаётся показать увиденное так, чтобы оно было «зримо, вещно, грубо». Между видением и воплощением виденного весьма часты резкие противоречия. Особенно резки и приметны эти противоречия У авторов малоопытных. Как часто в содеянном начинающим писателем, особенно поэтом, фигурируют люди, вещи, события, явления, очень далёкие автору и мало ему ведомые. В то же время мир людей и вещей, окружающих его повседневно, выпадает из поля авторского зрения. Пишет человек о звёздах, о манящих далях, о джунглях, об океанских солёных просторах, а о своём цехе, в котором работает целые дни, о своём соседе по ставку, столу, квартире почему-то умалчивает.
На первый взгляд это кажется трудно объяснимым. Естественней, казалось бы, брать то, что под рукой, вместо того чтобы тянуться с натугой за далеко лежащим; естественней, казалось бы, писать о том, что отлично и во всех подробностях знаешь, чем о вещах, которые менее известны, представления о которых и смутны, и книжны, и неполны. Где же корни этого неестественного, казалось бы, обращения материала?
Причин, питающих это явление, много. Тут и ложное представление новичка о литературе как о чём-то особом и высоко стоящем над повседневностью, и естественное стремление расширить кругозор, заглянуть за свой плетень, и естественное побуждение выделить необычное, что лежит вне повседневных, непосредственных бытовых и трудовых рамок и что больше поражает новизной и остротой впечатлений, наконец, трудность работы над обыкновенным, над тем, что не блещет и не поражает с первого взгляда. Есть, вероятно, и другие причины, и их, я полагаю, немало. Я не берусь анализировать явление в целом и хочу только указать на то, что известную роль и здесь играет «слепота привычки».
Хемингуэй советовал не писать о том, что хорошо знаешь. Поначалу совет может показаться по меньшей мере странным. Но, поразмыслив над ним, нетрудно прийти к выводу, что это совет человека, мыслящего оригинально, глубоко да к тому же умудрённого большим жизненным опытом. В самом деле, давайте подумаем над этим вслух.
Непосредственно окружающее видится в привычном и ограниченном комплексе примет и качеств. Вжившись в это обычное, перестают его понимать, воспринимать, как не воспринимают тиканья часов над головой. Оно перестаёт воздействовать на творческий импульс, перестаёт толкать и побуждать, оно перестаёт питать впечатления. «Обычно лишь новое кажется важным», — говорит один из персонажей «Бесед немецких эмигрантов» Гёте. И в самом деле, новый семафор на дальней улице, подмигивающий красным, зелёным и жёлтым, больше поражает, чем свой родной завод, выросший ?а пять лет втрое. Этот рост вкрадывался в сознание постепенно, через каналы привычных очертаний, привычных вседневных представлений, и остался неувиденным, остался вне рамок творческой практики.
И тут, как во многих других случаях, образовалось «слепое пятно». Оно нивелирует представления, снижает качество видения, стирает внешний мир, смазывает его, притупляет его ощущение и препятствует подлинному его пониманию. В рассказе Джона Рида «Видеть — значит верить» один из главных персонажей — Джордж, коренной житель Нью-Йорка, встретясь с девушкой-провинциалкой, приехавшей в этот город лишь две недели назад, вдруг убеждается, что он знает о Нью-Йорке меньше, чем эта провинциалка. «Я хочу видеть Нью-Йорк, — говорила девушка. — Здесь есть миллионы вещей, на которые стоит посмотреть. Вчера я целый день ходила по городу, с утра до позднего вечера. Так много интересного. Так много такого, о существовании чего я не имела понятия!»
Вот тут-то, глядя на эту провинциалку, у которой так широко были раскрыты глаза на окружающее, потому что это окружающее было для неё ново, Джорджу л показалось, что он вовсе не знает этого окружающего. И он неожиданно для себя взглянул новыми глазами вокруг, и ему «казалось, что он сам заглядывает в мир, о существовании которого он и не подозревал, — в мир, из которого он был навеки изгнан благодаря тому, что знал слишком много».
Такова сила привычки. Такова сила слепоты привычки. Таково «чудовище привычки», как выражался Белинский. Окружающее перестало существовать потому, что стало привычным. Джордж был из него «навеки изгнан». Случай с Джорджем многозначен, почти универсален. И вот почему борьба со слепотой привычки, борьба за качество видения — это этап борьбы за понимание, за освоение мира. Воспитание в себе навыков острого видения, видения людей и вещей во всём их своеобразии, во всех этих качествах, в движении, в непрерывном наслаивании этих качеств совершенно необходимо писателю.
У Ляйэма О'Флаэрти есть рассказ «Чистота». Ирландский новеллист ставит в центр этого рассказа момент обострённого видения человеком привычных вещей. Объектом видения были два обыкновенных дерева. И вот в минуту напряжения, в минуту острого психического аффекта герой вдруг по-новому увидел эти привычные глазу деревья. «Внезапно вид этих деревьев поразил его душу». Он увидел их такими, какими никогда не видел. Это вызвало вихрь новых представлений, который в свою очередь вызвал новые мысли и привёл к новому и неожиданному поступку.
Этот момент обострённого видения существует в рассказе О'Флаэрти как момент, неожиданно врывающийся в привычную ткань человеческого сознания и разрывающий её («Казалось, будто зашуршала занавеска, отдергиваемая от окна»). Для писателя же это обострённое вúдеиие должно стать постоянной манерой, навыком, постоянно в себе воспитываемым.
Нужно не изредка и не в редкие моменты обострённого состояния психики «отдёргивать занавеску», скрывающую от нас вещи, но держать занавеску всегда отдёрнутой. Мир сквозь занавеску — мутный, фальшивый мир. Сдёргивайте занавеску привычного, ограниченно-равнодушного видения. Даже двенадцать стандартных древтрестовоких стульев неодинаковы. Умейте примечать и малейшие разницы в предметах одинаковых, и малейшие сходства в предметах разных. Воспитывайте в себе это драгоценное качество — примечать. Это «свободное и искусное созерцание, внимание к малейшим намёкам и чертам», о котором говорит Новаллис в «Учениках в Саисе», способность открывать «новые краски в образцах старых, как греческие боги», которая поражала в А. С. Пушкине западноевропейскую критику. Пускайте их в ход каждодневно и каждочасно. Не давайте представлениям о вещах окостеневать.
Почти каждый из писателей, которому приходилось задуматься над своим творческим опытом, постоянно отмечал первостепенную важность видения как источника творческого импульса, как важнейшего элемента творческой практики. Отвечая на вопрос одной анкеты: «На каких восприятиях чаще всего строится образ?», Ольга Форш писала: «Героев своих я не слышу, не осязаю, но прежде всего „вижу"». Константин Федин на этот же вопрос ответил, что «чаще (чем слышанное. — И, Б. ) импульсом к работе служит зрительное восприятие, так же как в большинстве случаев на впечатлениях виденного строится образ». А. Чапыгин включает элемент видения как важнейший элемент не только в творческую подпочву, но и в непосредственную творческую практику, в самый процесс писания. «Если я не вижу, — говорит он, — в своём воображении сцену и не вижу так называемого героя, то дело идёт медленно. Когда я всё вижу, тогда пишу — и работа двигается скоро».
Он далее идёт дальше и в процессе работы постоянно помогает себе обострять это непосредственное видение того, о чём пишет. «К историческим работам, — рассказывает Чапыгин, — чтобы яснее было, делаю иногда рисунки городов, крепостей — так было с «Разиным», я рисовал вид Астрахани по Олеарию, Стрюйсу и другим, а также и Симбирск с Волгой и Свиягой».
Рукописи Пушкина испещрены рисунками. И. Гофман в своей интересной книге «Пушкин. Психология творчества» весьма основательно замечает: «И эти рисунки свидетельствуют о том, что поэт конкретно осязал и видел образы, которые ему рисовало его воображение, и в значительной степени объясняют конкретность и ясность пушкинского творчества».
Гоголь в своей «Авторской исповеди» утверждал: «Угадать человека я мог лишь тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности».
Это признание великого живописца словом весьма примечательно. Оно законополагает примат видения для художника даже в таком тонком и колдовском процессе, как психологическое раскрытие, или, как выражается Гоголь, угадывание характера персонажа. Прежде чем угадать своего героя, надо увидеть его в конкретных приметах его внешнего облика. Не увиденный внешне персонаж остаётся безликой загадкой. Он как бы ещё не существует для художника и во внутренней, духовной своей сущности.
Такова практика творцов высоких, зорких, пристально глядящих в предстоящий им мир и умудрённых всяческими умениями.
А как обстоит и обстояло дело с молодыми, только начинающими свой путь поэтами и прозаиками? Понимают ли они, уясняют ли себе, насколько важно качество видения вещей, насколько важен ракурс, угол зрения, под которым видится предстоящий мир, насколько важна острота и новизна видения, насколько важно разбить рамки привычного, притуплённого видения? Далеко не всегда понимают и далеко не всё. Но наиболее пытливые из них несомненно озабочены серьёзной творческой озабоченностью по этому поводу.
Сорок лет тому назад молодой Вадим Шефнер писал:
И мы вглядываемся в звёзды, Точно видя их в первый раз, Точно мир лишь сегодня создан И никем не открыт до нас.Ему вторит столь же молодой Сергей Иевлев:
Всё дело в том, чтоб ракурс самый новый Упрямо навести на контуры вещей, Чтоб пренебречь освоенной основой, Вообразить, что мир ещё ничей.Приведёнными мной строками молодые поэты подчёркивали необходимость обострённого видения, необходимость обновить привычные представления («освоенную основу») «новым ракурсом», то есть взглянуть на мир по-новому, с новой стороны его увидеть, «вообразить, что мир ещё ничей», «Точно мир лишь сегодня создал». Поэт как бы видит его внове, впервые, и оттого каждое впечатление от него должно быть так же свежо и остро, как первое впечатление от познаваемой вещи. Поэт сознаёт важность зрительной свежести для творческого импульса, для подлинного видения мира.
Другой поэт, Анатолий Чивилихин, о котором я рассказал в главе «О молниях, поэтах и учении», писал в дни поэтической своей молодости в стихотворении «Во славу зрения»:
Не ради прихоти досужей И незадачливой мечты Нам землю всю б — с водой и сушей — Увидеть будто с высоты. Тогда б из нас, наверно, каждый Вовек проститься бы не мог С неиссякаемою жаждой И откровений и тревог. Тогда бы взгляд, проникший в дали, Своим призваньем изумил. Так что ж дивиться мы не стали, Что так доступно видеть мир: Войти в звучащие долины, Иль посетить нагорный лес, И бросить взор неутолимый В просторы звёздные небес!Эти строки, как и строки С. Иевлева, — результат обмысливания молодым поэтом своих творческих задач. И уже на начальных этапах своего творческого пути он отдавал себе отчёт в том, что видение мира и представления, получаемые в результате этого видения, — есть источник «неиссякаемой жажды» и «откровений и тревог», источник творческих импульсов, источник, приближающий к подлинному познанию вещей.
И это не должно быть только внешним оглядом, только «бросанием взоров» (хотя бы и «неутолимых») «в просторы звёздные небес», только желанием подняться, чтобы «землю всю б — с водой и сушей — увидеть будто с высоты». Необходимо не только расширение горизонта, расширение поля зрения, но и зрительное проникновение в глубину предстоящего явления.
О, если б прорасти глазами, Как эти листья, в глубину, —мечтал Сергей Есенин.
Писатель обязан видеть мир глубоко, полно, остро, чтобы так же глубоко, полно и остро писать о нём. И точка зрения «высоты» и точка зрения «прорастания» вглубь одинаково необходимы, чтобы представления о вещах были наиболее верными, яркими и полными. Если надо описать толпу — надо охватить глазом и всю её, и отдельных людей, её составляющих. Для того чтобы определить её величину, её формы, направление её движения, нужно забраться на крышу (на худой конец, хоть на цыпочки привстать). С крыши вы увидите разлив толпы, пространственный её объём, но она будет представляться с высоты скопищем икринок. Этот сгусток тёмной икры ещё не есть человеческая толпа — живая и одухотворённая. Для того чтобы различить людей, составляющих толпу, разглядеть каждого человека в отдельности, каждого в его особости, нужно спуститься с крыши и вмешаться в самую толпу. Только совокупность этих разных наблюдений с разных точек зрения может дать верное представление о характере толпы, о многозначных её качествах и свойствах. Увидеть одни общие формы или, наоборот, одни детали — это значит увидеть только вполовину. И если одно приведёт в творческой практике к схематизму, то другое — к скрупулёзной и ненужной детализации, только затмевающей общую картину.
Обе эти точки зрения одинаково необходимы, чтобы видение давало подлинную меру виденного и — как следствие — полное его понимание и полное отражение в творческой практике.
Нужно быть одновременно и близоруким и дальнозорким (и одновременно обладать нормальным зрением).
Близорукий не видит далеко отстоящих предметов, но зато чётко видит близлежащие. Дальнозоркий не так хорошо различает вблизи, но зато отлично и резко очерчивается перед ним перспектива.
Нужно уметь иногда даже в ущерб крупным вещам переднего плана дать общие чёткие контуры всей обстановки, всего окружения, но иной раз можно смутно очертить общий план, чтобы чётче выступили детали отдельных важных предметов. Так делает киноглаз. Так и мы обязаны делать.
Физически глаз человека так и устроен, что он может укорачивать или удлинять фокусное расстояние, то есть как бы приближать или отодвигать видимое. Но эта способность аккомодации (главным образом, психической аккомодации) у писателя должна утроиться и удесятериться. И её нужно так же тренировать, как и всякий полезный навык.
«Искусство писать есть искусство видеть, есть искусство чувствовать», — говорил французский писатель Реми де Гурмон. И недаром А. Н. Толстой, вспоминая о пройдённых этапах литературного своего пути, говорит как об одном из ранних этапов о том, на котором он «стал учиться видеть».
Именно «учиться видеть». Именно так. Развивать и воспитывать высочайшее качество видения людей, вещей и явлений, видения острого, тончайшего, видения мельчайших деталей, видения общего рисунка, видения вещей во всём их своеобразии, видения совокупностей, видения пытливого, жадного, пристального!
Старая поговорка гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Насколько важно для писателя умение видеть окружающий мир, насколько это писателем сознаётся как важнейшее для него, свидетельствует в «Заметках для себя» Максим Горький: «Я не верил, когда мне говорили, что я талантлив. Весьма возможно, что я не верю в это и сейчас, прожив тридцать лет в чине талантливого человека. Я думаю, что мой единственный талант — уменье видеть, всегда подстрекаемое жаждой видеть».
В бальзаковской «Шагреневой коже» один из персонажей восклицает: «Видеть — не значит ли это знать?» Безусловно значит — так, по крайней мере, я полагаю. В искусство видеть, в горьковское «уменье и жажду видеть» обязательным элементом входит искусство понимать увиденное, сопоставлять с прежде виденным, искусство сближать вещи и явления, далеко отстоящие друг от друга, наконец, искусство подозревать и угадывать, не увиденное ещё, незнакомое нам. Видение есть ступень к прозрению, составляющая поэтической, художнической дальнозоркости. Поэт П. Антокольский в стихотворении «Художнику» говорит:
Прозорливость, зоркость, зрячесть Служат мастеру раньше рук.Недаром же и волшебный серафим в пушкинском «Пророке» совершает над человеком, для превращения его в поэта, прежде всего операцию над зрительным его аппаратом («моих зениц коснулся он»). Видеть — для поэта, для писателя, для художника — это первая его наука; и надо сказать, одна из труднейших наук. Ничего не увидев, ничего и рассказать нельзя, а увидев мало и плохо — и расскажешь или покажешь мало и плохо.
Впрочем, умение видеть — это не только долг и прерогатива писателя или живописца. В такой же мере наука видеть — одна из главных наук в эстетическом университете читателя, театрального зрителя или посетителя выставки картин, да, пожалуй, немаловажный предмет и в повседневном жизненном университете каждого человека.
Не так давно мне довелось прочесть в «Комсомольской правде» примечательную статью заслуженного деятеля искусств Андрея Гончарова «Красные олени». Статья посвящена оригинальному художнику Маю Митуричу, наделённому даром своеобразно видеть и своеобразно изображать окружающий его мир. Она полемизирует с теми полуслепыми (по рождению или по воспитанию), которые признают за художником право изображать мир только таким привычно и совершенно реально (повседневным, каким видится он этим обладателям общепринятых точек зрения. Они отказывают художнику в праве видеть мир по-своему, видеть его а необычных ракурсах и красках, видеть как бы первозданно явленным настежь распахнутым в мир глазам художника.
Умный и многознающий автор, ратуя за художническое своеобразие видения мира, заключает статью словами: «Ну что же, дорогие товарищи, заканчивая наш разговор, я хочу сказать вам самое главное: учитесь видеть... Всё начинается с умения видеть».
Да. Это так. И никак иначе. Всё начинается с умения видеть. В искусстве во всяком случае.
Иначе волшебником не быть
Я касался этого предмета в главе «Руки мастера», да и в других также. В главе «Без божества, без вдохновенья...» я оспаривал утверждение, что писатель в своей работе отлично может обходиться без таланта, без вдохновения и даже без творческого напряжения. Сейчас, закончив эти главы и главу «Чудо таланта», я понял, что не оказал всего того, что мог и должен был сказать в защиту противоположной точки зрения, в защиту отвергаемого вдохновения. Правда, говорить о вдохновении всегда несколько стеснительно. Уж очень тонкая материя. Да и старомодным легко прослыть, толкуя об этом. Но куда ни шло — рискну.
Прежде всего, пожалуй, следует сказать, что есть писатели, которые не только утверждают необязательность вдохновения для работы писателя, но идут гораздо дальше, придерживаются на этот счёт взглядов более радикальных. Джек Лондон, к примеру, утверждал в одном из писем: «Я пришёл к выводу: такой вещи, как вдохновение, — не существует... Упорство — вот тайна литературы и всего остального».
В другом письме, трактуя тот же предмет, Лондон говорит с ещё большей определённостью: «Упорная воля может сделать всё... Такой вещи, как вдохновение, не существует вовсе, а талант — это очень мало. Усидчивость, расцветающая при благоприятных обстоятельствах, даёт то, что мы принимаем за вдохновение...»
Жена Джека Лондона Чармиан, оставившая нам жизнеописание Лондона, свидетельствует: «Я апостол правильной работы, — говорил Джек, — я никогда не жду вдохновения».
На первый взгляд это высказывание Джека Лондона стоит в одном ряду с двумя ранее приведёнными. Но едва ли они равнозначны. Высказывание это можно принимать просто как утверждение необходимости для профессионала настоящей профессиональной работы, которую, по своей собственной терминологии, Лондон именует «правильной». Против регулярности профессиональной работы возражать, конечно, не приходится, но она вовсе не снимает необходимости вдохновения. Одно не исключает, а дополняет другое. Сесть за стол можно просто, как за верстак, к которому ведь и по звонку садятся. Но сама работа в охотку может очень скоро приманить дорогого гостя — вдохновение. А что это гость дорогой и всегда желанный, в этом, мне кажется, нет ни малейшего сомнения, и в этом убеждался верно всякий, кто когда-либо держал перо в руках.
Работа в искусстве и сама по себе почти синоним вдохновения и постоянный источник радости и наслаждения. Недаром же В. Стерн писал в своём «Сентиментальном путешествии»: «Я исследую человеческую природу; за мои старания мне наградой мой труд, и этого довольно». Примерно так же думали о своём труде Эдмон и Жюль Гонкуры, внёсшие однажды в свой «Дневник» следующую запись: «В сущности, единственное, что даёт нам ощущение счастья, — это наша работа». А Кола Брюньон? Разве наслаждение трудом, так блистательно написанное Роменом Ролланом, в той или иной мере, в те или иные жизненные мгновения не испытал всякий, кто когда-либо и что-либо делал в этом ми-ре, в котором труд, мысль и сердце в неразрывном ч вечном союзе создали все блага мира, все его красоты, всю его мощь?
В эти наслаждения трудом входят и сознательные Усилия, и бесконтрольные, безотчётно-радостные минуты трудового напряжения. Бесконтрольные, безотчётные радости труда даже как будто чище и дороже человеку. И они знакомы не только людям искусства, но всякому работающему человеку, что бы он ни делал, если делает своё дело увлечённо.
Превосходно написал такие минуты наслаждения трудом Лев Толстой в «Анне Карениной». Приехав на покос, Левин тотчас взялся за косу и целый день проработал вровень с мужиками-косцами. Вначале было ему очень трудно, почти непосильно в этой тяжёлой работе. Но вскоре он приноровился к косе, к ходу работы, к ритму её, и тогда «в его работе стала происходить перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко... Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты». И дальше: «Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором... как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчётливая делалась сама собой. Это были блаженные минуты».
Такие минуты обязательно случаются у каждого пишущего, истинно преданного своей работе, и это-то и зовётся вдохновением. В эти вдохновенные минуты всё выходит как бы само собой и особенно хорошо. Гёте как-то сказал Эккерману, что Байрон «творил, как женщины рождают красивых детей; они о том не думают и сами не знают, как это случается».
Сам Гёте не только собственной практикой подтверждал это положение, но и принципиально на нём настаивал. Свидетельство тому — следующее четверостишие Гёте (переведено Б. Заходером):
Тут-то всё и создаётся, Если мы не сознаём, Что и как мы создаём — Словно даром всё даётся.Это чудесное самонезнание, эта лёгкость, с какой делается всё в часы вдохновения, неоценимы. «Чем больше я живу, — писал на склоне лет Анатоль Франс, — тем больше чувствую, что прекрасно лишь то, что легко».
Анатолю Франсу, умудрённому огромным писательским опытом, это положение казалось неоспоримым. И тем не менее его оспаривали, и очень решительно. Поль Валери писал: «Говоря о себе, признаюсь, что не придаю никакой ценности тому, что мне ничего не стоит. Моя лёгкость мне всегда подозрительна и даже неприятна».
Гюстав Флобер, подобно Джеку Лондону, утверждал, что «нельзя жить вдохновением, Пегас чаще идёт шагом, чем скачет галопом».
Только что цитированный мной Поль Валери идёт ещё дальше Флобера, находя, что не только нельзя, но и недостойно писателя жить вдохновением, страстью, энтузиазмом. Он так прямо и пишет: «... я считал всегда и считаю теперь недостойным писать из энтузиазма. Энтузиазм не есть душевное состояние писателя». И тут же можно привести прямо противоположное мнение на этот счёт Гёте, который утверждает энтузиазм, страстность в работе писателя как состояния, наиболее соответствующие самому смыслу и назначению этой работы, как состояния, вооружающие для проникновения в природу окружающего нас мира, часто неподвластную холодному, бесстрастному анализу. «Выгода всякой страсти состоит именно в том, — говорил Гёте, — что она заставляет нас проникнуть в суть вещей».
Таковы мнения и сомнения касательно того, что принято называть вдохновением, хотя, случается, это состояние именуют и иначе. Высказываний западных художников слова по этому поводу можно привести в количестве почти безграничном. Но мне думается, можно ограничиться приведёнными высказываниями. Надо послушать и своих соотечественников и подробней, основательней ознакомиться с их взглядами на этот предмет.
Александр Блок в статье «О назначении поэта» писал: «Мастерство требует вдохновения». Подобного рода высказывания случались у нас и до Блока и после него.
Русская литература во все времена была литературой огня и души. В ней, кажется, не возникал вопрос или спор о том, нужно или нет вдохновение. Спорили только о том — какова природа вдохновения, что это состояние в себя включает и что должно включать. Тут были мнения разные и иной раз прямо противоположные друг другу. Начнём с Державина.
По определению Державина, вдохновение «не что иное есть, как живое ощущение, дар неба, луч божества. Поэт в полном упоении чувств своих, разгорался свышним оным пламенем или, скорее сказать, воображением, приходит в восторг, схватывает лиру и поёт, что ему велит сердце... В прямом вдохновении нет ни связи, ни холодного рассуждения; оно даже их убегает и в высоком парении своём ищет только живых, чрезвычайных, занимательных представлений».
Державинское определение смахивает на оду вдохновению и выглядит сегодня архаически. Но я не вижу в том беды. Отделите ищущую мысль от архаики формы, и всё станет на своё место. Пусть не смущают вас ни «луч божества», ни поэт, «схватывающий лиру» разгорающейся «свышним оным пламенем», ни прочее в этом роде. Вникнем в существо дела и попытаемся уточнить, за что же ратует Державин.
Прежде всего установим непреложное — Державин за горение, за пламень, за воображение, за свободу выражения, за то, чтобы голос поэта подчинён был велению сердца. Первые слова державинского определения утверждают, что вдохновение «не что иное есть, как живое ощущение...», а последние, что вдохновение «ищет только живых, чрезвычайных (то есть в обычном, невдохновенном состоянии ненаходимых. — И. Б. ), занимательных (то есть не сухо морализирующих, а увлекающих читателя. — И. Б. ) представлений.
Мне думается, что едва ли кто и сегодня станет серьёзно возражать против всех этих прекрасных настаиваний. Но главное не в этом. Самая сущая суть державинской точки зрения на вдохновение — это «восторг», в который впадает одержимый вдохновением, и отрицание «холодного рассуждения», сиречь разума.
Тут уж придётся, конечно, возражать, спорить и опровергать. И первым, кто возражал, спорил и опровергал, был Пушкин.
Пушкин был убеждён, что не голый восторг обуревает поэта в минуты высокого вдохновения, что разум тоже имеет тут свою, и немалую, долю участия. Ведь он же был открытым последователем великих рационалистов восемнадцатого века: Вольтера, говорившего, что «вдохновение нераздельно с деятельностью разума», Бюффона, утверждающего, что «работа ума, то длительная, ровная, то повышенная, но беспрерывная, терпеливая, есть первый признак гения, чаще других посещаемого вдохновением».
Это были воззрения и мысли, родственные воззрениям и мыслям самого Пушкина. Слив их воедино и соединив с собственной оригинальной концепцией, Пушкин даёт чёткое изложение этой новой точки зрения в заметке «О вдохновении и восторге». Принципиальность позиции Пушкина и полемическая направленность его мыслей нашли своё отражение в самом заголовке заметки, в первых строках её.
Пушкин против тех, кто «смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно к объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие — необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно не в силах произвесть истинно великое совершенство».
Как видите, пушкинское понимание вдохновения есть решительный шаг вперёд в определении вдохновения. Это совершенно новое слово, значительно расширяющее полемический плацдарм и самое понятие вдохновения, которое, по мнению Пушкина, «нужно в геометрии, как и в поэзии». Он вводит как необходимейшую составную вдохновения новую категорию — спокойствие, на котором, как мы увидим из последующего, поэт настаивает особо подчёркнуто. Он вводит и понятие прекрасного, а в конце полагает как необходимый результат вдохновенного труда «истинно великое совершенство».
Вот для чего стоит и долженствует вдохновенно трудиться. Вот что центр и главный смысл определения старого понятия. Вот в чём воинствующая новизна пушкинской формулы вдохновения и коренное отличие её о г всех предшествующих, в частности и в особенности от державинской. Вдохновение нужно не для того, чтобы, схватив в упоении лиру, петь, «что велит сердце». Одна поэтическая искренность — это слишком мизерная плата за то высокое, что несёт художнику вдохновение, слишком незначительный повод для того, чтобы призывать его. Вдохновение — это инструмент, при помощи которого можно и должно «произвесть истинно великое совершенство». Для этой цели и должен трудиться художник. Для осуществления её и необходимо вдохновение.
Это принципиально новый взгляд на вдохновение, принципиально новая и широкая платформа художника. Это уже не только определение, и несравненно больше, чем спор о желаемом. Это требование. Это программа действий. И чтобы выполнить требуемое, нужны «сила ума», трезвость и спокойствие, обязательно спокойствие. На спокойствии мятущийся Пушкин особенно настаивает и постоянно возвращается к этому мотиву — не только в своих теоретических высказываниях, но и в письмах к друзьям, даже в интимных письмах к жене.
В тридцать пятом году, то есть спустя одиннадцать лет после своей программной заметки «О вдохновении и восторге», Пушкин пишет жене в Петербург из Тригорского: «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а всё потому, что не спокоен».
Переломив себя, Пушкин вскоре начал всё же писать, но работалось худо и желанного вдохновения не было. Три недели спустя после приведённого письма к жене Пушкин писал в Петербург другу своему П. Плетнёву: «В ноябре я бы рад явиться к вам; тем более, что такой бесплодной осени отроду мне не выдаивалось. Пишу — через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен».
Спокойствия не только не было в те дни у Пушкина, но оно и не могло явиться. Это было за год с небольшим до гибели поэта, когда его отправили в очередную ссылку. Царь изгнал его из Петербурга и запретил издавать газету, которую сперва было разрешил. В письме к жене той же осенью Пушкин жалуется на царя. Он «не даёт мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые и не вижу ничего в будущем».
Несколькими днями раньше в другом письме к Наталье Николаевне Пушкин тревожится тем же: «Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода... Всё держится на мне да на тётке. Но ни я, ни тётка не вечны. Что из этого будет — бог знает. Покаместь грустно».
Грустные, озабоченные, тревожные письма, которые писались в Михайловском, летели в шумный, блестящий Петербург, где жила Наталья Николаевна и где плелись последние интриги против изгнанника, почти лишённого возможности работать. Вскоре лишили его возможности и жить. Он это предчувствовал. Писал, что он «не вечен». Писал: «... не вижу ничего в будущем».
Будущего при жизни у загнанного поэта в самом деле не было. И конечно, не могло быть речи и о спокойствии. Тем острей и жадней желалось оно. Нужно было оно и для жизни и для работы. Это было «необходимое условие прекрасного» и обязательная составная часть вдохновения.
Не следует думать, что взгляды поэта обусловлены были только жизненным состоянием его. Так же думал и писал о вдохновении и спокойствии Пушкин одиннадцать лет назад, когда жизненные обстоятельства были иными.
Двуединство спокойствия и вдохновения, на котором настаивает Пушкин, может показаться на первый взгляд необычным, странным, даже невозможным. Вдохновение — это ведь прежде всего взволнованность и приподнятость, то есть состояние, прямо противоположное уравновешенности и спокойствию. По трезвому разумению и по логике, оба состояния кажутся исключающими друг друга и несовместимыми.
Но у художника и у художнических состояний — своя логика и свои законы. И по этим неукоснительным законам художник не только может, но и обязан быть одновременно и горячим и холодным, и чувственным и рассудочным, и сопереживателем всему сущему и наблюдателем. Пушкин держался этого не только в своих теориях, но и в художнической практике своей. Годом раньше своей заметки «О вдохновении и восторге» он в последних строчках посвящения, предваряющего «Евгения Онегина», определяет весь свой роман в стихах как результат «ума холодных наблюдений и сердца горестных замёт».
Жар сердца и холод ума, соединённые в одно, — вот что водит пером художника, вот что — его практика. Может статься, действительно для объяснения этого феномена лучше всего обратиться к самой практике великих. Тут же, к случаю, пожалуй, сошлюсь на Анну Каренину, которая, по авторской ремарке, «была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать».
Ещё лучше о двойственном состоянии человеческой личности сказано в «Войне и мире», в поразительно написанной сцене свидания Пьера с Наташей и княжной Марьей в Москве сразу по окончании войны.
Наташа только что потеряла жениха, княжна Марья — брата, Пьер — друга, и все трое впёртые после смерти князя Андрея свиделись. Каждый исполнен своего горя, у каждого кровоточат свои раны. Говорить всем троим очень трудно. Но так как все трое — люди открытой души и высокой человечности, то разговор сразу пошёл именно о том, о чём говорить трудней всего — о смерти князя Андрея, о гибели пятнадцатилетнего Пети Ростова, о страшных днях войны. Каждый говорил с такой открытостью и чистотой, что ни самые речи их, ни слёзы каждого не были им стыдны. Три сердца, изболевшиеся каждое по отдельности, нашли в этом чистом единении высокую отраду.
Под конец, уже далеко за полночь, вышло как-то само собой, что Пьер стал рассказывать о пережитом им, о своём пленении, об ужасах горящей и разграбленной Москвы, о людях, погибавших на глазах Пьера, о смерти Платона Каратаева.
В рассказе Пьера, правдивом, искреннем и трагическом, раскрывались перед двумя страдающими женщинами не только события, но раскрывалась и вся душа Пьера, очищенная перенесёнными страданиями. «Теперь, когда он рассказывал всё это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину... настоящие женщины, одарённые способностью выбирания и всасывания в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагивания мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила ещё не высказанное слово и прямо вносила в своё . раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера. Княжна Марья понимала рассказ, сочувствовала ему, но она теперь видела другое, что поглощало всё её внимание: она видела возможность любви и счастья между Наташей и Пьером. И в первый раз пришедшая ей эта мысль наполняла её душу радостью. Было три часа ночи. Официанты с грустными, строгими лицами приходили переменять свечи, но никто не замечал их».
Не знаешь, что лучше в этой картине, данной великим сердцеведом с таким поражающим проникновением в человека, — рисунок ли души каждого из троих, жар ли сердец их, удивительная ли атмосфера этого ночного разговора, или метод выражения, так поразительно найденный автором? Верней всего, что всё лучше в этом безупречном описании кровоточащей и торжествующей над страданиями жизни людей.
Но я хочу обратить внимание на одну сторону этого описания, ради которой и извлёк его из романа, а именно на то, как по-разному слушают Пьера Наташа и княжна Марья. Наташа — вся трепет и горение. Она слышала в рассказе Пьера то, что слухом уловить нельзя, — слышала «ещё невысказанное слово», улавливала угаданно-услышанное не разумом, а «прямо вносила в своё раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера». Это бесконтрольное восприятие сердцем, чувством, интуицией — всё это составляет одну из сторон, одну из возможностей, одну из способностей человека воспринимать окружающий его мир. Другая сторона, другая возможность и другая способность — это та, которая живёт в княжне Марье. Она воспринимала рассказ Пьера совсем не так, как Наташа, иначе, по-своему. Она слушала и всё слышала, смотрела и всё видела, и всё понимала. И кроме слушания, видения и понимания рассказа Пьера и самого Пьера, она ещё размышляла по поводу услышанного и увиденного, притом думая о Наташе и Пьере, о возможности любви и счастья между ними.
Наташа была горячей соучастницей рассказа Пьера, княжна Марья — наблюдательницей. Случается, что оба эти состояния сливаются у человека в одно, как это показал Толстой у Анны Карениной, которая, будучи обуреваема чувством, одновременно обладала собой настолько, что могла наблюдать.
Это состояние, при котором соучастник и наблюдатель, чувствователь и контролёр чувств соединены вместе, и является обязательным для художника, находящегося в процессе живого, увлекающего, одухотворённого труда. Такое состояние и есть состояние вдохновения, как его понимал Пушкин.
С Пушкиным мы с вами проделали путь от высказанных им теоретических положений к его творческой практике. Но возможен и обратный путь, как бы проверяющий верность выводов и заключений. Это легко установить на примере работы Льва Толстого. Для того чтобы написать Наташу и княжну Марью в разных их состояниях, и написать так проникновенно, Толстой обязательно должен был как бы вселиться на время написания в них, как бы стать одновременно и Наташей, и княжной Марьей. И в то же время он должен был наблюдать за ними как бы и со стороны, чтобы ясно и чётко видеть их, вооружиться контрольным аппаратом ума, в полной мере владея при этом и профессиональными навыками, чтобы хорошо их использовать для описания наблюдённого, почувствованного и познанного. Словом, Толстой не смог бы написать так эту сцену, если бы не находился в состоянии вдохновения, подразумевающего одновременную работу ума и сердца.
Это состояние было знакомо Толстому издавна. В дневниках его то и дело встречаются записи, рассказывающие о напряжённой, оживлённой, радостной и одухотворённой работе над тем или иным произведением. Вот некоторые из них: «Начал вчера Кóневскую[1] с начала. Очень весело писать»; «Мысли о Кóневском рассказе всё ярче и ярче приходят в голову. Вообще нахожусь в состоянии вдохновения 2-й день. Что выйдет, не знаю». О том же свидетельствует и жена писателя Софья Андреевна Толстая, сделавшая в своём дневнике в период работы Льва Николаевича над «Войной и миром» следующую запись: «Левочка всю зиму раздражённо, со слезами и волнением пишет».
Толстой очень ценил периоды взволнованной, вдохновенной работы, полагая их чрезвычайно важными для писателя. В декабре восемьсот шестьдесят четвёртого года он пишет Софье Андреевне, что диктовал её сестре «Войну и мир», «но не хорошо, спокойно, без волнения, а без волнения наше писательское дело не идёт».
Кстати, о спокойствии, которое Толстой называет нехорошим. Тут речь идёт, конечно, не вообще о спокойствии, которого Толстой вовсе не отвергал, а о мере его. Надо быть и взволнованным и спокойным одновременно, и мера того и другого должна хорошо и удачно сочетаться. Отлично написал об этом сочетании и сам Толстой в «Анне Карениной», говоря о работе художника Михайлова: «Он одинаково не мог работать, когда был холодея, как и тогда, когда был слишком размягчён и слишком видел всё. Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа».
Эту единственную ступень искал всю жизнь и сам Толстой, и другие, кто шёл тем же путём до него, после него и рядом с ним. Почувствовать и обнаружить эту не обозначенную никакими вехами грань возможности и готовности к вдохновенному труду невыразимо трудно. Но найти её необходимо, иначе в искусстве — не жить. Иначе — волшебником не быть.
Неизбежность странного мира
Вернёмся к прощанию Пушкина с только что законченным «Евгением Онегиным» и обратимся прежде всего к первой строчке прощальной строфы: «Прости ж и ты, мой спутник странный».
«Странный»... Какое неожиданное здесь слово — не правда ли? Нет, в самом деле, как может статься такое? Почти девять лет взращивать своё детище, создавать целый мир, целую «энциклопедию русской жизни», образовать блестящую галерею характеров, властно править их сердцами и умами, поступками и помыслами, сделать этот чудно населённый мир обжитым домом своей души и, когда пришёл час прощания с ним, вдруг назвать его странным...
Что за каприз, что за причуда!
Да нет, и не каприз, и не причуда, а просто верность сущему, если хотите, — привычка быть точным. «Странный» — это именно то слово, которое в данном случае уместней, чем какое-либо другое. Чтобы лучше сказать об этом и доказательней, мне придётся на время отвлечься от поэзии и обратиться к физике.
Поможет мне в этом Даниил Данин, который деятельностью своей доказывает, что между лириками и физиками нет особо больших разноречий. Я помню интересные и тонкие рецензии о стихах и статьи о поэтическом стиле, написанные этим кандидатом физических наук. А нынче у меня на столе книга о труднейших и сложнейших вопросах современной ядерной физики, написанная этим ценителем поэзии.
Сам автор в начале книги так определяет её прицел, направленность, метод и содержание: «Эта книга — нечто вроде заметок путешественника, побывавшего в удивительной стране элементарных частиц материи, где перед ним приоткрылся странный мир неожиданных идей и представлений физики нашего века».
Эти «заметки путешественника» в странном мире элементарных частиц написаны с таким умом, с таким проникновением в материал, с таким вкусом к слову и форме, что читаются как увлекательный роман. Я лично, прочтя эту чудесную книгу восемь лет назад, с удовольствием вернулся к ней нынче и перечёл с таким же непреходящим интересом и благодарностью к автору, с каким читал и впервые.
Эта превосходная книга рождает много новых мыслей и утверждает удивление и восхищение гением человека и человечества. Это благородная книга о благородстве и трудностях познания окружающего нас мира и проникновения в него.
Поэзия — тоже один из методов познания мира и проникновения в него, и если он во многом отличен от того метода познания, который зовётся — наука, то в обоих методах есть и сходственные черты.
Одна из таких черт, как мне кажется, это странность, свойственная и миру поэзии, и миру новых научных представлений. Сравнивая доэнштейновскую, допланковскую механику с новой, современной, неклассической, квантовой механикой, Данин снова и снова говорит об особости малого мира микрочастиц по сравнению с макромиром, обычным миром, который мы познаём нашими чувствами и который привычен нашим представлениям. «Очевидно... — говорит Данин, — все элементарные частицы... благодаря одной своей малости не могут подчиняться законам движения обычных тел... В середине 20-х годов физикам стало совершенно ясно, что невидимый мир должен с неизбежностью оказаться странно устроенным миром».
Образ этот показался, видимо, столь приманчивым и так захотелось автору утвердить и прочно закрепить его в читательском сознании, что он назвал книгу «Неизбежность странного мира».
А теперь обратимся к странному миру поэзии и попробуем проследить и понять, чем отличен он от повседневного нашего мира. Попутно постараемся постигнуть — как повседневное и обычное, попав в сумку волшебника-поэта, становится неузнаваемо иным и по-особому странным.
Для наглядности перемен и слежения их начнём с самой обычной картины. Представим себе молодого человека, сидящего в общем зале петербургского ресторана начала века. Вечер. Весна. Уже начался дачный сезон, и молодой человек тоже живёт на даче, но, по-видимому, наскучив тихой дачной одурью, сбежал в станционный ресторан.
Но и тут, в сущности говоря, то же самое. Обычная скука, обычная пыль в обычных переулках, над которыми висит обычная и тоже скучная луна, даже как будто скривившаяся от скуки. Там, где окраинные переулки упираются в шлагбаумы застав, прогуливаются парочки. Кавалеры в обычных, принятых в те дни котелках, лихо сдвинутых к затылку, наперегонки острят, развлекая своих дам. Но от острот их, видимо, никому не весело, как никому не весело и здесь в ресторанном зале, где даже лакеи какие-то сонные. Их не могут расшевелить и крики красноглазых пьяниц, тоже привычные.
Может статься, эта сонная скука не общий удел? Может быть, есть в этом мире и иное... Вон за окном прошла девушка в шёлковом платье, модной шляпе со страусовыми перьями и с опущенной на лицо вуалью. За тёмной паутинкой вуали лица не разглядишь, и оттого за ней может померещиться бог весть какие прекрасности и таинственности. Это тем легче, что перед тобой стакан терпкого вина и что тебе всего двадцать шесть. Впрочем, может быть, всё это ничего особого и не означает. Перед нами обычная картинка обычного весеннего вечера в окрестностях Петербурга начала века.
Но вот мы берём в руки томик Блока. И картина, которая только что рисовалась нам обычнейшей, вдруг по велению какого-то незнаемого волшебства преображается и становится изумительно пластичной, таинственной, романтической, необыкновенной, странной и бесконечно дорогой нашему глазу, сердцу, уму, воображению... И мы читаем упоительно медленные строки, смакуя их, как вино...
По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. Вдали, над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И раздаётся детский плач. И каждый вечер, за шлагбаумами, Заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки. Над озером скрипят уключины, И раздаётся женский визг, А в небе, ко всему приученный, Бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный В моем стакане отражён И влагой терпкой и таинственной, Как я, смирён и оглушён. А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «In vina veritas!» кричат. И каждый вечер, в час назначенный (Иль это только снится мне?), Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. И веют древними поверьями Её упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованный, Смотрю за тёмную вуаль И вижу берег очарованный И очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, Мне чьё-то солнце вручено, И все души моей излучины Пронзило терпкое вино. И перья страуса склонённые В моем качаются мозгу, И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне! Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине.Такова блоковская «Незнакомка», в которой глазу, обречённому привычным представлениям, и уму, притуплённому заурядными знакоместами, всё внове и всё в радость. Она наново рождает наши чувства, наделяет жадной и острой пристальностью и несравнимо против обычного расширяет поле нашего зрения. Это жаркий толчок крови под самое сердце и зовы в незнаемые странности, живущие за нашими знаемыми обыденностями. Это прикасание к «глухим тайнам» Прекрасного и приглашение к путешествию в «очарованную даль».
Если, упаси боже, вы не ощутите этих негаданных прикасаний, не почувствуете этих колдовских очарований, не услышите этих призывных труб, вы рискуете остаться перед лицом Прекрасного глухонемым и слепо-недвижным, а это великое несчастье. Бойтесь его. Бегите его. Бегите в поэзию. Избавление от страшной всякому живому глухослепонемоты привычного — там, в поэзии, в зовах и звучаниях её, в пристрастиях и странностях, в странностях особенно.
Вы, может статься, замечали, что хороший педагог — всегда немного странный нам педагог, а хороший врач — это немного странный врач. Нетрудно понять, почему оно так. Врачевание — это ведь всегда немного психологическое шаманство, а воспитание — непрерывный психологический эксперимент, цель которого — взять в плен воспитуемого и лепить в нём нужное по душевному умению своему. Странное же — отличнейший инструмент при этой лепке, потому что оно поражает воображение, а отсюда один шаг до любого преображения.
Подобно хорошему врачу и хорошему педагогу, хороший поэт, как и сама поэзия, всегда со своей особой страннинкой. Эта страннинка — как соль в пище, как запах земли, примешивающийся к любому аромату любого цветка, любой травинки. Она изначально присуща поэзии.
Блоковскую «Незнакомку» эта страннинка пронизывает насквозь, животочит в каждой строке её, как сок берёзы весной. Проглядите, переберите эти строки, как музыкант перебирает струны своего инструмента, и вы тотчас уловите звучание их, звучание особое, неповторимо своё, обострённое до той страннинки, которая пленяет сразу и навсегда, приковывает к себе неотрывно, как прикован взгляд поэта к явленному ему колдовству, когда он в пошлой ресторанной одури вдруг замечает, как
Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне.С этого мгновения пристальная прикованность к явленному уже ни на мгновение не оставляет поэта. Он следит за каждым движением её. Он заворожённо отмечает про себя, как
... И медленно пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна.Неведомый фантом вдруг вошёл в обычный мир, всему новое движение, принёс с собой новые запахи, новые краски, словно даже веяния какого-то иного времени.
И веют древними поверьями Её упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука.Но это не всё. Надо ещё и ещё смотреть, следить, околдовываться.
И странной близостью закованный, Смотрю за тёмную вуаль И вижу берег очарованный И очарованную даль.Что за строки! Что за удивительные строки! В каждой, по-своему особой, по-своему же развёртывается поражающая картина волшебств и очарований.
Где же они зачинаются — эти пронзающие душу открытия глаз и сердца? Может быть, изначальное — вот это:
И странной близостью закованный...Ну да. Ну конечно же. Это прежде всего. Близость — это прежде всего. Близость обязательна для пристальности. Надо почувствовать себя близким материалу, чтобы завидеть его, пролучить поэтическим рентгеном. Это то же, что «родственное внимание» Пришвина, обязательное для глядения в природу и чувствования её.
Но близость блоковская не просто близость, а «странная» близость. И только тогда, когда, вооружённый и устремлённый этой «странной близостью», смотришь «за тёмную вуаль», тогда только и можно увидеть и «берег очарованный и очарованную даль». Без этой «странной близости» к материалу очарованных далей поэзии не разглядишь. Это не будет тебе дано. И только с ней и может поэт и человек почувствовать и, почувствовав, сказать:
Глухие тайны мне поручены, Мне чьё-то солнце вручено...И это чьё-то уже не чужое. Поэт так глубоко вошёл в чужой мир, что этот чужой мир вошёл в него самого, стал его миром. И страусовые перья, которые качаются на тулье шляпы, и глаза, которые чуть мерцают за тёмной сеткой вуали, уже не те и не там.
И перья страуса склонённые В моем качаются мозгу, И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу.Как перья страуса переместились со шляпы в самый мозг поэта, как глаза, даже неразличимые вблизи за сеткой вуали, различились, стали «синими бездонными» и уже «цветут на дальнем берегу»?
Как же случаются эти удивительные превращения, эта игра очарования, эти изменения ракурсов, эти смещения в пространстве и времени, эти замены качеств новыми и совершенно своими? Где ключ от этого таинственного ларца с бесценными и странными сокровищами? Да вот же он:
В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне!Вот награда за огромный труд, за напряжённое и истощающее до изнеможения колдование. Эта награда — богатство души, в которой «лежит сокровище».
Эта награда — безраздельное право владения ключом от этого сокровища, который «поручен только мне». Эта награда — весь новооткрытый странный мир с его глухими тайными и очарованными далями, прекрасно-странный мир, который так неимоверно трудно разглядеть за повседневной «пылью переулочной» и ещё трудней дать ему новую и странно прекрасную жизнь.
Об этом думаю не я один, и не только мои современники. Задолго до нашего времени, почти четыреста лет тому назад, английский философ-материалист Фрэнсис Бэкон сказал: «Не существует истинно прекрасного без некоторой доли странности».
Доля странности в мире поэтического — очень весомая доля и необходимейшая составная поэзии. И самая странная черта этой странности состоит, может статься, в том, что она не отъединяет поэта от мира жизни живой. Своезначность поэтической речи, её особый строй и обычай, каким верен был всю жизнь Александр Блок, не помешала ему в трудные дни родины предостеречь своих сограждан:
Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!Странный мир — это чудо преображения мира вседневного. Это чудо поэзии, без которого поэту жить невозможно. Явление его душе странного мира неотвратимо. Оно есть — неизбежность.
Очень хорошо оказал о необходимости странного для поэта Вадим Шефнер в цитированной мной «Цепочке мыслей о поэзии». Утверждая близость Ф. Тютчева нашему времени, Шефнер видит одну из причин этого в том, что «поэту свойственно одно величайшее качество: ощущение необычности, странности мира. Ведь мы живём в единственном, неповторимом мире, в мире, который нам не с чем сравнить, ибо для него нет эталона. Эта удивленность неповторимостью мира сквозит в стихах Баратынского, и в стихах Иннокентия Анненского, и в стихах Блока, и в стихах Заболоцкого. А из поэтов, живущих и работающих в наши дни, этим редким качеством в наибольшей степени обладает Леонид Мартынов».
Всё сказанное Шефнером о необходимой поэту удивленности предстающим перед ним миром, о столь же необходимом «ощущении необычности, странности мира» — сущая и добрая правда, отысканная и различённая в долгих поэтических поисках Шефнера, которые я наблюдаю уже много-много лет.
И эти шефнеровские строки сродни, совершенна сродни блоковским строкам;
Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран — И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман.Этот поэтический цветной туман, подобный тёмной вуали Незнакомки, скрывает всё ту же очарованную даль, которая стоит за предстающей глазам обыденностью. Для того чтобы случились прекрасные поэтические преображения, не надо в эти очарованные страны далеко ехать. Они здесь, у тебя под рукой, на лезвии твоего перочинного ножа. Надо только уметь разглядеть на этом обычном карманном ноже «пылинку дальних стран». И тогда обычный «мир опять предстанет странным», то есть поэтическим.
Пушкин постоянно ощущает странность поэтического. Он не только называет Евгения Онегина «странным» спутником своей жизни, о чём я уже упоминал в самом начале главы. В стихотворении «К моей чернильнице» поэт говорит о том, как поражает его «странность рифмы новой, Неслыханной дотоль». Даже обычная речь превращается у него иной раз в «странное просторечие». Гоголь, ощущая творения свои странными, в начале седьмой главы «Мёртвых душ» говорит о себе: «И долго ещё суждено мне идти об руку с моими странными героями».
В своей статье «Николай Гоголь» Мериме, выслеживая степень и ступени странного и фантастического в произведениях Гоголя, а также взаимосвязей этих необычайностей с реальным, говорит: «Переход от странного к чудесному почти незаметен, и читатель таким образом окажется в области фантастики раньше, чем Успеет заметить, что покинул действительный мир».
В заключение — ещё несколько о «Незнакомке». Не так давно в «Вечернем Ленинграде» внимание моё привлекла небольшая статья И. Рудницкой «Озерки, блоковская „Незнакомка"». В ней приведены свидетельства К. Чуковского и друзей Блока В. Пяста и Е. Иванова, В. Пяст рассказывает, что с зимы девятьсот пятого — шестого года, то есть именно тогда, когда зародилась и потом писалась «Незнакомка», Александр Блок особенно полюбил «путешествие (в одиночестве) с Приморского вокзала по железной дороге до Озерков».
По утверждению автора статьи, «Вокзал в Озерках и стал местом рождения блоковской «Незнакомки». На станции он часто сидел в железнодорожном ресторане», атмосферу которого он позже и воспроизвёл в своём знаменитом стихотворении.
Говоря о точности воспроизведения поэтом окружающей его обстановки и местного пейзажа, К. Чуковский говорит: «Помню нарядную булочную, над которой, по тогдашней традиции, красовался в дополнение к вывеске большой позолоченный крендель, видный из вагонного окна... Хорошо помню шлагбаумы Финляндской железной дороги, за которыми шла болотистая топь, прорытая канавами».
Так вот откуда в «Незнакомке» появились и «шлагбаумы», и «канавы», за которыми «гуляют с дамами Испытанные остряки», и чуть золотящийся «крендель булочной», и озеро (Суздальское озеро в соседнем с Озерками Шувалове), над которым «звенят уключины, И раздаётся женский визг».
Весь этот фон, на котором держится «Незнакомка», по выражению друга поэта Е. Иванова, совершившего вместе с Блоком поездку в Озерки в мае девятьсот шестого года, — «это земная реальность, все детали которой выписаны с большой точностью».
Как земная реальность становится той поэтической страннинкой, которая тревожит и радует сердце и зовётся поэзией, — об этом могли бы рассказать только поэты. Но, к сожалению, и они этого не знают.
Впрочем, может быть и не к сожалению, а к счастью, ибо поэзия — это всегда тайна.
И пусть и остаётся она тайной.
Мой Север
Два писателя рассказывают о двух капитанах
Итак, дошёл черёд и до милого моему сердцу Севера. На этот раз постараюсь о нём, о его людях, его красках, его искусстве, о нём и искусстве рассказать пошире и поглубже. Однако всё по порядку.
Каждый, кто прочтёт название этой главы, тотчас, вероятно, вспомнит роман Вениамина Каверина «Два капитана». Ну что ж, воспоминание будет как нельзя более кстати, тем более что, на мой взгляд, «Два капитана» — несомненно лучший из всех романов Каверина. Я имел случай сказать это самому Вениамину Александровичу, когда он однажды в дни Великой Отечественной войны появился возле моей койки в архангельском госпитале, куда привезли меня с Мурманского участка Карельского фронта. Случилось это в августе сорок второго года. Встреча была для меня нежданной и приятной. Что касается пришедшего навестить меня Каверина, то появление его в Архангельске отнюдь не было случайностью. В некотором роде оно связывалось с «Двумя капитанами». Вынужденный с началом Великой Отечественной прервать работу над романом и уже будучи военным корреспондентом «Известий», Каверин просил командировать его на Северный флот, где надеялся найти материал для последующей окончательной доработки «Двух капитанов». Однако вернёмся к разговору с Кавериным.
В те дни жесточайших военных бурь, когда человек испытывался на человеческое каждый день и каждый час, все мы говорили друг с другом душевней и откровенней, чем нынче. Посему неожиданный разговор наш с Вениамином Александровичем в архангельском госпитале был открытей, чем в какое-либо другое время. Я сказал Каверину, что не всё его книги мне по душе, но что «Двух капитанов» я очень люблю и ценю. Причин тому множество, но, пожалуй, важнейшая из них та, что в «Двух капитанах» Каверин, оставаясь верным острому сюжету и столь же острой занимательности, более сердечен, жизнен, человечен, чем в других своих книгах. Примерно так сказал я тогда Каверину. Так думаю и сейчас.
Откуда и почему появились в романе эти подкупающие сердечные нотки, эта жизненность и человечность? Я думаю — от особой взволнованности материалом романа, может статься не испытанной автором в такой степени при работе над другими своими вещами. А питают эту взволнованность материалом романа, мне кажется, две встречи, о которых Каверин обстоятельно рассказал во вступлении к первому тому своего шеститомного собрания сочинений.
Вступление чётко и точно названо — «Очерк работы».
Всё началось в тридцать шестом году. Отдыхая в санатории под Ленинградом, Каверин случайно встретился там с одним молодым учёным — человеком трудной судьбы и высоких человеческих качеств. Завязались добрые отношения, и однажды этот молодой учёный стал рассказывать Каверину историю своей многосложной жизни. Рассказ длился шесть вечеров кряду, и краткие записи его легли в основу повести, которая заключала в себе в зачаточном состоянии будущих «Двух капитанов», а точнее говоря, характер и биографическую канву младшего из капитанов — Сани Григорьева.
Повесть написана была залпом в течение трёх месяцев, но как-то, по-видимому, не вполне удалась, и напечатать её не представлялось возможным. На время она была отложена, однако в следующем году Каверин вернулся к ней, и уже с более широкими планами большого романа.
Но для большого романа не хватало материала. Какой же ещё материал, кроме истории жизни нового знакомца Каверина, ставшего его другом, должен был дополнительно войти в книгу? Указующими в этом направлении являются слова самого Каверина в «Очерке работы» о том, что «роман писался в конце тридцатых годов, принёсших Советской стране огромные, захватывающие воображение победы в Арктике».
Арктический материал захватил воображение и автора будущего романа. Но что выбрать из громадного материала истории завоевания Арктики? Каверин остановился на тысяча девятьсот двенадцатом и примыкавших к нему годах. Надо сказать, что двенадцатый год в истории русского полярного мореходства был особо героическим, и особо трагическим.
В конце лета того года отправились по разным маршрутам три русские полярные экспедиции: Георгия Брусилова, Владимира Русанова и Георгия Седова. Все трое погибли, прокладывая путь последующим завоевателям Арктики.
Этот героический и трагический материал и принялся осваивать Каверин, работая над своим романом. В конце концов из трёх действительных капитанов родился один, романический, — Иван Татаринов.
Но нельзя ли распознать поточней — который из трёх стал прототипом старшего каверинского капитана? Попробуем. Передо мной на столе брошюра Ф. Черняховского, автора многих книжек о выдающихся людях русского Севера, носящая название «Георгий Яковлевич Седов». На последней странице её я читаю: «Образ Ивана Татаринова в романе В. Каверина «Два капитана» выражает лучшие черты Георгия Яковлевича Седова».
Многие читатели, вероятно, думали и думают так же. Но так ли это на самом деле? И нельзя ли извлечь подтверждения этому из самого романа «Два капитана» или из источников, какими явно пользовался при написании романа его автор? Попробуем, и для начала давайте сличим некоторые детали действительной биографии и действительной истории экспедиции Георгия Седова с соответствующими деталями романической биографии и романической истории экспедиции Ивана Татаринова.
Вот хотя бы один пример почти точного совпадения бывшего в действительности и романического. В дневнике одного из участников экспедиции и друга Седова так записана пятнадцатого февраля тысяча девятьсот четырнадцатого года сцена прощания больного цингой Седова с членами экспедиции и командой перед уходом со «Святого Фоки» на север, к полюсу: «Неистощимый рассказчик, выдумщик анекдотов и смешных историй, кумир команды... даже к работе приступающий не иначе, как с шуткой, Седов теперь выглядел другим...» И дальше: «... он несколько минут стоял с закрытыми глазами, как бы собираясь с мыслями, чтобы сказать последнее слово. Но вместо слов вырвался едва заметный стон, в углах сомкнутых глаз сверкнули слёзы...»
Так прощался со своими друзьями и соратниками, покидая «Святого Фоку», действительный, доподлинный, живой капитан и начальник экспедиции — Георгий Седов.
А вот как выглядит при прощании с командой корабля романический капитан и начальник экспедиции Иван Татаринов в «Двух капитанах»: «... что общего с прежним... выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, с шуткой приступавшим к самому трудному делу... Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с мыслями, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон и в углах глаз сверкнули слёзы».
Сравним в отрывках и самую прощальную речь Седова. В дневнике участника экспедиции записано, что, овладев собой, Седов «начал говорить сначала отрывочно, потом спокойнее... Трудами русских в историю исследования Севера вписаны важнейшие страницы, Россия может гордиться ими. Теперь на нас лежит ответственность оказаться достойными преемниками наших исследователей Севера... Мне хочется сказать вам не „прощайте", а „до свидания"».
А вот что читаем мы в соответствующем месте «Двух капитанов»: «Он заговорил сперва отрывисто, потом всё более спокойно... Трудами русских в истории Севера записаны важнейшие страницы, — Россия может гордиться ими. На нас лежит ответственность — оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера... Мне хочется сказать вам не „прощайте", а „до свидания"».
Как видите, оба описания сцены прощания и процитированные части содержания прощальной речи Седова — действительное и романическое — совпадают почти дословно. Случается, что так же или почти так же обстоит дело и с другими сценами и деталями повествования «Двух капитанов», которые иногда лишь слегка изменены по сравнению со сценами и деталями, действительно существовавшими. От того, что некоторые подлинные детали заменены романическими, и от того, что введены вымышленные ситуации и вымышленные люди, кроме действительно существовавших, ничто в сути дела не изменяется.
Итак, мы знаем прототип капитана Татаринова. Мы без труда можем обнаружить прототипы некоторых других персонажей «Двух капитанов». Известный лётчик Ч., с окающим говорком, чьим именем назван город, — это Валерий Чкалов. В профессоре В., который «открыл остров на основании дрейфа „Св. Марии"», легко распознать профессора Визе, действительно определившего на основании анализа результатов дрейфа «Св. Анны» Г. Брусилова, что в переломной точке дрейфа должна находиться какая-то земля, которая и изменила прямолинейный путь дрейфа. В жизни это случилось в девятьсот двадцать четвёртом году. А шесть лет спустя, участвуя в экспедиции на ледоколе «Георгий Седов», Владимир Юльевич Визе мог собственными глазами лицезреть эту землю и даже ступить на неё собственными ногами. Земля оказалась островом, который и назвали островом Визе. Теоретические выкладки учёного оказались верными и подтверждены были на практике им же самим.
Есть в «Двух капитанах» беглое упоминание о том, что во время сборов лётчика Сани Григорьева на поисковую экспедицию к нему заходил «П., старый художник, друг и спутник Седова, в своё время... напечатавший свои воспоминания о том, как «Св. Фока», возвращаясь на Большую Землю, подобрал штурмана Климова на мысе Флора».
Я думаю, что теперь самое время сказать, что художником этим, позже ставшим и писателем, был Николай Васильевич Пинегин, что я цитировал выдержки именно из его дневника, сличая их с текстом соответствующих мест «Двух капитанов».
И тут я должен рассказать о второй встрече автора «Двух капитанов», определившей направление и содержание романа. Впрочем, лучше будет, если расскажет об этой решающей встрече сам Каверин:
«... Однако только исторические материалы показались мне недостаточными. Я знал, что в Ленинграде живёт художник и писатель Николай Васильевич Пинегин, друг Седова, один из тех, кто после его гибели привёл шхуну «Св. Фока» на Большую Землю. Мы встретились, и Пинегин не только рассказал мне много нового о Седове, не только с необычайной отчётливостью нарисовал его облик, но объяснил трагедию его жизни — жизни великого исследователя и путешественника, который был не признан и оклеветан реакционными слоями общества царской России. Кстати сказать, во время одной из наших встреч Пинегин угостил меня консервами, которые в 1914 году подобрал на мысе Флора, и, к моему изумлению, они оказались превосходными.
Вспоминаю об этой мелочи по той причине, что она характерна для Пинегина и для его «полярного дома»...»
Знакомство с «полярным домом» имело, по-видимому, для судьбы «Двух капитанов» очень большое, а может статься, и решающее значение, так как именно здесь, в этом доме, Каверин нашёл своего второго, или, как он сам выражается, старшего, капитана — его личность, его душу, его живой образ.
В «полярном доме» Пинегина всё было для Каверина удачей и счастливой находкой, даже четвертьвековой давности консервы с мыса Флора. Но счастливейшей находкой был, конечно, прежде всего сам хозяин дома — Николай Васильевич Пинегин — редкое вместилище того, о чём хотел и собирался писать Каверин. Пинегин отдал всю свою жизнь Северу и был верным и близким другом Седова. Ни от кого другого и никогда Каверин не смог бы узнать о Седове столько и такого, как от Пинегина, — узнать и постичь, проникнуть в это узнанное. Пинегин является как бы духовным отцом Ивана Татаринова в «Двух капитанах». Нет сомнения, что именно он обозначил «с необычайной отчётливостью» и утвердил собой в душе автора «Двух капитанов» и в самом романе образ Седова, как старшего капитана.
Правда, существует ещё одна реальная фигура, вписанная в романическую фигуру Ивана Татаринова. Сам Каверин прямо говорит в «Очерке работы»: «Для моего старшего капитана я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера. У одного я взял мужество и ясный характер, чистоту мысли, ясность цели — всё, что отличает человека большой души. Это был Седов. У другого — фактическую историю его путешествия. Это был Брусилов...».
Каверин полностью выдержал намеченную для себя программу. Фактический дрейф «Св. Анны» Брусилова совпадает с дрейфом романической «Св. Марии» Татаринова. В романической истории штурмана Климова мы без труда узнаём фактическую историю брусиловского штурмана Альбанова, чьи дневники романист, очевидно, использовал. Романический приказ Ивана Татаринова, предлагающий каверинскому штурману Климову с тринадцатью матросами покинуть «Св. Марию» и, сохраняя копии важных документов экспедиции, пробираться к земле, совпадает дословно с фактическим, настоящим приказом Брусилова настоящему штурману Альбанову.
Это о фактическом. Что же касается романического, эмоционального, того, что идёт по линии сердца, то Брусилова в «Двух капитанах», собственно говоря, нет. Тут эстафету старшего капитана перехватывает Седов, который присутствует в романе всё время, доминирует, управляет романическим в романе, пронизывает его. И это легко объяснимо. Брусилов мог быть известен Каверину только по материалам, а Седов — по живому дружеству с ним Пинегина, который сидел против Каверина и говорил о своём друге, и ел вместе со своим слушателем чудо-консервы с мыса Флора.
Пинегин был для Каверина больше чем Пинегин. Он был живой частицей Седова. Он был живым заместителем на земле мёртвого Седова. И Пинегин имел полное и неоспоримое право на такое представительство. В. Каверин, в одной из своих статей, посвящённой Пинегину (о ней подробно я скажу несколько позже), очень хорошо сказал: «Две большие любви были в жизни Пинегина: любовь к родине и любовь к Седову».
До сих пор, стараясь уяснить себе пути, какими Седов пришёл в роман «Два капитана», властно завладел и душой романа и, как можно с достаточным основанием предположить, душой его автора, я старательно сличал текст «Двух капитанов» с дневниками и другими подлинными документами, соотносил времена и годы романические и действительные, разгадывал зашифрованные в романе фамилии живых людей, приводил высказывания автора, поведавшего нам историю создания романа и его подоплёку, — и всё это для того, чтобы доискаться самого для меня интересного, докопаться до корней Георгия Седова в Иване Татаринове. Эти доискивания увенчаны были в конце письмом ко мне самого Вениамина Александровича, в котором он без всяких обиняков и столь же чётко, сколь и энергично, утвердил: «Да, в Татаринове со слов Пинегина я пытался написать Седова».
И написал. И отлично написал.
В заключение главы я хотел бы вернуться к Пинегину, ибо по чести он должен венчать разговор о Седове. Я хорошо знал Николая Васильевича Пинегина, был с ним в добрых отношениях, сиживал в его «полярном доме». Он обладал огромным жизненным опытом и огромной силой воображения, которому умел, когда это требуется, давать полную свободу, а когда нужно — сдерживать, подчиняя её капризную изменчивость своей железной воле и велению действительности. Он был талантливым живописцем, получившим в семнадцатом году за свои превосходные северные этюды и картины премию имени Куинджи. Он был талантливым писателем, автором многих книг, увлекательно достоверных и романтически окрылённых. Он был, как характеризует его крупный учёный-полярник В. Визе в предисловии к одной из пинегинских книг, выдающимся полярным исследователем. Он был незаменимым членом многих полярных экспедиций — смелый до отчаянности и беспредельно выносливый, меткий стрелок, бывалый охотник, умелый каюр, фотограф, кинооператор, географ, гидрограф, когда того требовали обстоятельства — навигатор, штурман, каким довелось ему стать в конце пути «Св. Фоки» в четырнадцатом году.
И при всём при том, несмотря на многообразие даров и способностей, какими наделила Пинегина природа, поражали в нём удивительная скромность и жизненная непритязательность.
А всё-таки, что же доминировало в этом человеческом многообразии? Что правило поступками и устремлениями этой неукротимой натуры? Мне кажется, В. Каверин верно угадал Пинегина, сказав в упоминавшейся мною статье: «У него была душа путешественника». Это очень хорошо и очень точно объясняет генеральную линию жизни Пинегина. Он был вечно в пути. Он шагал, ехал, плыл, летел и снова мчал вперёд и вперёд, и так всю сознательную жизнь.
Первое своё путешествие на Север Пинегин совершил в тысяча девятьсот девятом году. Приехав летом к родным в Архангельск на каникулы, Пинегин — тогда студент Академии художеств — отправился оттуда на Мурман. Тридцать лет спустя, в Мурманске, рассказывая мне об этом путешествии, Николай Васильевич сказал между прочим:
— Когда я впервые, будучи ещё студентом-художником, попал сюда, здесь, на берегу Семёновской бухты, где сейчас стоит Мурманск с населением в полтораста тысяч человек, торчала одна-единственная охотничья избушка.
Тогда «Север был совсем неведомой страной». Эту последнюю фразу я взял уже не из живой речи Пинегина, не из разговора с Николаем Васильевичем, а из первой главы его книги «Записки полярника».
Известный полярный путешественник Роберт Пири, открывший Северный полюс, писал, что «каждый, кто посетил Север, заболевает неизлечимой полярной лихорадкой». На каких бы благодатных широтах после того ему ни довелось жить, его будет неизменно тянуть снова на Север.
Так случилось и с Пинегиным. Побывав на Мурмане и в Лапландии, пошатавшись по безлюдной тундре и по рыболовецким становищам, перешагнув однажды за Полярный круг, он уже навеки стал пленником Севера.
Эта первая северная поездка имела немаловажное значение для Пинегина ещё и потому, что после того он впервые взял в руки перо. Впервые живописец и путешественник открыл в себе ещё и писателя.
В следующую свою поездку, во время студенческих каникул девятьсот десятого года, Пинегин шагнул много Дальше прежнего и махнул на мало обследованную в те времена и пустынную Новую Землю.
Эта поездка сыграла в жизни Пинегина особую и чрезвычайную роль. Ещё на пароходе «Великая княгиня Ольга», привёзшем Пинегина на Новую Землю, он познакомился с морским офицером, возглавлявшим гидрографическую экспедицию, в задачу которой входило подробное обследование Крестовой губы. Офицером этим оказался Георгий Яковлевич Седов.
На Новой Земле молодой художник и молодой гидрограф частенько встречались, и знакомство переросло в крепкую и нерушимую дружбу. Однажды между ними произошёл следующий разговор, описанный Пинегиным в книге «Георгий Седов».
« — Хорошо здесь, — сказал Седов, сидя внутри палатки. — Никуда бы не уехал. Остался бы на зимовку.
— И я остался бы. Моя мечта прожить в полярной стране целый год. Написать бы гору этюдов.
— А куда бы их девать стали? — вступил в разговор один из помощников Седова — студент Заболоцкий.
— Как куда? Написал бы с них картины. Устроил бы выставку. Это необходимо сделать. Художник Борисов, писавший Север, лгал. Необходимо показать всем, что такое далёкий Север. Это одна из привлекательнейших стран.
— А моя мечта — попасть на полюс.
Художник быстро взглянул на Седова, Его лицо было серьёзно.
— Как, на самый полюс?
— Ну, разумеется. Вы думаете — не дойду? Дойду. Я знаю себя и говорю это твёрдо. И многие из наших могли бы, если б захотели как следует. Как глупо, что никто из русских не пытался достичь полюса. Ведь все мы выросли на снегу. Путешествие к полюсу — чёрная работа! Нужна привычка к холоду. Нужно знать лёд. Я знаю лёд и как по нему ходят!
Георгий Яковлевич сжал кулаки, расширил глубоким вздохом грудь.
— Эх, достать бы только денег на экспедицию. — И он ударил кулаком по койке. — Нет. Так или этак, а на полюс я пойду! Даю себе срок два года. Будьте свидетелями!
— Подождите ещё один год, — сказал художник. Я академию кончу, пойду вместе с вами.
— Идёт, Только не отказываться.
— Не откажусь.
— Ну, ладно. Пусть будет крепко!
Седов протянул руку художнику и сильно стиснул ладонь. Лицо его было серьёзно».
Таков этот знаменательный разговор, во время которого Седов, кажется впервые в жизни, высказал вслух свою затаённую и заветную мечту о завоевании Северного полюса.
Так два друга, два молодых полярника-энтузиаста Севера утвердили крепким рукопожатием и нерушимым словом своё неколебимое намерение отправиться к неведомому и недоступному полюсу. Они остались верны своим намерениям и своим словам. Когда спустя два года Георгий Яковлевич Седов действительно начал подбирать людей для уже решённой официально полюсной экспедиции, то, по свидетельству участника её — профессора В. Визе, «Пинегин был первым, кого Седов пригласил участвовать в задуманной им экспедиции к Северному полюсу». Далее Визе сообщает: «Экспедиция вышла из Архангельска в 1912 году на судне «Святой Фока» и вернулась в Архангельск в 1914 году уже без Седова, скончавшегося на крайнем севере Земли Франца-Иосифа. На «Святом Фоке» Пинегин был самым близким Седову человеком».
Лишившись друга, Пинегин не изменил его памяти, не изменил и своей страстной приверженности Северу. В двадцать четвёртом году Пинегин снова отправляется на Новую Землю — на этот раз по воздуху, что в те времена было ещё необычным для арктических путешествий. В составе экипажа известного полярника лётчика Бориса Чухновского он ведёт гидрографическую воздушную разведку над Новой Землёй и прилегающей к ней частью Карского моря.
Спустя ещё четыре года по поручению Академии наук СССР Пинегин построил и до тридцатого года возглавлял геофизическую станцию на Новосибирских островах. Зимовка по непредвиденным обстоятельствам затянулась. Судно, которое везло смену и продовольствие, застряло во льдах. Зимовщикам грозил голод. Тогда начальник станции Пинегин принимает решение всех зимовщиков отправить на материк, а сам с плотником Василием Бадеевым остаётся ещё на год — ждать смены. Он продолжал работать, стараясь растянуть продовольствие на срок как можно более долгий.
Льды были тяжёлые, и существовала опасность, что в следующую навигацию судно с продовольствием и сменой может не пробиться к островам. Пинегин всё более урезывает свой каждодневный паёк, а когда урезывать уже было нечего... прибыла наконец смена.
Но это ещё не стало концом жестокой и опасной эпопеи. Надо было возвращаться на материк, домой, а путь предстоял дальний, в полторы тысячи километров, — до Якутска, причём надо было пересечь полюс холода. Транспортных средств никаких не предвиделось, и Пинегин добирался до Якутска на чём придётся — пешком, на собаках, на оленях, на лошадях. В тяжёлых условиях он упорно пробивался к цели и достиг её. Ну а что же дальше? Естественней всего, казалось бы, — после труднейшего похода, после полной лишений и опасностей зимовки на Новосибирских островах отдохнуть, пожить оседло и спокойно в благоустроенной ленинградской квартире, пользуясь после арктических мытарств и неустроенностей всеми благами цивилизации и комфорта. Но не таков был этот человек. Его не прельщал покой и комфорт ленинградских интерьеров. Его властно звал к себе неуютный, необжитой и не обещающий покоя Север. Вернувшись с Новосибирских островов тридцатом году, Пинегин в тридцать первом уже плывёт; на «Малыгине» в составе экспедиции на Землю Франца-, Иосифа. А в следующем году Николай Васильевич повторяет эту экспедицию как глава её.
Последнюю свою поездку на Север Пинегин совершил в тридцать девятом году, то есть за год до смерти. В этой последней его поездке мне довелось быть с ним вместе, а после неё сообща редактировать сборник «Советское Заполярье», явившийся результатом поездки. Редактировали мы с Николаем Васильевичем собранные от четырнадцати авторов рукописи уже в Ленинграде, в его «полярном доме». Тогда-то, колдуя над северным рукописями, мы много говорили о Севере и, конечно о Седове. Только что вышла книга Пинегина «Полярный исследователь Г. Я. Седов». Ранее опубликованы был книги Пинегина «Записки полярника», «Георгий Сед идёт к полюсу», «В ледяных просторах», которые либо целиком, либо частью своей посвящены описанию экспедиции Седова. Я спросил Николая Васильевича, намерен ли он ещё писать о Седове.
— Да, конечно, — ответил он не задумываясь и с категоричностью, какая могла показаться вовсе не свойственной этому спокойному, неторопливому в движениях негромкоголосому человеку. — Всё, что пока сделано, — только этюды. Седов в полный рост ещё не написан. Я должен это сделать.
На слове «должен» он сделал ударение, и нетрудно было уяснить себе, как много скрыто за этим требовательным «должен». В эту минуту я подумал, что Седов — не только друг Николая Васильевича, не только главная тема писателя Пинегина, но и дело его жизни, которое он будет делать до самой смерти, как делал до последнего вздоха дело своей жизни сам Седов, из последних сил, и уже вовсе без сил, стремящийся к заветному полюсу...
... Я листаю старый, сорокового года, журнал «Звезда». В двух номерах его — десятом и одиннадцатом — идёт «Георгий Седов» Н. Пинегина. Это, верно, и есть тот «Седов в полный рост», о котором Николай Васильевич говорил за год до этого, сидя со мной рядом и почти машинально листая редактируемую рукопись «Советского Заполярья».
Под последними строками «Георгия Седова» в номере одиннадцатом «Звезды» значится: «Конец первой книги». Увы, вторая книга не была закончена Пинегиным. В том же номере журнала, в котором кончалась первая книга «Георгия Седова», помещена статья В. Каверина «Памяти Пинегина». Это некролог. В том же сороковом году, когда «Георгий Седов» печатался в «Звезде», автор его умер, так и не дописав дорогого ему портрета.
Но у него были друзья, верные друзья, столь же преданные общему их делу освоения Севера, как и он сам. И один из них — профессор Владимир Юльевич Визе дописал портрет. По оставшимся в литературном наследии Пинегина материалам, по наброскам и нескольким законченным главам, заполняя пробелы материалом, почерпнутым из предыдущих книг Пинегина о Седове, Визе создал вторую часть книги «Георгий Седов». Полностью книга была напечатана в пятьдесят третьем году. Эта книга — памятник одновременно и Седову и Пинегину, оставшимся неразлучными и после смерти.
Пинегин любил Архангельск и хорошо говорил о нём. В своих книгах он посвятил ему много отличнейших страниц. Невозможно забыть яркое и берущее за душу описание аукциона, устроенного в Архангельске для распродажи имущества экспедиции Седова и личных вещей Георгия Яковлевича для покрытия задолженности одному из архангельских купцов-толстосумов. Этот трагический и мерзкий аукцион описан Пинегиным с потрясающей силой.
Николай Васильевич бывал и живал в Архангельске в тысяча девятьсот восьмом, девятом, десятом, двенадцатом и четырнадцатом годах. Отсюда же уходил он и с свои многочисленные арктические экспедиции.
Мне приятно думать, что этот отважный и многосторонне талантливый человек был привержен милому мне Архангельску, в котором прожил я первые двадцать лет жизни. Мне приятна и дорога память о нём, о встречах и беседах с ним — всегда интересных и обогащающих.
Степан Писахов и Семён Малина
Очень своеобразной и примечательной фигурой среди северных писателей, которых я хорошо знал, был Степан Григорьевич Писахов. Подобно Пинегину, он был и писателем, и живописцем, и путешественником, а сверх того, и превосходным сказочником. Свой родной Север он знал досконально и любил его самозабвенно. Чтобы сразу дать представление о том, каков Писахов сказочник, приведу полностью одну небольшую сказку его «Как поп работницу нанимал»:
«Тебе, девка, житьё у меня будет лехкое, — не столько работать, сколько отдыхать будешь!
Утром станешь, ну, как подобает, до свету. Избу вымоешь, двор уберёшь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберёшь и —
спи-отдыхай!
Завтрак состряпаешь, самовар согреешь, нас с матушкой завтраком накормишь и —
спи-отдыхай!
В поле поработаешь, али в огороде пополешь, коли зимой — за дровами, али за сеном съездишь и —
спи-отдыхай!
Обед сваришь, пирогов напечёшь: мы с матушкой обедать сядем, а ты —
спи-отдыхай!
После обеда посуду вымоешь, избу приберёшь и —
спи-отдыхай!
Коли время подходяче — в лес по ягоду, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, дак сбегашь. До городу — рукой подать, и восьми вёрст не будет, а потом —
спи-отдыхай!
Из городу прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты —
спи-отдыхай!
Вечером коров встретишь, подоишь, корм задашь и — спи-отдыхай!
Ужну сваришь, мы с матушкой съедим, а ты —
спи-отдыхай!
Воды наносишь, дров наколешь — ето к завтрему, и —
спи-отдыхай!
Постели наладишь, нас с матушкой спать повалить. А ты, девка, день-деньской проспишь-проотдыхашь — во што ночь-то будешь спать?
Ночью попредешь, поткешь, повышивашь, пошьешь и опять —
спи-отдыхай!
Да ведь, девка, не даром. Деньги платить буду. Кажной год по рублю! Сама подумай. Сто годов — сто рублев. Богатейкой станешь!»
Сказка «Как поп работницу нанимал» — сказка старая и пришла к Писахову из далёкой окраинной Пинеги. Сам Писахов хотя и коренной архангелогородец (тут родился, тут и умер), но говорил, что «деды и бабки со стороны матери родом из Пинежского района».
Надо сказать, что Пинега издавна славилась сказочниками и песенниками. Это заповедный край стародавней русской сказки, а в писаховском роду она была в особом почёте.
«Мой дед был сказочник, — писал Степан Григорьевич с гордостью. — Звали его: сказочник Леонтий. Записывать сказки тогда никому и в голову не приходило. Деда Леонтия я не застал. Говорили о нём как о большом выдумщике — рассказывал всё к слову и всё к месту».
Немалым выдумщиком был и сам Степан Григорьевич, иной раз и безудержным выдумщиком. Я как-то заговорил с ним об этом:
— Что это вы, Степан Григорьевич? Мороз у вас до семисот градусов доходит, через Карпаты вы на корабле переправляетесь, а по реке вскачь мчитесь. Домá у вас приплясывают и, сорвавшись с места, на свадьбу в другую деревню торопятся. Налима вы по улицам водите, как собаку, на цепочке, а волков по полсотни к избе своей волокете, да ещё десяток на себя, на манер шубы, надеваете. Кстати, волки эти мороженые, а замёрзли потому, что мороз не то на сто, не то на двести градусов хватил. А сами вы, рассердясь на волков, так разгорячились, что вода в бутылке, которая была у вас в кармане, несмотря на неистовый мороз, вскипела. Когда вы вернулись из лесу, мужики об вас цигарки прикуривали. Потом от вашего жару баня грелась. Словом, такое у вас, что только руками разведёшь.
Но разводить руками мне не довелось. Не успел. Писахов опередил и сам руками замахал. Потом вскочил с места и спросил, заглядывая снизу вверх мне в глаза:
— Зато ведь не соскучились, читая сказки мои?
— Чего нет, того нет, — отозвался я, смеясь. — Соскучиться с вами невозможно — ни с вами, ни с вашими сказками.
— Вот-вот, — обрадовался Писахов. — Скука же вреднейшая вещь. От неё и помереть недолго.
— Пожалуй, — согласился я, но, желая выведать от Степана Григорьевича самое заветное о его сказках, продолжал свой лукавый диалог: — Ведь за всякой, даже самой фантастической народной сказкой скрыты реальные отношения людей, вещей, событий...
— А что я, враль, по-вашему? — вскипел Степан Григорьевич, яростно тряся своей рыжей шевелюрой. — А помните, как кончается эта самая сказка о мороженых волках? Я притащил к своей избе полсотни мороженых волков да и «склал костром под окошком. И только примерился в избу иттить — слышу, колокольчик тренькат, да шаркунки брякают. Исправник едет!-; Увидал исправник волков и заорал дико (с нашим братом мужиком исправник по-человечески не разговаривал):
— Што ето, — кричит, — за поленница? Я объяснил исправнику:
— Так и так, как есть, волки морожóны, — и добавил: — Теперича я на волков не с ружьём, а с морозом охочусь.
Исправник моих слов и в рассужденье не берёт, волков за хвосты хватат, в сани кинат и шчет ведёт по-своему:
В шчет подачи, В шчет налогу, В шчет подушных, В шчет подворных, В шчет дымовых, В шчет кормовых, В шчет того, сколько с ково. Ето для начальства, Ето для меня, Ето для того-другово, Ето для пятово-десятово, А ето про запас!И только за последнего волка три копейки швырнул. Волков-то полсотни было.
Куды пойдёшь — кому скажешь? Исправников-волков и мороз не брал».
Писахов, пометавшись по комнате, остановился посредине её и спросил сердито и в то же время хитровато:
— А это всё как вам покажется — не действительные отношения людей того времени — это самодурство грабителя-исправника и беспомощность мужичка-охотника, который за бесценок за эти самые проклятые три копейки должен был отдавать пушнину, добытую им действительно в страшные морозы? Это что — правда? Или пустая выдумка?
— Сдаюсь, — сказал я, поднимая руки.
— То-то, — сказал удовлетворённо Степан Григорьевич, усаживаясь в низенькое ветхое креслице и победно оглядываясь.
Впрочем, через минуту он уже снова был на ногах.
— А вы знаете, про это путешествие на корабле через Карпаты я от Сени Малины записал, — не сразу, правда, а много позже, по памяти. Он в деревне Уйме жил под Архангельском. Его все за враля считали я всерьёз никто не принимал, а это знаете какой сказочник, какой придумщик был. Я теперь все сказки от его имени сказываю. И Сеню Малину вралём не считаю. Придумка — не враньё.
К Сене Малине мы с вами ещё вернёмся в конца этой главы. А сейчас мне хочется досказать то, что было в моё посещение Степана Писахова, во время которого случился наш спор о придумке. Спорили, впрочем, мы недолго. Слишком импульсивен и подвижен был Степан Григорьевич, слишком любил сказывать, чтобы надолго отвлечься в теоретические умствования. Прервав себя на полуслове, Степан Григорьевич шмякнулся в своё ветхое креслице, придвинулся ко мне вплотную и, сверкнув усмешливыми щёлками глаз, стал рассказывать, как одна девка-пинежанка, беседуя с соседкой, говорит ей: «Утресь маменька меня будить стала, а я чую и сплю-тороплюсь».
Это «сплю-тсроплюсь» очень нравилось Степану Григорьевичу, и он несколько раз повторил:
— Сплю-тороплюсь, сплю-тороплюсь... А? Хорошо ведь? Прекрасно? Верно?
Конечно, верно. Это было в самом деле хорошо, прекрасно, превосходно. Но лучше всего была, пожалуй, та детская радость, с какой Степан Григорьевич принимал это прекрасное. Он весь светился, весь жил в этом своём непрерывном словотворчестве, я бы сказал, слово-наслаждении, в постоянном радостном удивлении красотой народного слова.
Долго мы в тот вечер просидели в небольшой комнатке Степана Григорьевича на Поморской, двадцать семь. Было это в июле тридцать шестого года, когда я приезжал в Архангельск собирать материал для романа «Друзья встречаются».
Знал я Степана Григорьевича Писахова очень давно, хотя и не близко: очень уж велика была разница в годах — когда я был ещё мальчишкой, Писахов был уже известным художником. В Архангельске дядю Стёпу знали решительно все. Коротенькая подвижная фигурка его с большой головой, рыжей шевелюрой, рыжей бородкой и в надвинутой на уши старенькой шляпёнке с опущенными вниз полями знакома была всякому архангелогородцу. Он был живой исторической достопримечательностью Архангельска. Недаром же и сам он говаривал с гордостью, хотя и облечённой в шутейную формулу: «Приезжие в Архангельск осматривают сперва город, потом меня».
Но Архангельском, в котором Писахов родился, рос и умер, он отнюдь не ограничивал своих интересов. Степан Григорьевич был всюду в северных землях и северных морях своим человеком и пользовался всяким удобным случаем, чтобы попасть на Крайний Север. В девятьсот седьмом и девятьсот девятом годах он побывал на Новой Земле с экспедицией Русанова, в четырнадцатом — с экспедицией на поиски Седова, Брусилова и Русанова. В двадцать четвёртом году сестра моя Серафима, побывав на Новой Земле с экспедицией на парусно-моторном судне «Сосновец», которое вёл прославленный впоследствии капитан Владимир Воронин, позже писала мне: «С нами был и художник Писахов». Степан Григорьевич вывез из своих многочисленных поездок по Северу существенное свидетельство приверженности и неистощимого интереса к нему в виде многочисленных этюдов и картин.
Писахов стал писателем позже, чем живописцем, и с его картинами я познакомился ещё в десятых годах. Полотна, в изобилии висевшие по стенам комнаты, в которой мы сидели со Степаном Григорьевичем в тридцать шестом году, я видел лет двадцать до того на его выставке в Архангельске. И сейчас и тогда мне больше всего нравились две картины. Одна из них называлась «Цветы на Новой Земле».
Новоземельские пейзажи Степана Писахова отличались суровой сдержанностью колорита. Ничего броского, ничего эффектно яркого. Да и что яркое может отыскаться в этом краю материкового льда полукилометровой толщины, в этой арктической пустыне? Только в короткое — меньше двух месяцев — и холодное — до двух градусов тепла — лето кое-где пробивалась чахлая травка да лишайники: и это почти всё, что красило здесь землю. И вдруг — ярко-красная кучка нежных милых цветов в этой суровой ледяной пустыне. Откуда она? Как сюда попала? Да и попала ли? Не плод ли это воображения художника, склонного к фантастической придумке? Я спросил об этом Степана Григорьевича, и он ответил, что это живая натура, что такие цветы действительно можно найти на Новой Земле.
Да, тут придумки не было. Насколько безудержно придумчив и фантастичен был Писахов в своих сказках, в своём писательстве, настолько сдержан и реалистичен был он в своей живописи. Странно? Вероятно. Но подобного рода странности в людях искусства — полных противоречий и свободы воображения — давно уже перестали удивлять меня.
Помнится, меня поразила ещё одна картина Писахова. На ней изображено было низменное прибрежье. И тут же — аэроплан с кабиной, окрашенной в ярко-красный цвет; почему ярко-красный, о том будет особый разговор, а сейчас вообще об аэроплане.
Аэроплан в пейзаже, особенно северном, был явлением чрезвычайным и невиданным. Технику в те годы живописцы не писали. Она была линейна, антиживописна, антиприродна и ни в какие художнические, а тем более пейзажные ворота не лезла.
Вообще она была неосвоенной диковинкой и художнически ещё никак не осмыслялась. И только неуёмная страсть к необычному, к сказке-вымыслу и к сказке в жизни могла обратить Писахова к аэроплану.
Кстати, о сказках Писахова и о Сене Малине, от имени которого Писахов их сказывает.
Признаться, я никогда не был в полной мере уверен, что Сеня Малина в самом деле существует и что живёт он, как говорил мне и как позже писал Степан Григорьевич, в деревне Уйма под Архангельском. Я бывал в Уйме, но не встречал Сени Малины и ни слова ни от кого в деревне о нём не слыхал.
Я тогда же, когда в тридцать шестом году мы говорили о Сене Малине со Степаном Григорьевичем, хотел выложить свои сомнения на этот счёт, да неловко как-то было сделать это. Стеснительно было в присутствии Степана Григорьевича усомниться в существовании Сени Малины. Я умолчал о своих сомнениях и оставил их при себе.
В конце концов я узнал правду о Сене Малине. Спустя два года после моего разговора с Писаховым в его тесной комнатке на Поморской, то есть в июне тридцать восьмого года, Степан Григорьевич прислал мне в Ленинград первую книжку своих сказок, выпущенную Архангельским областным издательством. В ней, как бы продолжая наш разговор в Архангельске, Степан Григорьевич писал в конце авторского предисловия к книге: «Несколько слов о Малине. В деревне Уйма, в восемнадцати километрах от Архангельска жил Сеня Малина. В 1928 году я был у Сени Малины. Это была наша единственная встреча».
Ага. Значит, Сеня Малина всё-таки был, существовал. С этой уверенностью я жил ещё тридцать лет. А в шестьдесят восьмом году в только что вышедшем пятом томе «Краткой литературной энциклопедии», в статье «Писахов», я прочёл: «Сказки Писахова, объединённые в цикл «Северный Мюнхгаузен», ведутся от лица крестьянина-помора Малины, прототипом которого послужил житель деревни Уйма С. М. Кривоногое».
Вот оно как. Выходит, что Сени Малины всё-таки не было. Был Семён Кривоногов, черты которого отлил Писахов в выдуманного им Сеню Малину.
Ну что ж. Можно и так. А всё-таки почему именно так? На это ответил сам Писахов в конце цитированного мной предисловия к первой книге своих сказок: «Чтя память безвестных северных сказителей-фантастов — моих земляков, я свои сказки говорю от имени Малины».
Итак, Малины нет. Но Малина есть. Потому что в. честь его, «чтя память безвестных северных сказителей», сказываются сказки и Писаховым и другими.
И ещё несколько слов о Малине и Писахове. Я думаю, что прототипом С. Малины был не только С. Кривоногов, но и... С. Писахов. Душа Сени Малины жила в самом Степане Писахове, и все придумки Малины — это придумки и Писахова.
Степан Григорьевич писал как-то, что Малина рассказал ему во время их единственного свидания два сказки: «На корабли через Карпаты» и «Розка и волки». Может быть. Но ведь остальные сказки Писахова, сочинённые им самим, как две капли воды похожи на эти две сказки.
Думая об этом, я всё больше утверждался в мысли, что в сказках Степана Писахова столько же Сени Малины, сколько в сказках Сени Малины Степана Писахова. Был ли мальчик, в данном случае не столь уж важно. Гораздо важней то, что был народ-сказитель и был сказитель Степан Писахов, старавшийся следовать его путём.
Тема главы, посвящённой Степану Писахову, — это тема Писахова — Малины. Она как будто исчерпана. Но мне хочется рассказать ещё об одной встрече с Писаховым в... фондах Ленинградского музея Арктики и Антарктики. Случилось это через несколько лет после смерти Степана Григорьевича.
Я спросил хранителя фондов музея Валентину Владимировну Кондратьеву:
— Нет ли у вас в фондах каких-нибудь работ архангельского художника Писахова?
— Кое-что есть, — ответила Валентина Владимировна. — Немного, правда: две картины и несколько листов графики. — И с готовностью добавила: — Сейчас принесу.
Я ждал с нетерпением возвращения Валентины Владимировны и с ещё большим нетерпением следил за тем, как осторожно, неторопливо, бережно хранительница сокровищ вынимает картины из плотных конвертов и высвобождает из архивных пелён. Наконец она даёт мне взглянуть на эти потайно бережённые драгоценности, и первое, что я увидел, взглянув на первое же полотно, был... аэроплан — старый мой знакомец, который я знал по Архангельску...
Надо же было так случиться, что одна из двух картин Писахова, хранившихся в фондах музея, оказалась именно той, которая для моей работы о Писахове в данное время и на данном этапе её была мне всего нужней и всего интересней. Может статься, эта картина и вообще самое интересное из наследия Писахова-живописца.
До той поры я видел эту картину дважды — пятьдесят семь и тридцать семь лет тому назад: на выставке Писахова, если не ошибаюсь, в шестнадцатом году и у него на квартире в Архангельске — в тридцать шестом. И вот теперь она снова передо мной, больше того — мы с ней наедине, и я могу глядеть на неё сколько моей душе угодно: могу разглядеть, наконец, её во всех самомалейших деталях, каждая из которых для меня — находка.
Впрочем, когда картина, высвобожденная из своих хранительных обёрток, предстала передо мной воочию, я ещё не знал — какая это интересная, какая драгоценная находка, как много она для меня открывает, чего я прежде не знал, о чём и не догадывался. Но обо всём этом — в следующей главе.
Первый в мире
Придётся на время оставить живопись и литературу, чтобы обратиться к авиации вообще и к северной, арктической авиации в особенности.
Самолёт, изображённый на стоящей передо мной картине, на который я прежде смотрел просто как на самолёт, оказался определённым, действительно существовавшим самолётом, и гораздо больше того — интереснейшей реликвией истории русской и мировой авиации.
Что же это за самолёт? Что за реликвия? Чёткая подпись в правом нижнем углу картины: «Ст. Писахов 1914» — сразу определяла эпоху, к какой относится машина. Это был «Фарман», так сказать, самолёт в пелёнках, свидетель младенческих лет авиации — биплан-этажерка, с густо поставленными между нижней и верхней плоскостями деревянными стойками-распорками и крохотной кабиной-люлькой для пилота, как-то отдельно вставленной в самолёт и окрашенной при том в ярко-красный цвет.
Мне, признаться, невдомёк было поначалу — почему так ярко окрашена кабина, и я решил, что это просто элемент колорита картины, желание художника дать на общем скромно-тускловатом фоне северного пейзажа яркое, привлекающее глаз и живописное пятно.
Но дело обстояло не так. Это была не артистическая прихоть художника, в чём мы убедимся позже, а сейчас займёмся самолётом в целом. Это был гидроплан, стоящий у самого берега на трёх поплавках.
Наклонясь к самой картине, я старался близорукими своими глазами разглядеть детально эти самолётные «ноги», когда Валентина Владимировна будничным голосом сказала:
— Постойте, это же самолёт Нагурского, и у нас есть его фотография.
Она заглянула снова в ведомые ей одной архивные недра и положила передо мной папку, из которой вынула вслед за тем две фотографии.
Я схватился за фотографии. На обеих был изображён уже знакомый мне самолёт, причём на одной — вместе с лётчиком, стоящим возле него на снегу. Лётчик был высок и плечист, одет в плотное демисезонное пальто, на ногах — русские сапоги.
— Прочтите надпись на обороте, — посоветовала Валентина Владимировна.
. Я повернул фотографию оборотной стороной и прочёл карандашную надпись: «Самолёт И. О. Нагурского в Архангельской губе на Новой Земле в 1914 году. Экспедиция на поиски Г. Я. Седова. Фото изготовлено Северным отделением Географического об-ва в гор. Архангельске».
Спустя несколько минут к фотографиям Нагурского Валентина Владимировна прибавила и две его книжки. Книги были присланы из Польши. На одной из них, носящей название «Первый над Арктикой», — дарственная надпись лётчика: «Свершилось предсказанное в 1914 году: единственное средство сообщения в Арктике — самолёт. Арктика перестала быть таинственной. Самолёты лучший способ коммуникационного сообщения. Книжки шлю для музея. Ян Нагурский».
Непосредственно за дарственной надписью следует авторское предисловие к книге, начинающееся ссылкой на БСЭ и цитатой из неё: «Большая советская энциклопедия в 29 томе под буквой «Н» указывает: «Нагурский Иван Иосифович (1883—1917) — русский военный лётчик, совершивший первые полёты в Арктике на самолёте. В 1924 году, в поисках русских арктических экспедиций: Г. Я. Седова, Г. Л. Брусилова и В. А. Русанова, Нагурский совершил (с Новой Земли) на гидросамолёте 5 полётов, во время которых достиг на С. мыса Лнтке и удалился на С.-З. на 100 км от суши. Нагурский находился в воздухе свыше 10 часов и прошёл около 1100 км на высоте 200—1200 м. Нагурский указал на возможность достижения Северного полюса на самолёте».
... Книжка Нагурского лежит передо мной на моём письменном столе, и тоже с дарственной надписью. Но это уже не тот экземпляр, что я видел в Музее Арктики и Антарктики, а другой, мой собственный, и притом не на польском, а на русском языке. Прислан он мне из Варшавы. Почему из Варшавы? И вообще как попала ко мне эта книжка? История стоит того, чтобы рассказать её хотя бы вкратце.
Узнав в музее, что самолёт, написанный Степаном Писаховым на его картине четырнадцатого года, принадлежал русскому лётчику Нагурскому и что лётчик, несмотря на справку в энциклопедии, по-видимому, жив, я тотчас же принялся за розыски Нагурского, чтобы связаться с ним и получить из первых рук все, какие возможно, материалы о его полётах.
Из моего знакомства с фотографиями и книжками его, присланными в Музей Арктики, мне было известно два указующих факта: лётчик Нагурский, летавший над Арктикой почти шесть десятилетий назад, жив, с разрешения Советского правительства принял польское подданство и ещё несколько лет тому назад жил в Варшаве.
Не медля ни минуты, я написал ему письмо, объяснив, кто я, и просил снабдить меня материалами, необходимыми мне для книги о Севере, которую я пишу.
Не зная адреса Нагурского, я послал письмо своё в польское посольство в Москве, сопроводив его просьбой разыскать в Варшаве Нагурского и передать ему моё письмо. Спустя месяц я получил от Яла Иосифовича ответное письмо и его домашний адрес. Завязалась переписка, и Ян Иосифович прислал мне в подарок свою книжку на русском языке, а также свою фотографию и подробное описание одного из памятных ему и ещё нигде не описанного полёта на поиски пропавших экспедиций Г. Седова, Г. Брусилова и В. Русанова.
Оказалось, что книжка Яна Нагурского «Первый над Арктикой» переведена была на русский язык и выпущена у нас ещё в шестидесятом году. Печаталась она у меня под боком в Ленинграде, но попала ко мне... через Варшаву.
Необходимо сказать об этой книжке подробней. Она примечательна прежде всего тем, что написана человеком, первым в мире поднявшимся в воздух над Арктикой, на аппарате тяжелее воздуха, первым совершавшим в тяжёлых арктических условиях длительные поисковые полёты, первым из лётчиков дерзнувшим оторваться от суши и уйти на сто десять километров в море над нагромождением льдов, исключающих посадку на них, первым поднимавшимся на высоту до полутора тысяч метров, что по тем временам и при той технике было, по-видимому, рекордным достижением, наконец, первым, кто предсказал возможность достижения на самолёте. Северного полюса.
Знаменитый полярный лётчик Б. Чухновский, автор предисловия к книге Нагурского, пишет: «Полёты Нагурского — свидетельство большого мастерства и необычайной смелости. В наши дни, когда авиация достигла невиданных вершин техники, кажутся маловероятными полёты над льдами Арктики, по существу, на авиэтке (самолёт Нагурского весил 450 кг, мощность двигателя 70 л. с, скорость 90 км/час), без знания метеообстановки на трассе, без радиосвязи, с ненадёжным мотором, без приборов слепого полёта, отсутствие которых грозит любому самолёту срывом в штопор или падением после вхождения в туман или облачность, т. е. во всех случаях потери лётчиком видимого горизонта».
Насколько трудны были полёты над Арктикой на таких несовершенных машинах, как «Фарман», и в таких условиях, в какие поставлен был Нагурский, свидетельствует печальный опыт двух других лётчиков поисковой экспедиции — Александрова и Евсюкова.
Подполковник Александров разбил свой «Фарман» при первой же попытке подняться в воздух и отказался от дальнейших полётов. Лётчик Евсюков сделал ещё меньше — он отказался от полётов, даже и не пытаясь начать их. Его самолёт, погруженный на пароход «Эклипс» и доставленный на нём в Арктику, так и остался в пароходном трюме разобранный на части, заколоченный в ящики. Евсюков даже не собирал своей машины.
Тем разительней была разница между этими незадачливыми и робкими пилотами и решительным, смелым до отчаянности, искусным в своём лётном деле и преданным ему Нагурским. Блестящий лётчик и отважный офицер русской армии, он совершил несколько великолепных и беспримерных по тем временам полётов.
Мне очень хотелось получить описание хотя бы одного такого полёта от самого Нагурского. Я написал об этом Яну Иосифовичу и вскоре получил то, чего желал. «Уважаемый Илья Яковлевич, — писал Нагурский, — Ваше письмо от 11.Х.1969 г. получил. Считаю, что для Вас будет интересным иметь описание одного из полётов в Арктике, который ещё не видал света, т. е. не был описан мною, и мои переживания в нём. Это полёт с Панкратьевых островов на северо-запад до островов Франца-Иосифа и обратно. Ко мне, сидящему с гидропланом на льду у Панкратьевых островов, пришла пешая экспедиция с «Андромеды»; 4 человека. «Андромеда» прибыла с углём и задержалась у кромки льдов, в 30 милях от места моей стоянки. Люди шли пешком по льду берегом Новой Земли.
Встреча была сердечная. Я обрадовался очень прибытию гостей. Надеялся, что они прибыли с запасами продовольствия и необходимых мне вещей. Я ведь был с механиком выгружен с парохода на берег в Крестовой губе и оставлен почти без всякого продовольствия и жизненных запасов. Оказалось, что гости ничего с собой для меня не имеют, могут только поделиться своим продовольствием. Они прибыли на несколько часов навестить меня и посмотреть, как я живу на льду один с гидроаэропланом. Они желали посмотреть мои полёты, так как не видели ещё, чтобы человек летал.
Я сказал, что они удачно прибыли, потому что я собираюсь сегодня лететь на северо-запад в направлении Земли Франца-Иосифа. Прибывшие рассказали много о своей жизни. Пешее путешествие их ко мне было трудное — льды прибрежные местами очень неровные, у берегов открытая вода. Они принуждены были далеко отходить от берега.
Я начал собираться к отлёту. Проверил мотор. Пополнил баки бензином и маслом. Объяснил своим гостям, что лечу в направлении Земли Франца-Иосифа с заданием разведки — розыска людей экспедиции Седова, Русанова и Брусилова. Прилечу обратно через пять-шесть часов. Ответили, что будут меня ждать и желают видеть, как летают люди.
Вылетел я в направлении на северо-запад на острова Земли Франца-Иосифа. Куда ни кинешь глаз — картина одинаковая: ледяная пустыня смёрзшихся битых льдов. Поверхность неровная, негладкая: всюду торчащие льдины разной величины. Нигде не видно ровной поверхности, необходимой для посадки в случае нужды самолёта. Температура воздуха на высоте 1500 метров — 12—15 градусов мороза. После двух часов лёту вид ледяного пространства внизу не меняется, ледяная мрачная пустыня. Состояние моё — полное внимание. Я снаружи мёрзну. Бровям, глазам и лицу холодно. Видимость очень хорошая, видны острова Франца-Иосифа, два южных больших Вильчека и Белл, северо-западнее больше островков меньших, с верхушками — как белые шапки меховые. Меняю направление немного на запад и после часа полёта вижу хорошо два больших острова Георга и западнее — Александры. Второй остров больше первого. Следующие острова — мелкие, шапки белые.
Дальше на северо-запад пустыня торчащих смёрзшихся льдов. Посередине этой пустыни с юга на север, западнее и вдали от Земли Франца-Иосифа, ясно заметна тёмная полоса воды, как узкая ленточка. Мне делается всё холоднее, я мёрзну. Внизу по-прежнему ледяная пустыня. Никакой жизни не видно. По часам я лечу около трёх часов. Решаю возвратиться. Возвращение было менее напряжённо. Вслушиваюсь в работу двигателя и поглядываю на компас, следя правильность пути. Оглядывая поверхность льдов, представляю себе, как тяжело и трудно передвижение пешком для людей и экспедиций, которым приходилось идти в этих местах.
Раздумывая так и следя за курсом полёта и вслушиваясь в ритмичную работу двигателя, увидел вдали Новую Землю, место стоянки моего самолёта и ждущих па берегу людей с «Андромеды». Посадку сделал на лёд на месте вылета. Полёт мой к Земле Франца-Иосифа и обратно занял около шести часов. Ожидавшая меня команда моряков с «Андромеды» встретила меня с большим восторгом, видели первый раз, как человек летает на самолёте. Поздравлениям и похвалам не было конца. Поделились со мною своим продовольствием и ушли на юг по льду до парохода «Андромеда». Я снова остался сам со своим самолётом. Ян Иосифович Нагурский».
Так описывает Нагурский самый дальний и самый долгий свой полёт. Одна его длительность, невиданная по тем временам, могла составить гордость лётчика. Но Нагурский удивительно скромен в описании своём. Никаких гордых слов, никакой приподнятости в описании нет. Очень деловито, сдержанно, самыми простыми словами, в самой обыденной тональности рассказывает лётчик о своём славном, необыкновенном арктическом полёте.
Из этого описания может у читателя составиться впечатление, что никаких трудностей полёты в Арктике и не представляют.
Увы, это совсем не так. И полёты и вся жизнь Нагурского на Новой Земле возле самолёта — акт героический и свидетельство железной воли и мужества лётчика. Царское правительство и Гидрографическое управление, вынужденное под давлением общественности начать розыски пропавших экспедиций Седова, Брусилова и Русанова, организовало поисковую экспедицию скверно, небрежно, с преступной беспечностью.
Начальник её капитан Ислямов, шедший на одном из экспедиционных судов — «Герте», находил, например, что розыск пропавших экспедиций с помощью самолётов вообще пустая затея. Вместо того чтобы пробиваться вперёд сколько возможно дальше на север, с тем чтобы начать поиски пропавших экспедиций с воздуха с помощью самолёта, в тех местах, где эти экспедиции могли быть, Ислямов высадил лётчика и механика прямо на лёд пустынной Крестовой губы на Новой Земле, а сам на своём пароходе «Герта» ушёл к Земле Франца-Иосифа. При этом самонадеянный, беспардонный капитан первого ранга ни в какой степени не позаботился о том, чтобы должным образом обеспечить, устроить бросаемых им людей и хорошо снабдить всем необходимым.
Он нимало не думал о том, как будут жить в ледяной пустыне лётчик и механик — почти без продовольствия, без жилья, без укрытия от непогоды, без медикаментов, без всякого контакта с внешним миром, без всякой возможности в случае нужды к кому бы то ни было обратиться за помощью.
А как лётчик и механик вдвоём, почти без инструмента и совершенно без приборов, сумеют собрать самолёт, как поднимут вдвоём кабину с мотором, которая весит более двухсот килограммов, как лётчик сможет подняться на гидросамолёте, сидящем на поплавках, с неровного льда?
И вообще неизвестно было, сумеет ли летать самолёт, собранный в столь дико примитивных условиях. А что делать в случае необходимости перебазироваться? А если лётчику, летящему в одиночку, придётся садиться где-то в другом месте? Ведь у него нет никаких средств дать знать о месте своего нахождения.
Непонятно было, почему в помощь лётчику и механику не оставили ещё двух-трёх человек из судовой команды.
Я не могу передать даже вкратце всех мук и тягостей, какие пережили лётчик и механик, собирая самолёт, транспортируя его к берегу, когда ветер отогнал льды и сделал возможным старт машины с воды. Я не смогу пересказать историю жизни Нагурского и Кузнецова в Крестовой губе, его вынужденной перебазировки севернее, на Панкратьевы острова, его полётов в тумане, в снежную пургу без ориентиров и без приборов для слепого полёта.
Продукты и горючее скоро кончились, а вспомогательное судно «Андромеда», задержанное, очевидно, в пути льдами, не появлялось. Пришлось добывать пищу охотой, есть противную тюленину, пока не прибрёл к самолёту любопытствующий белый медведь, которого удалось застрелить.
В довершение всех бед заболел механик, и его пришлось переправить на подошедшую наконец «Андромеду».
И, несмотря ни на что, Нагурский с великолепной настойчивостью и мужеством продолжал свой поиск. Во время одного из трудных полётов, длившегося четыре часа пятьдесят две минуты, он обнаружил на острове Панкратьева вросшую в лёд избушку, в которой нашёл... Впрочем, пусть сам Нагурский расскажет о том, что он нашёл в этой затерянной среди ледяной пустыни избушке, к порогу которой он подступил вместе со своим механиком Евгением Кузнецовым.
«Мы вошли внутрь. Через маленькое оконце, врезанное в южную стену, скупо проникал свет. Нары, сбитые из досок, утопали во мраке. Только стол, стоявший посреди избы, был отчётливо виден. Луч солнца лёг на «его жёлто-розовым пятном и преломился на металлическом предмете, лежавшем посреди стола.
Минуту мы простояли молча, с волнением разглядывая простую утварь этого дома, хозяев которого, быть может, уже нет в живых.
Я подошёл к столу и взял в руки металлическую трубу, сделанную из консервных банок. Когда я стал открывать её, руки мои дрожали от волнения. Из трубы я вынул свёрнутые в рулон бумаги.
Седов!
Это были документы экспедиции лейтенанта Седова.
Волнуясь, я стал просматривать листы, читая только заголовки. В этот момент у меня не было возможности подробно знакомиться с содержанием этих ценных документов. Но я понял, что был первым человеком, напавшим на след затерявшейся экспедиции, и в то же время совершенно беспомощным, чтобы проследить дальнейший её путь. Судя по оставленным записям, Седов мог находиться от нас на расстоянии 14—15 часов полёта, а мой «Фарман» способен продержаться в воздухе немногим более пяти часов. Находка произвела на меня такое сильное впечатление, что я забыл обо всём, даже о своём «Фармане», о полётах, о Женьке. В тот момент для меня, кроме Седова, не существовало никого.
Кузнецов стоял за моей спиной и что-то говорил, но я его не слышал. Очнулся лишь, когда он стал тормошить меня.
— Что же вы прочитали?
Этот вопрос привёл меня в чувство. Действительно, я же ещё не знаю всего, что там написано.
— Подходи ближе. Прочитаем вместе.
Седов писал рапорт в Морское министерство. Он уведомлял, что плотный лёд помешал его экспедиции попасть на Землю Франца-Иосифа в первый год. Он остановил судно в пятнадцати километрах от этого места, а сам с частью экипажа пошёл на остров Панкратьева, расположенный близ Новой Земли. Здесь решено было зазимовать, а следующей весной на корабле двинуться в дальнейший путь».
Так Нагурский обнаружил следы пропавшей экспедиции Георгия Седова. Возможно, что он обнаружил бы и местонахождение «Св. Фоки» со всеми членами экспедиции, если бы не тупое равнодушие Ислямова к порученному ему делу.
Нагурский в своей книге писал; «„Герта" добралась до Земли Франца-Иосифа, здесь ей пришлось задержаться, так как дальше к северу не пускали льды. Но если бы с места её стоянки мог вылететь на разведку самолёт, возможности выполнения задач экспедиции несомненно бы возросли. Помимо этого, появились бы реальные виды на спасение людей из партии Брусилова, судно которого дрейфовало севернее острова Рудольфа».
Нагурскому не удалось закончить свои поиски и провести их в таком объёме, в каком ему это хотелось бы. Неожиданно грянувшая первая мировая война заставила его прекратить поиск. Ему, как русскому военному лётчику, было приказано немедля возвращаться, чтобы отправиться в действующую армию.
Одно из двух вспомогательных судов поисковой экспедиции, пароход «Печора», привёзший весть о войне и приказ о возвращении, принял на борт Нагурского и его самолёт и доставил в Архангельск.
Оттуда Нагурский умчался в Петербург, а потом, сдав рапорт о своих полётах в Арктике начальнику Главного гидрографического управления, ушёл на фронт, летал там как военный лётчик, участвовал в воздушных боях с немецкими цеппелинами и даже... был убит, если верить энциклопедии.
Кстати, об энциклопедиях. В начале главы я уже приводил заметку о русском военном лётчике Иване Иосифовиче Нагурском, помещённую в БСЭ. Теперь, в конце главы, я должен внести в эту заметку некоторые исправления и уточнения. Нагурский совершил не пять полётов, как это указано в энциклопедии, а по крайней мере в два раза больше, причём общая длительность их была не «свыше 10 часов», а «одиннадцать часов тридцать минут», как это указано в официальном рапорте лётчика по начальству. Максимальная высота, на которой летал Нагурский в Арктике, достигала не тысячи двухсот метров, а полутора тысяч. Наконец, последнее, если можно так выразиться, уточнение.
В начале заметки, после фамилии Нагурского, стоят две цифры: (1883—1917). Так обычно обозначают в энциклопедиях и других справочниках годы рождения и смерти того, о ком повествует заметка. Несмотря на мой пиетет по отношению к столь солидному изданию, как БСЭ (кстати, немецкая энциклопедия приводит те же цифры), я в данном случае принуждён руководствоваться афоризмом Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим». Обе цифры, указанные в энциклопедии, неверны. Родился Нагурский не в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году, а пятью годами позже. Что касается его смерти в семнадцатом году, то сам Нагурокий в начале первой главы своей книги поставил заголовок: «Я жив, однако!»
Я лично имею ещё одно веское доказательство, опровергающее БСЭ и лежащее передо мной на моём столе. Это — присланная мне фотография Нагурского и его жены. На обороте фотографии собственноручная надпись Яна Иосифовича: «Последний снимок с бала Сильвестрого жены Антонины и мой 1969 год». Комментарии, как говорится, излишни.
Таковы в кратком изложении некоторые факты о жизни, приключениях и мнимой смерти блестящего лётчика Яна Нагурского. В этом беглом очерке я поневоле должен был опустить ещё множество интересных фактов, относящихся к подготовке Нагурского к экспедиции, участию в постройке во Франции самолёта, переписке с Амундсеном и американцем Бердом, первым достигшим на самолёте в двадцать шестом году Северного полюса, о встречах с Амундсеном и Отто Свердрупом, об отплытии поисковой экспедиции, при котором присутствовали Нансен и братья Руала Амундсена, о многом другом, на что недостало мне в очерке места.
Но об одном любопытном обстоятельстве я всё же хочу ещё упомянуть, прежде чем поставлю в этой главе заключительную точку. Речь идёт о проблеме красной кабины самолёта Нагурского. Почему она была окрашена именно в красный цвет, да ещё в такой интенсивно-красный?
Вот что пишет по этому поводу в своём предисловии Б. Чухновский: «И в книге, и в своём рапорте Нагурский правильно намечает основные направления использования авиации на Севере для разведки льдов, открытия новых земель, помощи гидрографическим и топографическим аэрофотосъемочным работам. Он даёт советы по снаряжению самолётных экспедиций и об окраске аэропланов в контрастный по отношению к снегу красный цвет. Это было применено в советской полюсной экспедиции 1937 г.».
Как видите, Иагурский окрасил кабину своего самолёта в красный цвет не из прихоти или щегольства, а из целесообразности, которой последовали двадцать три года спустя и другие полярные лётчики.
Художник Степан Писахов написал кабину самолёта Нагурского на Новой Земле красной тоже не из прихоти или стремления к живописности, а из верности натуре. Эта верность сказочника-фантаста натуре, правде, действительности кажется на первый взгляд парадоксальной, но мне лично она внушает уважение к Степану Григорьевичу. К этому следует присоединить чувство благодарности за знакомство с Яном Иосифовичем (хотя бы и заочное). Ведь именно идя по следу писаховских картин, я и напал на след Нагурского.
Волшебное кольцо и волшебное слово
Не так давно мне попался на глаза портрет семидесятилетнего Бориса Шергина. Посмотрел я на этот нелживый, неприкрашенный портрет, на белую бороду лопатой, па лысую большую голову, на морщины, и грустно мне стало. Я знал Бориса Викторовича молодым, двадцатилетним, кудрявым. Теперь, увы, ни кудрей, ни молодости. Ну что ж. Ушло то, что должно было уйти. Осталось то, что должно было остаться. Остался талант. Остались книги.
Впрочем, книги — это ещё не всё, когда речь идёт о Шергине. Для того чтобы оценить творчество Бориса Шергина по достоинству, его надо не только читать, но и обязательно — слушать. У него был редкостный дар сказителя. Я впервые услышал его более полувека назад. Это было в Архангельске, на одном из гимназических вечеров, какие устраивались обычно на святках. В зале танцевали, толклись, как мошкара на болоте. Мне наскучила толкотня, и я побрёл по комнатам, по классам, примыкавшим к залу. Попал не то в канцелярию, не то в учительскую. В углу сидел круглолицый, румяный паренёк и что-то рассказывал. Вокруг него сидели, придвинувшись вплотную, человек двадцать и слушали, глядя ему в рот. Я вошёл, чтобы послушать, о чём идёт речь, — думал, побуду минутку-другую и, если скучно, уйду. Но я не ушёл и побыл не минутку-другую, а застрял основательно и надолго.
Шергин говорил сказку о Кирике, сказку стародавнюю и печальную. Она повествовала о двух названых братьях Кирике и Олеше, у которых была «дружба милая и любовь заединая», которые «одной водой умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали».
Они поклялись на верность и вечную дружбу и любовь, и «Мать Сыру землю и Сине море призывали во свидетели». Но вот однажды отправились дружки в море на промысел. Пришли на Звериный остров, стали морского зверя бить. Олеша увлёкся, далеко от острова за зверем ушёл. В это время задул сильный ветер и лёд в открытое море понесло. Кирик кинулся было за Олешей следом, чтобы нагнать или хоть крикнуть, что лёд в море пошёл, чтобы друг бежал на остров.
И тут вспомнилась вдруг Кирику дева Моряшка, оставшаяся в становище, которая «с обоими играет, от обоих гостинцы берёт». И только вспомнил Кирик о Моряшке, как подумал: «Олешу море унесёт, Моряшка моя будет», и не крикнул, чтобы остеречь названого брата, «окаменила сердце женская любовь».
Вскоре женился Кирик на Моряшке, да всё не шёл из ума погибший Олеша, снедала его печаль и тоска по друге-брате. Но вот пришла вдруг весть, что «варяги-разбойники идут кораблём на Двину». Не слушая уговоров жены, Кирик становится во главе дружины, которая на поморском корабле идёт навстречу врагам, чтобы отвести беду от родной земли.
Сошлись в море корабли, сцепились, и принялись поморы сечь и бить разбойных пришельцев. Одолели храбрые поморы варягов и побросали их мёртвые тела в море. Но и сам Кирик пал в этой битве, пронзённый вражьей стрелой. Умирая, услышал он, как звенит возле него голос названого брата, окликает его.
«Ликует Кирик в смертном видении:
— Олешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от вечного сна?
И Олеша отозвался:
— Я по тебя пришёл. Сильнее смерти дружеская любовь... Подвигом ратным стёрта твоя вина перед братом...»
Кончается сказка кратко и мудро: «Смерть не всё возьмёт — только своё возьмёт».
, Эту чудеснейшую сказку-поэму о дружбе и любви чудеснейше сказывал молодой румянолицый Шергин, во внешнем облике которого не было ничего, что соответствовало бы щемящему сердце печальному настрою сказки. Но талант есть талант, и, слушая Шергин а, ты невольно забывал и румяность щёк его, и ломкость молодого голоса и весь погружался в старую старину трагедийного братства Кирика и Олеши.
Сорок лет спустя я нашёл эту сказку в одной из книг Шергина. Там она называлась «Любовь сильнее смерти». Я впился в неё, взволнованно вычитывая строку за строкой. Она и в чтении оказалась очень хороша, но всё же мне как-то мало было только одного текста сказки. Мне недоставало голоса и интонаций сказывающего её.
Кстати, сказительекий дар Бориса Шергина был очень объемен, широк, богат. Рядом с героической трагедией Кирика и Олеши существовали в репертуаре Шергина сказки совершенно иного толка — весёлые, смешные, озорные. Несколько лет спустя после первой встречи с Шергиным, о которой я повёл речь с самого начала, и уже в советское время, услышал я сказку, совершенно несхожую по характеру со сказкой о Кирике. Называлась она «Золочёные лбы» и начиналась так:
«На веках невкотором осударсьве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И поначалу всё было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идёт, тут уж они первым бесом.
Царь за рюмку, мужик за стокан. Мужичонко на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом. Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царём ходить. Его величию и не по нраву стало. Конешно это не принято. Оногды амператора созвали ко главному сенатору на панкет. Большой стол идёт: питьё, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, мундер спят, сидит в одном жилету. Рад и тому баженой, што приятеля нету...
И вдруг это веселье нарушилось. Капитонко в залу ворвался, всех лакеев распехал... А у самого колошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав оторван, карманы вывернуты, под левым глазом синяк. И весь Капитон пьяне вина. Царь немножко-то соображат. Как стукнет по столу да как рявкнет:
— Вон, пьяна харя! Убрать его!
Капитонко царя услыхал, обрадовался, здороваться полез, целоваться:
— На, хрен с тобой, ты вото где? А я с ног сбился тебя по трактирам, по пивным искавши.
Придворны гости захикали, заощерялись. Это царю неприлично:
— Кисла ты шерсть, ну куда ты мостиссе?! Кака я те, пьянице, пара?.. Поди выспись.
Капитонку это не обидно ли?
— Не ты, тиран, напоил! Не тебя, вампира, и слушаю! Возьму батог потяжеле, всех разбросаю, кого не залюблю!
Брани, дак хоть потолком полезай. Царь с Капитоном драцца снялись. Одежонку прирвали, корону под комод закатили. Дале полиция ïх розняла, протокол составили.
С той поры Капитона да амператора и совет не забрал. И дружба врозь... Судятся они друг со другом из-за кажного пустяка. Доносят один на другого...
Вот раз царь стоïт у окна и видит: Капитонко крадётся по своему двору (он рядом жил) и часы серебрены в дрова прятат. Уж, верно, крадены.
Царь обрадовался.
— Ладно, зазуба! Я тебе напряду на кривое-то веретено.
Сейчас в милицию записку. У мужика часы нашли и самого в кутузку...»
«Золочёные лбы» — сказка озорная, блестящая по форме и неподражаемая по исполнительскому мастерству. В основе её — народная традиция, но в то же время это сказка Бориса Шергина. На ней лежит неизгладимая печать его яркой индивидуальности, его художнического подхода к фольклорному материалу, его личности, его темперамента, его таланта, его словаря.
Словарь этот, кстати сказать, весьма своеобразно сочетает стародавний, чисто северный, архангельский наговор с самыми что ни на есть сегодняшними и иной раз сугубо городскими словечками вроде «конешно, это не принято» или «царю это неприлично».
В «Золочёных лбах» царь ходит «с визитами и на «панкеты к сенаторам». Когда царь собирается уезжать, царица Аграфена с дочкой и матерью-царицей начинают канючить:
« — Опять дома сидеть... Выдал бы хоть по полтиннику на тино, в тиматограф сходить. Дома скука... Царь не слушает:
— Скука? Ах вы лошади, кобылы вы! Взяли бы да самоварчик согрели, грамофон завели да... Пол бы вымыли».
Когда хитрый Капитонко предлагает позолотиться царскому семейству и царица спрашивает у него: «А право есь?», «Капитонко им стару облигацию показывает, оне неграмотны, думают деплом».
«Напротив царского дома учрежденье было, Земной Удел. И тут заседает медицинской персонал». Туда приходят «пзвощищьи деликаты» жаловаться, что просмолённые Капитоном чёрные фигуры цариц и царевны пугают лошадей... Когда на площади против царского дома начинает скопляться народ и издеваться над просмолённой царской фамилией, а «главный начальник Земного Удела» предлагает отправиться к царю с докладом о создавшемся положении, чиновники говорят: «Ура, мы тебе и ераплан, либо там дерижаб даш».
Примчавшись на дирижабле, которым правят извозчичьи делегаты, к находящемуся в отъезде царю, «начальник почал делать доклад: так и так, ваше высоко... Вот какие преднамеренны поступки фамилия ваша обнаружила... Личики свoï в тёмном виде обнародовали. Зрителей полна плошшадь, фотографы снимают, несознательны элементы всякие слова говорят».
Все эти забавные словечки, неожиданные сочетания их, вся эта весёлая словесная кутерьма — вовсе не авторский произвол и не пустое баловство забавы ради. Это вполне точно направленное остриё сатиры, осмеивающей и оставшегося в дураках царя, и его семью («у царя семья така глупа была: и жена и дочка и маменька»), и бюрократически-чиновничий стиль речи, и всё окружение двора.
Есть в языковой ткани и строе «Золочёных лбов» ещё одна линия — это линия сближения старой сказки с сегодняшним днём. Этой цели служат и «ераплан», и «дерижаб», и «несознательны элементы», и записка царя в «милицию», чтобы Капитонку арестовали. Говорятся в этой старой сказке даже совершенно злободневные слова о событиях самого что ни на есть сегодняшнего дня. К примеру, когда высмоленные Капитонкой члены царской фамилии уселись перед окнами, выходящими на площадь, «народ это увидел и сначала подумали, что статуи, негритянская скульптура с выставки куплена».
Я слышал эту фразу, сказанную Борисом Шергиным в те дни, когда выставка негритянской скульптуры в Москве ещё была открыта для посетителей. Современность и даже, случается, злободневность в языке стародавней сказки у Шергина не случайны, а, напротив, обдуманы и принципиальны. В интервью, данном корреспонденту «Литературной газеты» в дни своего семидесятилетия, Борис Шергин говорил: «Языку у народа надо учиться. Литературную речь нельзя выдумать. Классики питались живым словом. А по радио что порой проповедуют? «Учитесь языку у классиков!» Но ведь на месте никогда ничего не стоит. Никогда не переучить молодёжь говорить так, как говорили в девятнадцатом веке».
Вот в чём корень вопроса о языке вообще и языке таких шергинских сказок, как «Золочёные лбы» или «Волшебное кольцо». «На месте никогда ничего не стоит», а если «никогда» и «ничего», то язык также. Фольклор не мёртвый закостенелый панцирь некогда жившей в нём черепахи, не надгробье прошлого, а живой процесс, продолжающийся и по сей день с участием носителей его — сказителей и писателей.
Смешение различных временных категорий в словаре таких шергинских сказок, как «Золочёные лбы» или «Волшебное кольцо», усиливает связь времён, уярчает сатирический и юмористический элементы и придаёт им неповторимо своеобразный колорит. Борис Шергин в этих своих сказках весь традиционен и весь сегодняшний. Свободный и подчас даже прихотливый вымысел настолько органично слился в этом случае с фольклорной народной основой сказки, что отделить одно от другого уже невозможно. Одно без другого не живёт и жить не может. Это я, пожалуй, понял, а если не в полной мере понял, то почувствовал в первую же встречу с Шергиным, слушая его сказки и старины на том памятном, гимназическом вечере, когда я забрёл в отдалённую от танцевального зала комнату и увидел Шергина в окружении плотного кольца слушателей, поражённых и покорённых нежданным в этом румяном кудрявом юноше даром сказителя.
Юный сказитель был не только самобытно талантлив, ко и необыкновенно щедр. Он сказывал одну сказку за другой и едва замолкал, как со всех сторон слышалось нетерпеливое:
— Ещё. Ещё. Пожалуйста...
Так я познакомился со сказителем Шергиным. С писателем Шергиным я познакомился много позже. Он хорош, самобытен, увлекателен и как писатель, но всё же мне кажется, что первородным его талантом и истинной его стихией был сказ, устная речь.
На полке моей стоят многие его книги, но в душе моей и памяти звучит прежде всего характерный его говорок, негромкий и незвучный его голос, сказывающий неповторимо прекрасные сказки и старины.
Северная сказка, стародавняя архангельская побывальщина, песня, былина — это атмосфера его души и наследственная его вотчина. Сказки и старины сказывали и дед и отец Бориса Шаргина. Он родился со сказкой и жил в ней всю жизнь.
Образы русской сказки питали его творческое воображение с младых ногтей. Они были у него на памяти, на губах, а кроме того, на кончике карандаша и кисти. Он прекрасно рисовал, и рисовал точно так же, как сказывал сказки.
Помню, например, году в шестнадцатом забрёл я как-то к нему. Комната, в которой жил он, была невелика. Самым примечательным в этой комнатке была круглая печь — жарко натопленная и... расписанная от полу до потолка. Роспись походила на сказку — причудливые растения, невиданные цветы, удлинённые, с узкими лицами фигуры, напоминающие иконы древнерусского письма. Одеты они были в старинные сказочные одежды. Блёклые и удивительно гармоничные цвета этих одежд были богаты нежнейшими и тончайшими оттенками. Убранство комнаты — деревянные игрушки, туеса, картинки на стенах — всё было того же стиля, того же толка, что и сказываемые им сказки. Это было жилище Сказки и прибежище Прекрасного.
Много лет спустя мне довелось увидеть книжку Бориса Шергина «У города Архангельского» с иллюстрациями автора и в его оформлении. Это — прекрасный образчик органического слияния и единства формы и содержания. В книжке этой был весь Шергин — с его природными пристрастиями, редким даром живого ощущения Прекрасного и своеобразного чувствования и видения русской северной старины.
Забыть прочитанное в книгах Бориса Шергина, как забыть прочитанное в любой, даже самой прекрасной книге, можно. Но забыть, как Шергин сказывал сказки, невозможно. И сейчас, более полувека спустя после первой встречи с Шергиным, я слышу характерный архангельский говорок Шергина и даже могу воспроизвести его на память с совершенной точностью.
Говоря о Шергине, я до сих пор не касался одной важной черты его творчества, особенно ярко проявившейся в поздних вещах Шергина. Что же это за черта? Давайте разберёмся. Вот открываю я вышедшую несколько лет назад книгу Шергина «Запечатлённая слава» и неотрывно впиваюсь в неё. Вот первый раздел: «Отцово знание». Вот первая глава раздела: «Рождение корабля». Вот начальные её строки: «Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века — Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров — Виват Ершов, Загуляев енд Курочкин, мастере оф Соломбуль. Равных негде взять и не сыскать, и во всей России нет».
К этому знаменательному абзацу Шергин делает сноску, помещённую, как это положено в обстоятельных добропорядочных трудах, внизу страницы: «Курочкин Андрей Михайлович (1770—1842), Ершов Василий Артемьевич (1776—1850), Загуляев Фёдор Тимофеевич (1792—1868) — знаменитые кораблестроители Архангельского адмиралтейства. Доставили кораблям архангельской конструкции мировую славу. Во второй половине XVIII века славился мастер адмиралтейства Поспелов».
Характер сноски, её чёткость и скрупулёзная обстоятельность, прибавленные к упоминаемым в иностранном источнике фамилиям архангельских судостроителей их имён, отчеств, дат рождения и смерти — всё это под стать научному исследованию с его детализирующим основной текст сопроводительным аппаратом. Что ж, в сущности говоря, весь этот раздел, как и другой раздел книги — «Государи-кормщики», несмотря на вольное, подчас художническое изложение материала, есть всё же именно исследование, дознание, допытывание и розыски фактов истории северного, и в частности архангельского, судостроения, публикация архивных находок, изысканий о славных кораблестроителях, их обычаях и характерах, тайнах их мастерства. Это прекрасные и поучительные главы, раскрывающие в равной степени как материал, так и самого разыскателя его и рассказчика. Последнее обстоятельство мне особенно приятно и интересно, ибо в этих материалах о Севере и северянах, его былях и буднях, истории и сегодняшней зримости, материалах, прилегающих к автору как пропотевшая в спорой работе рубашка к телу, раскрывается и углубляется материал моего крохотного исследования — то есть сам Борис Шергин.
Вот один пример. Я рассказывал, как, придя впервые в комнату Бориса Шергина в Архангельске, увидел расписанную им печь и северные ручные поделки. Я тогда подивился этому чудесному рукомеслу и художническому умельству, но объяснить его корни и происхождение не смог. Но вот прочёл я в книге «Запечатлённая слава» такой абзац, посвящённый Борисом Викторовичем отцу: «Виктор Шергин мастерски изготовлял модели морских судов. Был любитель механики. Любовь к слову сочеталась с любовью к художеству. Двери, ставни, столы, крышки сундуков в нашем доме расписаны его рукой. В живописи своей отец варьировал одну и ту же тему: корабли, обуреваемые морским волнением».
Вот они где корни художнических вкусов Бориса Шергина. Они унаследованы, они взращены сызмальства средой, в которой жил и рос Шергин. И отец рисовал, и отец сказывал сказки и былины, да и не только отец, В предисловии своём к «Запечатлённой славе» Шергин говорит: «Отменной памятью, морским знаньем и уменьем рассказывать отличались и друзья отца, архангельские моряки и судостроители М. О. Лоушкин, П. О. Анкудинов, К. И. Второушин (по прозвищу Тектон), В. И. Гостев. Кроме того, что каждый из поименованных имел многолетний мореходный опыт, каждому из них сословие наше приписывало особый талант. Пафнутия Анкудинова и в морских походах, и на звериных промыслах знали как прекрасного сказочника и певца былин».
Максим Осипович-Лоушкин, который в перечне капитанов, судостроителей и сказочников упомянут первым, как явствует из рассказанного Шергиным в «Запечатлённой славе», был не только капитаном, не только искусным рассказчиком, но и знатоком истории и практики своего родного отечественного судостроения на Севере и горячим его пропагандистом.
Командуя морским судном, на котором в девяностых годах архангельский губернатор Энгельгардт путешествовал по Северу, Лоушмин при всяком удобном случае старался внушить влиятельному сановнику мысль о древности и стародавней славе северного мореходства и судостроения, о высоких мореходных качествах судов, которые строились северными мастерами-корабелами.
Это истовое душевное, уважительное отношение к северному искусству, к мастерству северных умельцев, эту пропаганду знаний и художеств северян унаследовал от своего отца, от дедов, от Лоушкина, Анкудинова, от своего окружения и Борис Шергин. Он унаследовал не только жаркую приверженность к русской северной старине, но и их пропагандистский пыл, утверждающий в борении своё самобытное и прекрасное.
К этой активнейшей и чудеснейшей черте шергинского творчества я и обращаюсь в конце своего рассказа о рыцаре Севера, о волшебнике Северного Слова. Впрочем, раз уж речь зашла о волшебстве словом, не могу не обратиться ещё к одному примеру из творческой практики Шергина.
В сказке его «Волшебное кольцо», о которой я вскользь упоминал, «жили Ванька двоïма с матерью. Житьïшко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего». Единственным богатством Ваньки — крестьянского сына — было доброе сердце. Он спасает от гибели одну за другой «собаку белу, да кошку серу, да змею Скарапею».
За своё доброе сердце Ванька вознаграждается тем, что получает во владение волшебное кольцо, обладающее чудеснейшим свойством. Стоит тому, кто им владеет, «переменить кольцо с пальца на палец», как выскакивают откуда ни возьмись «три молодца», которые тотчас выполняют любое приказание их хозяина. Они строят в одну ночь хрустальный мост, соединяющий царский дворец с избой Ваньки, сватающегося к дочери царя. Самую избу его превращают в богатые дворцовые хоромы. Потом и эта изба-хоромина и хрустальный мост переносятся в мгновение ока за тысячи вёрст и ставятся «посереди городу Парижу». А после, по Ванькиному повелению, и мост и дворец-изба снова переносятся на старое место.
Когда я слушал эту сказку, сказываемую в Архангельске Шергиным, а после в Ленинграде читал её в сборнике «Пятиречье», я не мог отделаться от ощущения, что «три молодца», творящие чудеса, в сущности говоря, ни при чём, что Шергин самолично проделывает все эти колдовские небывалости, что он не только владеет волшебным кольцом, но сам и выделал его. При этом главней всего для меня было твёрдое убеждение, что кроме волшебного кольца Шергин владеет ещё и Волшебным Словом, которое и делает его всемогущим кудесником, обладателем тайн и свойств волшебства.
Так мне казалось при слушании и чтении Шергина, и я полагаю — так оно и есть на самом деле. Пусть же так и будет во веки веков. Бориса Шергина уже нет с нами, но его Волшебное Слово останется с людьми, чтобы служить им добрую, верную и долгую службу.
Из смиренья не пишутся стихотворенья
Стихия стиха и сочинители фраз
Стихия стиха — что это такое? Возможна ли, уместна ли такая формула? Мне кажется — да, безусловно возможна и совершенно уместна. Поэзия — это подлинная стихия, и, как всякая стихия, она может быть не только увлекательно могучей, но и губительной. Поэт часто не ведает, что породит — Афродиту или Пифона, а то и какое-нибудь иное чудище, которое может и пожрать породившего его.
Но погибают не все. Отнюдь. Есть люди, рождённые для жизни в этой опасной стихии, подобной безбрежному и изменчивому океану. Есть могучие и неустанные пловцы. Такому, как волшебному лермонтовскому кораблю, «Но скалы и тайные мели, И бури ему нипочём».
И всё-таки стихия стиха — что же это за феномен? Попробуем разобраться.
Начнём с начала. Прежде всего: как стихия — это нечто, независимое от разума, расчёта, воли. Нечто, что есть само. И рождается оно тоже само. Помните у Пушкина в «Домике в Коломне» о рифмах: «Две придут сами, третью приведут»?
Откуда они «придут» и когда — поэт не знает. Это самая тайная тайна поэзии. Одно только тут ясно: без соответствующего настроя личности поэта «рифмы» к нему не «придут».
Значит, в изначале поэтического в поэте — эмоция? Только при её наличии и происходит поэтическое зачатие?
Да, по-видимому, так, хотя и не совсем так, потому что, во-первых, не только эмоция, пожалуй, даже и не всегда, а во-вторых... Во-вторых, всякое, очень всякое бывает со стихами, особенно с рождением их. Вот у Анны Ахматовой:
Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как жёлтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дёгтя запах свежий, Таинственная плесень на стене... И стих уже звучит, задорен, нежен, На радость вам и мне...Это прекрасное стихотворение прекрасно не только тем, что поэт с удивительным душевным гостеприимством приглашает читателя в свою мастерскую, к своему верстаку, но и тем, и для меня больше всего тем, что сказано в последних двух строках, тем, что стих, рождённый поэтом, отдаётся тотчас же людям, что он создан для того, чтобы звучать «на радость вам и мне». «Вам» стоит прежде, чем «мне». Первый, к кому адресуется поэт, первый, кому несёт свою радость, радость своего создания, — это окружающий его мир. Сам поэт — уже после того.
Приведу ещё один образчик стихов, обращённых в мир с доброй требовательностью, возвеличивающих человека и поэта, возвышающих его душу, его мысли, его дело, всякое человечье дело, — это стихотворение Леонида Мартынова, обращённое к писателю, которого поэт именует «писателем слов и сочинителем фраз».
Я видел экземпляры книги той, Она бумагой сделалась простой. Ты в этой книге, в сущности — пустой, Не захотел, чтоб бабочки пыльца Не прилипала к пальцам подлеца, Чтоб ровно бились чистые сердца. Ты этой книгой никого не спас. Писатель слов и сочинитель фраз, Не дописал ты повесть до конца!Вот чего требует поэт от себя и от других пишущих: если ты своей книгой никого не спас, значит, она не дописана до конца, значит, она писана напрасно.
По такому самому большому счёту работает всякий настоящий писатель. Только ему и подобным ему может покориться стихия стиха, стихия слова, наконец, стихия человеческих отношений — самая опасная и самая прекрасная из стихий.
Думать стихами
Ф. Тютчев утверждал, что «каждый человек в известном возрасте жизни — лирический поэт; всё дело только за тем, чтобы развязать ему язык».
Пожалуй, что так оно и есть. В. самом деле, в юности стихи писал почти каждый. И почти каждый из прозаиков начинал со стихов. Стихами иной раз легче обдумывать то, что вдруг всплывает как проблема, иногда как гипотеза, а иной раз встанет как порог, через который обязательно нужно перешагнуть.
И перешагиваешь, вооружившись ритмическим шагомером стихотворной строки. Ритм не только основа музыки, но и стиха. Ритм — добрый помощник ищущей мысли, содействующий чёткой организации её. Недаром Маяковский, как о том свидетельствует в своих воспоминаниях Корней Чуковский, вышагивал и под эти вышагивания выборматывал свои стихи.
В самом деле, шагая, легче думать, чем в бездеятельной недвижности, особенно когда думается о стихах. Шаг тогда невольно становится строго ритмичным. Стихотворная строка — это мерный шаг, стихотворение — поступь. Поступь эта превращается у подлинного художника в жизненную поступь. Для поэта стихи не только необходимы, но и неотвратимы, как сама жизнь.
Леонид Мартынов в одном из своих отличных стихотворений сказал:
И будь я даже в сотни раз сильней — Не мог бы на минуту на одну Пресечь теченье стихотворных дней, Объявших стихотворную страну.Да, я знал и раньше, что так думают многие писатели о неотвратимости написания, об одержимости писателя тем, что он пишет. Мартынов сказал об этом лучше, чем мог бы сказать я, но всё же обязательно нужны и собственные обмысливания для движения вперёд. Невозможно почувствовать всю силу боли от того, что на операционном столе вонзают ланцет в тело другого. Надо самому и любить, и страдать, и мыслить, чтобы почувствовать всю полноту любви, страдания, мысли. Никто не может за тебя думать, хотя результатами чужих мыслей ты и можешь думать.
Ведь в результат входит как составная величина и метод достижения результата. Сам рабочий процесс отражён в конечном результате, и он важен, как и результат. Инструмент ремесленника — его отточенность, чистота, качество и ощущение его в руке очевиднейше играют известную роль и сказываются на качестве конечного результата. Своя выстраданная, выношенная, вышаганная, выдуманная мысль сильна и обратным реактивным действием на самого думающего. Взять готовое — это одно, дойти самому до того же — другое.
Итак, нужно открывать открытые Америки. Без этого нет никакой надежды открыть неоткрытую. До того как плыть неведомым путём к своей Америке, Колумб много плавал путями, проторёнными до него другими.
Думать, думать — и чужие, и свои мысли. Думать про себя, думать вслух, думать логическими категориями, импровизациями, прозой, стихом.
Не могу отказать себе в удовольствии под конец ещё раз обратиться к Леониду Мартынову, который превосходно и постоянно думает стихотворной строкой. Вот его коротенькое стихотворение, отвечающее на мои неотступные зачем, почему, как:
Из смиренья не пишутся стихотворенья, И нельзя их писать ни на чьё усмотренье. Говорят, что их можно писать из презренья. Нет! Диктует их только прозренье.Всё это так. Стихами думают, обмысливают мир, человека, события, переживания, природу, окружающих, себя, своё (и не своё) дело. И не только это делают стихами, но и многое другое, доброе и нужное людям — разуму их, сердцу, жизни.
И прозой думают так же, как стихами. И так же вторгаются в дела человечьи и в их мысли. «Ничей ручей», текущий только для того, чтобы течь, и звенящий только ради своей звонкости, — не мой идеал.
Если бы я думал иначе, я не писал бы. И всякий другой писатель, мало-мальски уважающий своё дело — тоже.
Стихи свидетельствуют
«Это было обыкновенное полицейское происшествие: в четыре часа утра на Житной улице автомобиль переехал пьяную старуху и умчался с величайшей скоростью. И вот молодому полицейскому следователю доктору Мейзлику надо было установить, чей был автомобиль».
Так начинается рассказ чешского писателя Карела Чапека «Поэт». Дальше автор повествует о розыске, предпринятом полицейским следователем Мейзликом для того, чтобы выяснить, что это был за автомобиль, какой марки, какого цвета, какой у него был номер.
Первым, кого допросил следователь, был полицейский, стоявший прошедшей ночью на посту, неподалёку от места происшествия. Но полицейский не смог дать определённого ответа ни на один из вопросов, заданных ему следователем. Спрошенный о цвете автомобиля, полицейский «сказал неуверенно»:
— Я думаю, он был тёмного цвета. Возможно, что. он был синий или красный. Точно нельзя было рассмотреть из-за дыма.
Ничего не добившись от неприметчивого полицейского, следователь Мейзлик приступил к допросу следующего свидетеля происшествия — студента механического факультета. Но и от него следователь добился немного. Единственное определённое и даже категорическое заявление гласило:
— Я должен сказать, что виноват шофёр. Помилуйте, пан комиссар, улица была совсем пуста, и если бы шофёр на перекрёстке замедлил ход...
На вопросы следователя о номере автомобиля студент ответил:
— Этого, простите, не знаю.
Почти столь же неопределенен был и ответ студента относительно цвета автомобиля:
— Не знаю. Это была, пожалуй, чёрная машина, более определённо не заметил.
И от этого второго свидетеля следователь не добился ничего путного и ухватился за последнюю предполагаемую возможность поймать злополучный автомобиль, допросив поэта Ярослава Нерада, который на рассвете, вместе с допрошенным уже студентом, был свидетелем происшествия.
Но вызванный в полицию поэт объяснялся весьма невразумительно и на вопрос следователя, не припомнит ли он каких-либо подробностей события, отвечал откровенно:
— Куда там. Я вообще не обращал внимания на подробности.
— Скажите пожалуйста, — заметил иронически доктор Мейзлик, — на что же вы вообще обратили внимание?
— На общее настроение, — ответил неопределённо поэт. — Представьте себе: пустая улица... такая длинная на рассвете... и женщина лежит там...
Вдруг он спохватился:
— Да ведь я об этом кое-что написал, придя домой... Поэт стал усиленно шарить по карманам и наконец на краю какого-то конверта обнаружил написанное под впечатлением уличного происшествия стихотворение, которое, по просьбе следователя, «выкатив вдохновенные глаза и напевно растягивая долгие слова, стал декламировать»:
Марш тёмных зданий, раз, два. О рота, стой! Зорька и мандолин игра. Дева, ты так зачем красна? Поедем гоночным 120 HP на света край, Хоть в Сингапур, стой, стой! Авто летит, Любви великой труп в пыли лежит. Дева, о сломленный бутон! И шея лебедя И груди, Литавры, Барабан... Зачем так много слёз?..Выслушав поэта, ошарашенный следователь воскликнул:
— Помилуйте, что же это должно означать?
— Это и есть несчастный случай с автомобилем, — недоумевал поэт. — Разве непонятно?
Следователь Мейзлик возразил:
— Я думаю, что нет. Я из этого затрудняюсь понять, что в ночь на пятнадцатое июня, в четыре часа утра, на Житной улице автомобиль номер такой-то переехал пьяную нищенку...
— Ну, это всё лишь внешняя действительность, — ответил поэт, дёргая себя за нос. — А стихотворение — это действительность внутренняя.
Следователь продолжал не соглашаться с поэтом, тем не менее добросовестно принялся разбираться в непонятном для него свидетельстве.
— Дайте-ка мне ваш опус, — обратился он к поэту. — Спасибо. Ну, так вот... Гм. «Марш тёмных зданий, раз, два. О рота, стой!» Пожалуйста, объясните это.
— Это Житная улица, — ответил невозмутимо поэт. — Понимаете ли, такие две шеренги домов.
— А почему бы этим не мог быть, например, Народный проспект?
— Потому, что он не такой прямой, — гласил убедительный ответ.
— Ладно, дальше: «Зорька и мандолин игра», — допустим. «Дева, ты так зачем красна?» Откуда взялась эта девчонка?
— Заря, — ответил лаконически поэт.
— Ага, простите... «Поедем гоночным 120 HP на света край». Ну?
— Ну вот проехал этот самый автомобиль, — объяснил поэт.
— В сто двадцать сил?
— Не знаю. Это просто обозначает, что он быстро ехал, — как если бы хотел улететь на край света.
— Ах так! «Хоть в Сингапур»? Ради бога, почему же именно в Сингапур?
Поэт пожал плечами:
— Уж и не знаю. Пожалуй, питому, что там живут малайцы.
— А какое отношение этот автомобиль имеет к малайцам? А?
Поэт вертелся в затруднении.
— Возможно, что эта машина была коричневая. Вы не думаете? — сказал он задумчиво.
Следователь продолжал свои аналитические изыскания.
— «Любви великой труп в пыли лежит. Дева, о сломленный бутон!» — читал далее доктор Мейзлик, — «сломленный бутон» — это и есть пьяная нищенка?
— Не стану же я писать о пьяной нищенке, — возразил задетый поэт, — это просто была женщина, понимаете?
— Ага... ну, а это что: «И шея лебедя и груди, литавры, барабан». Это тоже вольные ассоциации?
— Покажите, — сказал озадаченный поэт и склонился над бумагой. — «И шея лебедя и груди, литавры...», что бы это могло быть?
— Об этом я и спрашиваю, — ворчал доктор Мейзлик с оттенком язвительности.
— Погодите, — обдумывал поэт, — несомненно, было что-то напомнившее мне... Послушайте, вам никогда не казалось, что двойка похожа на шею лебедя. Смотрите. — И он написал карандашом «2».
— Ага! — сказал доктор Мейзлик — весь внимание. — Ну а груди что?
— Да это ведь «3» — две округлости, не так ли? — удивлялся сам поэт.
— Ещё у вас — «литавры и барабан», — напряжённо воскликнул полицейский чиновник.
— «Литавры и барабан», — размышлял поэт, — «литавры и барабан»... это, пожалуй, могла быть пятёрка. Не так ли? Смотрите, — сказал он и написал цифру «5». — Вот брюшко — это вроде барабана, а над ним литавры.
— Постойте, — сказал доктор Мейзлик и записал на бумажке «235». — Вы уверены, что у автомобиля был номер двести тридцать пять?
— Я вообще не заметил никаких цифр, — заявил решительно Ярослав Нерад. — Но что-то там должно было быть. Откуда бы это иначе взялось? — продолжал он удивляться.
Рассказ кончается тем, что через два дня следователь Мейзлик сам явился к поэту на дом, объявив: «... я пришёл лишь сказать вам, что это был в самом деле автомобиль № 235».
Я приношу извинения за довольно обширные цитаты, но, честное слово, я не мог поступить иначе. Вся суть рассказа в этом скрупулёзном анализе стихотворения поэта Ярослава Нерада следователем Мейзликом, и, не процитировав в должном объёме этот разбор, я, в сущности говоря, не сообщил бы ничего, что дало бы вам представление о рассказе. Между тем он в высокой степени примечателен.
Чем же он примечателен? Попробуем разобраться в этом. «Поэт» Карела Чапека — рассказ юмористический. Это рассказ-шутка, рассказ-улыбка. И несмотря на это, он и значителен и интересен по заложенной в нём основной мысли: «внутренняя действительность» стихов есть отражение «внешней действительности»; иными словами, реальный мир и реальные соотношения в той или иной мере отражаются в каждом художественном произведении, если создатель его в достаточной мере чуток и способен аккумулировать впечатления, полученные от соприкосновения с внешним миром. Если мы иной раз и не замечаем этих взаимосвязей внешнего и внутреннего, отражённых в личности поэта, то лишь потому, что недостаточно явны эти связи, а мы недостаточно вникаем в поэтический шифр, таящий иной раз весьма сложные ассоциативные и образные загадки.
Стихи свидетельствуют действительное. Стихи свидетельствуют живую жизнь, всю её многособытнйность, всю её историческую ретроспекцию и перспективу, всю её сложную сложность. Недаром же, выявляя и утверждая живую связь поэзии и жизни, Белинский назвал «Евгения Онегина» «энциклопедией русской жизни».
К случаю хочу напомнить одно замечание Белинского, куда менее известное, чем только что приведённое, хотя оно касается той же великой пушкинской поэмы и столь же значительно и умно, как и приведённое.
Анализируя «Евгения Онегина» в своей «Критической истории русской литературы», Белинский сказал: «... самые недостатки «Онегина» суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом — «старое»; но разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить, действительность известного мгновения из жизни общества? Если б в «Онегине» ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, — это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней изображено не действительно существовавшее, а воображаемое общество».
Тонкое и глубокое замечание, утверждающее связи литературы с жизненной конкретностью, неразрывность образа с прообразом.
Карел Чапек эту универсальную закономерность иллюстрирует, так сказать, на микроучастке, но от этого иллюстрация его не теряет в своей убедительности.
О портретах и портретистах
Чей же это портрет?
Портрет персонажа, особенно если это персонаж первого плана, персонаж главенствующий в данном произведении, — одна из трудных и сложных проблем писательского дела, писательского искусства и писательского ремесла. Уже по одному этому, хотя и не только по одному этому, стоит повнимательней присмотреться к тому, как различные мастера слова черта за чертой вырисовывают этот портрет, в каких своих чертах он особенно нужен и важен автору, в каких выражает идею произведения и характеризует самого автора.
Для начала познакомимся с общеизвестным «Портретом Дориана Грея» Оскара Уайльда, во многих отношениях весьма примечательного и для нашего задания весьма интересного.
Поскольку почти всё, что происходит в романе Уайльда, разыгрывается в аристократических салонах Англии прошлого столетия, то прежде всего заглянем в один из них, в котором ведут изысканную беседу, напоминающую, урок фехтования, герцогиня Глэдис Монмоут, лорд Генри Уоттон и центральный персонаж повествования Дориан Грей.
Беседу начинает лорд Генри, который, подойдя к герцогине и Дориану, объявляет о своей идее «заново окрестить все вещи».
« — Это печальная истина, но мы утратили способность давать вещам красивые названия. Название — это всё. Я никогда не спорю о поступках. Я только спорю против слов. Вот почему я ненавижу реализм в литературе. Человек, называющий лопату лопатой, должен быть обречён всю жизнь работать ею. Это единственное, на что он годится.
— В таком случае, какое же имя мы должны дать вам, Гарри? — спросила герцогиня.
— Его имя — Принц Парадокс, — сказал Дориан.
— Вот это подходящее имя! — воскликнула герцогиня.
— Я и слышать об этом не желаю, — засмеялся лорд Генри, опускаясь в кресло. — От ярлыка нет спасения нигде. Я отказываюсь от титула.
— Короли не вправе отрекаться, — сорвалось, как предостережение, с прекрасных уст.
— Вы хотите, чтобы я защищал свой трон?
— Да.
— Я не говорю парадоксов, я предрекаю грядущие истины.
— По-моему, современные заблуждения лучше, — отозвалась она.
— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — воскликнул он, заражаясь её своенравным настроением.
— Я отнимаю у вас щит, Гарри, но не ваше копьё.
— Я никогда не сражаюсь с красотой, — проговорил он, делая лёгкое движение рукой.
— В этом ваша ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы слишком высоко цените красоту!
— Как вы можете это говорить! Правда, я допускаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, по-моему, лучше уж быть добродетельным, чем некрасивым.
— Так, значит, уродство — один из семи смертных грехов! — воскликнула герцогиня. — Куда же делось ваше сравнение с орхидеей?
— Уродство — одна из семи смертных добродетелей».
Словесно-фехтовальный поединок между герцогиней Монмоут и лордом Генри внезапно и прихотливо меняет свою направленность. Заговорили об Англии. Герцогиня утверждает:
« — Она ещё может развиваться.
— Упадок меня больше привлекает.
— Ну а искусство? — спросила она.
— Оно — болезнь.
— А любовь?
— Иллюзия.
— А религия?
— Модная замена веры.
— Вы — скептик.
— Никогда! Скептицизм — начало веры.
— Что же вы такое?
— Определить — значит ограничить.
— Дайте мне хоть нить.
— Нити всегда обрываются. Вы бы заблудились в лабиринте.
— Вы меня пугаете, поговорим о чём-нибудь другом».
Снова прихотливый извив, и разговор соскальзывает на дамские шляпки. Герцогиня говорит, что все хорошие шляпки делаются из ничего.
« — Как и все хорошие репутации, Глэдис, — вставил лорд Генри. — Каждый успех в обществе порождает врага. Надо быть посредственностью, чтобы заслужить популярность...»
Я прошу извинить меня за длинную цитату. Но, увы, она необходима, ибо без неё вы не получили бы представления об атмосфере романа. А теперь вы, по крайней мере, вспомнили хотя бы отчасти, в какой обстановке живут и действуют персонажи «Портрета Дориана Грея».
Что касается главного героя, этот милый, обаятельный, изысканный, прелестный, вечно юный красавец Дориан Грей, покоряющий всех окружающих своей пленительной привлекательностью, своим изяществом, тактом, аристократизмом, на самом деле предаётся втайне самым мерзким порокам, переодевшись в платье простолюдина, посещает самые гнусные притоны, курит гашиш. Ведя двойную жизнь, он обманывает и своих друзей, и своих слуг, и своих врагов. Чтобы скрыть одно из своих чёрных дел, он выгоняет из дому слугу, который верой и правдой прослужил в доме десятки лет.
Он предаёт на каждом шагу своих друзей, развращает самых молодых из них, доводит двоих из них до самоубийства. Так же доводит он до самоубийства и страстно любящую его актрису Сибиллу Вэн, а позже бесстыдно обманывает её брата, которого вслед за тем во время охоты в поместье Дориана убивают.
При виде трупа этого человека, которого Дориан погубил, как погубил его сестру, «крик радости сорвался с его губ».
К слову сказать, в объяснении с Сибиллой Вэи, предшествовавшем её самоубийству, Дориан показал самое мерзкое бездушие — холодное, эгоистичное, безапелляционное, высокомерное.
Впрочем, это ещё далеко не последняя мерзость, на какую способен обаятельный красавец Дориан. Он совершает дела и похуже: собственноручно убивает своего друга — художника Бэзила Холлуорда, который обожал его и который написал блестящий его портрет.
Нанеся другу смертельный удар ножом в шею, Дориан затем в ярости буквально исколол труп тем же ножом. Совершив своё подлое и зверское убийство, Дориан хитроумно обставляет дело так, чтобы его, Дориана, никак не могли заподозрить в преступлении.
Он с холодной расчётливостью заметает следы своего преступления, а затем идёт к себе в спальню, ложится в свою изящную, роскошную, душистую постель и спокойно засыпает. А назавтра он приглашает запиской своего давнего товарища Алана Кэмпбелла, который занимается химией и анатомией, дожидаясь его, читает «Нежные стансы о Венеции» Готье, а дождавшись, шантажирует Алана и заставляет уничтожить мертвеца. Вскоре Кэмпбелл, не выдержав угрызений совести, кончает жизнь самоубийством, но это нимало не смущает Дориана, а, напротив, радует, так как последний свидетель убийства устранён.
Совершая свои пакостные дела, Дориан после каждого из них поглядывает в зеркало (конечно, в изящной рамке из слоновой кости и искусной ювелирной работы). При этом он убеждается, что ни время, ни совершаемые им подлые дела не накладывают никаких уличающих примет, не оставляют никаких следов на его лице, которое остаётся всё таким же прекрасным, чистым, безмятежно спокойным, гармоничным и молодым. Годы идут, и Дориану уже тридцать восемь, а он выглядит всё тем же восемнадцатилетним непорочным юношей, каким был двадцать лет назад, когда позировал, убитому им другу своему — художнику Бэзилу Холлуорду.
Но те следы его преступлений, те перемены, которые накладывает на лицо человеческое время, ничего не изменяя в лице и фигуре живого Дориана Грея, изменяют в силу неведомого волшебства портрет его.
Лицо на портрете постепенно стареет, в углах рта ложатся складки жестокости, глаза тускнеют. Весь облик портрета свидетельствует о. тех мерзостях, какие гнездятся в душе Дориана, в его натуре. С каждой новой подлостью, какую совершает живой Дориан, его портрет становится всё более отталкивающим и всё более обличает живого Дориана в его грязи и подлости. Уже и на руках портрета проступает кровь, которую пролил убийца Бэзила Холлуорда и других. Портрет становится грозным обличителем. И если на первых порах Дориан ограничивается тем, что прячет портрет в отдалённой пустой комнате, бывшей своей детской, ключ от которой всегда носит с собой, то в конце концов Дориан решается ещё на одно убийство. Он решает убить своего обличителя, свидетельствующего о его чёрных тайных делах, решает убить... портрет, уничтожить его, как уничтожил художника, напасавшего его. Однажды, прокравшись в тайное убежище, где находился портрет, и стоя перед ним, он увидел лежащий рядом на столе нож, тот самый нож, который он вонзил в тело художника... Дориан хватает нож и кидается с ним на портрет, чтобы искромсать, изрезать его, а потом уничтожить лоскутья изрезанного полотна...
Подробностей того, что происходит дальше, мы не знаем и никогда не узнаем тайн волшебства, обратившего жизнь человека на его портрет. Знаем мы только конечный результат происшедшего. Когда, разбуженные страшным криком в верхнем этаже, где находилась таинственная комната, слуги сбежались к её дверям, а позже с помощью вызванного полисмена взломали дверь и вошли внутрь, «они увидели на стене великолепный портрет своего господина, каким они видели его в последний раз, во всём сиянии его дивной юности и красоты. А на полу, во фраке, лежал какой-то мертвец, и в сердце у него был нож. Его лицо было сморщенное, увядшее, гадкое. И только по кольцам у него на руках слуги узнали его».
Итак, вы, как я вправе предположить, более или менее основательно познакомились и с Дорианом Греем и с его портретом.
Но и этим вопрос о портретах; ещё не исчерпан, и, в сущности говоря, следует говорить о двух портретах в одном «Портрете Дориана Грея»: о портрете Дориана и... о портрете Уайльда, ибо сам Уайльд, на мой взгляд, глядит настолько явственно с «Портрета Дориана Грея», что сомнений в том, что перед нами два портрета, быть, как мне кажется, не может. Но портрет Уайльда — это уже особый разговор, и я оставлю его до следующей главы.
Ростовщик и антихрист
«Портрет» Гоголя — произведение примечательнейшее. Может быть, и даже наверное, эта повесть не так высока и не так сильна, как, скажем, «Мёртвые души» или «Ревизор», не так оживлённа, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», не так густо колоритна и живописна, как «Тарас Бульба», но она по-своему очень примечательна и для меня сейчас особенно интересна во многих отношениях.
Многозначность — верное свидетельство значимости произведения. Гоголевский «Портрет» — не только портрет модели, какую имел перед своими глазами художник, но и портрет самого художника, создателя этого портрета.
Тут очень кстати будет вернуться к тому, чем я кончил предыдущую главу, в которой утверждал, что уайльдовский «Портрет Дориана Грея» есть одновременно и автопортрет самого Уайльда.
Уайльд, пожалуй, и не скрывал этого. Самораскрытие Уайльда, автопортретная тенденция «Дориана Грея» начинаются даже прежде начала самого романа. Первая фраза предисловия, предпосланного Уайльдом своему роману, гласит: «Художник — это тот, кто создаёт красивые вещи». Венчается предисловие столь же знаменательной, категорической, постулатной, законополагающей, программной фразой: «Всё искусство совершенно бесполезно».
Эту авторскую мысль повторяет один из основных героев «Портрета Дориана Грея» — лорд Генри Уоттон, утверждающий с изящной и нарочито эффектированной непринуждённостью: «Искусство восхитительно бесплодно».
Перекличка, между автором и его героем идёт на протяжении всего романа, и если в предисловии Уайльд говорит, что в искусстве «в отношении чувства первообразом является лицедейство актёра», то лорд Генри, вслед за автором, говорит о романе, что «театр гораздо правдоподобнее жизни».
Уайльд утверждает в предисловии: «Для избранных прекрасные вещи исключительно означают красоту» или: «Ни единый художник не желает что-либо доказывать»; «Нет ни нравственных, ни безнравственных книг. Есть книги хорошо написанные, и есть книги, плохо написанные. Только».
Это безапелляционное авторское «только» подхватывает и, бесконечно варьируя, повторяет лорд Генри: «Красота, настоящая красота кончается там, где начинается одухотворённость»; «Такой вещи, как хорошее влияние, вообще не существует. Всякое влияние безнравственно»; «Хорошие манеры важнее нравственности» (сравните с высказыванием самого Уайльда: «Тщательно выбранная бутоньерка эффектнее чистоты и невинности»); «У опыта не было никакой этической ценности»; «Горю я сочувствовать не могу. Оно слишком некрасиво» (сравните отношение Уайльда к Полю Верлену, стихи которого Уайльд очень любил, но, увидев при личном знакомстве, что Верден некрасив и бедно одет, прекратил общение с ним); «Форма для искусства — безусловно главное»; «Я никогда не спорю о поступках. Я только спорю против слов. Вот почему я ненавижу реализм в литературе».
Итак, позиции и автора «Дориана Грея» и его героев совпадают, и совершенно очевидно, что «Портрет Дориана Грея» в известной, и очень большой, степени является одновременно и автопортретом писателя, его создавшего.
А теперь возвратимся к «Портрету» Гоголя. Как было уже сказано, это произведение примечательное и многозначное. Эта повесть одновременно и фантастична и реалистична, что не редкость в художническом обиходе Гоголя. Реальное и фантастическое всё время переплетаются и взаимно проникают друг в друга.
Молодой петербургский художник Чертков, раскопав среди хлама в Щукином дворе портрет какого-то старика, задрапированного в широкий азиатский костюм, покупает его.
«Портрет, казалось, был незакончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и всё тщание своё художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью».
Усталый, голодный, насилу дотащился художник со своей покупкой к себе на Пятнадцатую линию Васильевского острова, где находилась его мастерская. Свету не было, и еды также, так как последний двугривенный ушёл на покупку портрета старика.
Пришлось улечься спать на голодный желудок. Перед сном Чертков протёр мокрой губкой купленный им портрет старика. Грязь сошла с него, и поразившие своей пронзительностью глаза стали ещё более пронзительными и вызывали какое-то болезненно-неприятное чувство. «Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета; это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда».
Взгляд этих необыкновенно живых глаз преследует Черткова, не даёт ему долго заснуть за своей ширмой в углу мастерской. Глаза старика глядят в щели ширмы, а среди ночи за ширму к Черткову является и сам старик, вылезший из портретной рамы.
Весь похолодев, молодой художник следит за тем, как старик вытаскивает из-под сзоего азиатского бурнуса завёрнутые в бумагу столбики червонцев и, рассыпав их по полу, начинает пересчитызать. Уходя обратно в свою раму, старик оставляет забытый бумажный свёрточек, на котором написано: «1000 червонцев». Чертков хватает свёрток, прячет под одеяло и... просыпается.
Увы, деньги могут только сниться молодому безвестному художнику. На ночь он не мог даже зажечь свечи — не на что было купить её. А утром является домовладелец, у которого Чертков снимает помещение для мастерской, и, грозя выселением, требует заплатить за квартиру, чего Чертков был уже не в состоянии сделать много месяцев. Хозяина сопровождает квартальный, который угрожает тем, что за долг опишет всё имущество художника, все его картины. Примеряясь к картинам и осматривая их, квартальный грубо хватает портрет старика за край рамы. Рама трескается, и из открывшегося внезапно тайничка внутри рамы выпадает на пол бумажный свёрток с тысячью червонцами...
С этой минуты всё в жизни бедного художника резко меняется. Внезапно разбогатев, он начинает жить на широкую ногу, снимает для своей мастерской роскошное помещение на Невском проспекте, одевается у лучших портных, обедает в лучших ресторанах, подкупает журналиста, который печатает в газете хвалебно-рекламную статью о нём.
В мастерской Черткова один за другим появляются знатные, богатые заказчики, портреты которых он пишет. Мало-помалу Чертков становится модным художником. Все аристократы, все крупные чиновники, все тузы хотят иметь свои портреты, сделанные знаменитым, прославленным художником. Чертков завален заказами. Он быстро богатеет.
Слава кружит ему голову, богатство черствит душу. Чертков меняется, становится надутым, заносчивым, самонадеянным и самовлюблённым. Талант растрачен по мелочам, потерян безвозвратно. Чертков малюет механически, заученными приёмами, заказанные портреты и загребает деньги.
Утратив талант, он становится ревнивым к таланту других, поносит картины и художников, которые оригинальны и талантливы, и в конце концов доходит до того, что скупает самобытные и яркие полотна, какие являются на выставках, и, притащив к себе домой, тайком режет, рвёт, уничтожает их.
Когда он умирает, то в его квартире находят обрывки и лоскутья всех известных и талантливых картин последних лет.
Перед смертью Черткову чудятся страшные глаза старика, с червонцев которого началось падение честного, талантливого художника и превращение его в бездарного ревнивца и врага всего талантливого.
На аукционе, устроенном после смерти Черткова, собравшиеся на его квартире скупщики картин и художники обнаруживают портрет страшного старика и из-за него начинается ожесточённый торг, который прерывает неизвестный человек, громко проговоривший: «Позвольте мне прекратить на время ваш спор; я, может быть, более, чем всякий другой, имею право на этот портрет».
Неизвестный рассказывает историю своего отца-художника, написавшего этот удивительный и роковой портрет, который, как явствует из последующего рассказа неизвестного, приносил горе, несчастье, беды и гибель всем, кто с ним соприкасался.
Портрет писан с петербургского ростовщика, который жил на глухой окраине столицы, в Коломне, и известен был своим лихоимством, бессердечностью и несметными богатствами.
Откуда появился в русской столице этот страшный человек, никто не знал. Он походил на грека или перса, был смугл кожей, и глаза его горели каким-то сатанинским огнём.
Старый ростовщик жил замкнуто, глухо, ни с кем не общался и ссужал своим клиентам безотказно любые суммы, но драл при этом с них бешеные, грабительские проценты и был беспощаден во взыскании этих процентов и ссуженных им денег.
Было замечено и страшное, роковое, губительное влияние, оказываемое его деньгами и его личностью.
Однажды этот ростовщик, видимо чувствуя свою скорую кончину, явился к отцу рассказчика — отличному художнику-иконописцу — с настоятельным требованием: «Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?»
Художник, который расписывал церковь и которому в одной композиции нужно было изобразить злого духа, подумал, выслушав просьбу ростовщика: «Чего лучше? Он сам просится в дьяволы ко мне в картину».
Он взялся писать портрет этого страшного человека, но не успел его кончить, так как ростовщик внезапно умер. Во время последнего сеанса, когда художник писал необыкновенные глаза ростовщика, «ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах страшный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от этого зависит судьба его и существование в мире; что уже он тронул своею кистью его живые черты; что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете; что он через то не умрёт совершенно; что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти, и палитру и кинулся опрометью вон из комнаты».
Портрет так и не был закончен. Он остался у ростовщика, который, умирая, прислал его художнику. Вместе с ужасным портретом в дом художника вошли горе и роковые неурядицы. Один за другим умирают сын художника, дочь и жена, а кисть самого художника точно заворожила какая-то злая сила. На всех изображениях святых он рисует страшные дьявольские глаза, какие глядели с портрета ростовщика.
В конце концов художник не выдержал и, потрясённый всеми бедами, свалившимися на него, постригся в монахи. В дальнем монастыре он стал подвижником из подвижников. Много лет спустя его сын, ставший тоже художником (он и есть рассказчик на аукционе), посетил отца в его дальнем, монастыре, и в беседе с сыном старый монах-художник сказал: «Есть одно происшествие в моей жизни. Доныне я не могу понять, кто был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нём; но скажу только, что я с отвращением писал его: я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив всё, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатления, зарождая в художнике чувства зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится».
Итак, мы добрались сквозь дебри полуфантастического сюжета «Портрета» до ведущей его идеи. Речь идёт о художнике, его назначение, его личности, неразрывной связи его творчества с его личностью, о необходимости требования от художника высокой душевной чистоты, высоких устремлений.
Что касается старика и всякой дьявольщины, с ним связанной, это уж вопрос авторских склонностей и вкусов, приведших к выбору именно такого материала для воплощения своей идеи. Может быть, автору именно в такой контрастности с чистотой и святостью художника понадобились коварство, злоба и сатанинские соблазны, которые скрыто живут в душе художника, пишущего даже чистейшую чистоту? Что ж. Это право автора — выбирать именно такую интерпретацию, такое толкование и такое воплощение своей интересной идеи. Важно тут соблюсти меру этого дьявольского наваждения, по перехлестнуть границы, за которой символика и фантастика вместо гида в мире образного и помощника читателя обратятся в тормоз, мешающий пониманиям и добрым проникновениям в материал.
Что подобного рода опасность подстерегала Гоголя на избранном им пути, свидетельствует первый вариант «Портрета», опубликованный в «Арабесках» в тысяча восемьсот тридцать четвёртом году, то есть восемью годами раньше второго варианта. Восемь лет не пропали для автора даром. Возмужало перо, возмужали и ум и сердце. К примеру, во втором варианте «Портрета.» уже нет антихриста, какой был в первом.
Да, в первом варианте антихрист всерьёз существовал в повести, и реальным воплощением его на земле был ростовщик, изображённый на портрете. Для того чтобы уничтожить антихриста, надо было по завету пречистой девы, явленной монаху-художнику во сне, «торжественно объявить его историю по истечении пятидесяти лет в первое полнолуние». Тогда сила антихриста «погаснет и рассеется яко прах».
Рассказчик на аукционе обнародовал историю портрета именно в новолуние пятьдесят лет спустя, и роковой портрет на глазах у многочисленных зрителей исчез с полотна и превратился в «какой-то незначащий пейзаж».
Всю эту неинтересную канитель с превращением портрета в пейзаж и исчезновением антихриста Гоголь, к счастью для его репутации и к удовольствию читателя, изъял из повести. Во втором варианте от этого не осталось ничего, и дьявольское начало умерено до должной и допустимой степени.
Об исчезнувшем антихристе как об элементе автопортретности Гоголя в его «Портрете» я скажу ещё немного в следующей главе, а пока — хватит с нас чудес.
Луини, Грёз и другие
В предыдущих главах я говорил мельком о том, что «портреты» и уайльдовские и гоголевские есть одновременно и автопортреты авторов, хотя понимать это прямо и однозначно не следует. Об этом следует говорить не мимоходом, а основательней и подробней, ибо автобиографичность созданий авторских столь же важна, сколь и сложна. Попробуем несколько разобраться в этом многосложном обстоятельстве. Начнём с того, как смотрят сами творцы портретов на возможность и желанность автобиографических черт? Признают ли они конкретно жизненную связь своих произведений и своих героев с ними самими?
Помните, знаменитое и поистине блистательное лирическое отступление, открывающее седьмую главу первого тома «Мёртвых душ?» Помните, как энергически протестует писатель против того, что «современный суд», рассуживая писателя с персонажами его произведений, «придаёт ему качества им же изображённых героев»?
Автор не желает быть смешанным с изображёнными им героями, которые являют собой, по воле автора, «всю глубину холодных, раздроблённых, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога», идя которой, верный правде жизни, автор «крепкою силой неумолимого резца дерзнул выставить их выпукло и ярко на всенародные очи».
Он, автор, как будто недвусмысленно сетует на то, что критика смешивает автора с его героями, ибо это, видимо, крайне нежелательно ему... Но несколькими строками ниже тот же автор признаёт сам: «И долго ещё определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громаднонесущуюся жизнь, озирать её сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слёзы!»
Позиция автора явно противоречива: с одной стороны, он протестует против того, чтобы его ставили в один ряд с его героями, с другой стороны, он сам, своей волей и желанием, становится с ними в ряд и идёт «об руку» с ними через «громаднонесущуюся жизнь».
Странное противоречие — не правда ли? Противоречие налицо — это так, но оно, я бы сказал, ничуть не странно, а напротив, весьма обычно и для авторов и для героев.
Вот, к примеру, один из героев «Портрета Дориана Грея», романа, о котором я много уже говорил, а именно — художник Бэзил Холлуорд, говорит, обращаясь к Генри Уоттону: «Каждый портрет, написанный с чувством, есть в сущности портрет художника, а отнюдь не, его модели. Модель — это просто случайность. Не её раскрывает на полотне художник, а скорее самого себя».
Очень определённая, ясная и чёткая позиция — не так ли? Да, очень определённая и очень чёткая, что не мешает, однако, шестью страницами ниже тому же Холлуорду в разговоре с тем же лордом Генри заявить, что; «художник должен создавать прекрасные произведения, но не должен в них вкладывать ни частицы своей личной жизни».
Позже Бэзил Холлуорд высказывается ещё определённей и резче: «Искусство гораздо больше скрывает художника, чем его обнаруживает».
Опять противоречие, и опять вопиющее: с одной стороны, всякий портрет есть портрет художника, с другой стороны, произведение искусства больше скрывает, чем обнаруживает, художника.
Несколько иную позицию, чем Гоголь, занимает по отношению к своим героям Пушкин. Он неизменно привержен своим героям и постоянно говорит об этой приверженности, о сочувствии своём к ним: «Простите мне, Я так люблю Татьяну милую мою». «Мария, бедная Мария», «Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя». Много добрых слов сказано Пушкиным о главном герое «Станционного смотрителя» Самсоне Вырине. Известен собственноручный рисунок Пушкина, на котором он изобразил себя стоящим у парапета на набережной Невы рядом с Евгением Онегиным.
Но вместе с тем Пушкин восстал, когда его отождествляли с Онегиным.
Опять противоречие и снова противоречия? Да, и снова нет в этом ничего необычного, ничего неестественного. Любовь и склонность, приверженность к своим персонажам и схожесть с ними — всё имеет свои границы, свои градации, свои степени. Какими-то чертами характера, какими-то элементами воспитания и Пушкин мог походить и походил на Онегина. Эту общность метопов воспитания утверждал и сам Пушкин, когда, рассказывая о том, как воспитывался и образовывался Онегин, говорил: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитаньем, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был...» и так далее. Как видите, Пушкин, рассказывая о воспитании, полученном Онегиным, говорит: «Мы» учились понемногу, объединяя в этом «мы» себя со своим героем и с другими современниками.
Утверждение авторами своих сходственных черт с чертами героя не должно ни удивлять, ни тем более поражать. Это естественно и не может быть иначе. Литературные дети должны походить какими-то чертами на своих создателей точно так же, как дети в жизни физически и нравственно походят на своих родителей. У львов рождаются львята, у кошек котята, у волков волчата, а у зайцев — зайчата. То же, хотя и не в такой мере полноты и обязательности, происходит и с родами в искусстве. Головки Грёза не могли быть написаны Луини, и ни у того, ни у другого не встретите женского лица, которое вы можете видеть на сотне картин Рубенса. Каждый привержен своему. У каждого художника своё понимание прекрасного, свой глаз, свой навык руки, свой слух, свой характер; частицы всего этого автор с неотвратимой фатальностью передаёт своим героям, персонажам своих произведений.
А если автор не всегда склонен признавать своих детей и общность с ними, а случается, и резко отрекается от них — что ж, это ведь дело поведенческое, иногда дело минуты или настроения, а иногда и акт политический. Следует заметить, что художник ещё в силу особых законов творчества, которые, случается, выше его, может работать и против себя и своих воззрений, как было с Бальзаком, на что в своё время указал Фридрих Энгельс, говоря, что Бальзак иной раз идёт «против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков».
Пуповина между автором и его творением всегда существует, хотя она иногда перерезается прежде того момента, когда мы это можем заметить.
Впрочем, случается, что автор вовсе и не хочет скрывать своего родства с героем. Флобер, например, прямо говорил: «Госпожа Бовари — это я». Ему вторит Сезанн: «Я и моё полотно — мы одно целое». Сент-Экзюпери утверждает: «Ищите меня в том, что я пишу».
Гёте говорит о том же в более общей и объемлющей многое и многих формулировке: «Творение художника — это он сам. Каждое из них — его автопортрет в том или ином ракурсе. Тут уж не скроешься. Можно вслух высказывать какие угодно мысли, можно обмануть отдельных людей, но в произведениях искусства, независимо от воли автора, остаётся его душа. Книги Шиллера — это сам Шиллер. А Вольтер? Так и видишь его язвительную усмешку. А Сервантес? Разве это не сам Алонзо? Добрый, помогающий беднякам тёплым словом и делом».
К этому высказыванию Гёте можно бы прибавить множество дополняющих его соображений и к именам Шиллера, Вольтера и Сервантеса прибавить множество других имён. Но я назову ещё только одно, которое, полагаю, будет весьма доказательным. Имя это — Максим Горький.
Ни одна из книг Максима Горького не была бы написана, если бы до того Алексей Пешков не исходил Россию вдоль и поперёк своими неустанными ногами, если бы он не пережил и не перечувствовал всего того, что выпало на его долю. Биография писателя, как и биография каждого художника, входит главной составляющей в личность его, а биография и личность вместе с характером и талантом — в произведения его. Это так, и не может быть иначе. Из ничего нельзя сделать что-то. Только то, что полнит автора, полнит и его произведения.
На мой взгляд, это вне всяких сомнений. Но при всём том не следует этот постулат обязательности отражения личности художника в его произведении понимать с излишней прямотой и излишней полнотой. Всегда следует учитывать слова Гёте о том, что произведение художника есть автопортрет его «в том или ином ракурсе».
Это «в том или ином ракурсе» накладывает необходимые ограничения на наши суждения об автопортретности художника в данном произведении. Каждое конкретное произведение имеет в этом смысле свои автопортретные границы, которые диктуются известным «ракурсом» автопортретности. Не в каждом своём произведении художник отражён полностью, не в каждом исчерпывающим образом автопортретен. Напротив, ни в одном отдельно взятом произведении художник не может выразить, рассказать, написать себя полностью. В каждом из них — лишь какой-то доминирующий в данном случае «ракурс», лишь некоторые черты личности автора; полностью же выражен и нарисован автор лишь во всём своём творчестве, взятом в целом.
Пером и кистью
Эту небольшую главу я начинаю с милого моему сердцу предмета — с Пушкина. Правда, на этот раз речь пойдёт не о его стихах, не о его прозе или драматургии, а о Пушкине — художнике в узком смысле этого слова, о рисунках его. Рисунков этих очень много, что-то около двух тысяч. Несмотря на такое обилие рисунков, несмотря на то что они сопровождают, как аккомпанемент, всё мало-мальски значительные произведения поэта, этот род творчества Пушкина долгое время как-то всерьёз не принимался, и только спустя почта сто лет после создания их, уже в нашу, советскую эпоху начали наконец приглядываться к пушкинским рисункам, в изобилии рассеянным по полям рукописей поэта. Художник Николай Кузьмин, чьи превосходные иллюстрации к «Евгению Онегину» так напоминают по манере рисунки самого Пушкина, пишет в рецензии на недавно вышедшую книгу Т. Цявловской «Рисунки поэта»: «Я, кажется, не ошибусь, если назову первой серьёзной заявкой на рисунки поэта как на особую область пушкиноведения статью А. М. Эфроса в № 2 «Русского современника» за 1924 год. Не случайно, что их биографическую, иконографическую, а главное — художественную ценность выявил не литературовед, а художественный критик, почувствовавший их графическое своеобразие. Он установил, что особая ценность графики пушкинских рукописей в том, что „это дневник в образах, зрительный комментарий Пушкина к самому себе, особая запись мыслей и чувств, своеобразный отчёт о людях и событиях"». Сама Цявловская начинает свою книгу словами: «Рисовать было живейшей потребностью Пушкина. И хотя эта область искусства была для него любительством, но любитель этот был гений».
А вот последний абзац этой вводной главы:
«Как далеки рисунки Пушкина от современной ему графики!
Стремительность рисунка Пушкина, крайняя лаконичность его, обобщающий взгляд художника, отбирающий в предмете лишь самое важное, — все эти органические черты пушкинской графики роднят его изобразительное искусство с эстетикой нашего века. Рядом с рисунками Пушкина мы видим безупречную чистоту линий Матисса, горячий темп рисунков Пикассо.
Внезапным скачком в следующее столетие представляется рисунок Пушкина. Эта особенность его графики присуща только искусству гениев».
Обе приведённые мной цитаты из Цявловской заканчиваются словом «гений». Я не думаю, что действительно необходимо соотносить этот высочайший эпитет с рисунками Пушкина. Их значимость не идёт ни в какое сравнение со значимостью литературного наследия поэта. Но они неразрывно связаны с пушкинскими стихами и прозой и являются органической частью его творчества и его личности. Это очень важный комментарий к пушкинским поэмам и лирике, комментарий ко всей жизни поэта, очень гармоничный аккомпанемент к мелодии его стиха.
Кроме того, рисунки эти поистине превосходны и поистине пушкинские. Их лёгкость, изящество, линейная чёткость и точность совершенно сродни изяществу, лёгкости, чёткости и точности стихов и прозы Пушкина. Они сопровождают не только произведения Пушкина, но и самую его жизнь, свидетельствуя его воззрения, его политические взгляды, круг его интересов, пристрастий, наконец, широчайшие его связи с людьми.
Обнаружено и опознано сто три лица, изображённых в этих рисунках, на полях пушкинских рукописей, но сотни других ещё не распознаны. Среди тех, кто узнан и определён, много друзей Пушкина: Пущин, Чаадаев, Дельвиг, Вяземский, Веневитинов, Баратынский, Кюхельбекер, Алексеев, Вульф, Горчаков, Раевский, Нащокин, Денис Давыдов, Мицкевич, Грибоедов; декабристы Пестель, Рылеев, Трубецкой, Сергей Муравьёв-Апостол, Орлов, В. Раевский, Якубович, В. Давыдов и многие другие — и живые и мёртвые. На нескольких рукописях нарисована виселица с пятью казнёнными декабристами, сопровождаемая надписью: «И я . бы мог...»
Под пером Пушкина являлись почти всегда и герои его произведений: Онегин, Татьяна, Ленский, граф Нулин, Тазит, Дон-Гуан, Мельник с дочерью (из «Русалки»), множество других персонажей.
Рисовал Пушкин портреты своих родичей, близких: отца, брата Льва, дяди поэта В. Л. Пушкина, жены, сестры жены Александрии, няни Арины Родионовны. Многочисленны рисунки женщин, которыми в разное время бывал увлечён поэт: Закревской, сестёр Ушаковых, М. Раевской, Катеньки Вельяшевой, Воронцовой. Встречаются среди рисунков Пушкина портреты политических деятелей и деятелей культуры: Ипсиланти, Канкрина, Вольтера и многих других.
Невозможно перечесть всех, кого изображало на полях своих рукописей беглое, точное, иногда изобличительное перо Пушкина. Иные из портретов рисуются поэтом во множестве повторений. К примеру, Елизавета Ксаверьевна Воронцова повторена пушкинским пером тридцать раз, жена поэта — Наталья Николаевна — четырнадцать раз. Многажды набрасывал Пушкин свой собственный профиль. Искусствовед А. Эфрос открыл пятьдесят пять пушкинских автопортретов. Некоторые из них дают необыкновенно живое и ясное представление о характере и истинном образе поэта. Они вошли в наш повседневный обиход, воспроизводятся на обложках очень многих книг. Один из них можно видеть на постоянном заголовке «Литературной газеты» рядом с изображениями Ленина и Горького. Эта блистательная триада символизирует всё лучшее, что породил гений нашего народа.
Однако вернёмся к рисункам Пушкина. Хотя, впрочем, почему только Пушкина? И до Пушкина, и при нём, и после него многие и даже очень многие наши писатели были не только художниками слова, но и талантливыми живописцами или рисовальщиками, а то и авторами мозаичных картин.
Михайло Ломоносов — первый поэт русский, который ввёл в практику русских стихотворцев тоническое стихосложение, написав новыми для ушей россиян стихами «Оду на взятие Хотина», был и первым русским художником, создавшим мозаичный портрет Петра Первого, хранящийся у нас в Эрмитаже. Он был автором и других мозаичных картин. До нас дошли двадцать три из сорока мозаичных картин Ломоносова и его учеников, работавших в основанной им мастерской. Некоторые из них, например грандиозное монументальное панно «Полтавская баталия», соединяют в себе ценность крупного художнического произведения и одновременно исторического документа.
Если обратиться к современникам Пушкина, то многие из поэтов пушкинской поры были привержены живописи или, по крайней мере, рисованию.
Старшие друзья Пушкина — поэты К. Батюшков и В. Жуковский — блестяще рисовали. Рисунки Жуковского настолько хороши и профессиональны, что он иллюстрировал собственное собрание сочинений. Его фронтиспис к шестому тому сложен по композиции, очень выразителен и прекрасно выполнен.
Отлично рисовал, работал акварелью и масляными красками Лермонтов. Его кавказские пейзажи точны и эффектны.
Гоголь рисовал великолепно. Его рисунки персонажей «Ревизора» типичны и необыкновенно живы. Лёгкий и чёткий штрих очень уверен; характеристики персонажей в высшей степени определённы, насмешливы.
Нарисованная им немая сцена, заключающая «Ревизора», блестяща по выполнению и удивительно находчива по композиции. Двадцать две фигуры составляют на редкость живую и живописную группу. Все они — и городничий с семейством, и гости, собравшиеся в дом городничего на помолвку его дочери, — только что проводив мнимого ревизора — Хлестакова, как громом поражены появлением жандарма, объявившего о приезде настоящего ревизора. Каждый непроизвольно реагировал на это поразившее всех известие каким-то движением, жестом, ужимкой. И все эти движения страха, изумления, растерянности, стыда, а у иных и злорадства — переданы Гоголем с поразительной правдивостью. Каждый выражен и обрисован своим особым индивидуальным жестом, в полном соответствии со своим характером, какой проявлял он на протяжении всех пяти действий комедии.
Сцена эта сделана с профессиональной и великолепной законченностью. Она вырисована с тщанием во всех деталях. Динамика фигур, позы, выражение лиц, костюмы — всё совершенно превосходно нарисовано. Я много раз во многих театрах смотрел «Ревизора» с участием самых блестящих актёров — В. Давыдова, М. Чехова, Р. Адельгейма, И. Ильинского. Постановщики были самые разные, но немая сцена, венчающая спектакль, оставалась всегда одной и той же. Каждый режиссёр в точности копировал немую сцену, нарисованную Гоголем, расставляя всех персонажей комедии так, как это мастерски сделал сам автор-художник.
Из других наших писателей-классиков отлично рисовали И. Тургенев и Д. Григорович, прекрасный автопортрет которого можно видеть в Государственном литературном музее. Народный украинский поэт Т. Шевченко художником стал даже прежде, чем поэтом. Грибоедов сверх того ещё писал и музыку. В близкие к нам времена из крупных писателей прекрасно рисовал и писал маслом Леонид Андреев. Стены комнат в его даче увешаны были его собственными картинами. История литературы всех народов богата примерами, когда писатели одновременно являлись и отличными рисовальщиками, графиками, живописцами. Отлично владел карандашом и кистью знаменитый датский сказочник Г. Андерсен. Из французских писателей превосходно рисовали В. Гюго, П. Мериме, Ш. Бодлер, Ксавье де Местр, кстати первым переводивший на французский язык И. Крылова и написавший превосходный миниатюрный портрет на слоновой кости Н. О. Пушкиной — матери великого поэта.
Из английских писателей прекрасными рисовальщиками были Р. Киплинг и Р. Стивенсон. Знаменитый «Остров сокровищ» родился из рисунка карты этого воображаемого острова, сделанного Стивенсоном для своего тринадцатилетнего пасынка.
Некоторые другие английские писатели — У. Блейк, О. Россети были одновременно и известными художниками. Популярным английским художником был и создатель знаменитого романа «Трильби» Жорж Дюморье. Первый свой роман «Питер Иббетсон» Дюморье сам и иллюстрировал. Что касается второго его романа — «Трильби», то он принёс ему громкую славу, а инсценировки его ставились многие десятилетия на сценах всего мира. У нас в России сын известного художника Григорий Ге написал по мотивам романа пьесу «Трильби», которая шла повсеместно многие годы.
Поэтом и одновременно художником были Гёте и швейцарец С. Гёсснер. Э. Гофман — автор «Серапионовых братьев», «Житейских воззрений кота Мурра», «Крейслерианы», «Золотого горшка» и других знаменитых фантастических сказок-рассказов — был, кроме того, театральным художником и композитором. Прекрасно рисовал американец Эдгар По. Другой американский писатель-анималист Э. Сетон-Томпсон все свои книжки иллюстрировал сам, и иллюстрировал мастерски. Иллюстрации эти по своим высоким художественным качествам не уступают его прекрасным рассказам о животных-героях: лисе Домино, голубе Арно, кролике Рваное Ушко, Мустанге-иноходце и многих других.
Из зарубежных писателей — наших современников — прекрасным художником был Антуан Сент-Экзюпери. Его рисунки к сказке «Маленький принц» проникновенны и удивительно гармонически дополняют образ чудеснейшего героя этой чудеснейшей из современных сказок.
Превосходный американский художник Рокуэлл Кент, верный друг нашей страны, написал несколько интересных книг о Гренландии, её природе, её людях, о своей жизни в Арктике. Мы знаем книжку французского карикатуриста Жана Эффеля. Поэт Гийом Аполлинер также начинал как художник. Живописцем был английский поэт и теоретик искусства Уильям Моррис.
Италия дала миру величайших художников и величайших писателей. Некоторые из них обладали двойным даром художника и писателя. Великий Микеланджело писал стихи, и его сонеты дожили до наших дней. Автор всесветно прославленной «Джоконды» и «Тайной вечери» оставил семь тысяч страниц рукописей. Правда, это не стихи, а труды по физике, геологии, анатомии, механике, ботанике, астрономии, физиологии человека, геометрии и другим наукам, но, как сказано у Пушкина, «вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии». Многим схож с Леонардо да Винчи его современник, великий немецкий художник Альбрехт Дюрер — живописец, скульптор, гравёр, автор многочисленных научных трудов и трёх книг, одна из которых посвящена инженерно-строительному делу.
Но многообразие талантов, способностей, интересов и сфер деятельности доступно не только людям гениальным и сверхгениальным, какими были Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер. Я уже говорил о многих других писателях и художниках, наделённых в той или иной степени многообразием дарований.
История России знает много примеров выдающихся и многообразных дарований наших поэтов, художников, учёных, начиная с Ломоносова и даже прежде того, с протопопа Аввакума, который сам иллюстрировал прекрасными миниатюрами свою знаменитую автобиографию «Житие», впервые в истории подобного рода произведений написанную не церковнославянским духовным складом, а простой общеупотребительной живой речью. О классиках нашей литературы я уже говорил в плане многообразия их интересов и богатства их дарований. Не оскудели в этом смысле и наши дни. Советская литература, советское искусство дают нам многие примеры, так сказать, совместительства нескольких родов искусств одним человеком.
Первый пример тому — Владимир Маяковский, который был и поэтом и художником. Его знаменитые «Окна РОСТА», в которых постоянно, в зависимости от требования дня, менялись нарисованные им плакаты с его же стихотворным текстом, делали своё яркое, большое революционное дело.
Отличный художник Николай Кузьмин, превосходно и своеобразно иллюстрировавший Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Горького, Чехова, Эдгара По, Додэ, Лескова, Козьму Пруткова, был автором интересной книги «Круг царя Соломона».
О писателях-художниках Пинегине, Шергине, Писахове я говорил в предыдущих главах подробно. Прозаик Лев Канторович был и отличным художником. Всем ведомы детские книжки, написанные Е. Чарушиным, им же самим иллюстрированные. Иллюстрации столь же хороши, как и текст.
Поэт Максимилиан Волошин оставил богатое живописное наследие. Отличными рисовальщиками были Илья Эренбург, Эдуард Багрицкий и Борис Лавренёв. Превосходно рисуют прозаики Георгий Гулиа, Аркадий Минчковокий, Вадим Инфантьев, Виктор Голявкин, владеющий и живописью масляной краской, критик и литературовед Дмитрий Молдавский, поэты Михаил Дудин и Андрей Вознесенский.
К слову сказать, разносторонними дарованиями обладали и обладают не только писатели. Николай Акимов был одновременно и оригинальным, блестящим режиссёром, и первоклассным художником-портретистом, и театральным художником.
Знаменитый актёр А. Ленский также выступал нередко в роли театрального художника, рисовал эскизы костюмов и делал макеты к самым разнообразным спектаклям. Сохранилось много автопортретов Ленского, рисовавшего себя в костюмах, соответствующих ролям, которые он играл.
Прекрасным живописцем был и великий наш актёр Николай Симонов.
Великолепно рисовал и был газетным иллюстратором неповторимо оригинальный и блистательный кинорежиссёр Александр Довженко. Его картины «Арсенал» и «Земля» незабываемы. В них явлен нам не только высочайший талант и своеобразие мышления режиссёра-постановщика, но и безошибочный вкус художника, особенно ярко сказавшийся на выборе типажа актёров. Между прочим, талантами выдающегося кинорежиссёра и художника богатство личности этого изумительного человека не исчерпывается. Для большинства своих кинокартин Довженко сам писал сценарии. В дни Великой Отечественной войны стали появляться в различных газетах очерки Довженко о людях войны, её героях, страстная и великолепно написанная публицистика. Позже он написал повесть и несколько отличных пьес.
Кстати, коль скоро разговор зашёл о режиссёрах, кинорежиссёрах и актёрах, нельзя пройти мимо великолепной разносторонности Чарли Чаплина, который сам писал сценарии своих картин, сам их ставил, сам играл в них главные роли и сам же писал к ним музыку.
Случались рисовальщики и живописцы среди людей искусства иных, отличных от перечисленных мной специальностей. Прекрасно рисовали композитор Стравинский, знаменитый тенор Карузо и не менее знаменитый бас Шаляпин. Список мой, я полагаю, можно было бы пополнить именами очень многих писателей, художников, музыкантов, людей, работающих в других отраслях и родах искусства. Человек — существо изумительное. Встречаются люди столь многообразно одарённые, что диву даёшься, как может вместить один человек столь многое.
И тогда невольно приходят к тебе радость и гордость от сознания того, что рядом с тобой жили и живут такие чудесные, так богато одарённые люди. И начинаешь лучше понимать и больше ценить окружающий тебя мир и людей его.
Надя, сиренки, Пушкин
В разделе «О портретах и портретистах» возник сложно разветвившийся разговор о взаимосвязях живописи, литературы, музыки и других искусств, о многообразии и многоплановости художнического начала в художнике, о неисчерпности душевных богатств человека и художника, о щедрости таланта. Заключить этот разговор мне хотелось бы рассказом об одном, на мой взгляд чрезвычайном, явлении в области изобразительного искусства наших дней. Это чрезвычайное явление может быть совершенно точно поименовано: оно зовётся — Надя Рушева.
Говорить о ней и радостно и горько: радостно потому, что, глядя на рисунки Нади, говоря о них, невозможно не почувствовать себя на высокой волне большого праздника, не ощутить доброго волнения; а горько потому, что самой Нади уже нет с нами.
Надя умерла семнадцати лет. Так мало прожив на этом свете, она, уйдя из него, оставила огромное художническое наследие — десять тысяч рисунков-фантазий.
Уже одна эта цифра поражает и заставляет невольно вспомнить утверждение Жюля Ренара, которым открывается его превосходный «Дневник»: «Талант — вопрос количества».
Да, это так. Талант щедр, и эта щедрость души, это стремление тратить свои душевные богатства без оглядки, отдать людям всего себя без остатка — несомненно, один из первых признаков, изначальное свойство таланта.
Но само собой разумеется, что о мощи таланта мы судим не только по количеству сделанного. Важно не только то, сколько перед нами рисунков, но и то — каких рисунков.
Я четырежды был на выставках ученицы обычной московской школы Нади Рушевой, и при каждом новом знакомстве с её рисунками они всё больше пленяли, покоряли, радовали.
Надины рисунки — это огромный, многообразный, богатый мир образов, чувств, идей, интересов. В её рисунках — и сегодняшний день, и историческое прошлое страны, и мифы эллинов, и современная Польша, и сказки, и пионерия Артека, и Древний Рим, и страшный Освенцим, и первые дни Октябрьской революции, те, что потрясли мир.
Многообразие интересов художницы поражает. Ей до всего в мире было дело. Всё её касалось. На всё откликалось её горячее, молодое и, увы, мало бившееся сердце.
Но эта широта художнических интересов не есть всеядность. Аппарат отбора, столь важный для художника, действовал у Нади строго и безошибочно. Что отбирала Надя для себя из практически безграничного богатства человеческой культуры?
Надя любила чистые, прекрасно белые, высокопоэтические мифы эллинов. Мифологическим мотивам посвящены многие её рисунки, и среди них — самые ранние. Уже восьмилетней девочкой Надя рисует «Подвиги Геракла» — цикл из ста маленьких этюдов.
Уже в ранних детских рисунках ярко видится будущий художник с его пристрастиями, с его своеобычным глазом и прекрасной гибкой линией, с его безошибочным чувством отбора и изящным лаконизмом художнического языка.
Это о первых рисунках восьмилетней Нади. А вот передо мной последняя композиция семнадцатилетней художницы. И опять тема — прекрасная эллинская сказка «Аполлон и Дафна». Этот небольшой, примерно в страничку школьной тетради, рисунок — поистине шедевр. Миф о боге солнца, муз, искусств Аполлоне, влюбившемся в прекрасную нимфу Дафну и отвергаемом ею, — один из самых поэтических созданий греческой мифологии. Влюблённый бог преследует предмет своей страсти. Но Дафна не хочет покориться богу, которого она не любит. Она убегает от него. Аполлон неотступно следует за ней. «Но всё быстрее бежала прекрасная Дафна. Как на крыльях мчится за ней Аполлон. Всё ближе он. Вот сейчас настигнет Дафна чувствует его дыхание. Силы оставляют её. Взмолилась Дафна отцу своему, речному богу Пенею:
— Отец, помоги мне! Расступись земля и поглоти меня!
Лишь только сказала она это, как тотчас онемели её члены. Кора покрыла её нежное тело, волосы обратились в листву, а руки, поднятые к небу, превратились в ветви лавра. Долго печальный стоял Аполлон пред деревцем и наконец промолвил:
— Пусть же венок лишь из твоей зелени украшает мою голову, пусть отныне украшаешь ты своими листьями и мою кифару и мой колчан. Пусть никогда не вянет, о лавр, твоя зелень! Стой же вечно зелёным!»
Так повествует Овидий в своих «Метаморфозах» о любви бога света Аполлона к нимфе Дафне, о непокорстве Дафны, о её мольбе и её победе над влюблённым богом, победе, купленной ценой жизни, но всё же победе.
Эту победу нимфы над богом, Дафны над Аполлоном, и нарисовала Надя в самой её трагической кульминации. Аполлон, уже настигший Дафну, протягивает руки, чтобы схватить свою жертву, но Дафна уже наполовину не Дафна. Из живого тела её уже возникают ветви лавра. С поражающей художественной находчивостью Надя уловила и отобрала наиболее сложный, наиболее драматический момент мифа. Она изображает как бы самый процесс перевоплощения Дафны. Она ещё человек, но одновременно уже почти деревце: у неё и живые человечьи руки и ветви лавра.
Исполнен рисунок изумительно скупо, точно, прозрачно. Линия упруга, текуча, завершена в первом и единственном движении пера.
Линия у Нади всегда единична и окончательна. Надя не употребляла карандаша, не пользовалась резинкой, не растушёвывала рисунок, не намечала предварительных направлений, не проводила множественных линейных вариантов. Линия одна, всегда окончательна, и материал, которым работала Надя, строго соответствовал самозаданию художника, её удивительной способности безошибочной импровизации. Тушь, перо, фломастер не терпят поправок и повторных попыток, а именно тушь, перо и фломастер любила Надя, изредка подцвечивая свои рисунки пастелью или акварелью.
Безошибочность линии в Надиных рисунках просто поразительна. Это какой-то особый, высший дар, какая-то волшебная чудотворная сила и свойство руки художника, всегда верно выбирающей тот единственный изгиб, ту единственную толщину и плавность линии, какие необходимы в каждом конкретном случае. Уверенность, верность руки Нади непостижимы.
Столь же находчива, экономна и каждый раз бесспорно окончательна композиция Надиных работ. Вот небольшой рисунок «Пир Калигулы». На тёплом зеленоватом фоне перед нами три фигуры — полнотелый Калигула и цветущая женщина с ним рядом, а перед ним» на коленях чёрная рабыня с подносом, уставленным пиршественными яствами и сосудом с вином. Как мало нарисовано и как много сказано: этих трёх фигур и их положения в большом пиршественном зале, только намёком данном на втором плане, оказывается вполне достаточно для того, чтобы создать атмосферу пира. Своеобычна композиция «Адам и Ева». На рисунке только две фигуры — Адам и Ева. Ни райских кущей, ни дерева с яблоками познания добра и зла. Из сопутствующих аксессуаров только небольшой змей на первом плане и яблоко. Яблоко уже сорвано; оно на земле перед глазами Евы, которая, присев, модно вытянула вперёд трепещущую руку, чтобы схватить его. Этот бурный жест женщины, жаждущей схватить, познать запретное, неподражаемо выразителен. Заслонённый Евой, Адам, тоже припавший к земле, как бы дублирует стремительное движение Евы. Центр картины — Ева, яблоко, жест Евы. Я назвал эту композицию картиной, а не рисунком, и это, на мой взгляд, вполне закономерно. Этот рисунок — больше чем рисунок. Недаром он чуть подцвечен, недаром румяно влекущее к себе Еву яблоко. Но это всё же и рисунок с предельно выразительной линией, оконтурившей тело Евы — приземлённо весомое и в то же время сказочно летучее.
Малость средств, какими достигается Надей огромный результат, иной раз просто поражает. Вот рисунок, озаглавленный «Освенцим». На нем нет ни лагерных бараков, ни колючей проволоки, ни печей крематория. Только лицо — одно лицо, измождённое, измученное, настрадавшееся, с провалившимися щеками и огромными, страшно глядящими в мир глазами...
Ничего более выразительного и более лаконично выражающего столь огромное содержание я не могу себе представить.
А ведь автору «Освенцима», «Адама и Евы», «Аполлона и Дафны» и тысяч других работ художника, сложно и глубоко выразивших сложные и глубокие идеи и образы нашего века и веков прошлых, — всего семнадцать лет...
Столь раннее созревание ума, чувств, руки, дарования невозможно определить, вымерять обычными мерами, обычными категориями, и я понимаю академика живописи В. Ватагина, говорящего о гениальности Нади; я понимаю Ираклия Андроникова, который после посещения выставки Нади Рушевой, написал: «То, что это создала девочка гениальная, становится ясным с первого рисунка. Они не требуют доказательств своей первозданности».
Слова «гениальность» и «первозданность» — очень большие слова, их страшновато произносить в приложении к своему современнику, да притом ещё семнадцатилетнему. Но мне кажется, что это та мера, которой и можно и должно мерить огромное дарование Нади Рушевой.
До сих пор я говорил более или менее обстоятельно о четырёх Надиных рисунках: «Аполлон и Дафна», «Пир Калигулы», «Адам и Ева», «Освенцим», но, в сущности говоря, каждый из её рисунков заслуживает столь же и даже более обстоятельного разговора.
Тематическое многообразие и богатство Надиного творчества почти безграничны. К каким только темам, к каким мотивам, к каким жизненным явлениям не обращается эта жарко и жадно взыскущая душа!
Надя ненасытно глотает книги, и почти всякая из них рождает вихрь мыслей и жажду воплотить на бумаге зримо, в линиях и красках, материал прочитанной книги, её героев, её идеи и образы.
Она рисует иллюстрации к К. Чуковскому и В. Шекспиру, Л. Кассилю и Ф. Рабле, А. Гайдару и Г. Андерсену, Н. Гоголю и Э. Гофману, С. Маршаку и Д. Байрону, А. Грину и Ч. Диккенсу, Н. Носову и А. Дюма, П. Ершову и М. Твену, П. Бажову и Р. Киплингу, Н. Некрасову и Д. Родари, А. Блоку и Ф. Куперу, И. Тургеневу и Ж. Верну, Б. Полевому и Д. Риду, Л. Толстому и В. Гюго, М. Булгакову и Э. Войнич, М. Лермонтову и А. Сент-Экзюпери.
К каждому из перечисленных авторов и многим другим Надя делает десятки рисунков. К «Войне и миру» сделано около четырёхсот рисунков, к булгаковскому роману «Мастер и Маргарита» — сто семьдесят, к Пушкину — триста.
Пушкин — это особый мир Нади, особое её пристрастие, особая любовь. С Пушкина, возможно, всё и началось. Пушкин разбудил дремавший в маленькой восьмилетней Наденьке Рушевой инстинкт творчества. Именно тогда, в пятьдесят девятом году, впервые побывав с родителями в Ленинграде, посетив Эрмитаж, Русский музей, последнюю квартиру поэта на Мойке, двенадцать, Надя взяла в руки перо и фломастер. Тогда именно и появились первые тридцать шесть рисунков на темы, навеянные «Сказкой о царе Салтане».
С этой ставшей сердцу Нади дорогой квартиры на Мойке началось творческое в Наде; здесь и кончилось. Последний её поход в страну Поэзия был совершён сюда уже спустя десять лет.
На другой день после посещения квартиры поэта Надя внезапно умерла. За три дня до этого она побывала в городе Пушкине под Ленинградом, в лицее, в комнате, в которой шесть лет жил лицеист Саша Пушкин.
Ещё один толчок к созданию пушкинского цикла Наде дала встреча со старым пушкинистом Арнольдом Ильичом Гессеном.
Николай Константинович Рушев — Надин отец — рассказывал мне, как однажды, посмотрев выставку Нади в Москве, Гессен сказал, что Пушкин до двадцати лет не рисовал, что мы не имеем его лицейских портретов, и попросил Надю восполнить этот досадный пробел, ибо задумана книга о великом поэте с его рисунками.
Надя горячо приняла к сердцу это предложение и в результате нового обращения к пушкинской теме создала превосходнейшую серию рисунков, посвящённых Пушкину-ребёнку, Пушкину-лицеисту, лицейским друзьям юного поэта, лицею.
Эти рисунки приближают нас к Пушкину ещё на один шаг.
Работая над этими рисунками, Надя старалась вжиться не только в образ самого поэта, но и в атмосферу, его окружавшую, в пушкинскую эпоху, увидеть, почувствовать, ощутить её — представить себе воочию людей того времени, обстановку их, вещи, какие были вокруг них и в их руках.
Настраивая себя на это, Надя делала рисунки Пушкинского цикла гусиным пером. Она постоянно возилась в эти дни с гусиными перьями, зачинивала их, обжигала в пламени свечи, делала бесчисленные срезы пера на разных от бородки расстояниях, чтобы достичь определённой, нужной для рисунка гибкости оконечья пера.
В Пушкинском цикле Нади явно ощущается созвучие с манерой пушкинского рисунка — лёгкого, непринуждённого, изящного, как бы летучего. Но в то же время Надя остаётся Надей и в этих рисунках. Налицо всегдашняя её лаконичная компоновка, уверенная определённость линии, импровизационная свобода рисунка. Очевидно, следуя заданию Гессена, Надя сперва создаёт серию лицейских рисунков: несколько портретов Пушкина-лицеиста, товарищей его по лицею. Под пером Нади возникают нескладный Кюхля, женоподобный Дельвиг, благородный Пущин, жанровые сценки лицейского быта, друзья-лицеисты, посещающие заболевшего Сашу, бунт лицеистов против вослитателя-кляузника Пилецкого.
Но мало-помалу в силу вступают художническая жажда и стремление понять мир великого поэта во всей его широте и многообразии. И тогда вслед за лицейской серией появляются рисунки: «Пушкин и Керн», «Пушкин и Ризнич», «Пушкин и Мицкевич», «Пушкин и Бакунина», «Прощание Пушкина с детьми перед смертью», портреты Натальи Николаевны, «Наталья Николаевна с детьми дома и на прогулке».
Стремление Нади расширить поле зрения, неустанно углублять избранную тему, с которым мы встретились в Пушкинском цикле, вообще характерно для Нади.
В своём последнем цикле, посвящённом роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Надя выступает первооткрывательницей темы. Никто до неё не иллюстрировал булгаковского романа, в чём немалую роль, по-видимому, сыграла чрезвычайная сложность объединения в одном целом элементов реального и фантастического, истории и сатиры.
Надя с блеском преодолела эту трудность объединения разнородных планов. И тут, вживаясь в образ, она бесконечно повторяет лицо Маргариты, для которого ищет наиболее яркого воплощения. Превосходно найдены средства воплощения и таких разноплановых персонажей, как Мастер, Иешуа, Пилат, Крысобой, Воланд и его свита.
Тот же неустанный поиск правды и выразительности образа видим мы и в великолепном цикле, посвящённом «Войне и миру». Стремясь представить нам Наташу Ростову во всей её жизненной полноте, Надя рисует её и подростком с куклой, и окрылённой мечтой девушкой, залитой лунным светом перед открытым окном в Отрадном, и любящей, заботливой матерью у постели ребёнка.
Другие персонажи «Войны и мира» также явлены нам в Надиных рисунках во всём многообразии жизненных интересов, характеров, судеб, устремлений, поступков и душевных движений. Чрезвычайно богат и многосторонен огляд художником материала великого романа: Пьер на поле Бородинской битвы, спасение им женщины и ребёнка, Кутузов, беседующий в Филях с шестилетней крестьянской девочкой Малашей, смерть Платона Каратаева, гибель Пети Ростова, Николушка Болконский, мечтающий о подвигах...
И ещё одно, чрезвычайное сопоставление. Стремясь войти в образ, дать его во всей жизненной полноте, Надя старается сколько можно приблизиться к нему как бы и физически. Рисуя Пушкинский цикл, Надя бродит по пушкинским местам, посещает лицей, едет на место дуэли Пушкина. Отмеривает по снегу десять шагов и, воочию убедившись, как страшна дистанция дуэлянтов, восклицает с болью и негодованием: «Это ж убийство! Ведь этот негодяй стрелял почти в упор». Потом с Чёрной речки идёт на Мойку и там стоит перед портретом поэта, среди вещей, окружавших его при жизни, словно впитывая в себя самую атмосферу этой жизни, его мыслей, мечтаний, дел, его Музы, звучания его стихов. Во время прогулки в лицейском саду Надя поднимает с дорожки прутик и неожиданно начинает чертить им на снегу летучий профиль юного Пушкина. Движение этого прутика, намечающего кудри поэта, движение, запечатлённое на плёнке короткого, неоконченного, прерванного смертью Нади фильма, пронзает душу.
То же происходит и в процессе работы над другими циклами, особенно дорогими художнице. Рисуя листы «Войны и мира», Надя едет с отцом из Москвы на осеннее Бородинское поле, долго бродит по огромной долине, останавливаясь и тщательно просматривая места, где были Багратионовы флеши, батарея Раевского, Шевардинский редут, ставка Кутузова...
Работая над рисунками к «Мастеру и Маргарите», Надя обходит все старые московские переулки, улицы, бульвары, дома, где разыгрывалось действие романа, где ходили, мучились, спорили, лукавили персонажи булгаковской фантазии.
А теперь возвращаюсь к обещанному чрезвычайному сопоставлению. В чем оно состоит? Отец Нади говорил, что она не умела рисовать натуралистически, со светотенью, никогда не копировала натуру. Даже делая свои автопортреты, она только ненадолго заглядывала в зеркало, а потом рисовала уже по памяти. Рисунки её были всегда импровизацией.
Так как же совместить эту импровизационную манеру со стремлением детально ознакомиться с жизнью героев своих рисунков, с местами, где они жили и действовали, пристально оглядывать эти места, окружающие предметы, изучать их?
Так обычно работает тот, кто накрепко привержен реализму. Но художник-импровизатор как будто бы должен поступать совсем не так?
Вот в чём суть моего чрезвычайного сопоставления которое хоть кого (в том числе и меня) может поставить в тупик.
Впрочем, тупик ли это, из которого нет выхода? Думается, нет. Рисунки Нади — это импровизации, они в какой-то мере фантастичны, сказочны, но в то же время они заданы конкретной действительностью, жизнью, книгой, фактом, рассказом хотя бы, но выраженным в конкретных образах, вещах, событиях. И Надя верна этим образам, вещам, событиям. Она даёт нам своё творческое воплощение, но не отрывает от жизни живой и от жизни, заданной первоначальным создателем этой жизни, этого образа — автором, сказкой, мифом. Рисунки Нади, несмотря на импровизационность и подчас фантастичность, не беспочвенны, не безличны, не безразличны к жизни. Они следуют жизни в такой же мере, в какой следуют творческому импульсу Нади. Она фантастичны и реалистичны одновременно. Они — сказка, ставшая былью, поэзия в графике.
Надя рисует мифических сирен. Их много. Она их любит. Но как она их любит? И каковы они у Нади?
Прежде всего, это не те свирепые сирены, морские дивы, которые в мифах завлекают своим пением моряков-путешественников в морские пучины, чтобы погубить их. Спастись от них можно, только залепив уши воском, чтобы не слышать их соблазнительно влекущего пения, как сделали это Одиссей со своими спутниками.
У Нади сирены зовутся ласково сиренками и никого они не губят. Напротив, они очень общительны, дружелюбны, приветливы и, не корча из себя злодеек, занимаются самыми обыденными делами: ходят на просмотры моделей в Дом мод, служат официантками, устраивают дома время от времени большую стирку и, сняв свои рыбьи хвостики и выстирав их, развешивают рядком, как трусики, на верёвочках для просушки.
Удивительно милы эти сиренки, и Надя дружит с ними издавна. У неё есть даже такой рисунок — «Дружба с сиренкой», где обыкновенная девочка, может быть сама Надя, улыбаясь, стоит в обнимку с сиренкой и мирно разговаривает с ней.
Очень домашни, милы и кентаврицы, а также кентавры и кентаврята. Кентаврицы столь же кокетливы как и сиренки. На всех четырёх копытцах у них высоконькие, остренькие, самые модные каблучки.
Отношения Нади и кентавриц, Нади и сиренок, на мой взгляд, таковы, какими должны быть отношения художника к своим созданиям: они совершенно естественны, человечны, задушевны. Через эти отношения очень глубоко и достоверно раскрывается сам художник, его добрый взгляд на окружающий его мир.
И ещё одно скрыто в этих Надиных образах: это добрая улыбка, обращённая в мир, и весёлый глазок художницы, её мягкий юмор — мягкий и одновременно смелый и тонкий.
В этом весёлом, задорном, озорном отношении к материалу есть что-то открыто-детское, в то же время мужественно-взрослое, бесстрашное. Художник не преклоняется, не раболепствует перед мифом, перед сказкой, не жречествует, а просто принимает этот мир как художническую достоверность и совершенно свободен и непринуждён в отношениях с ним. Этот высокий душевный настрой мужественного, ясноглазого и прямодушного художника был в полной мере свойствен Наде — да иначе и быть не может: ведь она крупный художник и строй её души — это строй души крупного художника.
Я слушал голос Нади, записанный на магнитофонную ленту одним из Надиных товарищей — студентом ГИКа. Перед записью Надя спросила:
— А что говорить?
— Говори, что хочешь.
— Ладно. Я расскажу, как получила двойку.
И рассказала. Рассказ милый, простодушный, открытый — всё напрямик, всё без утайки. В нем — вся Надя, весь её характер, весь душевный строй.
Я смотрел три коротеньких фильма о Наде. В них Надя тоже такая, как есть: без ретуши и прикрас... Бродит по Ленинграду... у Зимней канавки, на набережной Невы, в Летнем саду славная, милая девушка, иной раз даже девочка. Смотрит на чудесный город, который так любила, в котором часто бывала.
В последнем фильме о Наде, очень коротеньком и кончающемся её прощальной улыбкой и горестным титром: «Фильм не удалось закончить, так как Надя Рушева умерла в марте шестьдесят девятого года...», запечатлён один жест Надин...
Медлительно проходя по комнатам пушкинской квартиры и вглядываясь в окружающие её реликвии, Надя летучим, каким-то удивительно интимным жестом подносит руку к лицу, к щеке. Этот нечаянный жест пленителен и очень скупо, как бы потайно, даёт знать зрителю — с каким внутренним волнением, с какой трепетной, затаённой душевной тревогой и радостью Надя глядела в Пушкина, в его жизнь, в его стихи...
Я спросил у Надиного отца: знала ли Наденька о своём аневризме, о том, что болезнь её смертельна?
Николай Константинович ответил коротко:
— Нет. Никто не знал... Утром, дома, собираясь в школу, потеряла сознание...
Не могу сказать — к лучшему ли то, что Наденька не подозревала о ежеминутно подстерегавшей её смерти. Может быть, если бы знала, это лишило бы её рисунки той прекрасной и поистине великой гармоничности, какая в них живёт, наложила бы на них печать трагического... Не знаю, не знаю...
Но знаю одно — проглядывая многажды Надины рисунки, я ещё раз и окончательно убедился, что добрые волшебники существуют на свете, живут среди нас. Они живут и формируют наши души, наши личности и, даже умерев, продолжают в нас свою добрую работу.
Три мастера
От Михайловского до Муранова
Лето тысяча девятьсот семьдесят пятого года оказалось для меня чрезвычайно счастливым. В это лето мне удалось побывать в гостях и у Александра Пушкина, и у Фёдора Тютчева, о котором я пишу сейчас книгу, сиречь побывать и в Пушкинском заповеднике в Михайловском и в музее Тютчева в Муранове. Дни и часы, проведённые в этих заповедных местах, были неповторимо прекрасны.
В Михайловском Пушкин бывал не раз и не два — и бывал и живал. Впервые попал Пушкин в Михайловское в тысяча восемьсот семнадцатом году, сразу после окончания лицея, будучи ещё восемнадцатилетним юношей. В последний раз приезжал сюда за год до смерти. В Михайловском же Пушкин отбывал двухлетнюю ссылку двадцать пятого — двадцать шестого годов.
Несмотря на горечь вынужденной отъединённости от всех, кто был мил его сердцу и кому он был дружески привержен, несмотря на одиночество в захолустном углу, Пушкин не стал ни ипохондриком, ни бездельным неврастеником. В эти горькие два года он обрёл в себе скрытый дотоле источник сил, чтобы найти душевное равновесие и сосредоточиться на творческой работе.
В Михайловском Пушкин работал много и плодотворно. Здесь написано более ста превосходнейших вещей, среди которых: «Борис Годунов», «Граф Нулин», центральные главы «Евгения Онегина», стихотворения «19 октября», «Деревня», «Андрей Шенье», «Зимний вечер», «Вакхическая песня», «Стансы» («В надежде славы и добра...»), «Жених», «Цветы последние милей...», «Зимняя дорога» («Сквозь волнистые туманы пробирается луна...»), «В крови горит огонь желанья...», «Пророк», «Я помню чудное мгновенье...».
Каждое из перечисленных стихотворений — шедевр. О каждом можно сказать и рассказать очень много. Но это не входит в планы данной книги. И всё же я не могу отказать себе в удовольствии поговорить хотя бы об одном из этих стихотворений. Оно имеет заголовок «19 октября». К слову сказать, этот заголовок носят три стихотворения. Они посвящены годовщине основания 19 октября тысяча восемьсот одиннадцатого года милого сердцу поэта Царскосельского лицея. Этой же дате посвящены ещё два стихотворения, имеющие иной заголовок. То из этих пяти, о котором пойдёт речь и которое мне кажется самым сильным из всех, начинается строфой:
Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле, Проглянет день, как будто поневоле, И скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье; А ты, вино, осенней стужи друг, Пролей мне в грудь отрадное похмелье, Минутное забвенье горьких мук.В этих начальных строках и великолепная картина поздней осени с её «багряным убором» и серебрящимся на первом морозце полем, и трогающее сердце описание жизни поэта в ссылке: пылающий в «пустынной келье» изгнанника камин, «горькая мука» отъединения от всего мира, от его жизни живой...
Я задумчиво бреду маршрутами пушкинских прогулок по Михайловскому парку. Парк пленителен и очень стар. Он разбит в конце восемнадцатого века дедом Пушкина Осипом Абрамовичем Ганнибалом — сыном знаменитого «арапа Петра Великого» Абрама Ганнибала. О возрасте парка свидетельствуют старые ели центральной аллеи, иным из которых более двух столетий. Есть в Михайловском парке ещё одна примечательная аллея, состоящая из сорока двух старых лип. Эта липовая аллея — ровесница старой еловой аллеи. С некоторых пор она стала называться «аллеей Керн» в память о свидании под этими вековыми липами Пушкина с Анной Петровной Керн, приезжавшей летом двадцать пятого года погостить к своей тётке, П. А. Осиповой, в соседнюю с Михайловским усадьбу Тригорское.
Долго расхаживал я взад-вперёд по чудесной «аллее Керн», думая о той, которую гений поэзии назвал «гением чистой красоты». Потом прошёл к прудам, на одном из которых находится заветный пушкинский уголок — Остров уединения, с высокими соснами, небольшой полянкой меж ними и скамьёй на краю.
Таких пушкинских заповедных мест в Михайловском много. Они с бережным пристрастием описаны в стихотворении «Вновь я посетил...», созданном за год до смерти и целиком посвящённом воспоминаниям о Михайловском, о проведённых в нём годах ссылки.
«Вот опальный домик», в котором поэт жил «с бедной нянею» своей. «Вот холм лесистый», над которым часто он «сиживал недвижим — и глядел На озеро, воспоминая с грустью Иные берега, иные волны...»
Я постоял на этом холме у озера Маленец. Обошёл вокруг домик няни и направился неторопко, задумчиво туда, «Где в гору подымается дорога, изрытая дождями» и где «три сосны Стоят — одна поодаль, две другие Друг к дружке близко...» Здесь поэт, обращаясь к новой поросли под старыми соснами, сказал приветливо и душевно: «Здравствуй, племя Младое, незнакомое!».
Я повторил тот стародавний привет перед тремя молодыми сосенками, нынче сменившими трёх прежних, уже погибших сосен-великанов. Потом вернулся к господскому дому, стоящему на высоком холме над живописной светлой речкой Соротьюо. Средняя из трёх комнат северной стороны — гостиная. Тут, в горке, хранятся несколько вещей, к которым прикасалась рука Пушкина: четыре бильярдных шара, кий, самовар, несколько мелких предметов.
Рядом кабинет поэта, и здесь опять волнующая встреча с пушкинскими вещами, первая из которых — железная трость весом в девять фунтов, то есть больше двух килограммов. Мне позволили взять её в руки, и я почувствовал, как она тяжела. Надо было иметь твёрдую руку, чтобы носить такую трость, твёрдую руку и твёрдый характер.
Кроме трости, из подлинных пушкинских вещей сохранились подножная скамеечка, принадлежавшая прежде Анне Керн, этажерка, на которой когда-то лежали рукописи Пушкина.
Тут же, над диваном, висит портрет Байрона с собственноручной пушкинской надписью на обороте его: «Подарен А. С. Пушкиным Аннет Вульф 1828 г.» и на камине описанная в «Евгении Онегине» чугунная статуэтка Наполеона.
В Михайловском и соседнем Тригорском встречи с Пушкиным происходили на каждом шагу. Долго бродил я в светлой задумчивости по этим чудесным местам: присел на «скамью Онегина» в Тригорском парке, постоял у солнечных часов, медлительно обошёл огромный, в несколько обхватов, почти трёхсотлетний «дуб уединённый». Потом прошагал к Вороничу с остатками древней крепости — Савкиной горкой, над которой местным попом Саввой в 1513 году поставлен каменный крест, сохранившийся до наших времён.
Память об этих святых для меня, как и для миллионов других советских людей, местах не изгладится, не потускнеет, проживи я ещё хоть сто лет.
А теперь перенесёмся из Михайловского в подмосковное Мураново. Если Михайловское исполнено памяти о Пушкине, с которым мы здесь встречаемся буквально на каждом шагу, то Мураново в такой же степени принадлежит памяти Тютчева.
Я попал сюда вскоре после Михайловского, и мир Тютчева, отражённый в Мурановском музее, был как бы продолжением мира Пушкина. В сущности говоря, это был один и тот же мир, одна и та же эпоха, только по-разному каждым воспринятая и по-своему каждым выраженная в превосходнейших стихах.
Но до стихов (и одновременно с ними) существовали вещи, вседневный жизненный обиход. Жизненный обиход Фёдора Тютчева прекрасно и многообразно выражают собранные в этом музее вещи, некогда принадлежавшие Тютчеву и окружавшие его. К слову сказать, к вящему моему удовольствию и, надо полагать, к удовольствию других посетителей, этот музей мало похож на музей. Тут нет ни оградительных шнуров, ни этикеток, объясняющих и одновременно отчуждающих тебя от жизни поэта — такой, какой она была в действительности. С порога этого немузейного музея я как бы вступил в самую жизнь Тютчева...
Вот керосиновая лампа в виде вазы с шарообразным абажуром. Вот высокие, от полу и почти до самого потолка, часы пробили протяжно и медлительно двенадцать. Вот ломберный столик красного дерева на двух лирах вместо ножек. А вот рабочий стол поэта с чернильницей, свечами и гусиным пером, со следами чернил на нём.
Раз уж мы добрались до пера поэта, то как раз время сказать о том, что этим пером было написано. Сочинять стихи Тютчев начал в десять лет. Когда ему исполнилось четырнадцать, стихи его были публично читаны в Обществе любителей российской словесности, а годом позже напечатаны в «Трудах» Общества.
Прошло шестьдесят лет после того, как написано было первое стихотворение, и умирающий, уже парализованный Тютчев за три месяца до конца продиктовал в постели своё последнее стихотворение. Он был предан музам душой и помыслами с младых ногтей и до последнего своего часа. Он жил и умер как поэт.
Лев Толстой говорил о Тютчеве: «Без него жить нельзя». Что касается самого Тютчева, то он не мог жить без поэзии.
Как же он понимал поэзию? Ответить на этот нелёгкий вопрос поможет нам стихотворение Тютчева, которое многозначительно названо им «Поэзия»:
Среди громов, среди огней, Среди клокочущих зыбей, В стихийном, пламенном раздоре, Она с небес слетает к нам — Небесная к земным сынам, С лазурной ясностью во взоре, И на бунтующее море Льёт примирительный елей.Такова Поэзия, такова её природа, её изначало в глазах поэта, в его душе, в его понимании.
По Тютчеву, она — дар небес землянам, дар, знаменующий единение неба и земли, высокого и обыденного, вдохновенного и вседневного. И поэт осуществляет этот принцип в своей стиховой практике.
Стихотворение «Поэзия» написано в тысяча восемьсот пятидесятом году сорокасемилетним Тютчевым. В этом возрасте обычно знают о себе и окружающем мире если не всё, то многое, во всяком случае, и продолжают дознаваться ещё большего, дознаваться каждодневно, каждочасно, при каждом своём шаге, при, каждом взгляде на сущее, даже если это сущее есть самая малость: дождевая капля, дрожащая, искрящаяся алмазом на зелёной ладошке древесного листка, лёгкое дуновение ветерка, лежащий на дороге камень...
Да, и камень, обыкновенный дорожный камень. И он преображается поэтом неведомо каким волшебством в образный знак, в звенящий стих, в жизненную проблему.
С горы скатившись, камень лёг в долине. Как он упал, никто не знает ныне — Сорвался ль он с вершины сам собой, Или низвергнут мыслящей рукой? Столетье за столетьем пронеслося: Никто ещё не разрешил вопроса.Вот как оно у поэтов, вот какова стихийная сила стиха и взволнованная наполненность его, ведущие прямым ходом от придорожного камня к ищущей и как бы осязающей окружающий мир философской мысли, к не разрешённым столетиями вопросам.
А вот ещё одно стихотворение, исполненное искуса, смятения, поиска ответов на нерешённые вопросы. Оно так и названо — «Вопросы». На сей раз искус увёл поэта за рубежи собственной мысли, собственного творческого поиска, к взыскующим стихам Гейне, переводом которого и является это стихотворение (к слову сказать, Тютчев был первым переводчиком Гейне на русский язык):
Над морем, диким полуночным морем, Муж-юноша стоит, — В груди тоска, в уме сомненье, — И сумрачный — он вопрошает волны: «О, разрешите мне загадку жизни, Мучительно-старинную загадку, Над коей сотни, тысячи голов — В египетских, халдейских шапках, Гиероглифами ушитых, В чалмах, и митрах, и скуфьях, И с париками, и обритых, — Тьмы бедных человеческих голов Кружилися и сохли, и потели. Скажите мне, что значит человек? Откуда он, куда идёт, И кто живёт над звёздным сводом?» По-прежнему шумят и ропщут волны, И дует ветр, и гонит тучи, И звёзды светят холодно и ясно, — Глупец стоит и ждёт ответа!И опять человек на распутье. И опять перед ним — неразрешённые вопросы. А может статься, они и вообще неразрешимы? Может статься, ответы на них никогда! не будут даны? И нет такой силы, которая осилила бы их гнетущую власть над нами?
Поэт говорит — есть. Такая сила есть, и она в нас самих. Она способна преодолеть всё, что до сих пор; вставало на наших трудных путях неодолимой преградой. Она разрешит неразрешимое и поведёт нас прекрасной дорогой добрых чудес.
Что же это за чудодейственная сила, которая поэту знаема в нас? Он открыл её на склоне лет, за два с половиной года До кончины, и поведал о ней в двадцати прекрасно-величавых строках:
Чему бы жизнь нас ни учила, Но сердце верит в чудеса: Есть нескудеющая сила, Есть и нетленная краса. И увядание земное Цветов не тронет неземных, И от полуденного зноя Роса не высохнет на них. И эта вера не обманет Того, кто ею лишь живёт, Не всё, что здесь цвело, увянет, Не всё, что было здесь, пройдёт! Но этой веры для немногих Лишь тем доступна благодать, Кто в искушеньях жизни строгих, Как вы, умел, любя, страдать. Чужие врачевать недуги Своим страданием умел, Кто душу положил за други И до конца всё претерпел.Итак, на все поставленные вопросы поэтом даны уверенные, чёткие ответы: неразрешённое разрешимо, непостигнутое постижимо. Есть «нескудеющая сила», способная преодолеть неодолимое, способная постигнуть всю «нетленную красу» мира, способная «верить в чудеса» и которая сама есть чудо. Это чудо — сердце человеческое.
Что касается «нетленной красы», то она есть главная составляющая нашего сердца. Поэтому и в основе всего сущего лежат моральные ценности. Человек богат именно ими. Дороже и ближе других поэту тот, кто «душу положил за други», кто способен на большие чувства, на великую любовь. Любовь как великая сила — постоянная тема стихов Тютчева.
Но муза Тютчева осмысливается и ощущается поэтом не только как дело сердца поэта, но как нечто неотделимое от всего громадно-несущегося мира, дело, соотнесённое с первозданными громадами мироздания. Ярким свидетельством тому служит стихотворение «Видение»:
Есть некий час всемирного молчанья, И в оный час явлений и чудес Живая колесница мирозданья Открыто катится в святилище небес.
Тогда густеет ночь, как хаос на водах; Беспамятство, как Атлас, давит сушу; Лишь Музы девственную душу В пророческих тревожат боги снах.
Наделяя музу пророческим даром, Тютчев как бы перекликается с Пушкиным, который делает то же а своём знаменитом «Пророке». Двадцать лет спустя после цитированного мной «Видения» Тютчев написал стихотворение «Поэзия», которое я целиком привёл вначале и в котором трактуется та же тема. В нем муза воспевается поэтом, как слетающая к нам с небес, «Среди громов, среди огней, Среди клокочущих зыбей».
Но страстная клокочущая, громокипящая муза Тютчева в то же время нежна и напевна. Она одновременно и небесная и земная. Она многопланова и многозначна, как сама жизнь. Такова же и стихия тютчевского стиха, влекущая поэта и вдаль и вглубь.
Последняя любовь
Они встретились впервые в Смольном институте, куда Тютчев пришёл навестить дочерей своих Дашу и Катеньку. Это было весной пятидесятого года. Он стоял в вестибюле, разговаривая с институтской инспектрисой, Анной Дмитриевной Денисьевой, когда в вестибюль с улицы вошла высокая стройная девушка и повернула к правому коридору.
Увидя её, Анна Дмитриевна сделала ей знак остановиться и, извинившись перед Тютчевым, обратилась к ней:
— Леночка, в гостиной на круглом столе лежат тетрадки. Вычитай их, пожалуйста.
— Хорошо, maman, — кивнула девушка и, отпущенная кивком головы Анны Дмитриевны, пошла коридором к Николаевской половине Смольного.
Анна Дмитриевна повернулась к Тютчеву, и он спросил её с любопытством:
— Это ваша дочь?
— О нет, только племянница. Впрочем, я, кажется, неточно выразилась, не только племянница. — И словоохотливая инспектриса, свободная в этот час от занятии, с видимым удовольствием принялась объяснять: — Она мне, знаете ли, действительно как дочь, потому что после ранней смерти её матери, а моей сестры, я воспитывала её как родную дочь. Да и она относится ко мне как к матери, даже зовёт меня, как вы слышали, maman.
— Очень милая девушка, — откликнулся с явной заинтересованностью Тютчев. — Очень милая. Она и сейчас, верно, живёт с вами?
— Да. Конечно. — Анна Дмитриевна приветливо улыбнулась. — Могу, если хотите, познакомить с ней. Кстати, вам, может быть, интересно будет проглядеть тетрадки ваших девочек. Пройдёмте ко мне — уроки кончились, и я вполне свободна.
— С большим удовольствием, если это вам не в докуку.
Приглашение было, видимо, приятно Тютчеву и не вовсе неожиданно, так как, третий год навещая Дашу и Катеньку в Смольном, Тютчев всякий раз вступал в беседу с умной и занимательной инспектрисой, опекавшей его детей. Проникшись взаимной симпатией, она встречались как приятные друг другу старые знакомцы.
— А знаете, — говорила между тем Анна Дмитриевна, провожая Тютчева в Николаевскую половину к своей квартире. — Леночка ведь страстная любительница стихов, и в частности большая поклонница ваших.
— Откуда же она мои стихи знает?
— О, вы представить себе не можете, сколько она разных журналов и альманахов переворошила. Ваши стихи она, сколько мне известно, в «Современнике» вычитала.
Тютчев провёл этот вечер с приятством, стал часто бывать у Денисьевых и увлёкся Леночкой всерьёз. Она увлечена была тонким поэтом и блестящим собеседником ещё больше. Это взаимное увлечение переросло в длительную связь, продолжавшуюся четырнадцать лёг, вплоть до самой смерти Денисьевой.
Несмотря на подлинно большое чувство с обеих сторон, любовь их оказалась трудной и беспокойной. Долго скрывать эту связь ни от жены Эрнестины, ни от праздно любопытствующего стоокого светского многолюдства было невозможно. Она, как и следовало ожидать, стала предметом пересудов, что чревато было большими осложнениями в их жизни, особенно в жизни Денисьевой, которая уже через полтора года стала матерью, а позже ещё дважды.
Тютчев усыновил всех троих детей, и они стали носить его фамилию, но от этого их жизнь не стала легче, как и жизнь их матери. Открытое незаконное сожительство с женатым человеком поставило её вне общества, с которым она была связана всю предшествующую жизнь.
Любовь пришла к Елене Денисьевой, когда ей было уже двадцать четыре года — первая любовь и последняя любовь. Она отдала ей всё, что только может отдать человек, — сердце, душу, силы, здоровье, которого, кстати сказать, было у неё не очень-то много...
С той поры как она увидела Фёдора Ивановича в Смольном, она не имела ни минуты покоя. Любовь ударила в неё, как в набатный колокол, пробудив к жизни все чувства, все способности, нерастраченные, скрытые в ней до той поры от неё самой.
Елена Александровна Денисьева не была красива. В ней не было ничего эффектного, броского, яркого. Главное, что определяло её жизненный строй в эти дни, что делало её привлекательной и желанной для него, была страстная, всепоглощающая, непреходящая любовь. Она любила — и это было всё, чем она владела, было ею самою. Ничего, кроме этой пламенной любви к нему — единственному, неповторимому, данному на всю жизнь, она не знала...
Когда они полюбили друг друга, он был женат, женат уже одиннадцать лет. Это была непреходящая, неотступная боль Елены Александровны, о которой она не могла говорить ни с кем, а тем более с ним. От него она никогда ничего не требовала, не упрекала его, не упоминала о своём фальшивом положении в свете, среди окружающих её людей.
А оно становилось день ото дня всё более тягостным. Друзья её оставили. Даже родной отец отрёкся от неё. Она осталась одна... При ней, и то наполовину, был только он — всё её общество, её судьба, её жизнь...
А теперь обратимся к объекту этой пламенной, не затухающей на протяжении четырнадцати лет любви, любви, кончившейся для Денисьевой только вместе с жизнью, а для Тютчева продолжавшейся и после её смерти. Чтобы убедиться в этом, достаточно проглядеть, хотя бы в выдержках, несколько писем к друзьям и родным, написанных Тютчевым после смерти Денисьевой, а также писем и дневников его близких, бывших свидетелями его страданий в эти дни.
Вот что, к примеру, сообщает в своих интересных записках дочь поэта Анна Фёдоровна: «Несколько недель спустя я узнала, что Елена Д. умерла. Я увиделась снова с отцом в Германии. Он был в состоянии близком к помешательству. Какие нравственные пытки я пережила! Потом я встретилась с ним снова в Ницце, когда он был менее возбуждён, но всё ещё повергнут в ту мучительную скорбь, в то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего проблеска стремления к чему бы то ни было небесному. Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало. И это горе, всё увеличиваясь, переходило в отчаяние, которое было недоступно утешениям... Я чувствовала себя охваченною безысходным страданием. Я не могла больше верить, что бог придёт на помощь его душе, жизнь которой была растрачена в земной и незаконной страсти».
Религиозная Анна Фёдоровна часто поминает бога и скорбит о грешнике отце, чья душа «растрачена в земной и незаконной страсти». Эта «незаконность», очевидно, больше всего и волновала её, и, как скоро выяснилось, не только её, но и многих других в окружении Тютчева.
Что касается его самого, то, каково было ему в эти дни, свидетельствуют о том не только окружавшие его, ко и сам поэт. Вот выдержка из одного его письма к другу: «Моё душевное состояние ужасно. Я изнываю день за днём всё больше и больше в мрачной бездонной пропасти... Смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего больше не существует. То, что я чувствую, невозможно передать словами, и если бы настал мой последний день, то я бы приветствовал его, как день освобождения... Дорогой друг мой, жизнь здесь на земле невозможна для меня. И если «она» где-нибудь существует, она должна сжалиться надо мной и взять меня к себе...»
Сохранилось немало писем Тютчева, подобных приведённому, полных безысходного отчаяния и неизбывной тоски. Много и других свидетельств и фактов, связанных с драмой последней любви стареющего поэта, и не только с ним самим, но и с другими участниками драмы. Есть, однако, в освещении её важный, на мой взгляд, да верно и на взгляд читателя, пробел. Об одном из главных участников этой драмы до сих пор сказано слишком мало, — я имею в виду жену Тютчева, Эрнестину. Как она реагировала на всё происходящее?
Я не осмеливаюсь углубляться в дебри того сложного и трудного, что сопряжено с переживаниями Эрнестины в течение тех четырнадцати лет, пока длился роман Тютчева с Денисьевой. Для этого нужны особо тщательные и деликатные изыскания. На страницах же настоящей работы я не нахожу для того места. Приведу лишь одно высказывание Эрнестины, вырвавшееся у неё, когда она узнала о смерти Денисьевой и убедилась в том, как всё это горько и тягостно сердцу Тютчева. Вот её слова: «Его скорбь для меня священна, какова бы ни была её причина».
Позиция — высокочеловечная и благородная, делающая честь человеку в столь сложных и тяжких обстоятельствах. Большего об этой стороне вопроса я не считаю себя вправе сказать.
А теперь ещё об одной ипостаси любящего сердца поэта — о стихах его.
К Денисьевой обращено восемнадцать стихотворений Тютчева. Это, кажется, больше, чем ко всем остальным женщинам, которым отдавал своё внимание Тютчев, вместе взятым.
Но дело, в конечном счёте, не в количестве, хотя и оно говорит о многом, а в том, как и каким языком говорит сердце поэта в этих стихах, каков в них образ любимой и самого поэта. Первые же строки первого из стихотворений этого цикла вводят нас в трагическую атмосферу этой «незаконной» любви.
Чему молилась ты с любовью, Что как святыню берегла, — Судьба людскому суесловью На поруганье предала. Толпа вошла, толпа вломилась В святилище души твоей, И ты невольно постыдилась И тайн, и жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья Души, парящей над толпой, Её спасали от насилья Бессмертной пошлости людской!Второе стихотворение: «О не тревожь меня укорой справедливой...», исполнено укоризны, обращённой к самому себе, и кончается так:
И, жалкий чародей, перед волшебным миром, Мной созданным самим, без веры я стою — И самого себя, краснея, сознаю Живой души твоей безжизненным кумиром.В той же тональности душевного самоанализа выдержаны и другие стихи Тютчева той поры. Вот одно из таких стихотворений:
Судьбы ужасным приговором Твоя любовь для ней была И незаслуженным позором На жизнь её она легла! Жизнь отреченья, жизнь страданья! В её душевной глубине Ей оставались вспоминанья... Но изменили и оне. И на земле ей дико стало, Очарование ушло... Толпа, нахлынув, в грязь втоптала То, что в душе её цвело. И что ж от долгого мученья, Как пепл, сберечь ей удалось? Боль, злую боль ожесточенья, Боль без отрады и без слёз! О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей!..Так выглядит любовь в стихах этого горестного цикла, любовь роковая, страждущая, мучительная, ожесточённая, губительная. «Судьбы ужасный приговор» для любящих.
Чтобы удостовериться в этом, посмотрим остальные, ещё не упоминавшиеся мной, стихи этого горестно-блистательного цикла. Вот стихотворение, написанное за четыре дня до смерти Денисьевой:
Весь день она лежала в забытьи, И всю её уж тени покрывали; Лил тёплый летний дождь — его струи По листьям весело звучали. И медленно опомнилась она, И качала прислушиваться к шуму, И долго слушала — увлечена, Погружена в сознательную думу... И вот, как бы беседуя с собой, Сознательно она проговорила (Я был при ней, убитый, но живой): «О, как всё это я любила!» Любила ты, и так, как ты, любить — Нет, никому ещё не удавалось! О Господи!.. и это пережить... И сердце на клочки не разорвалось...Какие удивительные строки. Какие неискусственные, нелукавые, доподлинные, идущие от жизненной правды, от действительно сущего, и от сердца, от самой глубины страждущего и живо сопричастного чужим страданиям, сердца. Какие горестные события, какие острые состояния, а слова самые простые. Великолепная демонстрация высокой человечности и высокого поэтического мастерства.
Не могу не привести ещё одного примечательнейшего стихотворения этого цикла:
О, как на склоне наших лет Неясней мы любим и суеверней... Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней! Полнеба охватила тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье, — Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись, очарованье. Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность... О ты, последняя любовь! Ты и блаженство и безнадёжность.Стихотворение это, своеобразное и тревожно беспокойное по ритмическому рисунку, как бы выражает самую сущую суть всего денисьевского цикла. И название его многозначительно и необманно: «Последняя любовь».
Внимательно вглядываясь, вчитываясь, впиваясь в строки этого удивительного стихотворения, поражаешься его всезначности, а также всеобязательности каждого слова, каждой запятой, многоточия, восклицательного знака — всего, что управляет строем, своеобразием, прерывистой плавностью повествования. Все, решительно все элементы — в стройнейшем сочетании друг с другом и в строжайшем подчинении замыслу и мастерству поэта, создавшего всё это неповторимо великолепное целое.
Да и весь цикл, хотя сам Тютчев, вероятно, ни о какой циклизации не думал, естественно отлился как неповторимо прекрасное целое, подобного которому ни у какого другого поэта я не знаю. Лев Озеров в своей книге «Поэзия Тютчева» расценивает денисьевский цикл, «как одну из вершин мировой поэзии». Это, по-видимому, так и есть. Предельно искренняя, душевно открытая, человечески наполненная и высоко поэтическая лирика денисьевского цикла подобна древней неувядаемой «Песне песней», вот уже более двух тысячелетий пленяющей человечество.
«Умом Россию не понять...»
Он уехал из России, поступив на дипломатическую службу в Мюнхене, в тысяча восемьсот двадцать втором году и вернулся на родину только в сорок четвёртом. Не считая наездов во время отпусков, он отсутствовал двадцать два года.
За такой долгий срок можно совершенно отвыкнуть от родных мест, родных обычаев, родного языка, перестать быть сыном своей родины. Так, например, как случилось со Стендалем, который долгие годы жил в Италии и в конце концов перестал, в сущности говоря, быть французом.
С Тютчевым этого не произошло. Несмотря на долгую разлуку с Россией, он не перестал быть русским. Он остался верен своей родине и, будучи разлучён с ней, продолжал служить России, русскому обществу, русскому искусству всегда и везде.
Что же этому способствовало и что могло противодействовать? Давайте попытаемся разобраться в этом феномене. Первым и немалым препятствием к развитию национального самосознания Тютчева с самых первых лет его жизни было состояние русского общества в начале девятнадцатого века. Франция тех времён была могущественной мировой державой, оказывающей сильное влияние и на состояние государственных установлений во всей остальной Европе, и на умы европейцев.
В России это с особой силой сказывалось по окончании наполеоновских войн, после того как французы побывали в тысяча восемьсот двенадцатом году в пленённой ими Москве, а русские два года спустя — в пленённом ими Париже. Дворяне, помещики, офицерство, студенчество, городская молодёжь — все те, кого в новые времена стали называть интеллигентами, говорили в России по-французски часто лучше, чем по-русски. Они же одевались, ели, пили, развлекались на французский манер. На французском же языке они вели переписку, бранились, объяснялись в любви, да и думали уже по-французски.
Так было повсеместно в России в первой половине девятнадцатого века, та: к было и в семье Тютчевых. Обиходным языком был у них, как и в тысячах других русских семей, французский.
Он же, само собой разумеется, был и в каждодневном обиходе Феди Тютчева с самых малых лет.
Но существовали, к счастью, и другие, прямо противоположные французским влияния. Оплотом родного языка были простые русские люди, крепостные крестьяне и дворовые, то есть те же крестьяне, но оторванные от земли и взятые в услужение для работ по дому и двору, — конюхи, привратники, повара, горничные и другая Домашняя прислуга. Они понимали только по-русски, и их хозяевам тоже приходилось говорить с ними по-русски. Многие из дворовых прикреплялись к малым барчатам с их младенческого возраста в мамки и дядьки.
Дядька Тютчева — Николай Афанасьевич Хлопов, который ходил за ним с четырёхлетнего возраста, был с Фёдором Ивановичем и во время пребывания его за границей, вплоть до женитьбы своего подопечного. И по собственной склонности и, понимая, как дорого Тютчеву всё, что напоминало ему оставленную родину, Николай Афанасьевич старался и в Германии блюсти привычный обоим российский обиход.
Случалось, и не так уж редко, захаживали к Тютчеву петербургские друзья — братья Иван и Пётр Киреевские, приехавшие в Мюнхен, чтобы прослушать курс лекций Шеллинга по философии. Заглядывали и другие россияне, случившиеся по тем или иным надобностям в Мюнхене.
Началась переписка с оставшимися в России родичами и друзьями. Объём переписки сильно возрос, когда Тютчев начал печатать свои стихи в русских журналах и альманахах: «Урания», «Северная лира», «Галатея», «Денница», «Труды Общества любителей российской словесности», «Новые Аониды», «Русский инвалид» и, наконец, в журнале «Современник» — сперва пушкинском, а после смерти Пушкина последовательно — плетнёвском, панаевском и некрасовском.
Миогосторонние и многообразные связи с Россией развивались и укреплялись во время поездок Тютчева в Петербург и Москву, которые он совершал во время своих отпусков. В каждую из поездок в России он живал по нескольку месяцев, а однажды и более полугода.
Всё это содействовало тому, что Тютчев не превратился за долгие годы жизни за границей ни в немца, ни во француза, напротив, оставался русским по самой первородной глубочайшей сути своего существа. Эта способность Тютчева быть независимым от окружающей чуждой ему среды, оставаться внутренне неизменным, была для многих феноменом необъяснимым. По сути же дела, то был особый талант его личности, который в свою очередь был обязательной частью его поэтического дарования.
Он знал французский лучше, чем знали его многие французы, по-французски писал большинство своих писем, все деловые бумаги и статьи также, но стихи писал по-русски, и они были русскими по глубочайшей своей сути. Эту истинно русскую сущность его стихов и его самого свидетельствовали такие крупные авторитеты, как И. Аксаков, И. Тургенев, Н. Некрасов, Л. Толстой. Приглядимся к их отзывам о тютчевских стихах.
Иван Сергеевич Аксаков, близкий друг, зять Тютчева и первый его биограф, в своём капитальном труде «Биография Фёдора Ивановича Тютчева» многажды останавливался на характеристике Тютчева как русского поэта и русского человека, утверждая, что в нём не было ни француза, ни немца, что, несмотря на долгое пребывание за границей, он самостоятельно выработал у себя «русское мировоззрение», что он «положительно пламенел любовью к России».
А вот отзыв Некрасова о стихах Тютчева и об их авторе. Речь идёт о «стихах, присланных из Германии», подписанных инициалами Ф. Т. и опубликованных в № 3 пушкинского журнала «Современник» за 1836 год. «Стихотворения г. Ф. Т., — писал Некрасов, — принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии. Г. Ф. Т. написал очень немного; но всё написанное им носит на себе печать истинного и прекрасного таланта».
Дальше Некрасов переходит к разбору и оценкам отдельных тютчевских стихотворений. Вот некоторые из этих оценок: приведя стихотворение «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров Умильная таинственная прелесть...»), Некрасов восклицает: «Превосходная картина! Каждый стих хватает за сердце... Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце; вот почему мы нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом с Лермонтовым».
Ещё более восторженно отзывается Некрасов о стихотворении «Я помню. время золотое...» Говоря же по совокупности о всех разбираемых стихах Тютчева, напечатанных в № 3 «Современника» за 1836 год, Некрасов подчёркивает, что хотя стихи «присылаемы были из Германии, но не подлежало никакому сомнению, что автор их был. русский: все они написаны были чистым и прекрасным языком, и многие носили на себе живой отпечаток русского ума, русской души».
Высоко оценивал поэзию Тютчева Иван Сергеевич Тургенев. В № 4 «Современника» за 1854 год появилась статья Тургенева «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева», в которой он утверждает, что Тютчев «один из самых замечательных русских поэтов».
В одном из писем к А. Фету Тургенев писал: «О Тютчеве не спорят, кто его не чувствует, тем самым добывает, что не чувствует поэзии». Лев Толстой, среди всех крупнейших русских поэтов, ставил Тютчева на первое место, впереди Лермонтова и Пушкина.
А. Гольденвейзер в двухтомных мемуарах «Вблизи Толстого» рассказывает о любопытной реакции Льва Николаевича на первое знакомство с поэзией Тютчева в собственно толстовской передаче: «Когда-то Тургенев, Некрасов и Ко едва смогли меня уговорить прочесть Тютчева, но зато, когда я прочёл, то просто обмер от величины его творческого таланта».
В этой же книге мемуаров Гольденвейзер передаёт ещё один любопытнейший рассказ Толстого о том, кап после выхода в 1856 году толстовских «Севастопольских рассказов» Тютчев, тогда уже «знаменитый», как выразился Толстой, неожиданно пришёл на квартиру молодого автора. Толстого поразило то, что Тютчев, «говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне своё одобрение по поводу моих «Севастопольских рассказов», особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нём удивляла чрезвычайно».
Чуткость к русскому языку в человеке, прожившем почти полжизни за пределами России, поистине удивительна. По-видимому, эта чуткость таилась в крови поэта. Может статься, эта чуткость к родной речи и сделала его поэтом. И эта чуткость жила в нём с младенческих лет и до конца дней его. В одном из писем к жене Тютчев, восхищаясь стихотворением Вяземского «Ночь в Венеции», говорит с доброй увлечённостью о его стихах: «Своей нежностью и мелодичностью они напоминают движение гондолы», и тут же восклицает: «Что это за язык — русский язык!»
В Тютчеве жила чуткость не только к русскому языку, но и вообще ко всему русскому, родному.
Объездив всю Европу, побывав в Германии, Голландии, Франции, Австрии, Польше, Швейцарии, Сардинии, повидав Париж, Мюнхен, Женеву, Антверпен, Вену, Берлин, Прагу, Турин — почти все столицы тогдашних государств Европы, Тютчев ни на одно мгновенье не переставал быть русским.
В одном из писем к родителям, в декабре тридцать девятого года, Фёдор Иванович писал: «Я устал от существования вне родины». Примерно тогда же в письмах к Жуковскому он говорит: «... я более всего люблю в мире: отечество и поэзию».
Пятью годами позже, открывая свою первую политическую статью «Россия и Германия» обращением к редактору немецкой «Всеобщей газеты», Тютчев восклицает с юношеской горячностью, хотя ему уже за сорок: «Я русский, милостивый государь, как я уже имел честь вам объяснить, русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле».
Это не декларация, не полемический ход, а разговор о подлинно кровном деле поэта. И поэт подтверждает и утверждает это аргументами неопровержимыми, сиречь всей своей поэтической практикой. Я бы мог привести довольно длинный список, содержащий около сорока стихотворений, в которых Тютчев говорит полным голосом о России, её бескрайних просторах, её тихих утаённых уголках, её героях, её истории, её святынях. Но едва ли нужно много цитировать Тютчева, чтобы понять и уяснить себе, как дорога ему родина. Посему ограничусь двумя небольшими, но превосходными стихотворениями, каждое из которых отличается и высокими художественными достоинствами, и яркой эмоциональной окраской, и чёткой направленностью. Вот первое из них:
Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа! Не поймёт и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной...Стихотворение поражает с первого же прочтения своим удивительно гармоническим строем. В нем нет ничего броского, громкого, нарочито эффектного, декларативного, хотя речь идёт о предмете чрезвычайно для автора важном и дорогом — о родине. Напротив, всё в нём проникнуто какой-то тихой сосредоточенностью, всё скромно и раздумчиво.
Несмотря на небольшие размеры и непритязательную скромность этого стихотворения, оно, тотчас после своего появления в печати в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году, было замечено и отмечено крупнейшими писателями и общественными деятелями своего времени Аксаков в «Биографии Тютчева», целиком приведя всё стихотворение, предваряет его так: «„Западники", Даже и демократы, с презрением и глумлением относились к русскому простому народу; а Тютчев, — сам, несомненно, питомец гордого и красивого Запада, вот что способен был говорить про этот русский народ».
Шевченко, ознакомившись со стихотворением, записал в своём дневнике: «Я с наслаждением прочитал сгихотворение Ф. И. Тютчева „Эти бедные селенья"».
Очень высоко оценили стихотворение Чернышевский, Тургенев, взявший строки этого стихотворения эпиграфом к «Живым мощам», Достоевский, цитировавший его в «Братьях Карамазовых».
Всё это красноречиво, и в который уже раз, свидетельствует о том, какими малыми средствами умел Тютчев достигать огромного воздействия на умы и сердца людей, и каких людей!
Об этом же свидетельствует и следующее, ещё меньшее по размеру стихотворение:
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить.Мне кажется, что это четверостишие — явление в русской поэзии беспримерное. В четырёх строках осмысливается огромная тема, и не только осмысливается, но и осваивается исчерпывающим образом. Ничего прибавить в авторском аспекте к этим строкам невозможно, как невозможно и ничего убавить. При этом все строки, цепко связанные, слитые в одно целое, в то же время автономны. Каждая — заключённое в себе целое, выраженное в остромысленной, предельно лапидарной форме законченного меткого афоризма.
В стихотворении обозначен, выражен, утверждаем весь круг чувств, воззрений, переживаний, связанных с оглядом, ощущением, чувством родной земли и её значением для всех нас. И всё это — в четырёх строках. Подобное доступно только такому поэту, как Фёдор Тютчев. Да живёт он в веках!
Я слушаю Анну Ахматову
Впервые я увидел и услышал Анну Ахматову в Петрограде весной тысяча девятьсот двадцать второго года. В том году Петроград жил интенсивной литературной жизнью. Город пестрел афишами, извещавшими о выступлениях Владимира Маяковского и других поэтов.
Одна из таких афиш приглашала в зал Городской думы на вечер поэтов Анны Ахматовой, Владимира Пяста, Михаила Кузмина и ещё целой группы поэтов, имён которых сейчас не припомню. Впрочем, привлекла меня в холодный зал Городской думы главным образом Анна Ахматова.
Очевидно, так было не только со мной, но и с очень многими другими, ибо полупустой вначале зал ко второму отделению, в котором должна была выступать Ахматова, наполнился до отказа. Её уже знали и не только читали, но и почитали. Книжки её стихов, вышедшие к тому времени — «Вечер», «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini», «У самого моря», быстро исчезали с прилавков книжных магазинов, и многие их строки тотчас же с книжных страниц перекочёвывали в сердца и на уста молодых её читателей.
Самой Ахматовой шёл тогда уже тридцать четвёртый год, и она была в расцвете сил и таланта. Я знал многие ахматовские стихи наизусть, и мне до смерти хотелось увидеть её живой, во плоти, услышать её голос. Я сидел. в четвёртом ряду и, вперив глаза в эстраду, гадал про себя — какая она, эта странная и трудная чаровница, явившаяся мне в далёком Архангельске семь лет тому назад, когда я впервые прочёл книжечку её стихов «Вечер».
Почти полстолетия спустя я прочёл в книге Ефима Добина «Поэзия Анны Ахматовой», отличной, к слову сказать, книге: «Судьба наградила Анну Ахматову счастливым даром. Её внешний облик — «патрицианский профиль», скульптурно очерченный рот, поступь, взор, осанка — отчётливо и красноречиво выражал личность. Её богатство, её духовность. Недаром портреты Ахматовой создавали многие художники — Н. Альтман, К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, Модильяни, Г. Верейский, Н. Тырса, А. Тышлер, О. Делла-Вос-Кардовская, скульптор Н. Данько. И каждый из этих портретов по-своему красноречив и значителен.
Запечатлели её облик и современники-поэты:
В начале века профиль странный (Истончен он и горделив) Возник у лиры. (С. Городецкий, «Анне Ахматовой»)Внешний портрет сочетался с психологическим: «Но рассеянно внимая (всем словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно...» (Александр Блок, «Анне Ахматовой»).
И Осип Мандельштам подглядел тот же душевный оттенок: «Вполоборота, о печаль! На равнодушных поглядела...» («Ахматова»).
К приведённым в книге Добина характеристикам следует прибавить разве ещё только одну из стихотворного цикла Марины Цветаевой «Ахматовой»:
От ангела и от орла В ней было что-то.Похожа ли была Анна Ахматова на все эти портреты, и живописные и словесные, та Анна Ахматова, от которой я не мог оторвать глаз, когда она, долгожданная, появилась наконец передо мной на эстраде холодного думского зала?
И да и нет. Почему так? Да хотя бы потому, что в разное время человек выглядит по-разному. Годы меняют и поэтов, как всех прочих людей; меняют и их стихи и их самих. Я могу сказать, не какой была Ахматова, а какой я увидел её впервые в двадцать втором году.
Я так жадно, так жарко ждал её появления, и так долго, что, истомившись этим ожиданием, не заметил, как она вышла на эстраду. Бывает вот так. Зачем-то обернулся к сидевшим рядом, а когда снова поглядел на эстраду, Ахматова уже стояла там — высокая, тонкая, стройная, в длинном чёрном платье. Из всех живописных портретов, какие довелось мне видеть, она больше всего походила, пожалуй, на портрет работы Ю. Анненкова с той разницей, что живая Анна Ахматова была лучше портрета, проще, без тех подчёркнутых эффектностей и изломных угловатостей, какие есть во всех портретах, особенно в портрете Натана Альтмана, написавшего её неправдоподобно костлявой и горбоносой. Ни того, ни, другого в живой Анне Ахматовой не виделось. В ней виделась не худоба, а стройность, я бы сказал изящная соразмерность высокости. Высокая шея, втянутые щёки, чуть удлинённое лицо, глаза с поволокой, выраженные, но не слишком, дуги тёмных бровей, чётко вырезанные губы и закрывающая лоб густая чёрная чёлка, кстати, в те годы модная. Всё это было в облике Анны Ахматовой соединено в то нечто гармоничное и впечатляющее, чего словами не передашь, но что запомнилось сразу и навсегда именно как гармония. Величавости, о которой говорят авторы, в молодой Ахматовой не было. Она появилась ближе к старости. Ахматова двадцатых годов была проста, изящна, как бы пронизана одухотворённостью. Сдержанность, скупость жестов, движений, интонаций были ведущими чертами её образа, её внешнего облика, её характера.
Примечательнейшей и впечатляющей внешности Ахматовой очень соответствовал её голос, глуховатый, глубокий, контральтовой окраски, со сдержанными интонациями, впрочем, не подчёркнуто, а естественно сдержанными. Вообще всё в ней было очень естественно, без нарочитостей, без рисовки, просто, ненапряженно, гармонично. Читала она без словесных подчёркиваний, без декламационных нажимов, без каких-либо артистических приёмов, без жестикуляции, читала однотонно, негромко, и не в аудиторию, а как бы в себя. По рассказам слушавших чтение Блока, он читал примерно так же. Но при этом происходило не обособление от аудитории, а соединение с ней в едином творческом акте, именно в творческом. К тому же заражение аудитории настроенностью поэта происходило не явно ощутимой направленностью воли его, а как бы нечаянно, само собой, на высокой и неуловимо, неведомо как возникающей эмоциональной волне. Её глуховатый, зачаровывающе однотонный голос звучал так, как должен был, вероятно, звучать три тысячи лет назад пророческий голос эрифрской сивиллы, предрекшей, по преданию, троянскую войну задолго до её начала. Поэт — всегда пророк, поэтесса — всегда сивилла. Голос Ахматовой, этот удивительный голос, внутренне наполненный всем интеллектуальным содержанием яркой личности, не мог не волновать, не пробуждать сильнейших эмоций сопереживания с чтецом, с поэтом, с его стихами. Таких чтецов своих стихов и таких читающих стихи голосов я больше никогда не слыхал.
Добрый и верный друг Ахматовой Осип Мандельштам утверждал, что стихи Ахматовой «сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что. современники, услышав этот голос, богаче будущих поколений, которые его не услышат».
Мне довелось, посчастливилось слышать голос Ахматовой — этот навеки запомнившийся голос, и я самом деле чувствую себя богаче тех, кто не слыхал его.
Однако вернёмся в неуютный, холодный зал Городской думы Петрограда тысяча девятьсот двадцать второго года. Не только чтение Ахматовой своих стихов было своеобычным, впечатляюще особым, но и самый выбор читаемых стихов. Ахматова не читала стихов, которые были особенно популярны. Не читала стихов, в которых встречались эффектные, выигрышные для чтеца строфы и строки вроде «Я на правую руку надела Перчатку с левой руки», или «Как ты хорош, проклятый», или же знаменитая концовка одного из стихотворений «Задыхаясь, я крикнула: «Шутка Всё, что было. Уйдёшь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: „Не стой на ветру"».
Подобных строк в этот вечер я не слышал из уст Ахматовой. Было такое ощущение, что она никакой специальной программы к этому выступлению не готовила и стихов для него не отбирала — читала то, что лежало в памяти, кстати сказать, на редкость цепкой, и в сердце. Мне кажется, что в её стиховом заповеднике вообще не было ни лучших, ни худших стихотворений, как у птицы нет ни худшей, ни лучшей песенки, а только та, что поётся сейчас. В этот вечер она по большей части читала стихи из только что вышедшей в свет её книги «Подорожник» и лишь немногие из предыдущего сборника «Белая стая». Стихи шли не резко взрывные, а задумчивые. Эмоции были упрятаны в них как бы внутрь строк. Много прекрасных стихов. Ахматовой услышал я в тот вечер. Многие из них я знал и раньше. Но в тот вечер они прозвучали для меня по-новому — сильней и ярче. Ведь они теперь были не только «сделаны из голоса» Ахматовой, но стали самим этим голосом, слились с ним совершенно, неразделимо. Это было великолепное волхвование, пир чувств, волшебство, наслаждение, с которым ничто сравниться не могло.
Я оставил вначале холодный, а к концу душный зал Думы и вышел на Невский уже около полуночи. На город шла колдовская белая ночь с её зримо мерцающим на углах и карнизах зданий воздухом, с таинственно прекрасной не то вечерней, не то утренней зарёй...
Всё это привиделось вдруг как нарочно поставленная декорация к волшебному действу, которому я только что был свидетелем и, как мне кажется, участником его, там, за стенами здания с четырёхгранной башней, увенчанной часами, которые, как нарочно, медленно и незвонко пробили двенадцать.
Я схожу с тротуара, иду посредине улицы. Отчётливо цокая подковами по неповторимым, сейчас уже не существующим торцам Невского, пробежала нешибкая извозчичья лошадь. Я иду прямо на Адмиралтейскую иглу: надо мной лёгкое прозрачное небо, вокруг меня волшебство белой ночи, во мне волшебство голоса Ахматовой, читающей «Но когда над Невою длится Тот особенный чистый час...»
Для меня он длится и нынче, полстолетия спустя, этот «особенный чистый час», возвещённый неповторимым голосом Анны Ахматовой.
Добрые встречи
С Анной Ахматовой, жившей каждое лето по соседству со мной в одной из литфондовских дач в Комарове под Ленинградом, я виделся довольно часто. К сожалению, я не сразу догадался делать записи, относящиеся к встречам с ней. Но начиная с шестидесятого года я уже кое-что записывал, и некоторые из разговоров почти со стенографической точностью. Вот одна из таких записей.
Разговор происходил вечером двадцать первого сентября тысяча девятьсот шестидесятого года в Комарове, на даче у Ахматовой (эту двухкомнатную неказистую дачку Анна Андреевна называла Будкой). Она была предупреждена о моём приходе, и потому меня ждали. В этом я убедился, едва переступив порог ахматовского жилья. Обычного в доме беспорядка не было. Всё прибрано. Анна Андреевна сидит за письменным столом. Он невелик, узок и сделан из тёмного дуба. Настольной бумагой не застлан. На нем вазочка с несколькими розовыми астрами. Свету в комнате немного — ровно столько, сколько надо для того, чтобы не бросались в глаза предательские морщинки, ровно столько, сколько благоприятствует негромкому разговору, освещаемому опытом прожитого и затеняемому душевной сдержанностью, хотя одновременно и душевно открытому. Передавая этот разговор, я обозначаю собеседников одной и той же буквой алфавита: Анну Андреевну Ахматову тремя «А», автора — одним. Начальных фраз не упомнил.
А. А. А. Чудное лето какое.
А. Бабье лето... А в самом деле. Имеет это выражение какой-нибудь смысл? Бывает у так называемых баб так называемое бабье лето?
А. А. А. По-видимому.
Анна Андреевна улыбается. Она сидит передо мной красиволицая, несмотря на свои семьдесят лет, осанистая, спокойная и сдержанно открытая. На ней свободная розовая блуза. На плечах, полных и покатых, чёрная шаль со светлой каймой. Очень хороша голова.
А. Расскажите о себе. О стихах, о прозе, обо всём. Меня всё интересует, что с вами происходит.
А. А. А. О стихах. Я уж устала рассказывать. Договор заключила. Книжка должна выйти. Это серия «Советская поэзия».
А. Которая с золотом?
А. А. А. Да-да. Как коробки конфетные. Там ещё автобиография обязательно нужна. Написала. Первый раз в жизни. Никогда не писала про себя. Хлопот с книжкой ужасно много. Статью вступительную надо к сборнику. Я говорю — пусть Сурков пишет. Он редактировал последний сборник. А он где-то в Австралии. Ну, подождут. Ездят нынче недолго.
А. А я, знаете, нынче тоже вдруг стихи начал писать. Честное слово. Много-много восьмистиший вдруг выпалил. Вот послушайте.
Я читаю несколько восьмистиший из только что написанного мной большого цикла «Стоцветник».
А. А. А. А смотрите, эти стихи у вас почти все о природе. Это Комарове вам дало. То, что вы здесь живёте. Не напрасно, видите, вы здесь.
А. Да. Наверно. А счастливая у нас всё-таки профессия. Где ни живёшь, что ни делаешь — всё нам впрок, всё годится. Всё потом как-то входит в нашу работу, хотя внешне иной раз это в ней и незаметно.
Я вспоминаю свою писательскую практику во время войны, когда был военным корреспондентом «Правды» и армейской газеты. Мы говорим некоторое время о работе писателя тех военных лет. Заговорили, естественно, об Илье Эренбурге, о прекрасных его военных очерках, о его сегодняшней работе.
А. А. А. Вы читали мемуары Эренбурга в «Новом мире»?
А. Читаю. Только что привёз из города номер восьмой «Нового мира».
А. А. А. Девятый номер, где продолжение, интересней. Если говорить о мемуарах вообще, то, по-моему, как-то неверно их пишут. Сплошным потоком. Последовательно. А память вовсе не идёт так последовательно. Это неестественно. Время как прожектор. Оно выхватывает из тьмы памяти то один кусок, то другой. И так и надо писать. Так достоверней, правды больше. А то ведь как выходит — надо по заданию себе писать связно и последовательно, а материал выпал, не помнится всё в связи. И начинает человек сочинять недостающее, выдумывать, и правда уходит...
От Эренбурга, через его мемуары, в которых он, между прочим, описывает комнату Ахматовой с висящей на стене копией портрета хозяйки работы Модильяни, перешли незаметно и на самого Модильяни.
А. А. А. Он был неудачником, этот Модильяни. Никто его не знал и не признавал. Беден был, невзрачен. В Париже встретились в десятом году, когда я впервые туда попала. Он попросил позировать. Так родился портрет.
Разговор снова возвращается к мемуарам.
А. А. А. Какой-то непроявленный жанр — мемуары. Как писать — не знаю.
А. Андрей Белый говорил где-то, что книгу мемуаров он написал в две недели, а над главой «Петербурга» два года работал.
А. А. А. Вы читали мемуары Белого? Их ведь три тома.
А. Не читал. Мне трудно Белого читать. У него всё трудно-холодно.
А. А. А. Да. Читать его трудно. Но сам он читал превосходно. Просто прекрасно читал. Алексей Толстой читал хорошо. Слышали когда-нибудь?
А. Да, и не раз. Ну, он актёрски читал. А скажите, как Блок читал?
А. А. А. Блок читал странно. Он как будто вот так от всех. (Жест руками, отгораживающий от окружающих.) И там, где он читал, он был один. Читал прекрасно. Очень, очень хорошо.
А. Кстати, о чтении поэтами своих стихов. Знаете, Анна Андреевна, когда я вас в последний раз слышал, вы читали в Союзе писателей, у вас тоже так читалось, как будто вы одна в целом мире. Вы как-то в себя глядя, читали.
А. А. А. Когда же это было — до войны или после?
А. Я думаю, году в тридцать девятом.
А. А. А. Это было, очевидно, весной сорокового, в марте.
А. Да. Наверно.
А. А. А. Я большую поэму свою читала.
А. Да.
Мы сидим и некоторое время молчим. Прислушиваемся к тому, как двадцать лет назад она читала свою поэму. Я слышу глуховатый отгороженный от всего окружающего голос и чтение в себя. Сейчас она сидит передо мной совсем другая. В ней больше открытости. Молчание кончилось. Заговорили о писательстве, о писателях — сперва о сегодняшних, потом о писателях прошлого. Заговорили о Льве Толстом, о смерти его.
А. Хорошо умер Толстой. Правильно. Ушёл от всего мишурного и в стороне от него умер.
А. А. А. Да. У него всё хорошо. Если Достоевский дожил бы до десятых годов, тоже, наверно, ушёл бы. Он ведь готов к этому был. Он ведь тоже, как и Толстой, ересиарх и отрицатель. У него и христианство не христианское. Они оба к правде пробивались. А у Гоголя всё то же как будто, но карикатура на искания, и на правду, и на ересиарха. Ну, возьмите «Дневник писателя» Достоевского и «Переписку с друзьями» Гоголя. Пародия.
А. Гоголь мрачен. Но вот мы говорили — всё хорошо у Толстого. Но ведь был и «Фальшивый купон» у него.
А. А. А. Да. Конечно. Но это всё путь к правде — слишком прямой на этот раз. Поиски разные у разных людей.
После этого разговор скользнул в сторону, на сад, который темнел уже за окном и в котором, как сказала Анна Андреевна, «ужасные гортензии». Заговорили о природе.
А. Потеряли многие наши поэты чувство природы. Украинские поэты как-то сумели его сохранить. Они ещё немного крестьяне по ощущениям. Поэт должен быть немного крестьянином. И поют украинцы хорошо. Голоса у них певучие.
Разговор снова уходит в сторону. Заговорили о нервной организации человека.
А. А. А. Я нервами своими могу управлять как угодно. Врачи, которые меня оперировали, сказали, что я сама себя вылечила. Мне очень тяжело было после операции. Должно быть, наркоза слишком много получила. Я лежу. Ничего не могу сделать. Пошевелиться не а силах. Хирург подходит, смотрит. «Ну как? Ну улыбнитесь». Я улыбнулась. Пожалуйста.
А. Павлов Иван Петрович удивительно помогал себе вылечиваться. В Союзе писателей об этом как-то рассказывал профессор Фёдоров, который был с ним постоянно. Павлову было уже, кажется, восемьдесят два года, когда ему серьёзную операцию сделали. Он помогал себе встать на ноги, вылечиться тем, что призывал в союзники всё, что он любил и что прежде ему помогало жить. Он любил левкои и велел принести в палату, где лежал, побольше левкоев. Он любил воду, и велел поставить у кровати таз с водой. У него не было сил подняться и сесть в кровати, тогда он опускал руку в воду, лёжа в постели, и перебирал в воде пальцами.
А. А. А. Я даже этого не могла сделать. Я пошевелить пальцами была не в состоянии, так как была привязана.
А. Как же так вы на операционный стол попали?
А. А. А. Да вот, помните, я уезжала в прошлый раз. Вы ещё со мной прощались. Я уже тогда скверно себя чувствовала. В городе хуже стало. Температура поднялась. Болит. Два дня так. Вызвали скорую помощь. Диагноз: аппендицит, предострая форма. Потом второй раз приехали — уже острая. Приступ, ну значит надо в таких случаях немедля операцию делать. Юрий Павлович Герман за мной приехал. Отвёз в больницу. И сразу на операционный стол. Я лежу на столе и смотрю в окно на зарю. Я такой поразительной зари не видела никогда в жизни. Никогда. Ни раньше, ни позже. Это было в июне. Уже белые ночи стояли.
А. Белые ночи в Ленинграде хороши очень. Но севернее, в Архангельске, в Мурманске, они ещё лучше. Здесь они пленительны потому, что пленителен Ленинград белой ночью. Их город красит. А там они хороши сами по себе. Но оставим поэтические белые ночи и вернёмся в прозаическую больницу. В какую вы больницу попали?
А. А. А. О, в самую обыкновенную. И это лучше всего.
А. Уж и лучше... Но как же всё-таки оно было?
А. А. А. Было совершенно удивительно. Я такого трогательного отношения, такой трогательной внимательности вовек не видала, не испытывала на себе. Нас было несколько женщин в палате. Они все следили за каждым моим движением. Подходили. Спрашивали, не надо ли мне чего-нибудь. Переворачивали. Звали сестёр. Причём всё это не оттого, что я была им известна. Они не читали никогда меня. Ни одной строки. Они ничего обо мне не знали. Спрашивали мою фамилию — Ахметова или Ахматова? Это было человеческое. Я так тронута была. Я запомнила это навсегда.
Анна Андреевна волнуется, рассказывая о том, как трогательно её соседки по палате в больнице ухаживали за ней. В голосе очень добрые нотки. Я с удовольствием смотрю на неё, выслеживая эти добрые нотки. Потом вдруг подумал, что длинный рассказ и вообще наша долгая беседа утомили её, — всё-таки семьдесят, это не шутка. Я поднимаюсь с места, чтобы распрощаться.
А. Ну ладно. Пора и честь знать. Вы устали. Я пойду.
А. А. А. Ну вот. Я вас разжалобила. И вы зажалели меня.
Анна Андреевна смеётся. Очень хорошо смеётся, по-доброму, с душевной лёгкой весёлостью. Но она в самом деле устала. Полчаса тому назад, когда я в середине нашего разговора сказал: «Ну, что ж, гоните меня», Анна Андреевна с живостью и открытой приветливостью остановила меня. «Погодите. Посидите ещё». Теперь она стала подниматься. Я отвернулся к окну. Ей было бы до очевидности неловко, если бы я наблюдал, как тяжело и трудно ей подняться с кресла...
О шубертовском альтино
Хочу рассказать, хотя бы коротко, ещё о двух встречах с Ахматовой — в августе и сентябре тысяча девятьсот шестьдесят второго года. Та же Будка в Комарове. Вечер. Анна Андреевна за тем же письменным столом. Только шаль на плечах её не чёрная, а белая шёлковая.
Анна Андреевна вообще любила шали. Они живописны, а кроме того, хорошо драпируют и скрывают печальные следствия работы времени. Впрочем, она питала слабость к шалям и всякого рода живописным драпировкам и в молодости.
Два года, прошедшие со дня описанной встречи, не прошли бесследно. Анна Андреевна выглядит усталой. Ей, видимо, уже трудно принимать гостей, трудно всё, даже, как мне показалось, трудно сидеть. Кажется, только одно нетрудно — мыслить. Ум её бодр, речь ясна и незатруднена.
Я принёс с собой часть рукописи только что законченной книги «Сумка волшебника». После нескольких приветственных фраз и обмена текущими новостями л говорю, что хотел бы прочесть одну главу из новой своей книги, ту, которая трактует законы писательского дела, его подоплёку, его сложности и неурядицы. Анна Андреевна выражает живейшую готовность слушать:
— Да, пожалуйста. Почитайте.
Я читаю главу «Чтобы быть писателем», известную читателям «Сумки волшебника». Большую часть главы занимает подробнейший анализ пушкинского «Пророка». Выбирая именно эту главу для чтения, я рассчитывал на то, что материал её может заинтересовать Анну Андреевну, которая много занималась в последние годы Пушкиным и писала о нём. К вящему моему удовольствию, оказалось, что я не ошибся. Прослушав прочитанное, Анна Андреевна сказала:
— Очень интересно. Хорошо. Да. Хорошо. И очень ко времени. О высоком назначении поэзии сейчас надо говорить. Нынче ведь золотой век поэзии открывается. Мне вот пишут из разных мест — как поэзию читают! Когда сборники новых стихов приходят в книжный магазин, их мгновенно расхватывают. И авторы этих сборников ведь совсем молодые поэты, ещё, по существу, никому не известные. Книжечки стихов с новыми неведомыми именами раскупаются быстрее, чем книжечки многих очень известных поэтов... Да. Начинается золотой век поэзии, как и в дни Пушкина. Я говорю об этом мальчикам, которые приходят ко мне со стихами. Они не понимают ещё этого. Они никакого золотого века не замечают. Ничего, потом заметят, почувствуют и поймут.
Некоторое время мы ещё продолжаем говорить о поэзии и поэтической молодёжи, которой всегда много вокруг Анны Андреевны. Потом она возвращается к разговору о прочитанном мной, о писательском деле, о Пушкине.
— У вас в конце есть, что таланту вредны фимиамные воскурения. А хула? Постоянное дёрганье? Это как, по-вашему? Ведь что выносил Пушкин. Ужасно. Ведь при жизни, после двадцатых годов, о нём никто доброго слова не сказал. Я горы журналов переворошила. Нигде ни слова одобрения. Только брань. Только хула. В результате Пушкин перестал печатать новые свои стихи. Ни «Медный всадник», ни лучшие лирические стихи Пушкин не печатает. Печатал вещи вроде «Песни западных славян» или переводы из древних. И статьи. В статьях, впрочем, он тоже стал говорить не в полный голос. Только в письмах ещё некоторое время сохраняются пушкинские мысли — такими, какими их хотел выразить Пушкин. Но потом и в письмах он стал осторожнее, предпочитал уже молчать. Помните, в ранние годы — эпиграммы на Воронцова и других. «Полу-милорд, полу-купец» и так далее. А о Бенкендорфе? Ни слова. А если сравнить роль Воронцова и Бенкендорфа в жизни Пушкина... Ведь Бенкендорф был злейший и подлейший враг Пушкина, который буквально не давал ему вздохнуть свободно. И против этого своего злейшего врага нет у Пушкина ни строчки, ни слова, ни эпиграммы, ни намёка на выпад какой-нибудь. Полное молчание. Укрылся и замолчал... Какое страшное молчание.
Анна Андреевна останавливается, растревоженная, взволнованная. Некоторое время после того, чтобы дать ей отдохнуть, я перевожу разговор на вещи обычные, на всё, что вокруг нас. Потом я прошу Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она не заставляет себя долго просить.
— Хорошо. Почитаю вам. Вы не знаете этого. «Поэма без героя». Я двадцать два года работаю над ней. Два отрывка напечатала в последней моей книге.
Анна Андреевна стала читать по большой рукописи. Сперва «Вступление»:
Из года сорокового, Как с башни, на всё гляжу. Как будто прощаюсь снова С тем, с чем давно простилась, Как будто перекрестилась, И под тёмные своды схожу.За вступлением последовала первая часть — довольно большая, около двухсот строк. Вот как записано в моём дневнике содержание этой прослушанной первом части: «Идут размышления, предчувствия, воспоминания, лирические наплывы. Врываются ряженые. Карнавальная сумятица в ночь под Новый год. Пляска теней — масок. Всё это видится во сне и напоминает сцену из пушкинского «Гробовщика». Разговор с кем-то непришедшим, зазеркальным. Гость из будущего, и многое другое — смутное, алогичное, с возвратом в Петербург тринадцатого года и перебивом современностью».
Эта запись сделана семнадцатого августа шестьдесят второго года, часа полтора спустя после прослушания поэмы. Но во время чтения и тотчас после него я ничего чётко логического представить себе не смог. Я был смятен, оглушён, взбудоражен, выбит из привычной логической колеи и эмоционально взвихрён. Ничего путного после чтения я Анне Андреевне сказать не смог. Только спросил смущённо:
— Как это вас настигло?
Анна Андреевна ответила с лукавинкой:
— Бес попутал в укладке рыться.
Почти пятнадцать лет спустя, когда у меня появился полный экземпляр «Поэмы без героя», я смог определить, что ответ Анны Андреевны цитатен, что это строка, открывающая тринадцатую строфу второй части поэмы.
Я ушёл потрясённый. О «Поэме без героя» ни тогда, ни в годы, примыкающие к тому памятному чтению, я подробно с Ахматовой не говорил. В те годы это было выше моего понимания, выше моих возможностей. Сейчас, много лет спустя, имея под рукой полный текст поэмы, я могу составить себе чёткое представление об этом удивительнейшем и мощном произведении.
А теперь вернёмся в комаровскую Будку Ахматовой, куда я снова явился уже через три недели. На этот раз я принёс другую главу «Сумки волшебника», чтобы проверить её на таком высококвалифицированном слушателе, как Ахматова. Глава называлась «Убил ли Сальери Моцарта». Но прежде чем читать её Анне Андреевне, я по сложившемуся меж нами обыкновению стал расспрашивать хозяйку о новостях. Анна Андреевна показала мне большую, почти квадратную зелёную книгу, на обложке которой по-итальянски значилось: «Анна Ахматова».
— Переводчик просит прислать полный текст «Поэмы без героя», которую он знает только в опубликованных у нас отрывках, — говорит Анна Андреевна, показывая зелёную книгу. — Спрашивает, между прочим, что такое Фонтанный дом? Что ему ответить? Можно написать, что это, скажем, дом, в котором я жила.
— На реке Фонтанке, — подсказываю я.
— Да, — соглашается Анна Андреевна, — так понятней...
Я снова принимаюсь за расспросы о новостях. Анна Андреевна рассказывает:
— Польский переводчик был недавно. А на днях Роберта Фроста видела. Он приехал в Ленинград и просил, чтобы обязательно познакомили со мной. Академик Алексеев привёз Фроста к себе на дачу в Комарове, а потом меня туда же привезли.
— Рассказывайте, каков Фрост?
— Старый очень. И выглядит совершенно в своих летах. Болезненный. Он потом полетел на юг, в Гагры, и заболел, бедняга. Фрост спрашивает — какие у нас сосны? У меня на ферме, — говорит, — двенадцать сосен и все карандашные.
Анна Андреевна смеётся.
Потом я читаю принесённую с собой главу «Убил ли Сальери Моцарта?». Анна Андреевна говорит, прослушав:
— Интересно. О Тынянове особенно. Я с ним, между прочим, согласна, что Сальери ни при чём и Моцарта, понятно, не убивал. Это очень свободный вымысел Пушкина, который так же неприемлем для немцев, как для нас неприемлема была бы драма, в которой Пушкин изображался бы убийцей другого писателя. Оснований, собственно говоря, никаких у Сальери для убийства Моцарта не могло быть. Зависть? Но какая же зависть могла быть у Сальери? Он важная фигура, персона грата. В одном из писем Шуберта есть описание какого-то юбилея Сальери. Собралось много бывших и настоящих учеников Сальери. Некоторые такие же седовласые, как и сам юбиляр. Ну, были адреса, подарки, поздравления. Ученики его играли, пели. Шуберт тоже играл и пел. У него был альтино. Сальери был уважаем и известен. Его опера «Тарара» шла одновременно с моцартовским «Дон Жуаном» и пользовалась большим успехом. Либретто для оперы Сальери писал Бомарше. Чему же мог завидовать Сальери?
Что касается версии об убийстве Моцарта, то откуда. она пошла? Моцарт умирал мучительно и медленно. Год. Он постоянно жаловался на тошноты, рвоты, очень страдал. По всем признакам у него был рак. Страдая от ужасных болей и совершенно не зная их причины, Моцарт, случалось, говорил: «Так терзают меня боли, как будто кто-то отравил меня». Поползли слухи, что Моцарт отравлен. Эти слухи усилились после смерти Моцарта, потому что могила его как-то странным образом была затеряна и можно было строить всякие догадки. И это в самом деле странно. Ведь Моцарт был придворным капельмейстером, и человека такого ранга нельзя было бросить в безвестную могилу. Но свидетелей его похорон как-то не оказалось, и никто не знал, где могила его. Так и до сих пор неизвестно. Жена Моцарта — ужасная ведьма, Констанция эта самая, не пошла на похороны мужа по уговору Сальери. Погода будто бы ужасная была. А когда потом её спрашивали, как же она не поставила памятника на могиле мужа, отговаривалась тем, что она думала — памятники ставит администрация кладбища. Это, конечно, глупая отговорка. Кто же не знает, что о памяти и памятнике заботятся близкие умершего. Кстати, эта Констанция вскоре вышла замуж за богатого чиновника. Она поехала на родину Моцарта в маленький провинциальный городок, и когда новый муж её умер, выбросила из могилы отца Моцарта кости покойного и похоронила на этом месте своего чиновника. Страшная ведьма.
Все эти странные обстоятельства, сопровождавшие смерть Моцарта, и потеря могилы подогревали слухи о том, что Моцарт отравлен. Закреплению этой версии способствовало то, что Сальери будто бы на исповеди перед смертью признался духовнику, что он отравил Моцарта. Сальери был католиком, и духовник донёс папе об узнанном на исповеди. Это донесение и было позже обнаружено.
Что об этом можно сказать? Сальери был очень стар и начал выживать из ума. Ему могло показаться, что слухи об отравлении — это факт, и он мог счесть богоугодным делом принять на себя вину и покаяться перед смертью.
Таково содержание беседы, случившейся у нас с Анной Андреевной в сентябре тысяча девятьсот шестьдесят второго года.
Всякий разговор с Ахматовой был для меня всегда интересен и поучителен. Приведённый мной выше разговор с ней, в сентябре шестьдесят второго года, был особенно интересен и особенно поучителен, и вот почему.
В этот вечер я, как сказано, читал Анне Андреевне главу из своей «Сумки волшебника», посвящённую Моцарту и Сальери. Заранее я ни словом не обмолвился о том, что буду читать ей, и персонажи этой моей главы, так сказать, ворвались в ахматовскую Будку нежданно-негаданно. Весь этот разговор о Моцарте, Сальери и их окружении, их эпохе был для неё экспромт, импровизация на только что заданный сюжет. Несмотря на это, всё было так, как будто Анна Андревна тщательно готовилась к разговору на эту тему. Она говорила о предмете с глубоким знанием материала и людей, о которых шла речь. Казалось, что ей ведомо было решительно всё не только о духе эпохи и её представителях, но и самомалейшие детали, относящиеся ко всем областям их деятельности.
Я был совершенно поражён её нежданным для меня рассказом о подробностях юбилея Сальери, о том, что Шуберт на этом юбилее играл и пел, и что у него был приятный голос — альтино. Как же досконально нужно было знать дела и дни почти двухсотлетней давности, чтобы говорить с такой свободой о шубертовском альтино!
Что касается меня, то я этого шубертовского альтино вовек не забуду, как не забуду ни комаровскую Будку, ни её милую моему сердцу хозяйку — Анну Андреевну Ахматову.
Великая служба слова
Семнадцать ответов на шестнадцать вопросов
В некоторых главах я упоминал об анкете, проведённой «Издательством писателей в Ленинграде» среди группы советских литераторов, ответы которых и составили книгу «Как мы пишем», уже цитированную мной.
Анкета, посвящённая «технологии литературного мастерства», как определяли её организаторы, была разослана издательством самым что ни на есть маститым. Ввиду полнейшей и совершенной моей немаститости я, понятно, не получал её и до выхода в свет книги «Как мы пишем» не подозревал даже о её существовании. Узнал я о ней из предисловия к книге и, узнав, немедля воспылал желанием ответить на всё шестнадцать её вопросов. Причиной тому была отнюдь не привлекательность и интересность составляющих анкету вопросов. Напротив, некоторые вопросы были вовсе неинтересны и мелки, вроде вопроса: «Карандашом или пером пишете?» Потребность отозваться на эту анкету родилась из отталкивания, из желания полемизировать. Предисловие упомянутой книги, включающее целиком всю анкету, не вдохновляло на ответы и даже, напротив, пожалуй, отбивало желание знакомиться с книгой. Но я всё же прочёл её. И не пожалел. Оказалось, что в ней есть превосходные вещи. Оказалось, что и на неумные вопросы можно умно отвечать. Оказалось, что, будучи талантливым и пристальным, горячим и заинтересованным в своём деле, можно, несмотря на искусственно поставленные шоры, увидеть многое. Можно и вовсе разбить вдребезги анкетные рамки, что и сделали Шкловский, Тынянов, Форш и те, кто пошёл за ними путём свободного рассказа о том, что больше всего интересует писателя в кровном его деле написания книг. Моя задача иная. Так как я хочу показать и анкету и смысл жизненного дела писателя, я заранее отказываюсь от свободного повествования и привязываю себя, как каторжник к ядру, к анкетному строю изложения материала. Я буду отвечать последовательно на все вопросы анкеты. При этом отвечать на анкету я буду не от себя лично, а как бы от всех писателей.
Итак, обращаюсь по очереди к шестнадцати вопросам анкеты.
Вопрос первый: «Подготовительный период? Длительность его?» Ответ может быть только один — вся жизнь. Каждая книга каждого писателя подготовляется, складывается, организуется в сознании, а значит, и пишется, целую жизнь. Иногда напишется то, что случилось вчера, иной раз то, что минуло полвека назад, а другой раз и то, чего ещё и вовсе нет, но что уже видится писателем в грядущем. В каждой книге — вся жизнь автора, да и не только автора.
Вопрос второй: «Какими материалами преимущественно пользуетесь (автобиографическими, книжными, наблюдениями и записями)?» Писатель пользуется всегда одними и теми же материалами, то есть всем, что знает, помнит, умеет и переживает всё человечество, всем, что знает, помнит, умеет и переживает ближайшее окружение писателя, составляющее его питательную среду, и всем, что знает, помнит, умеет и переживает сам писатель. Никаких других источников, питающих творчество писателя, быть не может и не требуется, но меньшее недостаточно для написания чего-либо путного.
Вопрос третий: «Часто ли прототипом действующих лиц являются для вас живые люди?» Всегда и никогда. Из ничего ведь может получиться только ничто. Писатель пишет неизменно только то, что знает, а значит, и люди, населяющие его романы, рассказы, поэмы, драмы, — это люди, ведомые ему, ведомой среды, ведомой жизни. Таким образом, писатель всегда в той или иной мере пишет с натуры. Гоголь, например, утверждал, что, воображение «не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре».
Но тот же Гоголь утверждал: «Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии оригинала».
То же и со всеми другими без изъятия писателями. Все они, как и Гоголь, на вопрос, часто ли прототипами их персонажей являются живые люди, обязательно должны ответить — всегда и никогда. Всегда в какой-то степени и никогда в полной.
Это относится даже к тем писателям, которые хотели бы откреститься от жизни живой. Байрон рвал написанное на клочки, если замечал, что оно слишком напоминает обыкновенную жизнь. Но, несмотря на это, в персонажах его лежит явственный и неизгладимый отпечаток черт, привычек, склонностей и характеров окружающих его людей, а заодно и его собственных черт, жизненных навыков, склонностей и собственного его характера. Пытаться стать вне жизни и над жизнью для писателя столь же бессмысленно, как пытаться поднять себя за волосы.
Вопрос четвёртый: «Что вам даёт первый импульс к работе (слышанный рассказ, заказ, образ и т. д.)?» Никогда не бывает, чтобы импульс к началу работы был одиночным, единственным, точечным, отграничение чётким. Импульс всегда даётся перу множественностью причин, множественностью изначальных движений. Импульсами одновременно или разновременно могут быть сердце, уши, глаза, ноздри, руки, ноги, воздух, горы, реки, цветы, снег, движение, слова, книги, птицы, музыка, радость, отчаяние, бегущие облака, муравьи, болезнь, первые шаги ребёнка, прикосновение, красный бочок яблока, полосатость арбуза, смерть близкого, газетная заметка, жужжание комара, перебежавший дорогу чёрный кот, подарок, скверное настроение, выстрел и семьсот четырнадцать тысяч девятьсот сорок пять других вещей, состояний, событий, явлений. А кроме того, конечно, случай, который, по мнению Бальзака, является лучшим романистом.
Желание указать на более конкретные и точные изначальные импульсы, послужившие толчком к работе, приводит обязательно к ошибке или обману, в лучшем случае — к самообману. Разыскания этих начальных начал в малой степени интересны, ещё менее того поучительны и, в сущности говоря, никому не нужны. Самому писателю совершенно безразлично, что было раньше — курица или яйцо. Важно уметь сделать яичницу.
Вопрос пятый: «Когда работаете: утром, вечером, ночью? Сколько часов максимум?» Работает писатель всегда — и утром, и днём, и вечером, и ночью, и на рассвете, и в сумерках, и в будни, и в праздники, и в пути (Пушкин писал в одном из писем к жене: «... я и в коляске сочиняю»), и на больничной койке, и в объятиях любимой, и за обедом, и на собрании, и переходя людный перекрёсток, и на концерте, и наяву, и во сне. Писатель работает, как сердце, — безостановочно, круглые сутки, всю жизнь.
Вопрос шестой: «Примерная производительность в листах в месяц?»
На этот вопрос никто не в состоянии ответить. Производительности в листах у писателя нет и быть не может. Утром он написал пять страничек и в избытке чувств от удачно и хорошо сделанного прыгал вокруг письменного стола козлом. А вечером, пораздумав над написанным, разорвал всё в мелкие клочки и обрывки мрачно сунул в стоящую под столом корзинку. Вот тебе и производительность в листах.
Когда у одного писателя спросили как-то, хорошо ли он сегодня поработал и много ли написал, он ответил с воодушевлением: «О да. Я поставил сегодня запятую». Когда на другой день ему задали тот же вопрос, он с неменьшим воодушевлением воскликнул: «О, я сделал сегодня очень важное дело. Я зачеркнул запятую, которую поставил вчера». Я не помню, кто был героем этого эпизода — не то Флобер, не то Бернард Шоу. Впрочем, возможно, что это просто литературный анекдот. Но и в этом случае он верен и хорош. Жаль, что составители анкеты, по-видимому, не знали его.
Вопрос седьмой: «Наркотики во время работы: в каком количестве?» В количестве огромном, но разнообразия никакого. Наркотик всегда один и тот же — воображение.
Вопрос восьмой: «Техника письма: карандаш, перо или пишущая, машинка? Сколько раз переписываете рукопись? Много ли вычёркиваете в окончательной редакции?» Что можно ответить на эти три совершенно различных вопроса, объединённых почему-то в один? Первый — о карандашах и перьях — поражает своей никчёмностью. Неужели изобретатели анкеты думали, что читателю важно знать — карандашом или чем иным написаны «Война и мир» и «Мёртвые души»? И неужели им неизвестно, что ни карандашом, ни чернилами настоящие писатели не пишут; что пишут они кровью сердца?
И неужели неведомо любителям задавать ненужные и докучные вопросы, что любое произведение, над которым любой автор работает, переписывается столько раз, сколько это, по мнению и по чувству автора, требуется? И вычёркивается, само собой разумеется, в окончательной редакции столько, сколько автор считает необходимым вычеркнуть. Арифмометром или электронно-вычислительной машиной он при этом не пользуется, и подсчитыванием того, сколько вычёркивается и сколько остаётся, никто, понятно, не занимается за полной бессмысленностью этого занятия.
Вопрос девятый: «Составляется ли предварительный план и как он меняется?» Вопрос интересен и сложен. Что касается того, как план меняется по мере написания вещи, то об этом можно написать не один толстый том и трогать этот вопрос в беглом очерке нет смысла. Что касается самого существования плана, то без предварительного плана, то есть более или менее оформившегося намерения что-то делать, не только ни одно литературное произведение не может родиться, но и вообще никакое человеческое дело сделаться не может, даже самомалейшее. Даже если речь идёт о том, чтобы проехать на трамвае один-два километра. И тогда вы прикидываете, на каком трамвае ехать и как лучше пройти к остановке. Естественно, что чётко или нечётко оформившийся, записанный или незаписанный план есть обязательно у всякого литературного произведения. Больше того — по мере движения материала часто возникает потребность у автора помочь этому движению, помочь пониманию вещи составлением плана отдельных частей произведения, иногда даже малых — глав, эпизодов, сцен. В главе «Было два письма Татьяны Онегину» я рассказал, как план письма Татьяны, набросанный первоначально прозой, позже воплотился в великолепные стихи третьей главы «Евгения Онегина».
Какое значение придавал Пушкин плану, свидетельствуют его слова: «Единый план Дантова «Ада» есть уже плод высокого гения». Однако существует у Пушкина и несколько иное отношение к плану. В ноябре тысяча восемьсот двадцать пятого года в письме из Михайловского в Петербург своему другу А. Бестужеву Пушкин пишет: «Кланяюсь планщику Рылееву, как говаривал покойный Платов, но я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов».
Это высказывание Пушкина расходится не только с приведённым мной мнением о плане Дантова «Ада», но и со всей творческой практикой поэта. Планы Пушкин составлял и к «Борису Годунову», и к «Цыганам», и к «Полтаве», и вообще ко всем более или менее крупным своим произведениям, а иной раз и к отдельным частям их, как это мы видели с письмом Татьяны Онегину. Случалось, намечались планы и к отдельным стихотворениям: «Пора, мой друг, пора...», «Пророк» и другим.
Надо полагать, что ироническое, хотя и благожелательно дружеское отношение к рылеевским планам следует отнести не столько к плану вообще, сколько к невыполненным планам, или, как выражался Пушкин, «плану без стихов».
Что касается пушкинских планов и их места в творчестве поэта, то об этом следует писать особо, и когда-нибудь я обязательно сделаю это.
А теперь вернёмся к вопросу о планах, вне соотнесения их с пушкинскими планами. План, конечно, нужен, и даже тогда, когда кажется на первый взгляд, что можно обойтись и без него. Очень хорошо сказал по этому поводу Вениамин Каверин, заметив, что план нужен хотя бы для того, чтобы его опровергнуть. Это так. Ибо план и опровержение его — это прежде всего процесс организации того, что задумывается и пишется. А без процесса организации никакое действие человека невозможно.
Вопрос десятый: «Что оказывается для вас труднее; начало, конец, середина работы?» Всё труднее. В начале, в середине, в конце — пишущему всегда трудно. Лёгких участков работы не бывает. И ни опыт, ни мастерство в этом смысле не помогают. Напротив, чем опытней автор, тем ему трудней, потому что тем лучше понимает он, что такое высокое и прекрасное в искусстве, тем больше и страстней стремится к этому, и одновременно тем требовательней он к себе. Так оно и есть и иначе быть не может. Ещё Евгений Петров (уже без Ильи Ильфа) сказал: «Работа должна быть трудной». А ещё того раньше Савич утверждал, что «если жизнь трудна, значит, она настоящая». Настоящая работа настоящего писателя всегда ему трудна — и в начале, и в середине, и в конце.
Вопрос одиннадцатый: «На каких восприятиях чаще всего строятся образы (зрительных, слуховых, осязательных)?» В пушкинском «Пророке» глаза и уши поэта первыми подвергаются волшебной обработке серафима, обостряющей слух и зрение. Они — передовые наши разведчики в познании окружающего нас мира, хотя и не единственные.
Эдмон Гонкур в своём «Дневнике» указывает на то, что вслед за глазом и ухом в литературе появляется нос — как средство познания действительности. Правда, утончённый эстет Гонкур от этого не в восторге и пренебрежительно отзывается об Эмиле Золя с его «носом охотничьей собаки», привнёсшем в литературу антиэстетические запахи парижского рынка.
Едва ли, однако, Гонкур имеет серьёзные основания сетовать на нос. Ведь много раньше скверных запахов гниющих овощей нос принёс в литературу аромат роз, ландышей, орхидей, магнолий, а ещё раньше — мирры и всех нежнейших благовоний пышного Востока. Вне всяких сомнений, нос вполне равноправен с глазами, ушами, пальцами и даже воображением в разведке ощущений и чувств. Все они, вместе взятые, и работают на первые наши впечатления. А кто первый и кто самый главный — это решается в каждом отдельном случае по-иному. Чаще всего — они сообща несут поток ощущений, впечатлений, импульсов, зарождающих и организующих в художнике образы сущего.
Вопрос двенадцатый: «Ставите ли себе какие-нибудь музыкальные, ритмические требования?» Всё в этом мире, исполненном движения, имеет определённый ритм, всё, в том числе и речь человеческая — как живая устная речь, так и записанная. Уже из одного этого ясно, что, работая со словом, не ставить себе ритмических задач невозможно. Пишущий ощущает не только общий ритмический строй целого, не только озабочен слитностью, поточностью речи, музыкой всего произведения, над которым работает, но и ощущает ритм всякого периода, всякой фразы, всякого слова, им написанного. Чаще всего он начинает ощущать и свирепо ищет это ощущение ритма ещё раньше написания. Маяковский вытаптывал, выборматывал, бессловесно мычал свои будущие стихи раньше, чем найти их словесное выражение и положить на бумагу. То же или примерно то же происходит с большинством других поэтов.
Принципиальных различий в подходе к своей работе между поэтами и прозаиками нет. Проза в такой же степени пронизана ритмом, как и стихи. Ритм в ней менее бросок, менее очевиден, менее ярко выражен, но существует обязательно. Хорошее ухо всегда улавливает ритм прозаической и даже просто обыденной речи.
У писателя не может быть плохого уха. Отлично слышать и тонко различать ритмы — это его первейшая обязанность и первейшая забота. Поэтому, повторяю, работая над словом, не ставить перед собой ритмических задач невозможно.
Вопрос тринадцатый: «Проверяется ли работа чтением вслух (себе или другим)?» Всё, что когда-либо написано, когда-либо читается. В каждом чтении, даже в немом, про себя, участвует слух. Когда дирижёр, готовясь к исполнению какой-нибудь симфонии, развёртывает перед собой листы партитуры и начинает изучать её, пока ещё только глазами, он не только читает нотные знаки, но и слышит эту симфонию.
Совершенно то же происходит и с каждым пишущим. При написании он обязательно одновременно и читает то, что пишет. В чтении этом он всегда следует ритму читаемого. Ритм этот явно ощутим и в немом чтении. В сущности говоря, всякое немое чтение есть одновременно и чтение вслух, так как, читая про себя, мы всё равно произносим слова, хотя и беззвучно.
Приходилось ли вам когда-нибудь внимательно наблюдать за человеком, увлечённо углубившимся в чтение? Если да, то вы не могли не заметить, что многие из читающих беззвучно шевелят губами. Читая про себя, они читают и вслух.
По существу, то же происходит и с каждым из нас, хотя не каждый из нас явственно шевелит губами, а шевеля, не каждый из нас замечает это за собой. И всё-таки каждый читающий, хотя бы и незримо, шевелит губами. Больше того, мы, даже думая, мысленно произносим слова. Образ слова живёт в нас вместе с музыкой слова, с его ритмом.
Когда слово читается вслух, произносится, за ритмом его, конечно, легче следить, чем за ритмом немого слова. А слежение за словом — это постоянное состояние пишущего. Вот почему, стремясь облегчить себе это необходимое ему слежение, каждый пишущий стремится при первом удобном, а иногда и неудобном, случае прочитать написанное вслух. Некоторые писатели создали себе в помощь твёрдый навык прочитывать вслух всё, что напишут, тут же у письменного стола, непосредственно после написания. Иные ищут слушателей где придётся и хищно набрасываются на них. Чаще всего жертвами этих налётов становятся друзья автора. В последней строфе «Евгения Онегина» Пушкин, заканчивая свой многолетний и огромный труд, счёл долгом упомянуть о первых своих друзьях-слушателях:
А те, которым в дружной встрече Я строфы первые читал, Иных уж нет, а те далече, Как Сади некогда сказал...Так было с Пушкиным. Так и с каждым из пишущих.
Вопрос четырнадцатый: «Какие ощущения связаны с окончанием работы?» Всякому человеку всякую работу кончать приятно. Работа — это ведь обязательно тревога, забота, сердечный непокой, желание сделать хорошо, жестокие сомнения в своих силах и душевная усталость. И когда всё это кончается, когда от всего этого уже освободился, не может быть человеку не радостно. Но длится эта радость недолго и, как правило, прочтения написанного не выдерживает. Горький писал: «Кончая работу, прочитываю всю её с трудом и почти всегда с тяжёлым сознанием неудачи».
Да. Бывает так, и нередко. Но бывает и совсем иначе. Пушкин, окончив «Бориса Годунова» и перечтя его вслух, радостно бил в ладоши и вскрикивал: «Аи да Пушкин! Аи да сукин сын!».
Дети радуют, но и огорчают. Радость и горе тут всегда вперемежку, и когда чего больше — не сразу и разберёшь. Родительство — обязанность трудная и заботная. Но говорят, у родительниц обязательна — чистейшая радость, когда они впервые берут на руки рождённое дитя. У писателя тоже обязательна первая минута чистой радости. А потом, — потом уже больше огорчительное идёт.
Вопрос пятнадцатый: «Меняете ли вы текст при последующих изданиях?» Текст пру всяком повторном чтении автором своей вещи обязательно и всегда, в большей или меньшей степени, меняется. Повторного чтения без правки не бывает и быть не может, если только автор не самовлюблённый Нарцисс. Святое недовольство сделанным, да и просто элементарное чувство реального, не позволит настоящему человеку и настоящему писателю, прочтя свою вещь, признать её шедевром, в котором уже нечего править. Лев Толстой говорил, что, подписав к печати последнюю корректуру и сдав её в типографию, он всегда испытывает сожаление, что больше уже ничего не может сделать, чтобы улучшить вещь.
Хемингуэй об этом же в одном из интервью говорит так: «Последняя возможность вносить правку — корректура. И каждой такой возможности радуешься».
Вопрос шестнадцатый: «Оказывают ли на вас какое-нибудь влияние рецензии?» Горький утверждал, что рецензии никогда и никак на него не влияли. Но рядом с этим высказыванием можно привести и иные, в том числе и прямо противоположные. Вообще говоря, писатели злы на критиков и не склонны к добрым словам в их адрес, в такой же, впрочем, мере, в какой и критики не тороваты на добрые слова о писателях. Взаимные недовольства и попрёки стары, как литературный мир. Писатели сетуют на то, что среди критиков нет Белинских; критики попрекают писателей тем, что не видно что-то среди них Львов Толстых. Повелось это давно и кончится невесть когда. Да и кончится ли — неведомо. А пока, не дожидаясь окончания этого тяжкого и ставшего хроническим состояния, я бы счёл нелишним напомнить братьям-писателям четыре строчки из крыловских «Цветов»:
Таланты истинны за критику не злятся. Их повредить она не может красоты. Одни поддельные цветы Дождя боятся.Крылов был мудр и человечен, и напоминание его о бумажных цветах кажется мне весьма уместным и сегодня. А теперь перейдём к следующим вопросам.
Впрочем, вопросов-то, кажется, уже и нет. Все шестнадцать пунктов анкеты — и мелочные, и деловые, и творчески интересные — исчерпаны. Очевидно, однако, что этой слабо продуманной анкетой вопросы литературного мастерства далеко не исчерпаны. К. перечисленным шестнадцати вопросам можно прибавить ещё сто шестнадцать. На такой труд я не замахиваюсь, но один вопрос я бы хотел добавить. Без него, мне кажется, невозможен никакой разговор о литературном труде и литературе вообще. Вопрос, о котором пойдёт речь, касается взаимоотношений писателя и читателя.
Разговор этот, как легко себе представить, весьма непрост. На сложность и противоречивость проблемы взаимоотношений и взаимосвязей писателя с его средой указывал ещё Энгельс, который, говоря о Бальзаке, утверждал, что иногда он в своих книгах выступал «против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков». Энгельс считал это «одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака».
Вот оно как сложно всё в этом мире, а в литературном мире особенно. В произведении своём писатель может быть больше себя самого. Такова сила искусства, мало ещё изученная нами.
Одна из главнейших составляющих этой силы — прочность связей писателя со своей питательной средой, с миром, его окружающим, со своей страной, с народом своим, с читателем. Писатель и читатель — единство неразрывное, нерасторжимое. Писатель невозможен без читателя, как актёр без зрителя, музыкант-исполнитель без слушателя, живописец, устроивший выставку, без посетителя этой выставки, глядящего на картины его и впитывающего в себя всё, чем мучился, чего желал, к чему стремился, чего достиг и чего не успел или не смог достичь тот, кто писал эти картины.
Весной шестьдесят шестого года на музыкальном фестивале в Праге известный пианист Артур Рубинштейн был спрошен корреспондентом одной газеты:
— Вы играете когда-нибудь просто так, для себя? Рубинштейн ответил:
— Знаете, это смешно, но я никогда себе ещё не сыграл ни одной пьесы. Я начинаю, говоря: вот я сыграю сейчас для себя эту сонату, и всегда нахожу в ней то, что мне не нравится, и начинаю работать. Я ни разу в жизни не сыграл себе ни одной пьесы до конца... Нужен слушатель, тогда я доиграю до конца.
«Нужен слушатель» — так говорит превосходнейший и опытнейший артист, чей дебют в концертных залах состоялся ещё в прошлом веке, вся долгая жизнь которого — музыка и служение музыке. Нужен слушатель, нужен зритель (Пикассо сказал как-то: «Картина живёт лишь через человека, который на неё смотрит»), нужен читатель — так, несомненно, думает и чувствует каждый художник, каждый живущий в искусстве и несущей в себе ответственность перед своим делом. Так думали всегда истинные художники.
В тридцать седьмом году на многолюдном Пушкинском пленуме в своём чудесном докладе «Проза Пушкина» Юрий Тынянов сказал: «Произведения Пушкина открыты для читательского творчества». И ещё: «Особенность пушкинского повествования в том, что перед нами не монолог, который ведёт автор, а как бы половина диалога, в котором присутствует молчаливый собеседник — читатель. Повесть (речь идёт о «Кирджали» — И. Б. ) кончается фразой „Каков Кирджали?"».
Прекрасно сказано. Прекрасное раскрытие характера пушкинского повествования. Единственно, что хочется к этому добавить, разве только то, что ведь, в сущности говоря, эта «особенность пушкинского повествования» обязательна для всякого, кто ищет в искусстве подлинных ценностей, кто стремится к созданию подлинных ценностей в литературе.
Н. Гоголь в предисловии ко второму изданию «Мёртвых душ» прямо обращается к читателю, настаивая именно на диалоге, а не на монологе, и прося читателя о поддержке его труда своим трудом. «Притом, — пишет Гоголь в этом предисловии, — от моей собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой странице есть что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня».
Не все писатели предпосылают своим произведениям подобного рода обращения к читателям, но каждому настоящему писателю, которому его писательство дорого, такое обращение мнится. Очень хорошо сказал об этом в своих «Письмах к начинающим литераторам» М. Горький: «От слияния, совпадения опыта литератора с опытом читателя и получается художественная правда, — та особенная убедительность словесного искусства, которой объясняется сила влияния литературы на людей».
Иноязычное слово
Пушкин как-то сказал, что Жуковского мало переводят на другие языки потому, что он сам слишком много переводит с других языков. Это правда. Жуковский переводил очень много. К примеру, из тридцати одной его баллады вполне оригинальны только две: «Светлана» и «Громобой».
Переводили усердно иноязычное слово на «язык родных осин» не один Жуковский, а почти все видные поэты прошлых и наших времён, в том числе и столпы русской поэзии, зачинатели её — Пушкин и Лермонтов. Наши крупнейшие советские поэты Николай Тихонов, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Николай Заболоцкий, Павел Антокольский, Самуил Маршак, многие другие были одновременно и превосходными переводчиками.
Переводческая работа — добрая работа. Она сближает нации, роднит народы, несёт непрестанный каждодневный дозор на пограничных рубежах поэзии, и не для того, чтобы разгораживать, а для того, чтобы объединять культуры различных народов.
Всё, что я сказал здесь о стихах, о поэзии, можно целиком и полностью отнести к прозе, вообще ко всем жанрам литературы.
А теперь позвольте обратиться к своему личному опыту в области работы с иноязычным словом. Только однажды в эту высокую службу мировой культуры довелось включиться и мне. Обстоятельства, сопровождавшие эту мою работу, были довольно необычными, и, пожалуй, стоит рассказать об этом подробней. Я не думаю, что в данном случае обязательно строго хронологическое изложение, и начну почти с конца.
Витийство — не моя стихия, и трибуна мне противопоказана. Загнать меня на неё могут разве что обстоятельства чрезвычайные. Именно в силу чрезвычайных обстоятельств я и оказался четвёртого сентября тысяча девятьсот шестьдесят девятого года в Полтаве, на трибуне научной конференции, посвящённой двухсотлетию со дня рождения основоположника новой украинской литературы, автора известнейшей «Наталки-Полтавки» и ослепительной «Энеиды» Ивана Петровича Котляревского. Я должен был сделать доклад на тему «Двадцать лет с Котляревским. К истории первого перевода «Энеиды» на русский язык». С душевным трепетом взгромоздился я на всенародную трибуну празднеств и сказал так;
«Дорогие друзья, дорогие атаманы и ватажки войска троянского и украинской литературы. Я счастлив, что попал наконец в ваш курень, в те заповедные места, где жил, работал, думал, писал, страдал и радовался дорогой всем нам Иван Петрович, где явился на свет достославный Эней — буйное, бессмертное его детище.
В эти светлые дни я не могу не поделиться со всем станом троянским бывалой своей радостью первых встреч с Иваном Котляревским и его Энеем. Началось это давно, в девятьсот пятом году, в далёком северном Архангельске, где жил я со своими родичами, где судьба свела меня, тогда ещё мальчишку, с политическим ссыльным — киевлянином Вороной. Он-то и научил меня балакать по-украински и петь украинские песни. От него я и услышал впервые о моторном парубке Энее, который ужасно много пил, ел, куролесил и стихи о котором звучали как прекрасная, веселящая душу музыка.
Но однажды Ворона исчез из Архангельска, высланный куда-то в другое место, и вторая встреча с Энеем произошла уже в Ленинграде в тридцать четвёртом году. Копаясь как-то в книжном развале букиниста, я наткнулся на небольшой томик стихов и, открыв его, прочёл в первой же строке книжки: «Эней був парубок моторный».
У меня дрогнуло сердце. Было так, как будто после тридцатилетней разлуки я вдруг снова встретил на улице незнакомого города старого друга. Я полетел с купленной книжкой домой и залпом проглотил первую часть блистательной «Перелицованной Энеиды» Ивана Котляревского. В совершенном восторге от неисчерпаемого богатства её красок я тут же положил себе перевести «Энеиду» на русский язык и вечером того же дня уселся за перевод. И с первой же минуты этой работы всё у меня как-то славно заладилось. Всё в этой ирои-комической «Энеиде» было сродни моей душе, и весёлые троянцы вместе со своим бесшабашным ватажком словно только и ждали встречи со мной.
Всё, что вершил Эней и его буйные троянцы, проделывалось на улыбке и с необыкновенной оживлённостью. Стих Котляревского лёгок, движлив, поточен и музыкален. Юмор его грубоват и смачен, колорит предельно ярок, и всё вместе — живая жизнь. Зевс и Венера, Эней и Дидона, Анхиз и Кумская сивилла — все они, оставаясь богами или героями, эллинами или троянцами, в то же время — истые украинцы. «Энеида» даёт широкую, полнокровную, красочную картину украинского народного быта конца восемнадцатого — начала девятнадцатого века.
Я впивался в «Энеиду», как пчела в медоносный цветок, Я пил нектар строк с упоением и почти приплясывал на месте, вписывая в маленький красный блокнотик перевод первой строфы «Энеиды»:
Эней детина был проворный И парень хоть куда казак, На дело злой, в беде упорный, Отчаяннейший из гуляк. Когда спалили греки Трою, Сравняв её навек с землёю, Эней, не тратя лишних слов, Собрал оставшихся троянцев, Отпетых смуглых оборванцев, Котомку взял и был таков.Так начались Энеевы и мои приключения, к коим мы ещё успеем обратиться, а пока займёмся делами славного троянца. Дойдя до моря, Эней сколотил для своего воинства челны и пустился в них по неверным хлябям морским в дальний и неведомый путь, который после многих приключений привёл его к Карфагену, где встретила Энея и дала ему с его ватагой приют царица Карфагенского царства Дидона.
Бедняжка, будучи вдовой, Одна по берегу гуляла, Как вдруг троянцев повстречала, Что наобум брели толпой.Начались спросы да расспросы. Дидона, само собой разумеется, захотела узнать у троянцев:
Какой вас чёрт сюда направил? Что за герой сюда причалил? И что за банда с ним гуляк? Троянцы тут забормотали, Дидоне скопом в ноги пали, А вставши, отвечали так: «Народ мы, вишь ты, православный, Но нет нам счастья в жизни сей, Мы народились в Трое славной, Да вот, опутал нас Эней; Нам дали выволочку греки, Энея самого навеки В три шеи выгнали. Тогда Он нас сманил оставить Трою И в море уволок с собою; Вот и приплыли мы сюда: Помилуй, пани, наши души! Не дай погибнуть молодцам; Дай отдышаться нам на суше, Эней спасибо скажет сам. Ты видишь, как мы отощали, Одёжку, лапти — всё порвали, Кафтаны, свитки — просто срам! Как псы, без хлебушка сидели, От голода в кулак свистели, Такая вышла доля нам». Дидона горько зарыдала И долго с белого лица Платочком слёзы вытирала. «Когда б, — сказала, — молодца Энея я бы увидала, Тогда б весёлой снова стала, И был бы светлый праздник нам!» Тут хлоп Эней, как сокол с лёта: «Я здесь, коль вам того охота!» И падает к её ногам.Ну, естественно, на радостях по случаю такой счастливой встречи пошёл пир горой:
Все пили снова, ели снова, Таких поищешь едоков, — Да всё с тарелочек кленовых, Из новых обливных горшков: Свиную голову под хреном, Потом лапшу на перемену, Пришёл черёд и индюку, За саломатой ели кашу, Там путрю, и зубцы, и квашу, И коржик с маком на меду. И пили кубками сливянку, Мёд, пиво, брагу, что могли, И просто водку, и калганку, Для духу можжевельник жгли, Бандура горлицу бренчала, Сопелка зуба задувала, Свистела дудка невпопад; И после скрипки заиграли, Дивчата бойко танцевали И чоботами били в лад.Гулянка и празднества продолжались и на другой день, и ещё много дней, пока Зевес, спохватившись, что герой что-то уж очень сильно засиделся в Карфагене, не послал своего вестника Меркурия с приказанием Энею убираться вон из Карфагена и плыть с троянцами дальше, чтобы исполнить всё предначертанное ему богами.
Меж тем покинутая Дидона, не находя себе места, плакала и металась по своим пустым покоям. Потом в отчаянии сложила костёр и подожгла его. Потом...
Перед огнём Дидона встала, Разделась мигом догола, В огонь одёжку побросала И молча на костёр легла. Над нею пламя полыхало. Покойница в дыму пропала, Она разлуки не снесла, Любви по гроб не изменила; И тело на огне спалила, И чёрту душу отдала.Все примеры переведённых на русский язык строф я до сих пор брал из первой части «Энеиды». Делал я это намеренно, чтобы дать почувствовать не только строй языка переводчика, но в какой-то степени и изначальную ритмичность движения материала, стройность и логику сюжетного построения. Кроме того, выбранные образчики перевода свидетельствуют, на мой взгляд, о том, какие трудности стояли перед переводчиком, впервые за сто пятьдесят лет существования блистательной поэмы взявшимся за перевод её на русский язык.
В сущности говоря, эта блистательность, эта неповторимая прелесть текста, вместе с высочайшим мастерством автора, были сами по себе, пожалуй, одной из главнейших трудностей, задержавших перевод прекраснейшего творения на полтора столетия.
Трудности эти бесчисленны. Трудны: необычное богатство языка, его первородная народная стихия, его яркая образность, его изобразительная сила, великолепное исчерпывающее знание всех тонкостей народного языка, быта, нравов, обихода народной украинской жизни, столь же великолепно воплощённых в текучем, гармоничном, непринуждённом стихе. Необыкновенна и яркость, густота колорита, точность и живописность конкретных деталей быта, убранства, одежд, яств, напитков, причёсок, чеботов, шляп, убранства стола, хат, челнов.
К слову сказать, эти детали обихода и убранства столь красочны, что иной раз почти невозможно найти им в русском языке и в русском обиходе равноценных двойников-заменителей. Особенно досаждали мне женские наряды. Как только Юнона, Венера, Дидона, Лавися или другие жинки земного или божественного происхождения начинали причепуряться, так хлопот с ними не оберёшься. Ну вот, к примеру, Юнона, делающая свой туалет перед тем, как отправиться навестить Эола,
Сховала пiд кiбалку мычку, Щоб не свiтилася коса.Ну как переведёшь эту самую «кiбалку»? Как найти русское подобие этого головного убора? «Кокошник» или «повойник»? Ни то, ни другое, ни что иное. Да если б, скажем, «кокошник» и был идентичен «кiбалке», он и тогда не годился бы, так как он слишком русский и не дал бы понятия о наряде украинки. Надо сказать по-русски и. остаться в украинской стихии, да к тому же в стихии не сегодняшнего украинского языка и не сегодняшней Украины, а в стихии восемнадцатого века и даже более древнего строя языка, уклада — вот в чём страшная трудность перевода «Энеиды».
Но вернёмся к насущным конкретностям. То же, что с «кiбалкой», происходит со множеством вещей на каждой странице. Как переведёшь «кунтуш з усами», надетый на Венере во время посещения ею Зевса? Или вот — одаривая Энея,
Йому Дидона пiдослала, Що от покiйника украла, Штамп i пару чобiток, Сорочку i каптан з китайки, I шапку, пояс з каламайки, I чорний шовковий платок.Все многочисленные подарки надо уложить в четыре зарифмованные строки. Эти перечисления всегда трудны. Что-нибудь да не лезет в строку: то «шапка», то «сорочка», то всё лезет, кроме «пояска», который никак не впихнёшь. На этот раз как-то всё вроде поместилось, но зато застрял я на строках:
Сорочку i каптан з китайки, I шапку, пояс з каламайки...«Китайка» и «каламайка», срифмованные на украинском языке, в заменителях никак не хотели рифмоваться на русском. Я не находил двух таких лёгких материй, которые были бы идентичны с «китайкой» и «каламайкой» и рифмовались бы. «Каламзйку», правда, я сразу пристроил. Русская сероватая «коломянка», штаны из которой кой-где в провинции носят летом и по сей день, вполне подходила. Но лёгкой материи, которая заменила бы «китайку» и рифмовалась с «каламянкой», я не находил. И вдруг (хорошо иногда быть стариком) я вспомнил, что в дни моего детства, в начале века, почтенные старцы ещё носили лёгкие нанковые пиджаки. И тогда непокорные строки стали сразу в лад:
Ему Дидона подарила Всё, что от мужа сохранила: Портянки с парою сапог, Рубаху и кафтан из нанки, И поясок из коломянки, Штаны, и шапку, и платок.Так же, как с одеждами, и, пожалуй, ещё сложней обстоит дело с танцами, играми, песнями, кушаньями, напитками. А как перевести «пiярскую граматку», по которой обучаются троянцы в четвёртой части поэмы, а «кобылячу голову» из второй части, а «теревенi-венi» в объяснениях Юноны с Юпитером в шестой части?
В великолепном и красочном мире Котляревского жить всегда радостно и всегда трудно. Выкарабкавшись из одной трудности, неминуемо влезаешь тотчас в другую. Вот, скажем, в третьей части Эней, бредя по аду с Кумской сивиллой, встречает вдруг
Петька, Терешка, Шелiфона, Панька, Oxpiмa i Харка, Леська, Олешка i Сiзьона, Пархома, Iська i Феська.И так далее на целую строфу. С рифмовкой этих двадцати имён неминуемо возникают осложнения. «Харка» и «Феська» хорошо рифмуются в родительном падеже, оставаясь украинцами, но став русскими — Харитоном и Феодосией, они рифмоваться не желают ни в каком падеже.
Впрочем, с именами бывают затруднения и посложней. Хорошо ещё, когда все эти Харки и Охримы, Пархомы и Олешки, встретясь с приятелем Энеем, хотя бы и в аду, мирно беседуют. Тут ещё с ними можно сладить. Но когда они все передерутся, тогда уж беды не оберёшься. Батальные сцены — одни из труднейших для перевода. Всё в бешеном движении и кипении,
Натиснули i напустились, Рутулыцi кинулись на вал, Троянци, як чорти, озлились, Рутульщiв били наповал. Трiщали костi, рёбра, боки, Летiли зуби, пухлы щоки, З носiв i уст юшила кров: Хто рачки лiз, а хто простягся, Хто був шкереберть, хто качався, Хто бив, хто рiзав, хто колов.В этой бешеной свалке мелькают Эней, Турн, Иул, Ремул, Геленор, Лик, Пандар, Батиас, Лигар, Эмфион, «Лутецiй бъе Iлюнея, Циней Арефа, сей Цннея». Словом, кто кого и кто во что горазд. В столь темпераментной и бескомпромиссной свалке страстей и имён наряду с троянцами и рутульцами легко погибнуть или, во всяком случае, сильно пострадать и переводчику.
О многих трудностях перевода можно было бы ещё поведать, но, увы, на это у меня уже нет времени, и посему только ещё один пример. Четвёртая часть поэмы начинается двумя строфами так называемой бурсацкой речи, речи-перевёртыша, когда начало одного слова приставляется к концу другого, а конец того — к началу первого. Вот несколько строк перевёртыша в переводе:
Что чепухиться с возитою, Не басню кормом соловьят: А ну, давай, мошни тряхною, И звенежки в ней заденят.И так далее. Задача, предстоявшая в данном случае переводчику, весьма сложна. Надо украинский перевёртыш сделать русским перевёртышем, и так, чтобы он был близок к украинскому, чтобы он был понятен русскому читателю, чтобы забавные словесные гибриды не скрывали смысла и чтобы за украинским и русским перевёртышами слышались правильная украинская и правильная русская речь. С этой словесной шуткой было мне не до шуток.
Представшие мне поэтические и лингвистические Сцилла и Харибда были страшны. Как удалось мне миновать их и каковы результаты сего — судить не мне.
А теперь давайте покончим с переводческими трудностями, которые я назвал бы радостными трудностями, и под конец вкратце коснёмся другого рода и отнюдь не радостных трудностей прохождения через издательский аид.
Закончив перевод первой части «Энеиды» в тридцать четвёртом году, я летом того же года случился в Доме творчества украинских писателей в Одессе. Здесь однажды я прочёл свой перевод первой части нескольким украинским писателям. Они приняли перевод с изумившей и обрадовавшей меня горячностью и настаивали, чтобы я продолжал работу дальше и довёл до конца, напомнив, что через три с половиной года, то есть в тридцать восьмом году, исполнится сто лет со дня смерти Котляревского.
Я обещал сделать это. И я сдержал слово — сделал. А сделав, с потерянной улыбкой и с удивлением оглядел дело рук своих и впервые подумал: «А что же дальше?» Увлечённость моя изумительной «Энеидой» и её переводом, увлечённость горячая, иной раз просто до лихорадочности, была артистической, художнической и ни малейшего привкуса практического не имела. Никто перевода мне не заказывал. Ни в каких издательских планах он не числился.
Я послал наугад пухлую рукопись перевода в существовавшее тогда издательство «Academia», хотя никогда никаких связей с этим роскошным издательством не имел. И вдруг, к вящему моему удивлению, вскоре я получил из издательства обнадёживающее письмо, а вслед за тем и договор. Я был потрясён нежданным для меня благоприятным оборотом дела и, само собой разумеется, обрадован. А между тем над моей головой, полной радужных надежд, уже сгущались тучи. В один непрекрасный день издательство «Academia», по неведомым мне причинам, тихо скончалось, и ликвидационная комиссия передала рукопись перевода в Гослитиздат.
И вот всё началось сначала. Подготовленная к набору рукопись снова пошла на рецензии, снова начали её редактировать, готовить к печати, потом набирать, даже сверстали уже. И тут всё снова рухнуло, и категорически, — началась Отечественная война.
На третий день войны я уехал из Ленинграда на фронт и смог снова обратиться к «Энеиде» только в сентябре сорок пятого года. Демобилизовавшись после окончания войны и возвращаясь из Чехословакии домой, в Ленинград, я заехал в Москву.
Здесь меня ждал страшный удар. В Гослитиздате не оказалось не только подписанной пять лет назад к печати вёрстки, не только набора, но не оказалось и рукописи, вообще ничего. Всё исчезло неведомо куда.
Я был в отчаянии. Ничего не зная о пропавшем переводе, я твёрдо знал одно — никогда больше мне не перевести моей милой «Энеиды». Есть вещи, которые невозможно сделать дважды. Одиннадцать лет назад я мог, не задумываясь, не колеблясь, начать этот гигантский труд. Сейчас я чувствовал и знал, что не смог бы, не в состоянии был бы проделать это ещё раз.
Но что-то всё-таки нужно было делать, и, ни на что доброе уже не надеясь, я стал разыскивать своего последнего редактора Киселёва. И представьте, я разыскал его — он оказался жив, жил в Москве и — бывают же на свете чудеса — сохранил оттиск вёрстки перевода, хотя уже не работал в Гослитиздате. Правда, многих страниц в оттиске не хватало. Но всё же большая часть перевода была налицо.
А спустя несколько дней в Ленинграде, в уцелевших чудом от блокадных буржуек остатках моего архива, я обнаружил один машинописный экземпляр перевода. Он был полон, но имел другой недостаток — это был первый, ещё рабочий, черновой вариант перевода. И всё же, обнаружив его, я был вне себя от радости. Из неполного оттиска и полного черновика я уже мог кое-что сделать.
И вот всё началось сначала. Полгода я сидел, восстанавливая, доделывая перевод, и наконец снова послал в Москву, в Гослитиздат. Там снова рецензировали рукопись, дали нового редактора — поэта и переводчика Н. Ушакова. И тут... в который раз — опять всё началось сначала, так как при какой-то очередной реорганизация рукопись передали в Ленинградское отделение Гослитиздата, где её снова принялись рецензировать, редактировать и прочее.
В результате только десятого октября пятьдесят первого года я смог сдать окончательный текст. Так заканчивался семнадцатый год работы над переводом. Но это был ещё далеко не конец испытаний, какие выпали на долю достославного Энея и его многострадального переводчика.
Дело в том, что на разных этапах и в разных тёмных углах издательских недр постоянно возникали разнообразные и многочисленные страхи. То боялись «мелкобуржуазного национализма», го «великодержавного шовинизма», то ещё чего-то. Чего испугались, когда время подошло к отправке в набор перевода, сказать не могу, но отредактированный Николаем Брауном и Александром Прокофьевым перевод и подписанный ими в набор вдруг решили снова отрецензировать и отправили в Киев к Максиму Рыльскому.
Опять потекли месяцы ожиданий и неопределённостей. Наконец прибыло из Киева полное одобрение труда и благословение Рыльского, но прошло ещё три года, прежде чем я смог записать у себя в дневнике: «И вот перевод вышел. Вчера, 30 декабря 1953 года, получил три первых экземпляра. Сколько усилий, энергии, труда, настойчивости и любви к этой чудесной поэме, больше всего — любви, понадобилось, чтобы спустя девятнадцать лет после начала работы над переводом он наконец увидел свет».
Да, наконец! И всё же — это не конец странных и временами страшных приключений многострадального переводчика. Их ещё было очень много. Пересказать всё невозможно — не хватит места, не хватит сил. Да и очень уж не хочется, признаться, пересказывать: слишком много горького, незаслуженно обидного и закулисно скверненького привносилось иными книгопечатными деятелями в эти мои приключения, длившиеся с перерывами два десятилетия и стоившие мне много крови.
Иван Петрович Котляревский в них, само собой разумеется, неповинен, и я чту и люблю его по-прежнему. Двадцать лет, проведённые с ним, с его блистательным Энеем, дали душе моей, моему жизненному делу очень много. Благодарность моя и преклонение перед сверкающим талантом Котляревского, перед его несравненной «Энеидой» не умрёт во мне, пока не умру я сам».
Доброго ранку, Полтаво!
После своего доклада на научной конференции, посвящённой двухсотлетию со дня рождения И. Котляревского, я, как и большинство приглашённых на это празднество, провёл ещё неделю в Полтаве, и это была чудесная неделя. Было много интересных встреч и со старыми друзьями, и с вновь приобретёнными. Из старых мне особенно дороги были двое: душевный Анатолий Трофимович Залашко — директор Музея Котляревского него создатель, когда-то гостивший у меня в Ленинграде, и Иван Ильич Бабак — прекрасный человек и прекрасный лётчик, сбивший тридцать семь самолётов врага, друг горячих фронтовых лет.
Полтавчане и Полтава были гостеприимны и приветливы. Город зелен, живописен и хорошо распланирован. Много интересного повидал я в Полтаве — начиная с Государственного музея истории Полтавской битвы, расположенного на месте, где в тысяча семьсот девятом году разыгралось знаменитое Полтавское сражение.
К слову сказать, до этого сражения Полтава выдержала двухмесячную осаду шведской армии под командованием самого Карла Двенадцатого. Гарнизон полтавский был малочислен, но на защиту родных пенатов встали поголовно все полтавчане, которые дрались отчаянно и, возглавляемые комендантом города — храбрым полковником А. Келиным, выстояли до подхода главных сил русской армии.
Полтава и прежде того была участницей и свидетельницей многих исторических событий, происходивших в России. Она была одним из центров освободительной борьбы, которую вёл Богдан Хмельницкий против панско-шляхетской Польши.
Жгли и пепелили Полтаву и татары, пришедшие на Русь из-за Урала, и крымские ханы, и польская шляхта. Но всякий раз храбрый город возрождался, как феникс из пепла. Многие этапы его исторической жизни отмечены памятными монументами и обелисками.
Военных монументов здесь очень много — начиная с памятника Петру Первому и кончая памятником над могилами советских воинов, павших в боях за Полтаву во время Великой Отечественной войны.
Т. Шевченко, И. Котляревский, Н. Гоголь, В. Короленко, П. Мирный, В. Капнист, А. Макаренко, Н. Ватутин, А. Луначарский — все отмечены теми или иными знаками доброй памяти. Некоторые почтены не только бронзовыми или иными статуями, но и мемориальными музеями.
Иван Петрович Котляревский особо отличен полтавчанами. В городе два памятника ему: мемориальный музей и своеобразный мемориальный комплекс — усадьба Ивана Петровича.
Усадьба расположена на обрыве Подольской горы, с которой открывается широкая панорама Приворсклянских лугов. Усадьба восстановлена в том виде, в каком была при жизни её хозяина. Жилой домик в шесть низеньких комнат, сарай, комора под камышовыми крышами. Возле дома — колодец с журавлём и деревянной бадейкой на цепи.
Вместе с другими участниками празднеств я побродил по усадьбе, выпил студёной колодезной воды прямо из бадейки, зашёл в дом и подсел в рабочей комнате Котляревского к его столу, осмотрелся. Всё вокруг было скромно и непритязательно.
Однако, несмотря на скромность жилища Котляревского, посетители и гости при жизни хозяина усадьбы бывали здесь постоянно. Приходили воспитанники и учителя Дома воспитания для бедных, работники «богоугодных заведений», которыми задал Котляревский, горожане и казаки, искавшие защиты от притеснявших их чиновников.
Гащивали здесь учёные И. Срезневский, Д. Бантыш-Каменский, В. Пассек, декабрист Н. Новиков, артисты И. Щепкин, И. Штейн, Барсов, Уваров, многие другие. Бывало среди гостей Ивана Петровича немало крупных писателей того времени, таких, как Т. Шевченко, В. Туманский, Н. Погодин, А. Измайлов, Н. Мельгунов, Л. Боровиковский, П. Свиньин.
В дни юбилейных празднеств пришли сюда их участники.
Я привёз экземпляр своего перевода из Ленинграда — привёз на всякий случай, чтобы, уезжая, подарить кому-нибудь из полтавчан.
И вдруг — такой неожиданный фарт: я имею возможность подарить свой перевод автору оригинала.
Наверно, это была лучшая минута в моей полтавской жизни. Я сидел за столом Ивана Петровича, задумавшись перед раскрытой «Энеидой» и отдавшись на волю машины времени, умчавшей меня на два столетия назад, был с хозяином этой комнаты, этого стола, этой «Энеиды».
Потом я написал на титульном листе книги: «Дорогому Ивану Петровичу с вечной негасимой любовью от первого переводчика „Энеиды" на русский язык». Потом сказал вслух: «Прими, Иван Петрович», бережно положил книгу на стол и вышел из дома на двор. Он был полон гостей. Ещё большее количество их ждало за воротами своей очереди, чтобы войти на территорию усадьбы. Целый день бились у ворот волны людского прибоя. Вся Полтава шла в гости к Ивану Петровичу, к своему первому гражданину, к своему любимому поэту...
И казалось, он сам сейчас встанет у ворот, и навстречу ему вместе с толпой сограждан хлынет щедрое утреннее солнце, и он, гостеприимно раскинув руки, скажет, улыбнувшись и солнцу и своему городу:
— Доброго ранку, Полтаво!
Песня ведёт на эшафот
Это очень давняя, очень печальная и в высокой степени романтическая история, а ко всему романтическому я пристрастен издавна.
Впервые услышал я о Марусе Чурай пятого сентября шестьдесят девятого года на полтавской окраине, которая зовётся Иванов гай. В переводе с украинского на русский это значит — Иванова роща. Но никакой рощи здесь нет, даже ни одного деревца. Очевидно, она вырублена давно, и сейчас на её месте стоит Ротонда дружбы — современная лёгкая постройка, нечто вроде открытой большой беседки на восьми высоких стройных колоннах. По-русски это место зовётся Иванова горка, и название это соответствует точно тому, что видишь, придя сюда сегодня. Это высокий холм, с которого открывается чудесная панорама на окрестности Полтавы: на Подол, широко стелющуюся до горизонта долину, на Ворсклу, про которую полтавчане поют:
Ворскла рiчка Невеличка, Тече здавна, Дуже славна Не водою, а войною, Де швед полiг головою.Меня привели сюда мои друзья — Иван Ильич Бабак и его жена Матрёна Демьяновна, славные, милые люди. Матрёна Демьяновна отлично знает Полтаву, каждый камень её, каждую пядь земли, каждый памятный исторический след, оставленный на этой цветущей, но в былые времена столько претерпевшей земле. Матрёна Демьяновна среди объяснений на Ивановой горке сказала, подводя меня к краю холма:
— А вон там, недалеко от Спасского монастыря и от домика Котляревского, жила Маруся Чурай.
Так впервые услышал я это приманчиво звучащее, певучее имя. А потом на первые узнавания наслаивалось множество других, и Маруся Чурай навсегда попала в мою жизненную писательскую «Сумку».
Маруся Чурай — личность полулегендарная-полуисторическая, а посему для меня вдвойне привлекательная. История и легенда часто противоречат одна другой, но ещё чаще дополняют и обогащают друг друга. Если не всегда удаётся чётко разграничить владения той и другой и отделить легендарное от исторического, то и в этом случае не стоит особенно сокрушаться. Ведь, в сущности говоря, все крупные исторические лица отчасти легендарны, ибо народ — этот неуёмный и вечный романтик — никогда не довольствовался только голой исторической конструкцией, но всегда стремился увить её цветами фантазии, без которых реальное так же не может обойтись, как и сказка. Воображение — не враг, а союзник истории, и оно делает героев её живыми людьми, которых мы в состоянии и понять и полюбить. Для вящей убедительности начну с фундамента, то есть с того каменно-незыблемого, что лежит в основании этого рассказа как несомненная историческая до-подлинность. Вот перед нами документ:
«Лета от рождения Сына Божьего тысяча шестьсот пятьдесят другого, месяца июня 18 дня. Изволением его милости пана Мартына Пушкаря полковника Полтавского, мы, Костя Кублицкий, судья полку Полтавского Андрей Нещинский, атаман городовой Фёдор Суховей, голова городского суда Пётр Юревич, бургомистр и при многих именитых персонах рассмотрели дело девицы Марины, дочери покойного урядника Полтавского добровольческого полку Гордея Чурая, которая года нонешнего, потеряв страх Божий, смертельный грех учинила. На лугах собрала коренья отравного зелья-цыкуты, с помощью нечистого духа отравила Григория, сына хорунжего Полтавского полку Петра Бобренко, в коем злодеянии и призналась добровольно.
Дабы недопустить распространения своевольства, мы, используя декрет из прав магдебургских, части четвёртой, листа сто двадцать девятого, постановили: „Злодейка посему имеет быть отдана палачу для отсечения головы её. То наказание и всё то приговорённое по делу сему вписать в полтавские городовые книги, что и ести вписано года и дня вышереченного.
Для ради покаяния перед Богом и краткой молитвы дано краткое время злодейке"».
Итак, Марина, или Маруся, Чурай, как звали её окружающие и как она сама себя называла, приговорена к смертной казни, которая должна была произойти восемнадцатого июня тысяча шестьсот пятьдесят второго года. Было тогда Марусе двадцать семь лет, и, по свидетельству одного из современников, приведённому А. Шаховским в его повести «Маруся — малороссийская Сафо», «чёрные глаза её горели как огонь в хрустальной лампаде; лицо было бело как воск, стан стройный, прямой как свеча, а голос... Ах, что это за голос был! Такого звонкого и сладкого пения не слыхано было от века».
Маруся не только пела украинские песни, но и сама сочиняла их, импровизируя слова и мотив своих песен.
Некоторые из песен Маруси поются на Украине, да и не только на Украине, и по сей день. Я сам многажды певал песню «Засвистали козаченьки в поход с полуночи», не подозревая, правда, что пою песню трёхсотлетней давности, сочинённую дивной певуньей-импровизаторшей.
Кстати, мы пели, как, впрочем, и все, кто поёт нынче эту песню, несколько искажая первую строку её против первоначального текста. Вместо теперешнего первого слова «Засвистали» в первоначальном тексте стояло «3acвiт встали», что вполне соответствовало характеру развивающегося действия. Отправляющиеся в поход казаки вставали «засвiт», то есть засветло, до рассвета.
Интересно, что «Засвiт встали козаченьки...», которая всюду поётся как походная песня казаков, первоначально была песней лирическо-бытовой, повествующей о расставании Маруси с любимым, уходящим в дальний поход.
Потом песня стала походно-боевой, и это-то и повлекло за собой изменение первой строки песни. Текст песни, переставшей быть камерной, преформировался, ускорился, и быстро выговаривать такое трудное словосочетание, как «засвiт встали», было уже неловко, «вiт вст» на стыке слов получалось излишне громоздким, и стали петь «засвистали», что выговаривалось легче и удобней.
Но песня эта кроме качеств, о которых я говорил, имеет ещё одно — она не только лирична, не только военно-походная песня, она, кроме того, содержит кусок биографии её творца — Маруси Чурай. В ней заложен зародыш трагедии, которая в конце концов и привела Марусю Чурай на эшафот.
Для того чтобы убедиться в этом, давайте проглядим некоторые строки песни:
Стоiть мiсяць над горою, Та сонця немае, Мзти сипа в дорiженьку Сльозно провождаэ.Напутствуя сына, мать заклияает его поскорей возвратиться. Сын отвечает:
Ой бог знае, коли вернусь, У яку годину, Прийми ж мою Марусеньку Як рiдну дитину.Мать отвечает с неожиданной агрессивностью:
Яка ж би то, мiй синочку, Година настала. Щоб чужая дитиночка За рiдною стала?Отказ матери казака признать милую сына родной и есть начало разыгравшейся позже трагедии.
Как пелось в песне Маруси Чурай, так было и в её жизни. Она любила Грица Бобренко, и Гриц тоже не прочь был бы жениться на Марусе. Но он был парнем бесхарактерным и находился под влиянием властной и корыстолюбивой матери, которая слышать не хотела о женитьбе сына на бедной дочери рядового урядника Гордея, сложившего голову где-то под Варшавой. Она метила женить своего Грица на племяннице богатого полковника Тале Вишняк. Гриц не любил Галю, но что из того: стерпится — слюбится...
Пока вызревал этот роковой по последствиям конфликт, началась освободительная война со шляхетской Польшей, которая стремилась укрепить свою власть над Украиной. В тысяча шестьсот сорок восьмом году украинские казаки во главе с Богданом Хмельницким выступили в поход против поляков. Отправился в поход и Полтавский полк, с которым уходил и Гриц Бобренко.
И было ещё одно действующее лицо этой драмы — молодой реестровый казак Иван Искра (отец полковника Искры), который, заодно с Кочубеем, пытался открыть Петру Первому глаза на измену гетмана Мазепы и разделил печальную участь своего друга Кочубея.
Иван Искра давно любил чудесную певунью Марусю — любил сильной и верной любовью. Волевой, храбрый до безрассудства, решительный и немногоречивый Иван Искра был полной противоположностью безвольного красивого балагура Грица Бобренко. Но, увы, именно переменчивый и пустоватый Гриц, а не верный, пылкий, преданный ей Иван Искра оказался по неведомым никому законам сердца избранником Маруси Чурай.
Когда молодые казаки ушли в поход, Маруся сильно загрустила. Никакой весточки от Грица не было. Чувствуя себя одинокой и оставленной всеми, Маруся Чурай отправилась в Киев, чтобы молиться за милого в Киево-Печерской лавре.
Между тем новый польский король Ян-Казимир в конце тысяча шестьсот сорок восьмого года запросил Богдана Хмельницкого о перемирии. Богдан Хмельницкий согласился на перемирие и отвёл основные силы к Приднепровью, откуда мало-помалу казаки стали расходиться по домам. Маруся с нетерпением ждала своего Грица домой и поспешила из Киева в Полтаву.
Увы, вместо Грица её ждала чёрная весть о том, что Гриц Бобренко, подчиняясь материнским настояниям, обвенчался с Галей Вишняк.
Страшная весть надломила Марусю. Безнадёжная тоска по милому, теперь уже недостижимому для неё, вылилась в самую печальную, самую безнадёжную из всех её песен — «Ой боже ж мiй, боже, милий, покидае...». Предельно мрачен конец этой песни о разлуке: «Xi6a вже разлучить заступ та лопата, Заступ та лопата, гробовая хата».
От этих безнадёжных строк уже веет дыханием смерти, и Шаховской в своей повести «Малороссийская Сафо» имел все основания вставить сцену, в которой Маруся Чурай в отчаянии бросается с плотины в Ворсклу, пытаясь покончить с собой. Марусю спас верный Иван Искра, который, вытащив её из воды, на руках принёс в хату вдовой матери Горпины Чурай.
Этот мотив — желание покончить с собой — присутствует и в одной из песен Маруси («Ой пiду я утоплюся...»). Но вместе с тем в сердце, глубоко утаённая, жила надежда вернуть Грица, разлучить с не любимой им Галей Вишняк.
Она искала встречи с милым и, воспользовавшись приглашением своей давней подруги Меласи Барабаш, пошла однажды осенью на вечеринку, на которой, знала, будет и Гриц Бобренко со своей молодой женой. Эта вечеринка по стечению обстоятельств стала первым шагом Маруси на пути, приведшем её к лобному месту, к чёрному помосту на одной из полтавских площадей, на котором ждал её палач в красной рубахе, с остро отточенным топором.
Доподлинно неизвестно — Маруся ли после вечерниц пригласила Грица к себе, или он сам, вновь очарованный пленительной певуньей, напросился к ней в гости, но они снова виделись наедине и были вместе.
О том, что было после, Маруся рассказала в своей знаменитой песне «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорницi...».
Ничего не тая, Маруся Чурай поведала в этой своей последней песне всё, что пережила из-за измены милого, всё, что сделала, чтобы отомстить за поруганную любовь. Она рассказала, как задумала своё страшное дело, как собирала ядовитые травы, как варила смертельное зелье, как опоила отравой милого, как умер отравленный ею Гриц, как его похоронили.
Но, совершив свою месть, Маруся не имела сил жить и сама, не могла вынести тяжести совершённого преступления. На похоронах Грица она всенародно покаялась в своём великом грехе, объявив, что это она убила любимого. Следствием этого покаяния был арест преступницы, тюрьма, суд, смертный приговор, о котором вы уже знаете.
Преступницу на телеге привезли к площади, заполненной народом. Она была бледна, шла к плахе твёрдо — прямая, стройная, строгая. Только чётко вырезанные губы чуть шевелились — может быть, она складывала свою похоронную песню, песню любви и смерти...
Но она не успела её сложить. На краю площади показался всадник, скачущий во весь опор на взмыленном коне. Это был Иван Искра — отвергнутый Марусей, но преданный ей и чувству своему. Не любимый чудесной певуньей, он мчался, подгоняемый собственной негасимой любовью.
Он примчал сюда прямо от Богдана Хмельницкого, к ногам которого припадал, чтобы вымолить милость для Маруси Чурай... Он успел в своей настойчивости. Богдан Хмельницкий, ценивший его храбрость и преданность делу освобождения Украины, а также знавший отца Маруси Чурай, павшего за свободу отчизны под стенами Варшавы, послал с Искрой в Полтаву свой наказ.
Без шапки, потерянной где-то во время скачки, держа высоко над головой бумагу с собственноручным гетманским наказом и крича хрипло: «Гетманскому гонцу дорогу» — верный казак Иван Искра прорвался сквозь расступившуюся толпу к чёрному помосту, на который всходила бледная и вся затрепетавшая при виде Искры Маруся Чурай, и бросил бумагу прямо с коня к ногам судейского писаря, собравшегося всенародно прочесть перед казнью смертный приговор...
И вот, по знаку полковника Мартына Пушкаря, главенствовавшего в Полтавском казацком суде, писарь вместо смертного приговора зачитывает гетманский наказ: «Полковнику, судьям, старшинам и всему Полтавскому полку: Быв в разуме, никто не губит того, кого по правде любит. Также и карать без разуму неможно, а затем наказываю: зачесть голову полтавского урядника Гордея Чурая, порубанную ворогами нашими, за голову его дочки Марины Чурай в память беззаветной гибели батька. Вперёд же без моего наказу смерти по приговору не предавать. Марину Чурай из под стражи освободить. Собственной рукой войска запорожского и всея Украины гетман Богдан Хмельницкий».
Есть версия, которой придерживается и фольклорист А. Шкляревский, что в помиловании Маруси Чурай играли весомую роль её песни, многие из которых стали народными. Документов, подтверждающих это, не сохранилось, но сами песни — очень сильный документ и столь же сильный аргумент в пользу этой версии.
Одна из песен Маруси Чурай стала особенно популярной и повсеместно ведомой после того, как И. Котляревский вставил её в свою «Наталку-Полтавку». Песня эта — «Biють вiтри, вiють буйнi...». Она открывает знаменитую оперу, главная героиня которой Наталка после поднятия занавеса появляется с ней на сцене. С театральных подмостков песня эта звучит полтораста лет. С уст Маруси Чурай она слетела три столетия тому назад. Думается, что, по крайней мере, ещё триста лет будут петь её в народе, породившем чудесную певунью, сложившую эту песню и прошедшую с ней через жизнь — трудно, страстно, горько и чародейно прожитую.
Слово о словах
На вопрос Полония: «Что вы читаете, принц?» — Гамлет отвечает: «Слова, слова, слова».
Гамлет в этой сцене притворяется сумасшедшим. Может быть, потому эта его реплика принимается всеми, кто представляет Гамлета и смотрит эти представления, некой сложной и многозначной мудростью. Всеми актёрами, играющими Гамлета, реплика произносится с особой многозначительностью. Возможно, она действительно многозначительна, но нынче я хотел бы принять её в самом прямом и, так сказать, элементарном смысле.
Гамлет читает слова. Все мы читаем слова, и все мы часто совершенно не понимаем читаемых слов или понимаем превратно. Часто мы читаем вообще механически, не раскрывая и не пытаясь раскрыть смысл того, что читаем. Примеры? Пожалуйста.
Мы говорим «дым отечества». А что это такое, если разобраться? Каков смысл этого выражения? Грибоедов сказал устами Чацкого: «Постранствуешь, воротишься домой, И дым отечества нам сладок и приятен». С той поры «дым отечества» стал обиходным речением, наряду со многими иными поговорками. Но, в сущности говоря, произнося эти слова, мы не даём себе труда подумать, что же они значат. Общий смысл их — что отечество нам дорого, особенно для того, кто был надолго разлучён с ним, — всем ясен. Но при чём здесь дым? Не о пожаре же идёт речь?
И всё стало мне однажды ясным, когда, заглянув в Овидиевы «Метаморфозы», я наткнулся на фразу о том, что Улисс после своих многолетних странствий «желает, чтобы мог увидеть дым родного очага».
Вот оно, оказывается, в чём дело. Речь идёт о дыме от родных очагов. Возможно, когда человек дома, этот дым горек и ест глаза, но на чужбине даже этот горький дым кажется нам сладким, ибо это связывается с неистребимой памятью о родном очаге, о родном доме.
Так однажды рассеялся для меня докучный дым, скрывавший истинное понятие вещей. А теперь позвольте ещё один пример из серии словесных тайн, скрывающих для нас засловесный смысл.
Существует библейская легенда о гибели городов Содома и Гоморры, сожжённых свирепым и мстительным богом за грехи их жителей. Спастись из всех жителей дано было только праведнику Лоту и его семейству, состоящему из жены и двух дочерей. Лоту было свыше объявлено, что он должен уйти из города, который будет предан огню, но было запрещено, уходя, оглядываться. Все повиновались этому запрету. Но жена Лота не вытерпела и оглянулась. В наказание за ослушание она была превращена в соляной столб.
На мой взгляд, жена Лота была наказана даже дважды: первый раз — жестоким богом, а второй раз — народной молвой, сделавшей её символом неудержимого женского любопытства. Вот сказано же было: не оглядывайся. Так нет. Любопытство заело: а что там позади, почему запрещают оглядываться? Вот оно бабье суетное любопытство.
И всё вовсе не так. И любопытство здесь ни при чём, как и суетность. Дело опять в родном очаге, как и с дымом отечества. Отстранитесь на мгновение от предвзятости суждений, укреплённых в вас привычным отношением к ситуации, и посмотрите на всё иными глазами.
Женщина прожила целую жизнь в городе, там вышла замуж, родила детей, обзавелась домом, хозяйством. И вдруг всё это привычное, обжитое, милое сердцу надо бросить и ни с того ни с сего уходить, превращаясь из хозяйки обжитого, своего мирка в бездомную побродяжку. Как это горько, как безысходно тяжко, мы с особой силой понимаем теперь, после войны, когда миллионы наших семей в дни эвакуации, в дни вынужденного отступления наших войск в начале войны, покидали свои дома, свои насиженные места, свои тёплые очаги. И какая же мать, какая женщина, какая хозяйка, уходя, нашла силы не оглянуться на покидаемый родной дом, в котором столько было прожито и пережито, с которым связано столько неотделимых от сердца воспоминаний?
Жена Лота была не понята потомками в своём сердечном движении, в своём совершенно естественном желании хотя бы глазами проститься с милым домашним уютом, со всем, к чему накрепко прижилось сердце. Жену Лота оклеветали, приписав ей суетное любопытство там, где налицо была потребность страдающего сердца. Ошибок, подобных приведённым мной, в нашем словесном обиходе и в наших традиционных представлениях — великое множество.
А теперь обратимся к слову как к таковому. Слово — это живой, жизнедеятельный, а следовательно, и вечно изменчивый организм. Я уже говорил об этом в связи с песней Маруси Чурай «Засвистали козаченьки...». Сейчас мне хотелось бы добавить к этому, что слово, как всё живое, всегда имеет возраст. Есть слова-старики, пришедшие к нам через толщу столетий, скажем от этрусков, являющихся предками древних римлян. Причём слова эти выглядят иной раз совсем молодо.
Вот, к примеру, слово «спорт». Мало кто думал, произнося его каждодневно, что оно пришло к нам именно от этрусков, что такому современному на первый взгляд слову никак не менее двух с половиной тысяч лет.
Но наряду со словами-стариками живут в нашем обиходе слова-младенцы, только что рождённые жизнью, в которую каждодневно вторгаются новые науки, новые представления, новые социальные формации, новые открытия, наконец новые вещи. Всё это надо назвать, дать всему новые имена. «Телевизор», «транзистор», «радиолокатор», «космонавт» — ведь этих слов совсем недавно вовсе не было в нашем словаре.
Каждый день рождает новые слова. Эти новые слова входят в жизнь, как знаменосцы и маяки того, что непрерывно обновляет жизнь.
Народ творит слова непрерывно и всегда. Фольклор — не кладбище языка, но его инкубатор. Сказители, являющиеся строжайшими ревнителями старого в языке, одновременно и движут язык вперёд. Борис Шергин, о котором я говорил в главе «Волшебное кольцо и волшебное слово», поистине словотворец, удивительно обновлявший старое слово. Будучи как-то в Архангельске, я услыхал от Степана Писахова сказку, в которой фигурировали вместе с другими персонажами и англо-американские интервенты, захватившие Архангельск в августе восемнадцатого года. Сказочник звал их «инстервентами», и это хлёсткое словцо было уместно в сказке.
Увы, словотворчество далеко не всегда шло на пользу языку. В десятых годах нашего столетия словесные эксперименты были в большом ходу. Слова изобретались походя и в угрожающем изобилии. Поэт Игорь Северянин, писавший в начале века, буквально наводнил свои «поэзы» всякого рода «гризерками», «лесофеями», «ронделями», «кэнзелями», «газеллами», «фиолями», «ландолетами», «эксцессерками» и прочей парикмахерской мишурой. В словаре нашем они, разумеется, не оставили ни малейшего следа.
Слово в нашей литературе имело и своих подвижников, своих провозвестников, таких, как Велимир Хлебников и Владимир Маяковский, чьё слово тяжко весомо, чьё слово — знамя борьбы за жизненную новь, за революцию, за будущее.
Хлебников называл себя «будетлянином». Слово не вошло в наш обиходный словарь, но оно оставило след в нашей литературе, особенно в нашей поэзии. Подлинный поэт всегда «будетлянин». Подлинное слово принадлежит не только настоящему, но и будущему.
Примечания
1
Будущий роман «Воскресение», сюжет которого заимствован у А. Ф. Кони, рассказавшего о судебном деле, схожем с тем, какое позже Толстой описал в «Воскресении». (Прим. авт.)
(обратно)
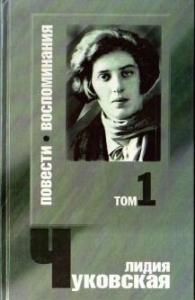




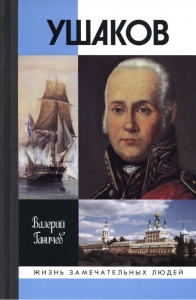


Комментарии к книге «Сумка волшебника», Илья Яковлевич Бражнин
Всего 0 комментариев