Георгий Иванов Петербургские зимы
I
Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь.
К 1920-му году Петербург тонул уже почти блаженно.
Голода боялись, пока он не установился "всерьез и надолго". Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы.
— Ну, как вы дошли вчера, после балета?..
— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, померзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили, — не пускали на лестницу.
— Взяли кого-нибудь?
— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у них ночевал.
— Расстреляют, должно быть?
— Должно быть…
— А Спесивцева была восхитительна.
— Да, но до Карсавиной ей далеко.
— Ну, Петр Петрович, заходите к нам…
Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах и разошлись.
Балет… шуба… молодого Перфильева и еще студента… А у нас, в кооперативе, выдавали сегодня селедку… Расстреляют, должно быть…
Два гражданина Северной Коммуны мирно беседуют об обыденном.
Гражданина окликает гражданин: Что сегодня, гражданин, на обед? Прикреплялись, гражданин, или нет?..И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке. Да и шансы равны — сегодня студента, завтра вас.
…Я сегодня, гражданин, плохо спал — Душу я на керосин променял.Об этом беспокоились еще: как бы мне променять душу "на керосин" без остатка. И — кто устраивал заговоры, кто молился, кто шел через весь город, расползающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки, в лунном сиянии, на фоне шелестящих, пышных бумажных роз — выпорхнет Жизель, вечная любовь, ангел во плоти…
Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город.
Над кострами искры золотятся, Над Невою полыньи дымятся, ….. И шальная пуля над Невою Ищет сердце бедное твое…Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там!
x x x
Петербургская сторона — Плуталова улица. Место глухое, настолько глухое, что даже милиция сюда не заглядывает. Иначе не обнаглел бы какой-то проживающий здесь спекулянт до того, чтобы прибить у дверей вывеску о своей торговле. На вывеске стоит черным по белому: "Здесь продаеца собачье мясцо".
На Плуталовой живет В., занимает комнату с кухней в грязном шестиэтажном доме.
В. - бывший писатель. Что-то печатал лет пятнадцать тому назад, чем-то даже «прошумел». Теперь пишет "для себя", т. е. ничего не пишет, делает только вид.
В минуты откровенности — признается: "Плюнул на литературу — жить красиво, вот главное".
Он странный человек. Писанье его бесталанное, но в нем самом "что-то есть". Огромный рост, нестриженая черная борода, разбойничьи глаза навыкате — и медовый монашеский говор. Он то сидит неделями в своей «квартире», обставленной разной рухлядью, считаемой им за старину, с утра до вечера роясь в книгах, то пропадает на месяцы, неизвестно куда.
— Где это вы были, В.?
Улыбочка. — Да вот, на Афон съездил…
— Зачем же вам было на Афон?
Та же улыбочка. — Так-с, надобность вышла. Ничего, славно съездил.
Только, досадно, в дороге кулек у меня украли и с драгоценными вещами: бутылкой зубровки старорежимной — вот бы вас угостил — и частицами святых мощей…
Через полгода — опять. — Где пропадали? — Да на Кавказе пришлось побывать, в монастыре одном…
Вот к этому эстету из семинаристов, с наружностью оперного разбойника, я решил пойти переночевать.
Дело было такое: я засиделся у знакомых на Петербургской стороне (а жил в самом конце Бассейной). Когда собрался уходить — оказывается, без четверти одиннадцать, и, если идти домой, обязательно попаду на обход и в участок, так как не только ночного пропуска, но и обыкновенной трудкнижки у меня нет. Ночевка в милиции — вещь неприятная, да и вопрос еще, как обернется наутро: могут отпустить, могут и отправить в Чека. Воскликнуть, как Мандельштам (кстати, смертельно милиции боявшийся):
Мне ночного пропуска не надо, Часовых я не боюсь— было бы неблагоразумно. У знакомых, где я засиделся, ночевать было негде. Я и вспомнил о В., жившем неподалеку.
Тяжелого висячего замка на входной двери не было — значит, дома. Но на стук мой никто не ответил. Неужели ушел? Я постучал сильнее. Шаги и голос В.:
— Что ломишься в такую рань? Проваливай. До двенадцати все равно не пущу.
Решив, что это вряд ли ко мне относится, я постучал еще и назвал себя.
В. сейчас же открыл.
— Голубчик! Какими судьбами? Желаете согреться?
— Он пододвинул мне рюмку.
Сам В. уже, по-видимому, «согрелся» на сон грядущий. Ворот косоворотки расстегнут, лицо красное, в глазах маслянистый блеск. Впрочем, это было обычное его состояние — ни пьян, ни трезв. Вечное "навеселе".
Узнав о моем намерении переночевать, В. как-то засуетился.
— Да если вам неудобно, вы скажите, я уйду.
— Что вы, что вы, дорогой. Очень удобно, очень приятно. Только…
Он опять забегал глазами…
— Вам-то будет ли удобно?
— Обо мне не беспокойтесь.
— Конечно, конечно… Но будет ли вам?.. Крепко ли вы спите?
— Очень. К тому же чрезвычайно устал, — целый день на ногах, прямо валюсь…
— Вот, вот… — В., по-видимому, обрадовался. — А то ко мне придет тут… Один книжник… Сосед… Книжки кой-какие разобрать… Так я боялся, не помешаем ли мы вам.
Я успокоил В., что никто и ничем мне не помешает. Несмотря на мои отказы, он уложил меня на свою кровать, за рваный штофный полог.
— Ничего, ничего — тут и вам будет удобнее, и мне спокойнее. А я на диванчике пересплю — прекрасный у меня диванчик.
Кровать была широкая и мягкая… В. в другом углу комнаты шуршал книгами, позванивал ложечкой о стакан… Сосед-книжник не приходил…
…Я проснулся. За занавеской шел тихий разговор. Говорил больше чужой голос, вкрадчивый и скрипучий. В. только изредка вставлял что-нибудь.
— От Бога-то вы отвернулись. Отвернулись, ладно, очень хорошо. Но мало от Бога отвернуться, мало, друзья. Надо еще перед Ним заслужить. Так, думаете, он вас и примет сразу, так и начнет помогать, едва крест с шеи долой…
— Да как же заслужить? Церкви ему строить? Акафисты петь?
— И церкви, и акафисты, и в сердце своем его одного иметь. Главное — в сердце иметь. Тогда он и поможет.
— Что же тогда будет, когда поможет?
— Все будет, все, слышишь. Булки разные, и ветчина, и шпроты, и белая головка — чего хочешь. И не за деньги, хотя бы по старой цене, а даром — бери, что желаешь, ешь, что желаешь, пей — все бесплатно на вечные времена, только его в сердце держи…
Я осторожно приподнялся и заглянул в прореху в пологе. В. сидел за круглым столом. Перед ним, спиной ко мне, какая-то фигура в полушубке. На черепе большая плешь, окруженная жидкими светлыми волосами. Поза понурая, шея ушла в плечи…
— …в сердце держи, да. — Говоривший помолчал минуту…
— Ну, так вот, прежде всего, как уговорено — пять тыщ…
— Уже и пять? Вчера было три!
— Пять тыщ… — повторил старик, — меньше никак не справиться.
Потом, вот записочку эту возьми, переписать надо, знаешь. Да не на машинке, от руки. Потрудись во славу его.
В. стал, вздохнув, отсчитывать деньги. Старичок, аккуратно пересчитав, спрятал.
— Ну, мне пора. Покойнички-то мои, верно, беспокоятся — две ночи пропадаю. Все дела, дела…
— И не страшно тебе на кладбище?
— Чего же страшно? Напротив — компания приятная.
— И не гадко?
— Что же такое — гадко? Конечно, если кто еще червивый и лезет к тебе… А которые долго лежат, подсохли… Что же в нем гадкого? Из баб такие попадаются экземплярчики…
— Молчи уж. Спать потом не буду, как понарасскажешь…
Старичок захихикал.
— Какой слабонервный! А еще министром у нас хочешь быть. Хватит с тебя и сенатора, когда придет наше время, хе… хе… Ну, ничего, главное — помни — его в сердце держи…
— Г. В., вы спите? — окликнул меня хозяин, проводив гостя.
Я не отозвался. — Спит, — пробормотал В. Он еще долго возился, что-то отпирал и запирал, звенел ключами, шуршал бумагами, вздыхал. Наконец, улегся, потушил свет и начал посапывать. Под его посапыванье — заснул и я.
Утром, когда я уходил, В. еще спал тяжелым и крепким сном пьяницы.
x x x
"Перепишите и разошлите эту молитву девяти вашим знакомым. Если не исполните — вас постигнет большое несчастье…"
Дальше шла молитва: "Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра, огня, размножения, надежды…"
— Странная молитва! Ведь Утренняя Звезда — звезда Люцифера.
— Странная! Не это ли велел В. переписывать его старичок, чертопоклонник, помнишь, я тебе рассказывал?
Разговор шел полгода спустя в квартире Гумилева, на Преображенской.
Сидя у маленькой, круглой печки Гумилев помешивал уголья игрушечной саблей своего сына.
— Странная молитва! Возможно, что именно В. ее прислал, раз он, как ты говоришь, возится с чертовщиной. Но глупо, зная меня, посылать мне такие вещи. Какой бы я был православный, если бы стал это переписывать и распространять?
— Глупо вообще рассылать. Кто же станет переписывать?..
— Ну, положим, станут. Во-первых, большинство и не разберет, в чем дело, подумают, просто какой-то акафист. А кто и разберет, все-таки перепишет, пожалуй, если суеверный человек. А ведь большинство скорее суеверные, чем верующие.
— То есть из боязни, что с ними случится несчастье, перепишут?
— Конечно.
— Какая чушь!
Гумилев постучал папиросой по своему черепаховому портсигару.
— Не такая чушь, как ты думаешь. Эти угрозы, поверь, не пустые слова.
— Тогда тебя теперь должно постигнуть несчастье?
— Должно. Несчастье будет на меня за это направлено, я не сомневаюсь.
Не улыбайся, я говорю совершенно серьезно. Кто-то сознательно послал мне вызов. Я сознательно, как христианин, его принимаю. Я не знаю, откуда произойдет нападение, каким оружием воспользуется противник, — но уверен в одном, мое оружие — крест и молитва — сильнее. Поэтому я спокоен.
— Удивительно. То В. и его старикашка, теперь эта молитва, твой разговор. Какой-то пятнадцатый век! Никогда не думал, что существует что-нибудь подобное.
— А вот, представь, существует. Можно прожить всю жизнь, ничего об этом не зная — и это самое лучшее. Но легко, случайно, как ты с ночевкой у В., коснуться чего-то, какой-то паутины, протянутой по всему свету, — и ты уже не свободен, попался, надо тебе сделать какое-то усилие, чтобы выпутаться. Не сделаешь — можешь пропасть. И, заметь, — до вечера, проведенного у В., жил ты и никогда с таким не сталкивался. А столкнулся раз, сейчас же тебе попадается и этот акафист, и наш разговор, и будет непременно еще попадаться. Кто-то там тобой уже интересуется. Может быть, мне и прислали этот листок только для того, чтобы ты его прочел. Или, наоборот, — охота идет за мной, а ты ни при чем…
— Ты меня пугаешь, — рассмеялся я.
— Не пугайся, дорогой, — пугаться никогда не следует. Но и шутить с этими вещами не следует тоже. Но бросим этот разговор — хватит. Пойдем, прогуляемся…
x x x
Падает редкий, крупный снег. Вдоль тротуара бурые сугробы, под ногами грязь…
…Желтый пар петербургской зимы, Желтый снег, облипающий плиты…Впрочем, это уже не зима — середина марта. Еще мерзнут без перчаток руки, но дышать уже легко — весна.
Над голыми ветками «Прудков» грузно пролетает ворона. Мальчишки на углу Греческого торгуют папиросами.
— Почем десяток?
— Триста.
— Хватил!
— Пожалуйте, гражданин, у меня двести.
— У него липа, берите у меня — двести пятьдесят…
…Вонь серной спички, зеленоватый дымок папиросы. И у папиросы, закуренной в этом теплеющем воздухе, — уже особый, «весенний» вкус.
— Куда же мы пойдем?
Гумилев стряхивает снег со своей обмерзшей дохи и поправляет чухонскую шапку с наушниками.
— Ты не торопишься? Прогуляемся тогда до Лавры. Мне надо там к сапожнику.
— С удовольствием. Но что за идея подбивать подметки у Лавры, когда сапожник есть на твоей лестнице?
— Ну, мой у Лавры не простой сапожник. Я поэтому к нему и хожу.
Умнейший старик. Начетчик — священное писание знает, как архиерей, о Пушкине рассуждает. Я Лернера к нему свести собираюсь — пусть потолкуют.
— Какой-нибудь скрывающийся генерал или профессор?
— Ах, нет — мужик с Волги, в тридцать лет писать научился. Но умнейший человек и презабавный. Вроде Клюева, только поострей. Да ты сам увидишь.
Мы прошли Старый Невский и, обогнув Лавру, свернули в какой-то проулок.
Деревянный забор, двор, засыпанный снегом, потом сени, лесенка, наконец, узкая дверь с молотком-колотушкой. Открыла босоногая девчонка. — "К Илье Назарычу? Дома".
…Проворно работая шилом при свете коптилки, старик в грязной блузе, поблескивая из-под железных очков колкими глазками, говорил:
— Вы, Николай Степаныч, извиняюсь, ошибаетесь. Пушкин, Александр Сергеевич, России не любил. До России ему дела никакого не было. Душой он немец, вот что. А любил он, ежели желаете знать, жену да Петра.
— Какого Петра?
— Петра Первого, Великого, как его зовут. А почему велик — все потому же, немец был, не русский.
— Вы, Илья Назарыч, заговариваетесь что-то. Пушкин немец, Петр Великий немец. Кто же русские?
— Русские? — Старик пристукнул пузырь на распластанной подметке. — Хе, хе… Кто русские… (Где я слышал этот хрипловатый голос и это хихиканье? Ведь слышал же?).
— Русские? Как бы вам сказать… Ну, для примера, вот вам наш Санкт-Петербург — град Святого Петра, хе-хе… Кто его строил? Петр, скажете? Так ведь не Петр же в болоте по горло стоял и сваи забивал? Петра косточки в соборе на золоте лежат. А вот те, чьи косточки, тысячи и тысячи, вот тут, — он топнул ногой, — под нами гниют, чьи душеньки неотпетые ни Богу, ни черту не нужные, по Санкт-Петербургу этому, по ночам, по сей день маются, и Петра вашего, и нас всех заодно, проклинают, — это русские косточки, русские души…
Он опять согнулся над сапогом.
— Трудно на вас работать, господин Гумилев. Селезнем ходите, рант сбиваете. Никак подметку не приладишь.
— Это у меня походка кавалерийская.
— Может, и кавалерийская, только, извиняюсь, косолапая…
— Все-таки, Илья Назарыч, почему же Пушкин немец? Старичок опять захихикал.
— А вот я вам стишком отвечу:
Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой стройный, строгий вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит.— Ну, как по-вашему? Люблю! Что же он любит? Петра творенье. Русскому ненавидеть впору, а он — люблю. Немец! Державу любит! Теченье! Гранит — нашими спинами тасканный, на наших костях утрамбованный!.. Ну?..
— Я тоже люблю, однако русский.
— Ну, это потом разберут, русский вы или нет… Готовы ваши сапожки. Деньгами платить будете или потом мукой рассчитаетесь? Мукой? — Ладно. Сейчас вам их заверну. Шаркая, сапожник вышел.
— Забавный старик.
— Очень. Немного тронувшись, кажется.
— Пожалуй. Но умница. Слышал, как рассуждает? Его бы в религиозно-философское общество, а не сапоги чинить… И в комнате у него как мило. Смотри: чистота, книжки разложены. Что это он пишет, давай посмотрим?
Гумилев отвернул обложку копеечной тетрадки. На первой странице было старательно выведено:
"Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра…"
— Вот ваши сапожки…
Гумилев обернулся с тетрадкой в руках:
— Что это такое, Илья Назарович?
Старик поглядел из-под очков, пожал плечами.
— Такое, что по чужим комодам шарить не полагается.
— Вы, значит, мне это прислали?
— Выходит, что я-с.
— Зачем?
— Там было указано, зачем, — переписать и разослать.
— Да вы сами понимаете, к кому эта молитва?
Сапожник насупился.
— Нет у меня времени, граждане, к сожалению, времени не имею. Вот ваши сапожки. Дозвольте деньги за работу — ждать муки мне несподручно. И, если по сапожной части, ищите, господин, другого мастера. Я в деревню уезжаю…
…Где я слышал этот голос? А! — вот что…
— Уезжаете? Покойнички беспокоятся? — сказал я тихо. Старик посмотрел на меня насмешливо.
— Чего им беспокоиться, молодой человек? Им в земле покойно. Это, скорее, живым следует. Мое нижайшее, граждане.
x x x
Через год, под грохот кронштадтских пушек, я шел по Каменноостровскому.
Меня окликнули. — В., какой-то облезлый, похудевший.
— Что с вами?
— На Шпалерной сидел. Попал в засаду.
— Где же?
— Так, из-за спирта. Сапожник один спирт мне доставал. Зашел к нему, — ну, а там засада. Три месяца продержали…
— Сапожник? Это не в Лавре, не Илья Назарыч?
— Вот как? Значит, спите вы не так уж крепко. Верно, Илья Назарыч. Но откуда же вы имя и адрес знаете?
— Не только адрес, но и был у него и не прочь бы еще зайти потолковать. Может, пойдем вместе?
В. криво улыбнулся.
— Трудновато это: в декабре еще расстреляли. За спирт. А жаль — славный спирт продавал, эстонский, и брал недорого.
II
Летом 1910 года, на каникулах, я прочел в "Книжной Летописи" Вольфа объявление о новой книге. Называлась она "Студия Импрессионистов".
Стоила два рубля.
Страниц в ней было что-то много, и содержание их было заманчивое: монодрама Евреинова, стихи Хлебникова, что-то Давида Бурлюка, что-то Бурлюка Владимира, нечто ассирийское какой-то дамы с ее же рисунками в семь красок.
Я эту «Студию» выписал. Потом, у Вольфа, мне рассказывали, что я был одним из трех покупателей. Выписал я, выписала какая-то барышня из Херсона и некто Петухов из Семипалатинска. Ни в Петербурге, ни в Москве — не продали ни одного экземпляра. Только мы трое не пожалели кровных двух рублей, не считая пересылки, за удовольствие прочесть братьев Бурлюков с ассирийскими иллюстрациями в семь красок.
Только мы: я, барышня из Херсона и Петухов. Трое из ста шестидесяти миллионов.
О, Русь! О, rus!
Но это потом мне объяснили у Вольфа. Тогда же, выписывая, я испытал даже некоторое беспокойство: получу ли, не распродана ли?
"Студия Импрессионистов" внешностью не разочаровала. Формат большой, длинный, обложка буро-лиловая, с изображением чего-то непонятного: может быть, женщина, может быть, дом. Ассирийские рисунки тоже были недурны, хотя семь красок оказались преувеличением. Красок было две, все тех же — бурая и лиловая. Содержание же, "сплошное дерзанье", — просто меня потрясло. С завистью я перечитывал стихи про оленя, затравленного охотниками:
И вдруг у него показалась грива, И острый львиный коготь, И беззаботно и игриво Он показал искусство трогать.Или знаменитых впоследствии «Смехачей» — "о, рассмейтесь, смехачи, смеюнчики, смеюнчики…"
Не то чтобы мне очень нравилось: Бальмонт или Брюсов были мне гораздо больше по душе. Но как не позавидовать смелости и новизне?
Что все это крайне ново, смело и прекрасно, не оставалось сомнений после вступительной статьи редактора студии Кульбина, очень истово это объяснявшего.
Я перечел эту статью с почтением.
Потом с завистью монодраму — переворот в драматическом искусстве — как она тут же рекомендовалась.
Потом "Смеюнчиков".
Потом снова монодраму…
Естественно, что "еще потом", через недели две, я отправил на почту заказной пакет с десятком буро-лиловых стихотворений без определенного размера и с сопроводительным письмом на имя редактора Кульбина.
Отправив, стал ждать ответа. Некоторый опыт мне подсказывал, что ответ придет не скоро и вряд ли обрадует. Но, против обыкновения, ответ пришел сейчас же. И какой ответ!
На листе шершавой бумаги, тоже лиловато-бурой, — стояло:
— Дорогой друг. Присланное — шедевр. Пойдет в ближайшей книге. Приветствую и обнимаю…
Да. Это была не «Нива», после двух месяцев "сомнений и надежд" возвращавшая рукописи с неизменной отвратительной припиской: "Милостивый Государь. К сожалению…"
x x x
Каникулы кончились — я вернулся в Петербург. Кульбин, издатель «Студии», приглашал меня, сейчас же по приезде, к нему зайти. Конечно, мне очень хотелось это сделать. Знакомство с влиятельным издателем передового альманаха, встреча с такими людьми, как Бурлюки или Борисяк, литературная жизнь, новаторство… Казалось бы, чего лучше? К сожалению, здесь было маленькое «но», сильно меня смущавшее…
«Но» — было в следующем. Как я пойду знакомиться со своими «импрессионистами»? Ведь тогда обнаружится мой позор: шестнадцать лет и кадетский мундир, с золотым галуном на красном воротнике. Лета еще ничего, лета можно и прибавить… Но мундир…
Кульбин рисовался мне господином вдохновенного вида, длинноволосым, бледным, задумчивым. Вот я написал ему, что приду, он меня ждет. Вот я подымаюсь на шестой этаж, в его поэтическую мансарду, увешанную бурыми картинами и заваленную лиловыми рукописями. Звоню. Он смотрит на меня с недоумением. — "Вы, верно, ошиблись, молодой человек, это в третьем этаже, у полковника, сын кадет…"
Но, предположим, — все обойдется. Он же писал, что стихи мои — шедевр, а ведь суть в стихах, а не в возрасте или мундире. Все равно, выйдем мы, например, на улицу. Он говорит: посмотрите, дорогой друг, солнце сегодня совершенно фиолетовое… А в это время навстречу генерал. И вместо того, чтобы согласиться, — да, вы правы, как фиалка, или со вкусом возразить:
"Фиолетовое? Я бы сказал, зеленоватое…" — надо вытягиваться во фронт (три строевых шага, поворот на каблуках — ать-два). Он предложит — зайдем в ресторан, поболтать за бутылкой вина. — Извините, мне можно только в кондитерскую. Да и в кондитерской беги сейчас же к офицеру. — Господин поручик, разрешите сесть…
После долгого раздумья, я решил выждать, когда уедет в деревню старший брат, и отправиться к Кульбину в его штатском костюме. Я уже примерял тайком этот костюм: немного мешковат и брюки надо подворачивать — но, в общем, прилично. Пока же я отослал Кульбину тетрадь новых стихов, с припиской, что болен и зайду, когда поправлюсь…
…Был понедельник, но я сидел дома, «отдуваясь», как говорилось в корпусе, от какой-то «письменной». Было часа два дня. Я с грустью поглядел в окно — в учебные часы благоразумнее не выходить. Вот идет, например, — генерал. — Кадет, почему вы не в корпусе? Ваш билет. — Неприятностей не оберешься.
…Генерал за окном перешел улицу, осмотрелся и завернул за угол — как раз к нашему подъезду. Это был сухонький, строгого вида старичок, военный доктор, в очках и с малиновыми отворотами шинели. Я отошел от окна и сел за неоконченные стихи. Но рифма что-то не подбиралась…
Вдруг брат, тот самый, на костюм которого я рассчитывал, — вбежал в мою комнату с взволнованным видом. — Вот — достукался — пришел доктор из корпуса — проверять, болен ли ты…
С понятным смущением я вошел в гостиную. В гостиной сидел тот самый сухонький генерал, который переходил улицу.
— Зашел познакомиться, — сказал он, протягивая мне обе руки. — Я — Кульбин, — редактор "Студии Импрессионистов"…
x x x
…Ярко начищенная медная доска. Доктор медицины Кульбин, часы приема.
А повыше, на красном сукне двери, кнопками приколот клочок оранжевого картона:
Клуб равнодействующих.
Ассоц-худ-поэт-фут-куб,
Импрессионистов.
Квартира большая, солидная. Приемная с тяжелой мебелью — чехлы, люстры, канделябры, бронзовый медведь с блюдом пыльных визитных карточек.
На столе — старая «Нива», на стенах — пожелтевшие группы:
"Военно-медицинская академия 1879 г.", "Ярославль 1891 г." Все, как полагается.
Но вперемежку с номерами «Нивы» и проспектом Ессентуков — «Помада» Крученыха, обклеенная золотой бумагой, как елочная хлопушка, альманах "Засахаре Кры" и обличительный увраж "Тайные пороки академиков". И на стенах, вперемежку с группами, — картины.
Картины, мало подходящие для докторской приемной: малиновые, бурые, зеленые, лиловые. Там серый конус на оранжевом фоне, здесь желтый куб на бледно-синем, между ними что-то пестрое, всех цветов, и по пестроте — надпись "Астрахан… сельд… Это все работы самого Кульбина. Подарки друзей и единомышленников по «ассоц-худ-фут-куб-у» — украшают кабинет.
В кабинете, у большого письменного стола, в мягком свете лампы — две фигуры. Дымя душистой папироской, заложив руки в карманы мягкой серой тужурки, поблескивая золотыми очками, — доктор беседует с пациентом.
Сразу видно, что сидящий напротив — пациент. И вряд ли не душевнобольной.
У него вид желтый и истощенный, взгляд дикий, волосы всклокочены.
Говорит он заикаясь, дергаясь при каждом слове, голова трясется на худой, длинной шее. Он берет папиросу и не сразу может закурить — так дрожат руки.
Закурил и сейчас же бросает, хватает новую папиросу, чтобы опять бросить…
Иногда он что-то порывисто шепчет. Доктор, поблескивая очками, кивает седой головой и делает карандашом какие-то пометки. Отмечает ход болезни.
Пишет рецепт.
Но прислушайтесь к их разговору.
— Отлично, — говорит доктор. — Форма бытия треугольник.
Следовательно, душа — треугольна.
— Ддддаа, — дергается «пациент». — Тттрреугольна иии пппррямоугольна.
— Хорошо, — кивает доктор. — Значит, запишем: Душа — мысль — треугольник. Смерть — чрево — круг…
— Ннет, — волнуется «пациент». — Ннет… Пишите: ччрево — ддрево.
— Но, дорогой мой, вы увлекаетесь. Почему же древо? Ведь наша задача формулировать как можно точнее…
— Ддрево, — настаивал пациент. — Ддрево. — Голова его начинает трястись сильнее. — Ддрево-ччрево…
— Ну, хорошо, хорошо — не волнуйтесь, милый. Древо, так древо. Идем дальше. Жизнь. Смерть. Что потом? Искусство?..
— Искусство — Укус-то! — просияв, вставляет «пациент»… Доктор тоже сияет. Находчиво. Поразительно. Глубоко.
Укус-то. Браво-браво… Во — это не формула. Давайте искать формулу.
Что вы скажете о слове "Сосуд"?
Это основополагатель русского футуризма Кульбин и "гениальнейший поэт мира" «Велимир» Хлебников составляют тезисы философского обоснования нового направления. Но каждую минуту картина может измениться: с Хлебниковым сделается страшный припадок падучей, и его собеседнику придется вспомнить о другом искусстве — врача.
x x x
Эта солидная квартира, эти группы по стенам, эти генеральские погоны, золотые очки, неторопливые манеры седеющего профессора — все это призрачное.
Несколько лет назад в этой квартире жил действительный статский советник Кульбин. Принимал пациентов, ездил на лекции, писал научные статьи — делал все, что полагается делать, жил, как полагается жить. В свободное время он немного занимался живописью, бывал на выставках. Но свободного времени было мало: начатые картины по месяцам валялись неоконченными. Вон там, в темном проходе, еще висит одна: «натюр-морт» — кувшин, два яблока, рыба. Старательно, аккуратно выписано. Действительный статский советник Кульбин подражал фламандцам.
Но в один холодный январьский день — Кульбин уехал, как обычно, в госпиталь или в Академию и больше не вернулся. В его шинели и очках, с его лицом и походкой, открыв дверь его французским ключом, в эту квартиру вошел другой человек…
Между десятью утра и семью вечера доктор медицины, действительный статский советник Кульбин где-то в закоулках засыпанного снегом Петербурга потерял свою прежнюю душу.
Вот рассказ его самого:
— …Шел через мост — захотелось размять ноги. Думал о делах — пациентах, лекциях… Новые калоши еще, помню, сильно скрипели. Ничуть не был ни взволнован, ни в каком-нибудь особенном настроении. И у самой Троицкой площади — лошадь на боку, и ломовой хлещет ее, чтобы встала, — все по глазам, по глазам… А она встать не может, только дергается… И в эту минуту вспыхнули фонари по всему Каменноостровскому. Еще не совсем стемнело, и вдруг вспыхивают фонари. — Знаете, как это прекрасно…
— Ну?
— Все. Больше ничего. В эту минуту — перевернулось во мне что-то.
Точно я совсем погибал и чудом спасся. Стою, шапку зачем-то снял. Старый дурак, думаю, на что ты убил пятьдесят лет жизни? Городовой ко мне подбежал.
— Ваше превосходительство, ваше превосходительство… — Посадил меня на извозчика… С тех пор…
…С тех пор на квартире на Кирпичном все вверх дном. В 3 часа ночи Крученых по телефону требует денег. В гостиной ночуют бездомные футуристы.
Как я люблю беременных мужчин, Когда они у памятника Пушкина…Несется утром из ванной раскатистый бас Давида Бурлюка. Его брат, Владимир, существо субтильное, требует себе утренний завтрак в кровать: ему нездоровится, он полежит немного…
И нарядная горничная несет ему на серебряном подносе «кофе» — графин водки и огурец…
Как я люблю беременных мужчин…
Н. И., до зарезу нужно двадцать пять…
Искусство — укус-то…
Ассоц-поэт-худ-фут-куб…
Среди этого сумбура Кульбин чувствует себя прекрасно. Пятьдесят лет «убито» на спокойную, размеренную жизнь профессора. Кто знает, много ли осталось? Так, по крайней мере, пусть каждая минута из этого остатка не пропадет…
— Старый дурак… Пятьдесят лет жизни… Но ничего, ничего — наверстаем…
Кульбин, повторяя эти слова, посмеивается как-то странно. Как-то странно подергивает бородку, поблескивает глазами из-под золотых очков…
— Сколько можно было сделать!.. Сколько пережить… Но ничего, ничего…
Странный смешок, странный взгляд. Что-то томительное есть в них.
И собеседник в генеральской тужурке, с подозрительной чуткостью, живо оборачивается:
— Вы думаете, я сумасшедший?..
x x x
Из моего футуризма ничего не вышло. Вкус к писанию лиловых «шедевров» у меня быстро прошел. Я завел новые литературные знакомства, более «подходящие» для меня, чем общество Крученых и Бурлюков. С Кульбиным видался все реже, мельком, случайно. И очень удивился, когда в январе 1913 года получил на знакомой мне буро-зеленой бумаге настойчивое приглашение приехать вечером.
Я поехал. Почему было бы не поехать? Судя по записке, у Кульбина должно было состояться какое-то сборище — не то спектакль, не то закрытый доклад.
Я был, по-видимому, единственным приглашенным из "правых кругов" — честь, оказанная в знак "старой дружбы". Отклонить эту честь было бы неразумно. Уж если у Кульбина, да "приватное собрание" — значит, будет на что поглядеть… И еще эта интригующая приписка: "Приглашение предъявлять при входе".
Но изящный молодой человек, встретивший меня в прихожей, приглашения не спросил. Он благовоспитаннейше пожал мне руку, представляясь: Бенедикт Лившиц. Имя было, по тем временам, громкое: конфискованная книга, ряд скандалов на диспутах, драки, стрельба из «пугача» в публику… В соединении с такой репутацией забавны были его светские манеры и изящный фрак. Еще раз учтиво расшаркавшись, он пропустил меня в залу.
…Большая комната была полна народу. Большинства я не знал. Какие-то молодые люди с геометрически разрисованными лицами, какие-то взволнованные девицы… Взлохмаченная поэтическая копна и зализанный пробор, синяя блуза и соболя… Смешанное общество.
На возвышении сидел Кульбин. Я не узнал его сразу. Руки скрещены на груди, лицо странно бледное — густо напудренное. Одет — в широкую кроваво-красную хламиду. На лбу — золотой обруч.
…Военно-Медицинская Академия… Николаевский госпиталь…
Вытянувшийся в струнку ординатор: — Ваше превосходительство, честь имею…
…Кульбин сидел на своем золоченом возвышении неподвижно, как идол.
Перед ним Крученых, с толстой восковой свечой в руках, бормотал что-то непонятное глухим истерическим шепотом. Потом вдруг взвизгнул, заголосил, закатился. Из первого ряда бросились его поднимать. Но он сейчас же вскочил с лицом перекошенным, восторженным…
— Свершилось, свершилось, — визжал он уже совершенно как кликуша. —
Вот… он… приял власть… владыка… футурист… царь революции… — И вся зала визжала, аплодировала, топала. Хлебников бился в припадке. Фальцет Крученых перекрикивал всех: — Приял… владыка… царь…
Кульбин сидел все так же неподвижно, скрестив руки, наклоня слегка голову. По его лицу напудренного идола расплывалась тихая бессмысленная улыбка…
…Я разыскал свое пальто в ворохе других — собачьих воротников футуристической братии и чьих-то бобров, лежащих вперемежку. Перчаток не было — Бог с ними, с перчатками. Поскорее бы выбраться отсюда…
Солидная, обитая красным сукном дверь мягко за мной захлопнулась.
Солидная медная доска мягко блеснула аккуратно выгравированными буквами:
Доктор медицины… Прием… Ухо, горло, нос…
…Старый дурак, на что ты убил пятьдесят лет жизни?..
…Но ничего, ничего — наверстаем…
…Вы думаете — я сумасшедший?..
x x x
Я больше не бывал у Кульбина после этого вечера, да и он не приглашал меня. Должно быть, мне не удалось скрыть при встрече с ним, после его «коронации», неловкости, которую я испытал. Изредка я продолжал встречать его то здесь, то там — такого же, как всегда, — солидного, серьезного, поблескивающего очками и погонами. Потом началась война… Потом, в начале лета 1917 года, в ясный, веселый, солнечный День, какой-то знакомый, встретив меня на Невском, сообщил:
— Знаете — Кульбин умер.
— От чего?
— От страху.
— Как так?
— Так. Он шел по улице. Навстречу грузовик с солдатами. Видят — генерал. Схватили, повезли в Думу. Там его продержали полчаса и, конечно, выпустили с извинениями. Он приехал домой и слег. Пролежал два дня и отдал Богу душу. И ничего у него не было — и сердце прекрасное. Испугался очень.
Несчастный!..
III
Принято думать, что всероссийская слава Игоря Северянина пошла со знаменитой обмолвки Толстого о ничтожестве русской поэзии. Действительно, в подтверждение своего мнения Толстой процитировал северянинское: "Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки". Действительно, благодаря этому имя будущего (увы, недолговечного) кумира эстрад и редакций промелькнуло на страницах газет (до сих пор оно было лишь уделом почтовых ящиков: "к сожалению, не подошло"). Но настоящая слава пришла позже. И пришла она, в сущности, вполне «легально»: Игорем Северяниным заинтересовались Сологуб, позднее Брюсов и «лансировали» его.
Была весна 1911 года. Мне было семнадцать лет. Я напечатал в двух-трех журналах несколько стихотворений, завел уже литературные знакомства с Кузминым, Городецким, Блоком, был полон литературой и стихами.
Имени Северянина я до тех пор не слышал. Но, роясь однажды на «поэтическом» столике у Вольфа, я раскрыл брошюру страниц в шестнадцать (названия уже не помню), имевшую сложный подзаголовок: такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней стороне обложки было перечислено содержание всех томов и тетрадей, приготовленных к печати, — что-то очень много. А также объявлялось, что Игорь Северянин, Подъяческая, дом такой-то, принимает молодых поэтов и поэтесс — по четвергам, издателей по средам, поклонниц по вторникам и т. д. Все дни недели были распределены и часы точно указаны, как в лечебнице. Я прочел несколько стихотворений. Они меня «пронзили». Их безвкусие, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои (только месяц назад мне внушили, что Дм. Цензором не следует восхищаться…). Но, повторяю, — они пронзили. Чем, не знаю. Тем же, вероятно, чем через год и, кажется, так же случайно, — Сологуба.
x x x
Меня соблазняло, однако я не сразу решился пойти на прием на Подьяческую улицу. Как держаться, что сказать? Идти в качестве молодого поэта? — в этом было что-то унизительное. Поклонника? — тоже, если даже забыть о своей мужской природе, так как в объявлении значились только поклонницы. Я нашел выход: приняв солидный вид, я отправился к Игорю Северянину в часы, назначенные для издателей. В сущности, я и собирался в ближайшем будущем стать издателем… своей собственной книги (семьдесят пять рублей, выпрошенные у старшей сестры, я хранил в надежном месте).
Еще одно обстоятельство смущало меня, пока я ехал с Каменноостровского на Подъяческую. Несомненно, человек, каждый день принимающий посетителей разных категорий, стихи которого полны омарами, автомобилями и французскими фразами, — человек блестящий и великосветский. Не растеряюсь ли я, когда подъеду на своем ваньке к дворцу на Подъяческой, когда надменный слуга в фиалковой ливрее проведет меня в ослепительный кабинет, когда появится сам Игорь Северянин и заговорит со мной по-французски с потрясающим выговором?..
Но жребий был брошен, извозчик нанят, отступать было поздно…
Игорь Северянин жил в квартире № 13. Этот роковой номер был выбран помимо воли ее обитателя. Домовая администрация, по понятным соображениям, занумеровала так самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был со двора, кошки шмыгали по обмызганной лестнице. На приколотой кнопками к входной двери визитной карточке было воспроизведено автографом с большим росчерком над и:
Игорь Северянин.
Я позвонил. Мне открыла маленькая старушка с руками в мыльной пене. "Вы к Игорю Васильевичу? Обождите, я сейчас им скажу". Она ушла за занавеску и стала шептаться. Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален немытой посудой. Что-то на меня капнуло: я стал под веревкой с развешенным для просушки бельем…
"Принц фиалок и сирени" встретил меня, прикрывая ладонью шею: он был без воротничка. В маленькой комнате с полкой книг, с жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой на стене — был образцовый порядок. Хозяин был смущен, кажется, не менее меня. Привычки принимать посетителей у него еще не было.
После молчания, довольно долгого, он заговорил что-то о даче и что в городе жарко. Потом уж перешли на стихи. Северянин предложил мне прочесть.
Потом стал читать свои. Манера читать у него была та же, что и сами стихи, — и отвратительная, и милая. Он их пел на какой-то опереточный мотив, все на один и тот же. Но к его стихам это подходило. Голос у него был звучный, наружность скорее привлекательная: крупный рост, крупные черты лица, темные вьющиеся волосы. Мы просидели довольно долго, никто нам не мешал, «издателей» больше не приходило. Простились мы почти дружески. Вскоре мы действительно подружились.
Я стал частым гостем на Подъяческой. Совсем новый для меня быт литературной богемы меня привлекал и мне льстил. Я помянул, что имел уже литературные знакомства. Но ходить на чаи к Кузмину или вести раз в месяц почтительные разговоры с Блоком было совсем не то, что ежедневно ездить по «Венам», «Черепенниковым» и «Давидкам», участвовать в поэзо-вечерах в Лигове или на Выборгской стороне, с красным бантом вместо галстука на шее. Этот бант я завел по внушению Игоря и, не смея, конечно, надевать его дома, перевязывал на Подъяческой. Шумные поэзо-вечера и шумные попойки чередовались с «редакционными» собраниями в квартире Северянина. Поэтов вокруг Игоря группировалось довольно много. Трое удостоились высокой чести быть «директориатом» при нем. Это были — я, Константин Олимпов, сын Фофанова, явно сумасшедший, но не совсем бездарный мальчик лет шестнадцати, и Грааль Арельский, по паспорту Степан Степанович Петров, студент не первой молодости, вполне уравновешенный и вполне бесталанный.
«Директориат» решил действовать, завоевывать славу и делать литературную революцию. Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифест эго-футуризма. Написан он был простым и ясным языком, причем тезисы следовали по пунктам. Помню один: "Призма стиля — реставрация спектра мысли…"
Кстати: этот манифест перепечатали очень многие газеты и, в большинстве, его комментировали или спорили с ним вполне серьезно!
x x x
Однажды на Подьяческую, хотя, кажется, и не в предназначенный для этого час, пришел настоящий издатель. Правда, он пока ничего не издавал, но, прочтя наш манифест, решил предоставить свой кошелек в распоряжение "реставраторов спектра мысли". Кошелек был не очень тугой: нередко, для нужд издательства, золотые часы Ивана Васильевича Игнатьева отправлялись в ломбард. Но все же к нашим услугам теперь была еженедельная газета "Петербургский Глашатай"; когда она прекратилась, за полной убыточностью, то альманахи под тем же названием. Стихи назывались поэзами, издания — эдициями, редактор — директором. На летний сезон к услугам эго-футуристов была другая газета — увы! вульгарно называвшаяся — «Нижегородец». Она выходила в Нижнем Новгороде во время ярмарки и была полна ценами, балансами и статьями о сбыте рыбы в Персию. Но какой-то дядюшка Игнатьева, ее издававший, был не чужд возвышенному и печатал без разбора все, что тот присылал. Мы все этим широко пользовались. Я, помню, напечатал там большую статью, доказывавшую, что Метерлинк пошляк и бездарность… Гонорара, понятно, нам не платили.
В маленьком деревянном "собственном доме", на углу Дегтярной и восьмой Рождественской, в редакции "Петербургского Глашатая" происходили время от времени «поэзо-праздники», о которых для «эпатирования» особыми извещениями сообщалось редакциям разных газет. Программы эти назывались «вержетками» (верже — сорт бумаги) и были составлены крайне соблазнительно и пышно.
Прилагалось и меню ужина, где фигурировали ананасы в шампанском, Крем де Виолетт и филе молодых соловьев. В действительности, конечно, было попроще.
Полбутылки Крем де Виолетт'а (фирмы Cusimier, продавался у Елисеева) украшали стол больше в качестве символа поэзии и изящества. Но водка и удельное вино подавались в таком количестве, что нередко гости впадали в совершенно невменяемое состояние. Иногда случались вещи совсем дикие. Так, однажды, некто Петр Ларионов, на сорок пятом году соблазненный футуризмом, занимавший странную должность заведующего царскосельским птичником, ушел от Игнатьева с наполовину выбритой головой (он носил поэтическую шевелюру), с лицом, раскрашенным, как у индейца, и с бубновым тузом на спине. Этот Игнатьев, на вид нормальнейший из людей, — кругло- и краснощекий, типичный купчик средней руки, очень страшно погиб. На другой день после своей свадьбы, вернувшись с родственных визитов, он среди белого дня набросился на жену с бритвой. Ей удалось вырваться. Тогда он зарезался сам.
x x x
Моя дружба с Игорем Северяниным, и житейская, и литературная, продолжалась недолго. Я перешел в Цех Поэтов, завязал связи более «подходящие» и поэтому бесконечно более прочные. Но лично с Северяниным мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в Цех, что, конечно, было нелепостью. Мы расстались (две-три позднейшие встречи в счет не идут), когда Северянин был в зените своей славы. Бюро газетных вырезок присылало ему по пятьдесят вырезок в день, сплошь и рядом целые фельетоны, полные восторгов или ярости (что, в сущности, все равно для "техники славы"). Его книги имели небывалый для стихов тираж, громадный зал городской Думы не вмещал всех желающих попасть на его "поэзо-вечера".
Неожиданно сбылись все его мечты: тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, триумфальные поездки по России… Это была самая настоящая, несколько актерская, пожалуй, слава. Игорь Северянин не сумел ее удержать, как не сумел удержать и того неподдельного очарования, которое было в его прежних стихах. О теперешних лучше не говорить.
IV
Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана.
Туман бывает в разных городах, но петербургский туман — особенный. Для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поежится: "бр… проклятый климат…"
Ежимся и мы. Но ни на что не променяем пышный,
Гранитный город славы и беды, Широкие, сияющие льды, Торжественные черные сады… И туман, туман — душу этих "льдов и садов"…"Невы державное теченье, береговой ее гранит", — Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы, — все это внешность, платье. Туман же — душа.
Там, в этом желтом сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Анненский, в бобрах и накрахмаленном пластроне, падает с тупой болью в сердце на грязные ступени Царскосельского вокзала, прямо:
В желтый пар петербургской зимы, В желтый снег, облипающий плиты,которые он так "мучительно любил".
Впрочем, — все это общеизвестно.
x x x
На Невском шум, экипажи, свет дуговых фонарей, «фары» Вуазенов, «берегись» лихачей, "соболя на плечах и лицо под вуалью", военные формы, сияющие витрины. Блестящая европейская улица — если не рю Руайяль, то Унтер-ден-Линден. И туман здесь "не тот" — европеизированный, нейтрализованный. Может быть, «тот» настоящий петербургский туман и не существует больше?
Нет, он тут, рядом, в двух шагах. В двух шагах от этого блеска и оживления — пустая улица, тусклые фонари и туман.
В тумане бродят странные люди.
Поверните по Малой Конюшенной за угол. Два-три дома и вот:
В серый цвет окрашенные стены, Вывеска зеленая "Портной".Вывеска, впрочем, не зеленая. Приказом градоначальника на главных улицах столицы в вывесках соблюдается "пристойное однообразие". Должно быть, начитался Курбатова градоначальник.
Вывеска портного — черная, с золотыми буквами. Она импозантна не по чину — портной маленький. Чтобы не отпугивать клиентов, на стеклянной двери — записка, смягчающая торжественный холод вывески: "Переделка, перелицовка, утюжка по дешевой цене". А рядом с запиской подсунута желтоватая визитная карточка:
Николай Карлович Цыбульский, свободный художник, не окончивший С.-Петербургской консерватории.
— Николай Карлович дома?
И, не подымая лохматой головы от чего-то бурого или замасленного, перелицовываемого или переделываемого, — портной хмуро отвечает:
— Спит.
Спит — значит дома. Что же можно делать дома, как не спать после вчерашнего похмелья, набираясь сил для сегодняшнего.
В большой комнате полутемно, шторы опущены. В сумраке виден рояль, люстра в чехле, стол с грудой бумаг. В углу, на кровати, кто-то похрапывает…
— Николай Карлович!
Дремлющий грузно переворачивается, заставляя трещать все пружины матраца.
— Чего надо? К черту! Который час?
— Поздно. (Действительно, не рано — пятый час дня). Вставайте.
Всклокоченная голова тяжело приподымается с подушки. Руки выпрастываются из-под шубы. Голос хриплый, но приятный и барственный, слегка грассируя, говорит:
— Будьте добры, "мон шевалье", если это вас не затруднит, зажечь электричество, чтобы я мог видеть ваши благородные черты.
При свете впечатление от комнаты меняется.
В сумраке она выглядела приличной, даже внушительной. Высокий потолок, раскрытый рояль, "следы труда и вдохновенья"… Но при свете…
Пол в окурках, спичках, бумажках. Груды старых газет, пустых бутылок, коробок от консервов.
На рояли прикапан, прямо к доске, огарок восковой трехкопеечной свечки.
Другой, догорев, расплылся затейливым сталактитом на выложенной перламутром надписи: «Бехштейн». На стенах подтеками сырости, углем нарисованы рожи:
Адам и Ева, срывающие плод (крайне натурально), коты с задранными хвостами, черти. Кровать — хаос пестрого тряпья. На ночном столике — бутылка, с водкой на донышке.
Хозяин, свободный художник, "не окончивший консерватории", — толстый, опухший, давно небритый. Выражение лица — смесь тошноты после перепоя и иронии. Но в манерах протягивать руку, надевать плохо слушающимися пальцами пенсне, закуривать длинную папиросу — какая-то респектабельность.
— Очень мило, дорогой маркиз, что вы навестили старого пьяницу. Прошу садиться…
x x x
Если в Петербурге особенный туман, то самый «особенный» он вечерами на Васильевском острове.
На пересечении проспектов Большого, Малого и Среднего — пивные. На Василеостровских «линиях» туман, мгла, тишина. Но с перекрестков бьют снопы электричества, пьяного говора, «Китаяночка» из хриплого рупора:
После чая, отдыхая, Где Амур река течет, Я увидел китаянку…Некоторые пивные замечательные.
Устроили их немцы в 80-х годах с расчетом на солидных и спокойных клиентов — немцев же. Солидные мраморные столики, увесистые пивные кружки, фаянсовые подставки под них с надписями вроде:
— Morgenstunde hat Gold im Munde.[1]
На стенах кафелями выложены сцены из Фауста, в стеклянной горке — посуда для торжественных случаев. Она давно под замком, — старых, хороших клиентов давно нет, солидная немецкая речь давно не слышна. Теперь в этих «Эдельвейсах» и «Рейнах» собираются по вечерам отребья петербургской богемы.
…Визжит и хрипит разудалая «Китаянка». Зеркальные, исцарапанные надписями стены сияют немытым блеском, жирная белая пена ползет по толстому стеклу.
— Человек! Еще парочку. Тепленького!
От теплого пива скорее «развозит». Холодное пьют одни "пижоны".
…Китаянка, китаянка, Китаяночка моя…К десяти вечера — «Эдельвейс» полон. «Торгуют» официально до двенадцати — засиживаются гости до часу. Потом в «Доминик» на Невском, открытый до трех ночи… А в четыре утра, на Сенной, начинают открываться извозчичьи чайные — яичница из обрезков и спирт в битом чайнике на коричневой от грязи скатерти. Это называется пить "с пересадками"…
…Китаянка… Китаянка…Почти все столики полны. В углу — три стола сдвинуты рядом под пыльной искусственной пальмой. Этот угол — поэтически-литературный-музыкальный. Там председательствует Цыбульский. И идут бесконечные разговоры.
Вот Ш., поэт, вечный студент — длинный, черный, какой-то обожженный, в долгополом выгоревшем сюртуке. Необыкновенно ученый, полусумасшедший. Для него "путешествие с пересадками" начинается с утра — вместо кофе стакан водки и две кильки. Он уже совсем пьян — и замогильным голосом толкует что-то о Ницше. Г., тоже поэт и тоже пьяный, захлебываясь, его перебивает:
— Романтизм, романтизм… Новалис… Голубой цветок.
Еще какие-то люди. Тоже поэты, или музыканты, или философы, — кто их знает. Шумней всех М. - актер, не спившийся и даже не пьяный, — притворяется только. Зачем он притворяется? Всем известно, что от Доминика он уже улизнет — домой, спать. Ведь завтра — репетиция — Боже сохрани — пропустить. И пить-то он не любит, и денег жаль — а приходится не только за себя, и за других платить. Зачем же он это делает?
Из чести. Странная, казалось бы, честь. А вот, подите же…
М. шумно чокается, нарочно проливая, шумно предлагает бестолковый тост.
Он жестикулирует, бьет себя в грудь, плачет… — Выпьем за искусство…
Построим лучезарный дворец… Эх, молодость, где ты…
Пьяницы непритворные чокаются и пьют. Они знают, что М. притворяется, что никаких "разбитых надежд" заливать ему нечего, что он просто балагур, пошляк. Но им безразлично, — с кем пить, чью болтовню слушать. Все давно безразлично. Все на свете чушь, вздор, галиматья. — Человек! Еще парочку!..
…Китаянка — китаянка… Романтизм… голубые дали… Так говорил Заратустра…
Голос Цыбульского — хриплый и барственный — вдруг покрывает все это:
— Если есть бессмертие души… Да… А оно есть… И Бог спросит меня… Там… Что ты, Николай, сделал… Сыграй!., я ему сыграю… Да… Я ему сыграю… Чижика.
— И буду… прав, а?
— Прав… прав… — кричат пьяные голоса. — Здорова, Цыбульский… Так и надо. Чижика ему… Выпьем…
М. в восторге лезет целоваться.
x x x
Сталкиваясь с разными кругами «богемы», делаешь странное открытие.
Талантливых и тонких людей — встречаешь больше всего среди ее подонков.
В чем тут дело? Может быть, в том, что самой природе искусства противна умеренность. "Либо пан, либо пропал". Пропадают неизмеримо чаще. Но между верхами и подонками — есть кровная связь. «Пропал». Но мог стать паном и, может быть, почище других. Не повезло, что-то помешало — голова «слабая» и воли нет. И произошло обратное «пану» — «пропал». Но шанс был. А средний, «чистенький», «уважаемый», никак, никогда не имел шанса — природа его совсем другая.
В этом сознании связи с миром высшим, через голову мира почтенного, — гордость подонков. Жалкая, конечно, гордость.
Цыбульский начал блестяще.
— …Вот был в консерватории мальчик Цыбульский. Какой был Божий дар, — вспоминал старичок-генерал Кюи. — Если бы остался жив — понятие о музыке перевернул бы. Какой дар, какой размах!
— Да Цыбульский не умер. Недавно еще какой-то его романс у Юргенсона.
Очень талантливый, конечно, хотя…
Кюи качал головой. — Романс? Талантлив? Нет, не тот Цыбульский, не может быть тот. Тот, если бы жил, — показал бы…
Так как Цыбульский не умер и не "перевернул понятия о музыке", — ему оставалось единственное — спиться.
…Комната у портного на Конюшенной. Два оплывающие огарка. Высокий потолок расплывается в сумраке. Рояль раскрыт.
Облезлых стен, пятен сырости, окурков и пустых бутылок — не видно.
Комната кажется пустой и торжественной. Пламя огарков колеблется.
В этом колеблющемся свете не видно и то, что так бросается в глаза в "мертвом, беспощадном свете дня" в лице Цыбульского: опухлость бессонных ночей, давно небритые щеки, едкая, безнадежная «усмешечка» идущего на дно человека. Оно помолодело, это лицо, и изменилось. Глаза смотрят зорко и пристально в растрепанную нотную рукопись…
Цыбульский берет два-три аккорда, потом смахивает ноты с пюпитра.
— К черту! Я буду играть так.
«Так» — значит импровизировать. Разные бывают импровизации, но то, что делает Цыбульский, — ни на что не похоже.
Сначала — "полосканье зубов" — как он сам называет свою прелюдию.
Нечто вроде гамм, разыгрываемых усердной ученицей, только что-то неладное в этих гаммах, какая-то червоточина. Понемногу, незаметно, отдельные тона сливаются в невнятный, ровный, однообразный шум. Минута, три, пять, — шум нарастает, тяжелеет, превращается в грохот. — Вот так импровизация! — Какой-то стук тысячи деревянных ложек по барабану. Какая же это музыка?..
Тс… Не прерывайте и вслушайтесь. Слышите? Еще нет? А… слышите теперь?
…Среди тысячи деревянных ложек — есть одна серебряная. И ударяет она по тонкому звенящему стеклу…
Слышите?
Ее едва слышно, она скорее чувствуется, чем слышна. Но она есть, и ее тонкий, легкий звон проникает, осмысливает, перерождает — этот деревянный гул. И гул уже не деревянный — он глохнет, отступает, слабеет…
Не отрывая пальцев от клавиш, Цыбульский оборачивается к слушателям.
Его лицо раскраснелось, глаза шалые. Он перекрикивает музыку:
— Людоеды отступают, щелкая зубами. Им не удалось сожрать прекрасного англичанина!
Не обращайте внимания на это дикое «пояснение». Слушайте, слушайте…
…Шум исчез. Чистая, удивительная, ни на что не похожая мелодия — торжествует победу. Лучше закрыть глаза. Закрыть глаза и слушать это торжество звуков. Нет больше ни Конюшенной, ни оплывающих огарков, ни залитого пивом рояля. Наступает минута, когда:
Все исчезает, — остается Пространство, звезды и певец.Слушайте! Сейчас все оборвется, крышка рояля хлопнет, и хриплый голос пробасит:
— Ну, довольно ерунды!
— Какую прелесть вы играли, Н. К. Почему вы не запишете этого?
— Записать? — Деланно-глуповатая усмешка. — Записать? Пробовал-с. И неоднократно. Не поддается записи…
Да и к чему. И так слышно. "Имеющие уши да слышат", — затягивает Цыбульский, как дьякон. Потом жеманно раскланивается:
— Позвольте узнать, виконт, что вам приятнее — сидеть в конуре старого пьяницы или отправиться в небезызвестный этаблисман Эдельвейс?
Однажды, уже в начале войны, я зашел под вечер мимоходом к Цыбульскому — и удивился.
Гладко причесанный, чисто выбритый, — он старательно завязывал «художественный» бант на белоснежной рубашке. Визитка… разутюженные брюки… Запах одеколона… Что за чудеса?
Цыбульский улыбнулся.
— Поражены блеском моего туалета, синьор? Думаете, что с старым пьяницей? Сошел с ума? Получил наследство? Идет свататься?
— В самом деле, Н. К., куда вы так наряжаетесь?
Цыбульский щелкнул языком: — "Много будете знать…" Впрочем, если угодно, возьму вас с собою. Обещаю — прелюбопытное зрелище… и недурной ужин. Едемте, в самом деле, — не пожалеете.
— Куда?
Он сделал важную мину.
— В Санкт-петербургское общество внеслуховой музыки. Да-с, внеслуховой. Не слыхали такого термина? И понятно. Открытие сие покуда держится в тайне…
Он переменил выспренний тон на свой обычный, — идем, не пожалеете. Да что объяснять — увидите сами.
Делать мне было в тот вечер — нечего. Я поехал.
…Мы вошли в темноватый подъезд какого-то особняка. Швейцар, молча, поклонившись, снял с нас шубы. Так же молча лакей повел нас через какие-то пустовато и дорого обставленные комнаты.
Мне стало неловко — являюсь в чужой дом, никем не званый, да еще в сером костюме…
— Чушь, — сказал на это Цыбульский. — Здесь на пиджаки не смотрят.
Здесь, забирай выше, смотрят на духовную сущность человека. Да, вот мы здесь какие… Конечно, смотрят в книгу, видят фигу — это уж «общечеловеческое», — но поползновения-то благие…
…В большой, неярко освещенной гостиной было человек двадцать.
Несколько дам в черных платьях, несколько накрахмаленных пластронов.
Остальные попроще, но тоже приличного и культурного вида.
Цыбульского встретили тихими аплодисментами. Он важно раскланялся, пожал кое-кому руки, все это безмолвно, как в кинематографе. — Глухонемые, — шепнул он мне. — Все глухонемые. Не говорите громко, это их раздражает, когда они приготовились слушать. Не звук голоса, конечно, а жесты, движения губ. Народ нервный. Сядьте вон там. Сейчас начнется.
…Лакей щелкнул выключателем. Лампы погасли. На эстраде вспыхнул бледно-серым цветом диск в пол-аршина диаметром. Этот бледный свет едва освещал высокий инструмент, вроде пианино, и грузную фигуру Цыбульского за ним. Все остальное было погружено в темноту. Стояла полная тишина.
И вот Цыбульский ударил по клавишам из всей силы. Вместо грома музыки — послышался только глухой стук. Но диск вспыхнул — ярко-оранжевым, потом синим, потом со стремительной быстротой в нем пронеслись все оттенки красного — от бледно-розового до пунцового…
Так вот она, внеслуховая музыка!
Немые клавиши сухо трещали под сильными ударами пальцев Цыбульского.
Оранжевый, синий, красный, зеленый — пронеслись по диску в дикой какофонии красок.
И вдруг… в зале послышалось какое-то сопение, шорох, гул. — Глухонемые слушатели начали подпевать.
Сначала робко, тихо, потом все сильней. Нестройный шум, похожий на ворчание, все возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не ворчанье — лай, блеяние, крик, вой, хрипенье — наполняло комнату…
Диск мелькал и мелькал. Когда он вспыхивал особенно ярко — видны были слушатели. На всех лицах выражение не то блаженства, не то ужаса. Одни орали — выделывая ртом странные движения, некоторые, опрокинувшись, обхватывали голову руками, другие раскачивались всем телом, третьи размахивали руками, точно дирижируя…
…Глухонемой швейцар, получив от меня двугривенный, страшно замычал в благодарность. Пока я одевался — Цыбульский догнал меня в прихожей.
— Уходите? Испугались? Что за глупости?! Я проиграю им еще две-три вещицы и потом будем ужинать всей семейкой. Оставайтесь, право. Если невмоготу слушать — посидите где-нибудь в другой комнате.
Я сослался на головную боль — и, действительно, голова начинала трещать. Цыбульский пожал плечами — ну, до свидания. Так уж не понравилась музычка? А знаете, кстати, что я им играл и что они подпевали? — Ведь они перед концертом готовятся, разучивают по нотам — Девятую симфонию!..
V
На визитных карточках стояло: Борис Константинович Пронин — доктор эстетики, Honoris Causa. Впрочем, если прислуга передавала вам карточку — вы не успевали прочитать этот громкий титул. "Доктор эстетики", веселый и сияющий, уже заключал вас в объятия. Объятье и несколько сочных поцелуев куда попало были для Пронина естественной формой приветствия, такой же, как рукопожатие для человека менее восторженного.
Облобызав хозяина, бросив шапку на стол, перчатки в угол, кашне на книжную полку, он начинал излагать какой-нибудь очередной план, для исполнения которого от вас требовались или деньги, или хлопоты, или участие.
Без планов Пронин не являлся, и не потому, что не хотел бы навестить приятеля, — человек он был до крайности общительный, — а просто времени не хватало. Всегда у него было какое-нибудь дело и, понятно, неотложное. Дело и занимало все его время и мысли. Когда оно переставало Пронина занимать, — механически появлялось новое. Где же тут до дружеских визитов?
Пронин всем говорил «ты». — Здравствуй, — обнимал он кого-нибудь попавшегося ему у входа в "Бродячую Собаку". — Что тебя не видно? Как живешь? Иди скорей, наши (широкий жест в пространство) все там…
Ошеломленный или польщенный посетитель — адвокат или инженер, впервые попавший в "Петербургское Художественное Общество", как "Бродячая Собака" официально называлась, беспокойно озирается, — он незнаком, его приняли, должно быть, за кого-то другого? Но Пронин уже далеко.
Спросите его:
— С кем это ты сейчас здоровался?
— С кем? — широкая улыбка. — Черт его знает. Какой-то хам!
Такой ответ был наиболее вероятным. «Хам», впрочем, не значило ничего обидного в устах "доктора эстетики". И обнимал он первого попавшегося не из каких-нибудь расчетов, а так, от избытка чувств.
Явившись с проектом, Пронин засыпал собеседника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопрос, — была безнадежна. — Понимаешь… знаешь… клянусь… гениально… невероятно… три дня… Мейерхольд… градоначальник… Ида Рубинштейн… Верхарн… смета… Судейкин… гениально… — как горох, летело из его не перестававшего улыбаться рта.
Редко кто не был оглушен и редко кто отказывал, особенно в первый раз.
«Гениальное» дело, конечно, не выходило. Из-за «пустяка», понятно.
Пронин не унывал. Теперь все предусмотрено. Гениально… невероятно… изумительно… Рихард Штраус…
Умудренный опытом, обольщаемый жмется.
— Да ведь и в прошлый раз по вашим словам выходило, что все устроится.
"Ах, Боже мой, что за человек, — выражает лицо Пронина, — не хочет понять простой вещи. — Да ведь тогда провалилось, потому что он стал интриговать. Теперь он наш. Теперь все пойдет изумительно, вот увидишь…"
И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек или едет хлопотать в министерство, или пишет пьесу, по мере сил участвуя в работе этой работающей впустую машины, которая зовется деятельностью Бориса Пронина.
x x x
Машина, впрочем, работала не совсем впустую, какие-то крупинки эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов, все-таки молола.
"Что-то", в конце концов, получалось или «наворачивалось», как Пронин выражался.
Так, навернулись по очереди — "Дом Интермедии", потом "Бродячая Собака", наконец, "Привал Комедиантов". Не так мало, в сущности, если не знать, сколько энергии, и своей, и чужой, на них убито.
Пронин хлопотал над устройством "Привала Комедиантов". «Машина» работала вовсю. Рабочие требовали денег, а денег не было; какое-то военное учреждение прислало солдат для очистки помещения, на которое, оказывается, оно имело права; вода бежала со всех стен (это еще ничего) и из только что устроенных каминов, что было хуже, т. к. без каминов как же было сушить стены?
Воду откачивали насосами. Вместо подмоченных поленьев накладывались новые, вода из Мойки, на углу которой «Привал» помещался, их вновь заливала.
Пронин, растрепанный, без пиджака, несмотря на холод (в волнении он всегда снимал пиджак, где бы ни находился), в батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком набоку и перемазанный сажей и краской, распоряжался, кричал, звонил в телефон, выпроваживал солдат, давал руку на отсечение каменщикам, что завтра (это завтра тянулось уже месяцев шесть) они получат деньги, сам хватался за насос, сам подливал керосину в не желающие гореть дрова…
Зашедших его навестить он встречал с энтузиазмом и вел показывать свои владения.
"Это, — Пронин кивал на грязную сводчатую комнату, со стенами в бурых подтеках и кашей из известки и грязи вместо пола, — "Венецианский зал". Его устроит мэтр Судейкин. Черный с золотом. Там будет эстрада. Никаких хамских стульев — бархатные скамьи без спинок…
— Так ведь будет неудобно?
— Удивительно неудобно! Скамейка-то низкая и покатая, венецианская…
Но ничего, свои будут сидеть сзади, на стульях. А это специально для буржуев — десятирублевые места…
А здесь — монмартрское бистро. Распишет все Борис Григорьев — изумительно распишет. Вот — смотри, газ уже проведен, будет совсем как в Париже.
На стене уныло торчит газовый «бек». По всем потолкам видны следы работы электропроводчиков, и этот рожок единственный во всем помещении.
— Специально проводили, — горделиво щелкает по нему Пронин. — В семьсот рублей обошелся, специальную трубу пришлось прокладывать. Зато — шик, совсем как в Париже. Буржуи будут закуривать и ахать.
— А здесь что?
Пронин еще сам не решил, что будет здесь, между бистро и Венецией. Но не хочет показать этого.
— Здесь… — так, уголок, бросим какую-нибудь ткань, ковер, широкий диван…
— А эта комната напоминает купальню.
— Купальню? — Пронин прищуривается. — Купальню? Гениально!
Изумительно! Именно, здесь будет восточная купальня. Завтра велю ломать бассейн. Напустим воды (ее-то хватит!). Разноцветные стены, стекла… в бассейне плавает лебедь… свет сверху…
— Ну, свет сверху мудрено устроить…
— Ничуть — проломим потолок.
— Это шесть этажей проломаете?
— Что же такого? Сниму все квартиры и проломаю… Впрочем, кажется, я того — фантазирую…
— Борис Константинович, — вбегает мальчишка-обойщик, с озабоченно-восторженным лицом. — Вода!
— А, черт! — И с таким же озабоченно-восторженным видом, как у своего подручного, Пронин бежит в "Венецианский зал", откуда слышно глухое плескание заливающей пол воды…
x x x
Вряд ли самому Пронину пришла бы мысль бросить насиженное место в подвале на Михайловской площади и заняться «динамитно-подрывной» работой на углу Мойки и Марсова поля. «Собака» была частью его души, если не всей душой. Дела шли хорошо, т. е. домовладелец — мягкий человек — покорно ждал полагающейся ему платы, пользуясь, покуда, в виде процентов, правом бесплатного входа в свой же подвал и почетным званием "друга Бродячей Собаки". Ресторатор, итальянец Франческо Танни, тоже терпеливо отпускал на книжку свое кислое вино и непервосортный коньяк, утешаясь тем, что его ресторанчик, до тех пор полупустой, стал штаб-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новых посетителей, впрочем, тоже платили лишь в исключительных случаях — больше обедали в кредит.
У этого Франчески Танни часто устраивались и импровизированные пиры.
Так, однажды Пронин, встав утром, решил, что сегодня его именины. Но поздно уже звонить в телефон или рассылать записки. Пронин сделал так: он стал прогуливаться по солнечной стороне Невского — и приглашать всех знакомых, которые ему попадались. Знакомых у Пронина было достаточно. В назначенный час в маленьком и тесном помещении «Франчески» набилось человек шестьдесят, желавших чествовать "дорогого именинника". Сдвинули столы; пошли в дело и кисловатое «каберне», и мутноватое шабли, и не особенно тонкий, но чрезвычайно крепкий коньяк таинственной французской фирмы «Прима». Ну, и кьянти, конечно. Пил «именинник», пили его «друзья», пил хозяин, респектабельный седой итальянец, похожий на знаменитого скрипача. Наконец, "все съедено, все выпито", ресторан пора закрывать. Пронину подают счет.
Неслушающимися пальцами Пронин его разворачивает.
— Это… это что такое?
— Счет-с, Борис Константинович.
— А это?.. — Палец, помотавшись некоторое время в воздухе, как птица, выбирает место, чтобы сесть, — тычет в сумму счета.
— Двести рублей-с…
Отблеск удивления и ужаса мелькает на блаженном лице «именинника». Он минуту молчит, потом патетически восклицает:
— Хамы! Кто же будет платить!..
………………………………………………………..
Нет, сам Пронин вряд ли бы по своему почину расстался с Михайловской площадью. Идею переменить скромные комнаты «Собаки», с соломенными табуретками и люстрой из обруча, на венецианские залы и средневековые часовни «Привала» внушила ему Вера Александровна.
Портрет "Веры Александровны", «Верочки» из «Привала» должен был бы нарисовать Сомов, никто другой.
Сомов — как бы холодно ни улыбнулись, читая это, строгие блюстители художественных мод, — Сомов удивительнейший портретист своей эпохи: трагически-упоительного заката "Императорского Петербурга".
Я так представляю это ненарисованное полотно: черные волосы, полчаса назад тщательно завитые у Делькроа, — уже слегка растрепаны. Сильно декольтированный лиф сползает с одного плеча, — только что не видна грудь.
Лиф черный, глубоким мысом врезающийся в пунцовый бархат юбки. Пухлые руки, странно белые, точно набеленные, беспомощно и неловко прижаты к груди, со стороны сердца. Во всей позе тоже какая-то беспомощность, какая-то растерянная пышность. И старомодное что-то: складки парижского платья ложатся как кринолин, крупная завивка напоминает парик.
Прищуренные серые глаза, маленький улыбающийся рот. И в улыбке этой какое-то коварство…
x x x
Незадолго до войны в Петербург приехал Верхарн. Как водится — его чествовали, и тоже, как водится, чествование вышло бестолковое, и даже как бы обидное для знаменитого гостя. То есть намерения были самые лучшие у чествующих, и хлопотали они усердно. Но как-то уж все само собой обернулось не так, как следовало бы. Едва банкет начался, — все это почувствовали, — и устроители, и приглашенные, и, кажется, сам Верхарн. Несколько патетических речей, обращенных к "дорогому учителю", под стук ножей, и гавканье, ни с того ни с сего, «ура» — с дальнего конца стола, где успела напиться малая литературная братия. «Сервис» "Малого Ярославца" с запарившимися лакеями в нитяных перчатках, чересчур большое количество бутылок не особенно важного вина… Словом, лучше бы его не было, этого банкета.
Почти всех присутствующих я, понятно, знал, в лицо, по крайней мере. И меня удивило, что рядом с Верхарном сидит какая-то дама, совершенно мне незнакомая. Она была вычурно и пышно одета, бриллианты сияли в ушах, серые глаза щурились, маленькие губы улыбались…
Кто это? Я спросил своего соседа, тот не знал. Еще кого-то — то же.
Верхарн очень оживленно и любезно, по-стариковски морща нос, разговаривал с этой незнакомкой, не слушая приветственных речей, где через третье слово повторялось хаос, и через пятое — космос.
Кто бы она могла быть? Как раз мимо проходил Пронин, знаменитый Пронин — "доктор эстетики", директор «Собаки». Жилет его фрака уже был расстегнут, на лице блаженство, в каждой руке по горлышку шампанской бутылки…
— Борис, кто эта дама?
Вездесущий доктор эстетики пожал плечами:
— Не знаю. И никто не знает. Сама приехала, сама села рядом с Верхарном…
И глубокомысленно добавил:
— Может быть, это его жена или (блаженная улыбка), или… племянница.
Пронин, по-видимому, вскоре убедился в своей ошибке насчет таинственной дамы. По крайней мере, когда в Петербурге через полгода появился другой поэтический гость — Поль Фор, Пронин, знакомя его с Верой Александровной, отрекомендовал ее:
— Voil la ma tresse du Chien…[2]
Он желал сказать — хозяйка "Бродячей Собаки". Вера Александровна была уже женой беспутного и веселого "доктора эстетики".
x x x
Когда мы познакомились ближе, я услышал от Веры Александровны такие признания:
— Я бы согласилась на какую угодно муку, как андерсеновская ундина — при каждом шаге испытывать боль, точно ходишь по гвоздям, — только бы власть, власть над людьми…
— Власть над душами или… ну, как у исправника или царя?
— Ах, — всякую! Мне бы сначала хоть чуточку власти. Даже как у исправника хорошо. Даже такая власть — страшная сила, уметь только воспользоваться…
— Вам бы в Мексику, В. А., там это можно — женщин в губернаторы выбирают.
Но она не слушает.
— Власть, — говорит она протяжно, точно пробуя на вес это слово. — Власть… Над душами? Но ведь всякая власть над душами. Властвовать — над кем-нибудь, значит унижать его. Унижать его — возвышать себя. Чем больше кругом унижения, тем выше тот, кто унижает…
Она смеется.
— Что вы так на меня смотрите? Это я не сама выдумала — у Бальзака прочла. Или, может быть, у Гюисманса…
И, таинственно, точно секрет, сообщает:
— Власть — это деньги. Больше всего на свете я хочу денег.
— Все хотят, В. А., - отвечаю я ей в тон тем же таинственным шепотом.
Она топает ногой.
— Перестаньте. Разве я так хочу? И… знаете, кстати, кто была моей героиней в детстве?
— Лукреция Борджиа?
— Нет. Тереза Эмбер.
И — "каблучком молоточа паркет":
— Слаще, всего издеваться над людьми.
От стука французского каблучка по полу синие чашки подпрыгивают на лакированном столике. Маленькая, пухлая, точно набеленная, рука протягивает тарелку с кексом…
— Я, конечно, шучу. Я самая обыкновенная женщина. Даже чтобы стать актрисой у меня не хватило воли. А не то что…
Серые глаза холодно щурятся, накрашенные губы улыбаются. И в улыбке этой — какое-то коварство…
x x x
Выйдя замуж за Пронина и став "la ma tresse du Chien", Вера Александровна сразу начала все переделывать, изменять и расширять в "Бродячей Собаке". И, конечно, на третий месяц заскучала.
Как было не заскучать? «Собака» — был маленький подвал, устроенный на медные гроши — двадцатипятирублевки, собранные по знакомым. В нем становилось тесно, если собиралось человек сорок, и нельзя было повернуться, если приходило шестьдесят. Программы не было — Пронин устраивал все на авось. — "Федя (т. е. Шаляпин) обещал прийти и спеть…" Если же Шаляпин не придет, то… заставим Мушку (дворняжку Пронина) танцевать кадриль… вообще, «наворотим» чего-нибудь… — В главной зале стояли колченогие столы и соломенные табуретки, прислуги не было — за едой и вином посетители сами отправлялись в буфет. Посетители эти были, по большей части, "свои люди" — поэты, актеры, художники, которым этот распорядок был по душе и менять они его не хотели… Словом, в «Собаке» Вере Александровне делать было нечего.
Попытавшись неудачно ввести какие-то элегантные новшества, перессорившись со всеми, кто носил почетное звание "друга Бродячей Собаки", и поскучав в слишком скромной для себя и своих парижских туалетов роли, — она, по выражению Пронина, — решила "скрутить шею собачке". — По ночам бессонные бродяги из петербургской богемы перестали будить дворника у ворот, на углу Михайловской и Итальянской — и труба вентилятора, на которой на страх забредавшим в «Собаку» «буржуям» была зловещая надпись — "не прикасаться: смерть", — перестала гудеть на узкой лесенке входа на третьем дворе.
На Марсовом поле был снят огромный подвал — не для того, чтобы возродить «Собаку», — чтобы создать что-то грандиозное, небывалое, удивительное. Над подвалом поселилась хозяйка этого будущего "грандиозного и небывалого". Квартира была тоже огромная, с саженными окнами и необыкновенной высоты потолками. Холод в ней был ужасный. Несколькими этажами выше, в квартире Леонида Андреева — печи топились день и ночь, все было в коврах и портьерах и все-таки дыхание вылетало изо ртов — струйкой пара. Такой уж был холодный дом. А в квартире Веры Александровны не было ни ковров, ни портьер, часто не было и дров, даже окна не все замазаны. С утра до вечера снизу оглушительно стучали молотки каменщиков, с утра до вечера на парадной и черной лестницах обрывали звонки люди, желавшие получить по каким-то счетам, оплатить которые было нечем. Пронин от холода и от нечего делать спал, навалив на себя все шубы, какие только были, а Вера Александровна, завитая и накрашенная, сидела часами у леденеющего зеркала, мечтая не знаю уж о чем, — о будущем "Привале Комедиантов" (так называлось новое кабаре) или о власти над душами…
От холода она куталась в свои широкие пушистые соболя. Впрочем, соболя иногда бывали в ломбарде, и тогда она куталась в одеяла.
x x x
— Как, В. А., вам и здесь скучно?
— Очень.
— И тесно?
— Да.
— Что же, будете еще перестраиваться и расширяться?
— Я уже сняла соседний подвал. Летом проломают стену, тогда венецианскую залу будет продолжать галерея. В этой галерее…
Она машет рукой.
— Не знаю, может, и не буду перестраиваться, или оставлю Борису, пусть делает, что хочет. Уеду куда-нибудь…
И высоко подымая подрисованные брови:
— Надоело. Скучно…
Внешность «Привала» была блестящая. Грязный подвал с развороченными стенами — превратился, действительно, в какое-то "волшебное царство".
Из-под кружевных масок свет неясно освещал черно-красно-золотую судейкинскую залу; «бистро» оказалось сплошь расписано удивительными парижскими фресками Бориса Григорьева, — смежная зала была декорирована Яковлевым. Старинная мебель, парча, деревянные статуи из древних церквей, лесенки, уголки, таинственные коридоры — все это было удивительно задумано и выполнено. Вера Александровна, в шелках и бриллиантах, торжествующе встречала гостей — ну, каково? Пронин сиял. Наряженный во фрак, он водил посетителей показывать разные чудеса «Привала». Объясняя что-нибудь особенно горячо, он, по старой привычке, хватался за лацканы фрака, чтобы его скинуть. Но только хватался и тотчас же опускал руки. Не то место, не те времена — бывшее в «Собаке» вполне естественным — здесь было бы неприличным.
Старые завсегдатаи «Собаки» после первых восторгов были немного охлаждены непривычным для них тоном нового подвала. В «Собаке» садились, где кто хочет, в буфет за едой и вином ходили сами, сами расставляли тарелки, где заблагорассудится… Здесь оказалось, что в главном зале, где помещается эстрада, места нумерованные, кем-то расписанные по телефону и дорого оплаченные, а так называемые "г. г. члены Петроградского Художественного Общества" могут смотреть на спектакль из другой комнаты. Но и здесь, не успевали вы сесть, как к вам подлетал лакей с салфеткой и меню и услышав, что вы ничего не «желаете», только что не хлопал своей накрахмаленной салфеткой по носу «нестоящего» гостя.
…Улыбается Карсавина, танцует свою очаровательную «полечку» О. А. Судейкина. Переливаются черно-красно-золотые стены. Музыка, аплодисменты, щелканье пробок, звон стаканов… Вдруг композитор Цыбульский, обрюзгший, пьяный, встает, пошатываясь, со стаканом в руках: Пппрошу слова…
— За упокой собачки, господа… — начинает он коснеющим языком. —
Жаль покойницу… Борис… Эх, Борис, зачем ты огород городил… зачем позвал сюда, — кивок на смокинги первых рядов, — всех этих фармацевтов, всю эту св…
x x x
В общем, получился какой-то эстетический, очень эстетический, но все же ресторан. Публике нравилось. Публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрела на Евреинова в Судейкинских костюмах…
Ну что же, раз приходят и пьют шампанское…
И я вспоминал: "Больше всего я хочу денег…"
Но вдруг и «Привал», и верхняя квартира, и все фаянсы остиндской компании, и все платья с глубокими декольте оказались описанными. Оказалось, что «Привал» — не только не окупается — приносит страшный убыток. Все меценаты от него отказались, — через неделю он пойдет с молотка.
— Как же так? — спрашивал я.
Вера Александровна устало поднимала брови:
— Так. Не знаю. Не хватало денег. Я подписывала векселя…
Но через несколько дней она встретила меня веселая. Все удалось.
Нашелся новый меценат. На время «Привал» закроется для ремонта, для подготовки программы.
Она стояла в средневековой зале, расписанной Яковлевым, опираясь на деревянную статую какого-то святого и держа в маленькой пухлой, странно белой руке старинный нож, только что присланный антикваром.
— Лукреция Борджиа, — пошутил я.
Она засмеялась:
— А? Вы помните тот разговор? Нет, нет, не Лукреция… Тереза. Вот, прочтите. Я развернул бумагу.
— Что это?
— Договор с новым меценатом. Он обязуется платить мне, все время, пока «Привал» закрыт, ежемесячно… — Она назвала какую-то большую цифру.
— Только пока закрыт?
Она рассмеялась:
— Господи, какой наивный! Да ведь срок не указан. Я могу всю жизнь не открывать «Привала», и он будет всю жизнь мне платить…
— Как же он подписал такое?
Она церемонно поджала губы:
— О, это очень милый человек, друг моего отца. Он подписал, не читая…
x x x
Не знаю, запротестовал ли, наконец, "милый человек", или самой Вере Александровне снова захотелось похозяйничать, — но «Привал» все-таки открылся. Летом 1917 года — там за одним и тем же «артистическим» столом сидели Колчак, Савинков и Троцкий. И Вера Александровна выглядела уже совершенной Лукрецией в этом обществе.
Она была очень оживлена, очень хороша в эти дни. Кажется, ей стало опять "не скучно", и какие-то новые «грандиозности» и «возможности» ей замерещились. Я заключал это по ее виду, — в разговоры со мною она не вступала, — у нее были собеседники поинтереснее.
«Душа», которой не хватало «Привалу» в дни его расцвета, вселилась все-таки в него ненадолго, перед самой гибелью. Те, кто бывал в нем в конце 1917, начале 1918 годов, вряд ли забудут эти вечера.
Холодно. Полутемно. Нет ни заказных столиков, ни сигар в зубах, ни упитанных физиономий. Роскошь мебели и стен пообтрепалась. Электричество не горит — кое-где оплывают толстые восковые свечи…
Идет репетиция "Зеленого попугая". Пронзительная идея сыграть такую пьесу в такой обстановке, не правда ли? Шницлеровские диалоги звучат чересчур «убедительно» и для зрителей, и для актеров. Вера Александровна, бледная, без драгоценностей, в черном платье, слушает, скрестив руки на груди. Это она придумала поставить "Зеленого попугая".
Холодно. Полутемно. С улицы слышны выстрелы… Вдруг топот ног за стеной, стук прикладов в ворота. Десяток красноармейцев, под командой безобразной, увешанной оружием женщины, вваливается в "Венецианскую залу".
— Граждане, ваши документы!
Их смиряют какой-то бумажкой, подписанной Луначарским. Уходят, ворча: погодите, доберемся до вас… И снова — оплывающие свечи, стихи Ахматовой или Бодлера; музыка Дебюсси или Артура Лурье…
…"Привал" не был закрыт, — он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром каминов, вступила в свои права.
Позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей, рояль отсырел, занавес оборвался…
Однажды, в оттепель, лопнули какие-то трубы, и вода из Мойки, старый враг этих разоренных стен, их затопила.
…И все стоит в "Привале" Невыкачанной вода. Вы знаете? Вы бывали? Неужели никогда?VI
«Ротонда». Обычная вечерняя толкотня. Я ищу свободный столик. И вдруг мои глаза встречаются с глазами, так хорошо знакомыми когда-то (Петербург, снег, 1913 год…), русскими, серыми глазами. Это Судейкина. Жена известного художника.
— Вы здесь! Давно?
Улыбка — рассеянная «петербургская» улыбка.
— Месяц как из России.
— Из Петербурга?
Судейкина — подруга Ахматовой. И, конечно, один из моих первых вопросов — что Ахматова?
— Аня? Живет там же, на Фонтанке, у Летнего сада. Мало куда выходит — только в церковь. Пишет, конечно. Издавать? Нет, не думает. Где уж теперь издавать…
…На Фонтанке… У Летнего сада…
1922 год, осень. Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой — проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему, Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург…
Ахматова протягивает мне руку.
— А я здесь сумерничаю. Уезжаете?
Ее тонкий профиль рисуется на темнеющем окне. На плечах знаменитый темный платок в большие розы:
Спадает с плеч твоих, о, Федра, Ложноклассическая шаль…— Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу.
— А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать?
— Нет. Я из России не уеду.
— Но ведь жить все труднее.
— Да. Все труднее.
— Может стать совсем невыносимо.
— Что ж делать.
— Не уедете?
— Не уеду.
…Нет, издавать не думает — где уж теперь издавать… Мало выходит — только в церковь… Здоровье? Да здоровье все хуже. И жизнь такая — все приходится самой делать. Ей бы на юг, в Италию. Но где денег взять. Да если бы и были…
— Не уедет?
— Не уедет.
— Знаете, — серые глаза смотрят на меня почти строго, — знаете, — Аня раз шла по Моховой. С мешком. Муку, кажется, несла. Устала, остановилась отдохнуть. Зима. Она одета плохо. Шла мимо какая-то женщина… Подала Ане копейку. — Прими, Христа ради. — Аня эту копейку спрятала за образа.
Бережет…
x x x
1911 год. В «башне» — квартире Вячеслава Иванова — очередная литературная среда. Весь «цвет» поэтического Петербурга здесь собирается.
Читают стихи по кругу, и "таврический мудрец", щурясь из-под пенсне и потряхивая золотой гривой, — произносит приговоры. Вежливо-убийственные, по большей части. Жестокость приговора смягчается только одним — невозможно с ним не согласиться, так он едко-точен. Похвалы, напротив, крайне скупы.
Самое легкое одобрение — редкость.
Читаются стихи по кругу. Читают и знаменитости и начинающие. Очередь доходит до молодой дамы, тонкой и смуглой.
Это жена Гумилева. Она "тоже пишет". Ну, разумеется, жены писателей всегда пишут, жены художников возятся с красками, жены музыкантов играют.
Эта черненькая смуглая Анна Андреевна, кажется, даже не лишена способностей.
Еще барышней, она писала:
И для кого эти бледные губы Станут смертельной отравой? Негр за спиною, надменный и грубый, Смотрит лукаво.Мило, не правда ли? И непонятно, почему Гумилев так раздражается, когда говорят о его жене как о поэтессе?
А Гумилев действительно раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи как на причуду "жены поэта". И причуда эта ему не по вкусу. Когда их хвалят — насмешливо улыбается.
— Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает.
— Анна Андреевна, вы прочтете?
Лица присутствующих «настоящих» расплываются в снисходительную улыбку.
Гумилев, с недовольной гримасой, стучит папиросой о портсигар.
— Я прочту.
На смуглых щеках появляются два пятна. Глаза смотрят растерянно и гордо. Голос слегка дрожит.
— Я прочту.
Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки, Я на правую руку надела Перчатку с левой руки…На лицах — равнодушно-любезная улыбка. Конечно, не серьезно, но мило, не правда ли? — Гумилев бросает недокуренную папиросу. Два пятна еще резче выступают на щеках Ахматовой…
Что скажет Вячеслав Иванов? Вероятно, ничего. Промолчит, отметит какую-нибудь техническую особенность. Ведь свои уничтожающие приговоры он выносит серьезным стихам настоящих поэтов. А тут… Зачем же напрасно обижать…
Вячеслав Иванов молчит минуту. Потом встает, подходит к Ахматовой, целует ей руку.
— Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии.
x x x
В обставленном удивительной «Александровской» мебелью кабинете Аркадия Руманова висит большое полотно Альтмана, художника, только что вошедшего в славу: Руманов положил ей начало, купив этот портрет за «фантастические» для начинающего художника деньги.
Несколько оттенков зелени. Зелени ядовито-холодной. Даже не малахит — медный купорос. Острые линии рисунка тонут в этих беспокойно-зеленых углах и ромбах. Это должно изображать деревья, листву, но не только не напоминает, но, напротив, кажется чем-то враждебным:
…в океане первозданной мглы Нет облаков и нет травы зеленой, А только кубы, ромбы да углы, Да злые металлические звоны.Цвет едкого купороса, злой звон меди. — Это фон картины Альтмана.
На этом фоне женщина — очень тонкая, высокая и бледная. Ключицы резко выдаются. Черная, точно лакированная, челка закрывает лоб до бровей.
Смугло-бледные щеки, бледно-красный рот. Тонкие ноздри просвечивают. Глаза, обведенные кругами, смотрят холодно и неподвижно — точно не видят окружающего.
…Только кубы, ромбы да углыи все черты лица, все линии фигуры — в углах. Угловатый рот, угловатый изгиб спины, углы пальцев, углы локтей. Даже подъем тонких, длинных ног — углом. Разве бывают такие женщины в жизни? Это вымысел художника! Нет — это живая Ахматова. Не верите? Приходите в "Бродячую Собаку" попозже, часа в четыре утра.
Да, я любила их — те сборища ночные: На маленьком столе стаканы ледяные, Над черным кофием пахучий, тонкий пар, Камина красного тяжелый зимний жар Веселость едкую литературной шутки, И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.Четыре-пять часов утра. Табачный дым, пустые бутылки. Час назад было весело и шумно — кто-то пел, подыгрывая сам себе, глупые куплеты, кто-то требовал еще вина. Теперь шумевшие либо разошлись, либо дремлют. В подвале почти тишина.
Мало кто сидит за столиками посредине зала. Больше по углам, у пестро расписанных стен, под заколоченными окнами.
Навсегда забиты окошки, Что там — изморозь или гроза?Не все ли равно, что там, на улице, в Петербурге; в мире… От выпитого вина кружится голова, дым застилает глаза. Разговоры идут полушепотом.
Здесь цепи многие развязаны, Все сохранит подземный зал, И те слова, что ночью сказаны, Другой бы утром не сказал.И вдруг — оглушительная, шалая музыка. Дремавшие вздрагивают. Рюмки подпрыгивают на столах. Пьяный музыкант ударил изо всех сил по клавишам.
Ударил, оборвал, играет что-то другое, тихое и грустное. Лицо играющего красно, потно. Слезы падают из его блаженно-бессмысленных глаз на клавиши, залитые ликером.
Пятый час утра. "Бродячая Собака".
Ахматова сидит у камина. Она прихлебывает черный кофе, курит тонкую папироску. Как она бледна!
Да, она очень бледна — от усталости, от вина, от резкого электрического света. Концы губ — опущены. Ключицы резко выдаются. Глаза глядят холодно и неподвижно, точно не видят окружающего.
Все мы грешники здесь, блудницы, Как невесело вместе нам. На стенах цветы и птицы Томятся по облакам, но — в океане первозданной мглы Нет облаков и нет травы зеленой.Трава, облака, жизнь, смех — все осталось там — за "навсегда забитыми окошками". Здесь только:
Веселость едкая литературной шутки И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий…Слишком едкая веселость. Слишком жуткие взгляды.
Ахматова никогда не сидит одна. Друзья, поклонники, влюбленные, какие-то дамы в больших шляпах и с подведенными глазами. С памятного вечера у Вячеслава Иванова, когда она срывающимся голосом читала стихи, прошло два года. Она всероссийская знаменитость. Ее слава все растет.
Папироса дымится в тонкой руке. Плечи, укутанные в шаль, вздрагивают от кашля.
— Вам холодно? Вы простудились?
— Нет, я совсем здорова.
— Но вы кашляете.
— Ах, это? — Усталая улыбка. — Это не простуда, это чахотка.
И, отворачиваясь от встревоженного собеседника, говорит другому:
— Я никогда не знала, что такое счастливая любовь…..Несла мешок.
Остановилась отдохнуть. Какая-то женщина… …Молодые люди в смокингах почтительно ловят каждое слово Ахматовой. Влюбленные глаза следят за каждым ее движением.
…Аня эту копейку спрятала… бережет…
В Царском Селе у Гумилевых дом. Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. Два этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри — тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены.
Библиотека в широких диванах, книжные полки до потолка… Комнат много, какие-то все кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли…
Тишину вдруг прорезает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке. Тот самый:
А теперь я игрушечной стала, Как мой розовый друг какаду."Розовый друг" хлопает крыльями и злится. — Маша, — накиньте платок на его клетку…
Дома, и то очень редко, можно увидеть совсем другую Ахматову.
У Гумилевых — последний прием. Конец мая. Все разъезжаются.
— Я так рада, — говорит Ахматова, — что в этом году мы не поедем за границу. В прошлый раз в Париже я чуть не умерла от скуки.
— От скуки? В Париже!..
— Ну да. Коля целые дни бегал по каким-то экзотическим музеям. Я экзотики не выношу. От музеев у меня делается мигрень. Сидишь одна, такая, бывало, скука. Я себе даже черепаху завела. Черепаха ползает — смотрю.
Все-таки развлечение.
— Аня, — недовольным тоном перебивает ее Гумилев, — ты забываешь, что в Париже мы почти каждый день ездили в театры, в рестораны.
— Ну уж и каждый вечер, — дразнит его Ахматова. — Всего два раза.
И смеется, как девочка.
— Как вы не похожи сейчас на свой альтмановский портрет!
Она насмешливо пожимает плечами.
— Благодарю вас. Надеюсь, что не похожа.
— Вы так его не любите?
— Как портрет? Еще бы. Кому же нравится видеть себя зеленой мумией?
— Но иногда сходство кажется поразительным.
Она снова смеется:
— Вы говорите мне дерзости. — И открывает альбом.
— А здесь, — есть сходство?
Фотография снята еще до свадьбы. Веселое девическое лицо…
— Какой у вас тут гордый вид.
— Да! Тогда я была очень гордой. Это теперь присмирела…
— Гордились своими стихами?
— Ах, нет, какими стихами. Плаванием. Я ведь плаваю как рыба.
Тот же дом, та же столовая. Ахматова в те же чашки разливает чай и протягивает тем же гостям. Но лица как-то желтей, точно состарились за два года, голоса тише. На всем, — и на лицах, и на разговорах — какая-то тень.
И хозяйка не похожа ни на декадентскую даму с альтмановского портрета, ни на девочку, гордящуюся тем, что она плавает "как рыба". Теперь в ней что-то монашеское.
…В Августовских лесах погибло два корпуса…
— Нет ни оружия, ни припасов…
— У Z. убили двух сыновей.
— Говорят, скоро не будет хлеба…
Гумилева нет, — он на фронте.
— Прочтите стихи, Анна Андреевна.
— У меня теперь стихи скучные.
И она читает "Колыбельную":
…Спи, мой тихий, спи, мой мальчик. Я дурная мать. Долетают редко вести К нашему крыльцу. Подарили белый крестик Твоему отцу. Было горе, будет горе, Горю нет конца. Да хранит Святой Егорий Твоего отца…Еще два года. Две-три случайные встречи с Ахматовой. Все меньше она похожа на ту, прежнюю. Все больше на монашенку. Только шаль на ее плечах прежняя — темная, в красные розы. "Ложно-классическая шаль". Какая там шаль ложно-классическая — простой бабин платок, накинутый, чтобы не зябли плечи!
Еще год. Пушкинский вечер. Странное торжество — кто во фраке, кто в тулупе — в нетопленном зале. Блок на эстраде говорит о Пушкине — невнятно и взволнованно. Ахматова стоит в углу. На ней старомодное шелковое платье с высокой талией. Худое — жалкое — прекрасное лицо. Она стоит одна. К ней подходят, целуют руку. Чаще всего — молча. Что ей, такой, сказать. Не спрашивать же, "как поживаете".
…Еще полгода. Смоленское кладбище. Гроб Блока в цветах. Еще две недели — панихида в Казанском соборе по только что расстрелянном Гумилеве…
…Да, я любила их, те сборища ночные, На низких столиках стаканы ледяные… Ладан. Заплаканные лица. Певчие. …Веселость едкую литературной шутки… И друга первый взгляд…VII
В кабинке лифта кнопками приколот плакат. Черт со смеющейся рожей, зелеными глазками и лиловым хвостом. Под ним — надпись:
"Просят ядовитое зелье (табак) не курить".
Кто просит? Домохозяин?
Нет, плакат повешен квартирантом третьего этажа — Сергеем Городецким.
Но как же это он распоряжается? Ведь лифт не его квартира?
Ах, что там — как распоряжается. Кто же ему запретит?
Сергей Митрофанович такой милый человек, такой славный. Если бы и захотел домовладелец сделать ему замечание, — как сделаешь? Тот ему — "к сожалению моему, должен вас просить…" — А Городецкий, не дослушав, хлопнет его по плечу. — Как поживаете, дорогой? Как драгоценное? Супруга что, детишки…
Детей обожает. Рисует им картинки — вот вроде как в лифте: "Чертик в печке", "Девять мышек и кошечка Маня". Состроит страшные глаза, сделает «козу», стишки тут же сочинит. — Как тебя зовут? Петя? Ну, так слушай:
Жил на свете мальчик Петя, Много Петь живет на свете. Только Петя мой — Был совсем другой…Глаза светлые, взгляд открытый, «душевный». Волосы русые — кудрями.
Голос певучий. Некрасив, но приятнее любого красавца — "располагающая наружность", и наружность не обманывает: действительно, милый человек.
Всякому услужит, всякому улыбнется. Встретит на улице старуху с мешком — "бабушка, дай подсоблю". Нищего не пропустит. Ребенку сейчас леденец, всегда в кармане носит…
Помог, пошутил, улыбнулся и идет себе дальше, посвистывая или напевая.
Глаза блестят, белые зубы блестят. Даже чухонская шапка с наушниками как-то особенно мило сидит на его откинутой голове.
x x x
"Ядовитое зелье просят не курить". Впрочем, для неисправимых курильщиков — отведен в квартире Городецкого закоулок. Если невтерпеж, они туда удаляются. Там, с обязательством плотно притворять двери, они могут вдоволь «отравляться» у окна, распахнутого на черную лестницу. Стены закутка разрисованы поучительной историей: "Упорный куритель и что с ним было".
Очень талантливо нарисовано. Вообще, что за талантливое существо Городецкий!
За что ни возьмется — талантливо. И все с налету, шутя, с улыбкой, мимоходом… Так и стихи начал писать и, шутя, — прославился. Лег спать никому не ведомым двадцатилетним студентом, а наутро вышла «Ярь» — проснулся знаменитостью. И кто не читал через месяц наизусть:
Стоны, звоны, перезвоны, Стоны, звоны, звоны-сны. Высоки крутые склоны, Крутосклоны зелены……Вечером, во вторник — приемный день у Городецких. Перед закутком для курильщиков — очередь. Чиркнут спичкой, глотнут наскоро дыму и, уступая место другим, возвращаются в гостиную. Там — в центре комнаты — большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам жена Городецкого, «Нимфа», сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай. Почему Городецкий, ненавистник всякой "классической мертвечины", назвал жену «Нимфой»? И почему Нимфа? Скорее уж Церера… Но за Анной Александровной это прозвище прочно укрепилось, после того особенно, как одна из книг Городецкого вышла с посвящением: "Тебе — Нимфа".
Вдоль канареечных стен гостиной — в два ряда размещены поэты.
В два ряда. Внизу на тахтах гости. На стенах их портреты в натуральную величину, работы хозяина дома.
Если вы познакомились с Городецким, начали у него бывать и вы поэт — он непременно вас нарисует. Немного пестро, но очень похоже и «мило». И обязательно на рогоже.
Рисует Городецкий всегда на рогоже — это его изобретение. И дешево — и есть в этом что-то «простонародное» — любезное его сердцу. И хотя народ рогожами пользуется отнюдь не для живописи, — Городецкому искренне кажется, что, выводя на рогоже Макса Волошина, в сюртуке и с хризантемой в петлице, он много ближе к "родной неуемной стихии", чем если бы то же самое он изображал на полотне.
С одной стороны «стихия», с другой — Италия. Раскрашенные квадратики рогож, — чем не мозаика?
Страсть к Италии внушил недавно Городецкому его новый, ставший неразлучным, друг — Гумилев. После "разговора в ресторане, за бутылкой вина" об Италии — с Гумилевым, Городецкий, час назад вполне равнодушный, — «влюбился» в нее со всей своей пылкостью. Влюбившись же, по причине той же пылкости, не мог усидеть в Петербурге, не повидав Италию собственнолично и немедленно.
И вот через неделю Городецкий уже гулял по Венеции, потряхивая кудрями и строя «итальянчикам» козу. Ничего — понравилось.
x x x
Портреты на рогожах сияли всей пестротой красок. Оригиналы их, размещавшиеся вдоль стен, выглядели, естественно, более буднично. Они разделялись на просто гостей и гостей почетных. Первые были в пиджаках и воротничках и изъяснялись на "мертвом интеллигентском языке". Вторые говорили на и нараспев и одеты были в поддевки и косоворотки.
У Городецкого, при всей переменчивости его взглядов и вкусов, было одно «устремление», которое не менялось: страсть к лубочному "русскому духу"…
Безразлично, что «воспевал» он в разные времена, в разных пустых, звонких и болтливых строфах. Их лубочная суть оставалась все та же — не хуже, не лучше. "Сретенье Царя" не отличается от оды Буденному, и описания Венеции слегка отдают "чайной русского народа"…
Естественным дополнением пристрастия к "русскому духу" было стремление Городецкого открывать таланты из народа и окружать себя ими.
Казалось бы, что дурного — если известный и влиятельный петербургский писатель так дружественно, так широко и охотно идет навстречу начинающим.
Тем более начинающим "из деревни", самым неопытным, самым беспомощным на первых порах. Казалось бы, напротив — хорошо.
Но получалось плохо. Даже очень.
Получалось так. Приезжает в Петербург Есенин. Шестнадцатилетний, робкий, бредящий стихами. Его мечта — стать "настоящим писателем". Он приехал в лаптях, но с твердым намерением сбросить всю свою «серость». Вот он уже как-то «расстарался», справил себе «тройку», чтобы не отличаться от «городских», «ученых». Но он понимает, что главное отличие не в платье. И со всем своим шестнадцатилетним «напором» старается стереть это различие.
Конечно, такое рвение тоже небезопасно, — слишком усердно «стирая», можно стереть и самобытность и свежесть. Помощь расположенного и опытного старшего товарища тут очень нужна. Помимо такой профессиональной помощи, нужна и другая — просто дружеская рука, протянутая человеку, теряющемуся в совершенно чужой ему обстановке. Понятно, что Есенин и вообще «Есенины», пообмерзнув в традиционном петербургском «холоде», — были счастливы, когда встречали Городецкого.
После месяца хождения с тетрадкой стихов "по писателям" — деревенский начинающий смущен и разочарован.
Писатели — люди «черствые», равнодушные, смотрят на него как на обыкновенного новобранца литературного войска, — много их ходит, с тетрадками. Холодное одобрение Блока… Строгий взгляд через лорнетку З. Гиппиус… Придирчивый разбор Сологуба — вот эта строчка у вас не дурна, остальное зелено… И ко всем этим скупым похвалам — один и тот же припев: учиться, учиться. Работать, работать, работать…
И вдруг знакомство с Городецким, таким сердечным, ласковым, милым, такой "родной душой". И в первой же беседе с этой родной душой — полная "переоценка ценностей". Начинающий из деревни (как и всякий начинающий) сам считал, конечно, что "свет его недооценивает", но вряд ли, до беседы с "родной душой", понимал, до какой степени этот бездушный свет глух и слеп.
Оказывается — он гений, это решено. И не просто гений, а народный, что много выше обыкновенного. И много проще. Все эти штуки с упорной работой — для интеллигентов, существ низших. Дело же народного гения — "выявлять стихию". Вот оно что. «Серость», оказывается, вовсе не надо стирать, — она и есть «стихия». Скорее вон из головы "мертвую учебу", скорее лапти обратно на ноги, скорее обратно поддевку, гармонику, залихватскую частушку.
x x x
Для своей "народной школы", пополнявшейся каждый сезон новыми "соблазненными мужичками", кроме домашних собеседований, где «гениально», "выше Пушкина" и т. п. звучало обыденной похвалой, Городецкий устраивал еще и открытые вечера — «Гала», так сказать. Там
…Было все очень просто, было все очень мило…,На эстраде — портрет Кольцова, осененный жестяным серпом и деревянными вилами. Внизу — два «аржаных» снопа (от частого употребления, порядочно растрепанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого. Этим смягчается "интеллигентское безличие" эстрады и создается настроение, близкое к «стихии». Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни, — обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него — какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами… В обычное время он висит в том же кабинете — у печки.
Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно-сияющий, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или «алая» косоворотка… Внимательный глаз иногда различит под косовороткой очертание твердого пластрона — это значит, что после вечера надо ехать в изящный клуб, где любит ужинать «Нимфа», и рубашка надета для скорости обратного переодевания поверх крахмального белья и черного банта смокинга.
Городецкий ударяет в свой «тимпан» и приглашает к вниманию. Свет гаснет. Только эстрада с Кольцовым и снопами — в ярком блеске рефлекторов.
Сергей Есенин…
Зеленая плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин.
На нем тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. В руках — о, Господи! — пук васильков — бумажных.
Выходит он подбоченясь, весь как-то «по-молодецки» раскачиваясь.
Прорепетировано, должно быть, не раз. Улыбка ухарская и… растерянная.
Тоже, верно, репетировалась эта улыбка. Но смущение сильнее. Выйдя, он молчит, беспокойно озираясь…
— Валяй, Сережа, — слышен ободряющий голос Городецкого из-за плахты.
— Валяй, чего стесняться.
Чего, в самом деле?
Есенин приободряется. Голос начинает звучать уверенней. Ухарская улыбка шире расплывается. Есенина я видел полгода тому назад, до его знакомства с Городецким. Как он изменился, однако. И стихи как изменились…
…Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны… — Вряд ли раньше Есенин и слыхал об этих самогудах и Ладах… Иногда среди них выскочит и неприличное, «похабное» словцо. Это он, конечно, знал и раньше, но по «неопытности» полагал, должно быть, что вставлять их не то что в стихи, а и в разговор нехорошо. Теперь, бойко их выкрикивая, оглядывает еще публику:
Что? Каково?..
Сергей Клычков…
Выходит наряженный коробейником из хора Клычков. Читает нараспев — как оперные слепцы. Те же лады и гусли, только более деревянно, менее находчиво, чем у Есенина. Тоже недавно держался просто, писал проще и лучше. Теперь, спасибо наставнику, "нашел себя". А то было совсем пропадал — в университет готовился, — латынь зубрил…
Николай Клюев…
Клюев спешно обдергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены.
Морщинки (Клюеву лет сорок) вокруг умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланную сладкую, глуповатую улыбочку.
— Николай Васильевич, скорей!..
— Идуу… — отвечает он нараспев и истово крестится. — Идуу… только что-то боязно, братишечка… Ну, была не была — Господи, благослови… — Ничуть ему не «боязно» — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль "мужичка-простачка".
Потом степенно выплывает, степенно раскланивается "честному народу" и начинает истово, на:
Ах ты, птица, птица райская, Дребезда золотоперая…Единственного настоящего поэта этого жанра Городецкий как раз проглядел. Прочел его рукописи и не обратил внимания. Открыл Клюева «бездушный» Брюсов.
Но, приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.
— Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?
— Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом живу…
Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером Отель де Франс, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте; при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.
— Маракую малость по-бусурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей…
— Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю.
Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то — он подмигнул — если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.
Я не торопился. — Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно — сейчас обряжусь…
— Зачем же вам переодеваться?
— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.
Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке:
— Ну, вот — так-то лучше!
— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.
— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно…
x x x
Публика аплодирует. Публика довольна. Городецкий сияет.
Он искренно счастлив, этот милый, приятный, обходительный, даровитый человек. Он от души рад, что все так хорошо, и всем так нравится, и больше всех ему, Городецкому. Он весело окидывает зал ясными, открытыми глазами, кого-то хлопает по плечу, кому-то жмет руки, обнимает кого-то…
Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь, проворчит по-стариковски:
— А где ваш главный распорядитель?
— Какой, Федор Кузьмич?
— Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него напрокат брали?
Но что понимает Сологуб в "народном искусстве"? Гумилев в советские времена часто вздыхал:
Жаль, что Городецкого нет.
— Он, кажется, у белых?
— Да. На юге где-то. Это, впрочем, к лучшему. Застрянь он здесь, его живо бы расстреляли.
— Нас же не расстреливают?
— Мы другое дело. Он слишком ребенок: доверчив, восторжен… и прост.
Стал бы агитировать, резать большевикам правду в лицо, попался бы с какими-нибудь стишками… Непременно бы расстреляли. Слава Богу, что он у белых. Но мне его часто недостает, — того веселья, которое от него шло.
И прибавлял, улыбаясь:
— В сущности, вся наша дружба с ним — дружба взрослого с ребенком. Я — взрослый, серьезный, скучный. А Городецкий живет — точно в пятнашки играет. Должно быть, нас и привлекло друг в друге то, что мы такие разные.
x x x
Весной 1920 года Городецкий приехал в Петербург. Приехал с новеньким партийным билетом в кармане и в предшествии коммунистки Ларисы Рейснер. Муж Рейснер, известный Раскольников, комиссар Балтфлота, захватил где-то, на фронте, вместе с поездом «Освага» и работавшего в «Осваге» Городецкого.
…На эстраде на этот раз стоял не Кольцов, а Ленин, и не вилы, а молот перекрещивался с серпом. И уж не косоворотка, а «революционный» френч был на Городецком.
Рейснер говорила вступительное слово.
— Кто из нас бросит в него камнем? У кого из нас руки не выпачканы… грязными чернилами "Речи"?
— Он заблуждался, — теперь он наш. Забудем прошлое… После Рейснер — Городецкий, встряхнув кудрями и окинув аудиторию милыми, добрыми, серыми глазами, читал стихи о Третьем Интернационале. Гумилев сказал, пожимая плечами:
— В самом деле, как в него бросишь камнем? Мы же эту его невменяемость поощряли, за нее, в сущности, и любили его. Ведь не за стихи же? Вот он и продолжает играть в пятнашки…
— Только, — прибавил он, — теперь я вижу, — Бог с ней, с этой детскостью. Потерял я к ней вкус. Лучше уж жить с обыкновенными, не забавными… отвечающими за себя людьми.
x x x
Перед отъездом за границу, осенью 1922 года, я был в Москве. В табачной лавке кто-то хлопнул меня по плечу, — Городецкий.
Такой же, как был. Так же мило смотрит, так же улыбается.
— А я, — улыбка расплывается и становится ребяческой, — а я, кто б мог думать, на старости лет, — курителем стал… Скажите, что, «Баядерка» — хорошие папиросы?..
Собирая сдачу, он опять, словно вдруг вспомнив, ко мне обернулся.
Теперь его серые глаза смотрели грустно и "душевно":
— А бедный Гумилев!.. Такое несчастье…
Я промолчал.
VIII
В седьмом часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в "Бродячей Собаке", делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которых никто не слушает, пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш, или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор «Собаки» — Борис Пронин, сидит на ступеньках узкой лестнички выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку Мушку и горько плачет:
— Мушка, Мушка, — зачем ты съела своих детей!..
Лица похожи на лица мертвецов. Кто спит, кто притворяется оживленным.
Но какое уж там оживление…
Кто-то выключил электричество в зале. Теперь освещена только соседняя буфетная, и из двери, открытой на лестницу, на ступеньках которой плачет Пронин, падает узкая серая полоса рассвета. В этом сумраке из угла выходит человек и, покачиваясь, идет ко мне. Подходит. Смотрит. У него — кажется — рыжие волосы и тяжелый пристальный взгляд. Я не знаю, кто он, вижу впервые.
— Вы сидите один, и я один. Давайте сидеть вместе.
— Давайте, — говорю я.
— Пьяны?
— Ничуть.
— А я вот пьян. Но это ничего. Это даже хорошо. Но вы, если не пьяны, зачем здесь сидите? Ждете трамвая?
— Поезда. В Гатчину.
— Поезда… В Гатчину… — повторяет мечтательно человек. — Гатчина… Поезд подходит… Снег. Белый. Нет. — Синий. Все в снегу. Встает солнце. Блеск — больно смотреть… Какие-нибудь молочницы плетутся… Пар. Деревья в инее…
Он зевает.
— Впрочем, все это чепуха. Воняет сажей, как и здесь. И зачем, скажите пожалуйста, вы живете в Гатчине?
Я сказал, что ничуть не пьян. Но это неправда. Я пьян немножко. Я не знаю, кто мой собеседник. И какое ему дело, где я живу? Но, так как я не совсем трезв, его вопрос меня не удивляет. Я не отвечаю — "живу потому, что нравится", или "там суше воздух", — я говорю ему правду. Я переехал в Гатчину потому, что влюблен, и та, в которую я влюблен, живет там. Мой собеседник слушает молча, дымя короткой трубкой. Он меня не перебивает — и я говорю, повторяя то, что он только что мне говорил — о снеге и встающем солнце. Ну да, — я немножко пьян. Но это ничего, это даже хорошо. Я выбалтываю незнакомому человеку, о котором знаю только то, что он курит трубку, — выбалтываю все, вплоть до того, что "она мне вчера сказала", вплоть до любовных стихов, позавчера сочиненных:
Закат золотой. Снега Залил янтарь. Мне Гатчина дорога, Совсем как встарь…Я выбалтываю все. Потом мне становится неловко. Я обрываю фразу, не кончив. Человек с трубкой молчит. Потом говорит с расстановкой:
— Самое лучшее кончать с собой на рассвете. Понятно, если не яд. Яд противно пить утром — все существо содрогается. Так уж человек устроен. Вы решили умереть. Чтобы умереть, вам необходимо проглотить рюмку жидкости или облатку. Но вы одно, а ваш живот другое. Он не желает умирать. Он сопротивляется. Он хочет глотать не стрихнин, а кофе со сливками… Но стреляться на рассвете очень легко, я бы сказал — весело.
— Вешаться тоже весело? — поддерживаю я разговор.
— Вешаться нельзя весело, — отвечает он серьезно, — вешаться надо торжественно. Конечно, если наспех, на собственных подтяжках, как проворовавшийся подмастерье… Но, представьте, — вы делаете все медленно и методично. Шелковый шнурок хорошо намылен. Крюк прочно вбит. Петля тщательно завязана. Можно прочесть молитву, выкурить последнюю папиросу, выпить последний глоток коньяку. Палач торопит — довольно — к делу. Вы не спорите — бесполезно. Вы надеваете петлю… — Как хороша жизнь!.. Я не хочу!.. — Это ваш живот, легкие, мускулы сопротивляются… Но мозг, палач, беспощаден. — Поговори еще у меня! Трах! Стул, вышибленный из-под ног, катится в угол. Прощайте, господин Лозина-Лозинский… Прощайте, неудачный поэт Любяр!..
Тут мне делается неприятно. Я знаю, что Любяр — псевдоним поэта, который несколько раз неудачно кончал с собой и, наконец, недавно покончил.
Я читал его стихи, то бессмысленные, то ясные, даже слишком, с каким-то оттенком сумасшествия. Во всяком случае, талантливые стихи. Упоминание его имени мне неприятно. Зачем тревожить память мертвого? Я говорю это вслух.
— Предрассудки, — зевает мой собеседник. — Почему можно говорить непочтительно о Петре Петровиче, пока он жив, и нельзя, если он умер? Чепуха. И потом…
Он не договаривает, что потом. — Ну, мне пора, да и вам, господин влюбленный. Садитесь на извозчика, потом в поезд — солнце, снег… Она сладко спит…
Не буди ее в тусклую рань, Поцелуем дремоту согрей…Впрочем, это к вашему случаю не относится. Анненский все эти поцелуи на чистоту не принимал. Он знал, что они значат…
— Что же они значат? — спрашиваю я, разыскивая шубу. Он молчит. Я не повторяю вопроса. У подъезда несколько извозчиков. Мой собеседник садится в первого из них.
— Ну, до свидания.
— Постой, — осаживает он тронувшегося было извозчика. — Послушайте, может быть, позвоните мне как-нибудь? Вот моя карточка. Буду очень рад, очень рад… А насчет поцелуев Анненский, поверьте, знал и всегда помнил, — оскаленные зубки, вытекшие глазки, расползающиеся щечки… Трогай!..
Прозябшая лошадь резво уносит сани. Я смотрю на визитную карточку: А. Любяр… Лозина-Лозинский… такая-то улица…
x x x
Месяца через два я получил повестку общества "Медный Всадник" на заседание памяти поэта Любяра. На этот раз (недели через три после нашей встречи) самоубийца-неудачник своего добился.
Вечер был нелепый. В огромном модернизированном кабинете профессора Святловского собралось человек тридцать. Был чей-то скучный доклад. Потом М.
Лозинский читал стихи Любяра, читал он, как всегда, прекрасно, но после чтения вышла глупая путаница с каким-то студентом, предложившим выразить сочувствие "брату покойного и великолепному чтецу его произведений", который, на самом деле, был лишь однофамильцем, никогда не видавшим покойного в глаза. Хозяин-профессор, чтобы загладить впечатление… выпустил Яворскую читать сонеты его собственного сочинения, посвященные разным поэтам. Когда Яворская с актерским пафосом закончила сонет, посвященный Кузмину:
…и юноши нагие, Стыдливость позабыв, скрываются в альков…кто-то свистнул. Профессор покраснел, как бурак. Воцарилась еще большая неловкость.
Стали разносить чай. Все пили молча, молча же жуя птифуры. Один молодой человек, желая развеселить общество, вздумал петь, подыгрывая на рояле, армянские куплеты:
Как в Тифлисе у меня Был один товарищ, Очень славный человек, Только очень глуп.Лариса Рейснер, тогда еще почти девочка, слушала, слушала, потом встала, топнула ногой и раскричалась, что все это мерзко, недостойно, что она пришла на вечер памяти поэта, а ее угощают пошлостями.
Все разбирали шапки, торопясь поскорей убраться. Хозяин провожал гостей, багровый от конфуза. Его почтенная борода тряслась и руки дрожали.
Вечер был безобразный, что и говорить. Но шагая домой через Троицкий мост, я вспоминал усмешечку моего недавнего ночного собеседника, и мне казалось, что, может быть, именно такими поминками был бы доволен этот несчастный человек.
IX
Между Петербургом и Москвой от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали "Собачью площадку" и "Мертвый переулок", москвичи попрекали Петербург чопорностью, несвойственной "русской душе". Враждовали обыватели, враждовали и деятели искусств обеих столиц.
В 1919 году, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами, один поэт предложил советскому правительству проект объединения столиц в одну. Проект был прост. Запретить в Петербурге и Москве строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги. Через десять лет, по расчету изобретателя, оба города должны соединиться в один — Петросква, с центральной улицей — Куз-невский мос-пект. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка: ни в Петербурге, ни в Москве никто ничего не строил — все ломали. А жаль! Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раздорам.
x x x
Лубочный, Но пышный расцвет Москвы времен символизма пришел к концу — «Весы» закрылись.
"Торжествующая реакция" основала петербургский «Аполлон», и Георгий Чулков протанцевал в нем каннибальский танец над трупом врага ("О Весах"). Безработные московские «звезды» из второстепенных волей-неволей стали наведываться в Петербург. Кто просто искал заработка, кто собирался "взрывать врага изнутри", делать заговоры и основывать новые школы.
Однажды я попал на такое заговорщицкое собрание. К., молодой человек, писавший стихи, отвел меня где-то в сторону и таинственно сказал, что со мной очень хочет познакомиться Борис Садовский. Я был польщен. Мне было лет восемнадцать, и я не был особенно избалован славой. Правда, несколько дней тому назад в "Бродячей Собаке" какой-то господин буржуазного вида представился мне как мой горячий поклонник, но, когда на его замечание: "Вы такой молодой и уже такой знаменитый", я, с притворной скромностью, возразил: — "Ну, какой же я знаменитый", — он с пафосом воскликнул: c" Помилуйте, кто же не знает Вячеслава Иванова"!
Итак, — я был польщен и ответил К., что очень рад, в свою очередь, познакомиться с Садовским. К. радостно закивал. "Вот и прекрасно. Приходите к нему завтра вечером — я его предупрежу".
Извозчик подвез меня к мрачному дому на Коломенской улице. На облезлой вывеске над подъездом значилось — "меблированные комнаты" — не то «Тулон», не то «Марсель». Что-то средиземное, во всяком случае. С опаской я поднялся по мрачной лестнице. Босой коридорный нес кипящий самовар. Я спросил его о Садовском. "Пожалуйте за мной, — как раз им самоварчик подаю".
Толкнув коленом дверь, он, без стука, вошел в комнату, обдавая меня, шедшего сзади, чадом. Так, предшествуемый коридорным с самоваром, я впервые — не знаменательно ли! — вошел к поэту, который назвал именем этой машины для приготовления чая одну из своих книг:
Если б кончить с жизнью тяжкой, У родного самовара, За фарфоровою чашкой, Тихой смертью от угара.x x x
Я рисовал себе это свидание несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатлена его профессия — поэта-символиста. Ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с глубокого кресла, отложит в сторону том Метерлинка и, откинув со лба поэтическую прядь, протянет мне руку.
"Здравствуйте. Я рад. Вы один из немногих, сумевших заглянуть под покрывало Изиды…"
…В узком и длинном «номере» толпилось человек двадцать поэтов — все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Густой табачный дым застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым, потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел:
Русского царя солдаты Рады жертвовать собой, Не из денег, не из платы, Но за честь страны родной.На нем был расстегнутый… дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подагрическая ножка лихо отбивала такт…
Я стоял в недоумении — туда ли я попал. И даже если туда, все-таки не уйти ли? Но мой знакомый К. уже заметил меня и что-то сказал игравшему на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством. Пение прекратилось.
— Иванов! — громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на о. — Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете? Икру — съели, не надо опаздывать! Наверстывайте — сейчас жженку будем варить!..
Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел:
Эх, ты, водка, Гусарская тетка! Эх, ты, жженка, Гусарская женка!..— Подтягивай, ребята! — вдруг закричал он, уже совершенно петухом, — Пей, дворянстро российское! Урра! С нами Бог!..
Я огляделся. — "Дворянство российское" было пьяно, пьян был и хозяин. Варили жженку, проливая горящий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали «ура», обнимались. Не долго был трезвым и я. — "Иванов не пьет. Кубок Большого Орла ему!" — распорядился Садовский. Отделаться было невозможно. Чайный стакан какой-то страшной смеси сразу изменил мое настроение. Компания показалась мне премилой и начальственно-приятельский тон хозяина — вполне естественным.
…Табачный дым становился все сильнее. Стаканы все чаще падали из рук, с дребезгом разбиваясь. Как сквозь сон, помню надменно-деревянные черты Николая I, глядящие со всех стен, мундир Садовского, залитый вином, его сухой, желтый палец, поднесенный к моему лицу, и наставительный шепот:
— Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музыкой (ударение на ы) мироздания…
x x x
Та же комната. Тот же голос. Те же пронзительно ядовитые глазки под плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном долгополом сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забул-дыгу-гусара.
На стенах, на столе, у кровати — всюду портреты Николая I. Их штук десять. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением.
— Сей муж, — поясняет Садовский, — был величайшим из государей, не токмо российских, но и всего света. Вот сынок, — меняет он выспренний тон на старушечий говор, — сынок был гусь неважный. Экую мерзость выкинул — хамов освободил. Хам его и укокошил…
Среди портретов всех русских царей от Михаила Федоровича, развешанных и расставленных по всем углам комнаты, — портрета Александра II нет.
— В доме дворянина Садовского ему не место.
— Но ведь вы в Петербурге недавно. Что же, вы всегда возите с собой эти портреты?
— Вожу-с.
— Куда бы ни ехали?
— Хоть в Сибирь. Всех — это когда еду надолго, ну, месяца на два. Ну, а на неделю, тогда беру только Николая Павловича, Александра Благословенного, Матушку Екатерину, Петра. Ну, еще Елизавету Петровну — царица она, правда, была так себе, — зато уж физикой хороша. Купчиха! Люблю!
Садовский излагает свои «идеи», впиваясь в собеседника острыми глазами: принимает ли всерьез. Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю.
Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. "…Священная миссия высшего сословия…" Он обрывает фразу, не окончив. — Впрочем, ну все это к черту. Давайте говорить о стихах!..
— Давайте.
x x x
Борис Садовский был слабый поэт. Вернее, он поэтом не был. От русского поэта у него было только одно качество — лень. Лень помешала ему заняться его прямым делом — стать критиком.
Если имя Садовского еще помнят за его бледно-аккуратные стихи, — статьи его забыты всеми. Несправедливо забыты. Две книжки Садовского «Озимь» и «Ледоход», право, стоят многих «почтенных» критических трудов.
"Цепная собака «Весов» звали Садовского литературные враги — и не без основания. Список ругательств, часто непечатных, кем-то выбранный из его рецензий, занял полстраницы петита.
Но за ругательствами — был острый ум и понимание стихов насквозь и до конца. За полемикой, счетами, дворянскими придурями, блаженной памятью Николая I были страницы вполне замечательные.
Кстати, карьера Садовского — пример того, как опасно писателю держаться в гордом одиночестве. Сидеть в своем углу и писать стихи — еще куда ни шло. Но Садовский, когда его связь — случайная и непрочная — с московскими «декадентами» оборвалась, попытался "поплыть против течения", подавая "свободный глас" из своего "хутора Борисовка, Садовской тож". И его съели без остатка.
Выход «Озими» и «Ледохода» был встречен общим улюлюканьем. На свою беду, Садовский остроумно обмолвился — о поэзии по прусскому образцу с Брюсовым-Вильгельмом, Гумилевым-Кронпринцем и их «лейтенантами». "Гумилев льет свою кровь на фронте, и мы не позволим…" — бил себя в грудь в "письмах в редакции" Ауслендер. "Мы не позволим", — бил за ним в грудь Городецкий. Время было военное — Садовскому пришлось плохо. За «оскорбленным» Гумилевым никто не прочел и не оценил хотя бы удивительной статьи о Лермонтове, может быть, лучшей в нашей литературе:
"…Собрание поэм Лермонтова — в сущности, груда гениальных черновиков, перебелить которые помешала смерть…"
Среди окружавших Садовского забавной фигурой был также "бывший москвич" — поэт Тиняков-Одинокий. При Садовском он был не то в камердинерах, не то в адъютантах.
"Александр Иванович, сбегай, брат, за папиросами". — Тиняков приносил папиросы. — "Александр Иванович — пива!" — "Александр Иванович, где это Кант говорит то-то и то-то?" — Тиняков без запинки отвечал.
Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все, от клинописи до гипнотизма.
Главным коньком его был Талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был смирен и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьян он был почти всегда, — он становился предприимчивым.
"Бродячая Собака". За одним столиком сидят господин и дама — случайные посетители. «Фармацевты», на жаргоне «Собаки». Заплатили по три рубля за вход и смотрят во все глаза на "богему".
Мимо них неверной походкой проходит Тиняков. Останавливается.
Уставляется мутным взглядом. Садится за их стол, не спрашивая. Берет стакан дамы, наливает вина, пьет.
«Фармацевты» удивлены, но не протестуют. "Богемные нравы… Даже интересно…"
Тиняков наливает еще вина. "Стихи прочту, хотите?"
"…Богемные нравы… Поэт… Как интересно… Да, прочтите, мы так рады…" Икая, Тиняков читает:
Любо мне, плевку плевочку По канавке проплывать, Скользким боком прижиматься…— Ну, что… Нравится? — Как же, очень! — А вы поняли? Что же вы поняли? Ну, своими словами расскажите…
Господин мнется. — Ну… эти стихи… вы говорите… что вы плевок… и…
Страшный удар кулаком по столу. Бутылка летит на пол. Дама вскакивает, перепуганная насмерть. Тиняков диким голосом кричит:
— А!.. Я плевок!., я плевок!., а ты…
Этот Тиняков в 1920 году неожиданно появился в Петербурге. Он был такой же, как всегда, грязный, оборванный, небритый. Откуда он взялся и чем занимается, никого не интересовало. Однажды он пришел в гости к писателю Г.
Поговорили о том, о сем и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает.
— А, вот как, — сказал Тиняков. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти! Не ожидал! Хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск. — И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК…
x x x
В 1916 году я был в Москве и завтракал с Садовским в «Праге». Садовский меня «приветствовал», как он выражался. Завтрак был пышный, счет что-то большой. Когда принесли сдачу, Садовский пересчитал ее, спрятал, порылся в кармане и вытащил два медных пятака. "Холоп! — он бросил пятаки на стол, — тебе на водку". — "Покорнейше благодарим, Борис Александрович", — подобострастно раскланялся лакей, точно получив баснословное "на чай". Я был изумлен. "Балованный народ, — проворчал Садовский. — При матушке Екатерине за гривенник можно было купить теленка"…
Он медленно облачался в свое потертое пальто. Один лакей подавал ему палку, другой шарф, третий дворянскую фуражку.
Через несколько дней я зашел в «Прагу» один. Подавал мне тот же лакей. "Осмелюсь спросить, не больны ли Борис Александрович — что-то их давно не видать". — "Нет, он здоров". — "Ну, слава Богу — такой хороший барин". — "Ну, кажется, на чай он вас не балует?" — Лакей ухмыльнулся. — "Это вы насчет гривенника? Так они когда гривенник, а когда и четвертную отвалят… Не жалуемся — господин хороший…"
X
Осенью 1910 года из третьего класса заграничного поезда вышел молодой человек. Никто его не встречал, багажа у него не было, — единственный чемодан он потерял в дороге.
Одет путешественник был странно. Широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко-рыжие башмаки, нечищенные и стоптанные. Через левую руку был перекинут клетчатый плед, в правой он держал бутерброд…
Так, с бутербродом в руке, он и протолкался к выходу. Петербург встретил его неприязненно: мелкий холодный дождь над Обводным каналом — веял безденежьем. Клеенчатый городовой под мутным небом, в мрачном пролете Измайловского проспекта, напоминал о "правожительстве".
Звали этого путешественника — Осип Эмильевич Мандельштам. В потерянном в Эйдкунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки — и свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть…
x x x
…В твои годы я сам зарабатывал свой хлеб!
Растрепанные брови грозно нахмуриваются над птичьим личиком. Тарелка с супом, расплескиваясь, отскакивает на середину стола. Салфетка летит в угол…
Отец — не в духе. Он всегда не в духе, отец Мандельштама. Он — неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный, вечно фантазирующий.
Постоянные надежды: вот наладится кожевенное дело. И сейчас же на смену разочарование: не повезло, не вышло, провалилось…
Мать — грузная, вялая, добрая, беспомощная, тайком сующая сыну рубль, сэкономленный на хозяйстве. Девяностолетняя высохшая бабушка, с тройными очками на носу, сгорбленная над Библией: высчитывает сроки пришествия Мессии…
Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой и летом — обеды в грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава, вежливая и неумолимая, дымящийся бурый сургуч… Слезы матери — что мы будем делать? Отец, точно лейденская банка, только тронь — убьет…
Висячая лампа уныло горит. Чай нейдет в горло.
"Что мы будем делать?" — Вексель предъявлен к протесту…
Тяжелая тишина. Из соседней комнаты — хриплый шепот бабушки, сгорбленной над Библией: страшные, непонятные, древнееврейские слова.
Ничего, — как-то обходится. Пристав снял печати. Вексель согласились переписать. Снова — надежда: кажется, наладится экспорт масла…
Но все знают, что ничего не наладится, все неверно, неустойчиво — должно кончиться чем-нибудь страшным — разрывом сердца, самоубийством, нищетой.
…Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись, наконец, от томительного чаепития, читает у себя в комнате "Критику чистого разума".
Трудно читать. Но Куно Фишер валяется под столом — к черту Куно Фишера.
«Головой» — трудно еще уследить за Кантом, но уже все существо впитывает, как воздух, его "чудный холод". В голове шумок тоже «чудный»: самое сладкое читать так — не умом, предчувствием…
Он откладывает книгу и подходит к окну. На пустом Каменноостровском — фонари. На морозном небе — зимние звезды. Как просторно там, в Петербурге, в мире, в пространстве…
— Осип, ложись спать. Опять отец рассердится.
— Ах, сейчас, мама.
…В голове туман. Кант… Музыка… Жизнь… Смерть… Сердце начинает стучать… Губы начинают шевелиться.
Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. Господи! сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди — Впереди густой туман клубится И пустая клетка позади…x x x
Мандельштам — самое смешливое существо на свете.
Где бы он ни находился, чем бы ни был занят — только подмигните ему, и вся серьезность пропала. Только что вел важный и ученый разговор с не менее важным и ученым собеседником, и вдруг:
— Ха-ха-ха-ха…
Он хохочет до удушья. Лицо делается красным, глаза полны слез.
Собеседник удивлен и шокирован. Что такое с молодым человеком, рассуждавшим так умно, так вдумчиво? Не болен ли он?..
О, нет, не болен. Впрочем — пусть болен. Все-таки это более правдоподобно, чем если объяснять действительную причину смеха: кто-то чихнул, муха села кому-то на лысину…
— Зачем пишется юмористика? — искренне недоумевает Мандельштам. — Ведь и так все смешно.
Раз мы проходили по Сергиевской, мимо дома, где года два назад Мандельштам, «временно» проклятый и изгнанный отцом (это случалось часто), жил у тетушки с дядюшкой. Жилось Мандельштаму там несравненно лучше, чем дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянником чрезвычайно. Тетушка, веселая, розовая, круглая, как шар, закармливала его чем-то жирным и вкусным, худощавый и лысый дядюшка потчевал хорошими папиросами, коньяком и совал в карман пятирублевки. Мандельштам тоже их искренне любил.
"Славные старики, милые старики…"
Мы проходили мимо дома этих "славных стариков". Я заметил на окнах их квартиры белые билетики о сдаче.
— Твои родные переехали? Где же они теперь живут?
— Живут?.. Ха…ха…ха… Нет, не здесь… Ха…ха…ха… Да, переехали…
Я удивился.
— Ну, переехали, — что ж тут смешного?
Он совсем залился краской.
— Что смешного? Ха…ха… А ты спроси, куда они переехали!..
Задыхаясь от хохота, он пояснил:
— В прошлом году… Тю-тю… от холеры… на тот свет переехали!
И оправдываясь от своей неуместной веселости:
— Стыдно смеяться… Они были такие славные… Но так смешно — оба от холеры… А ты… ты… еще спрашиваешь… Куда пе… Ха… ха… ха… Пе… переехали…
Смешлив — и обидчив.
Поговорив с Мандельштамом час, — нельзя его не обидеть, так же, как нельзя не рассмешить. Часто одно и то же сначала рассмешит его, потом обидит. Или — наоборот.
Это, впрочем, «общепоэтическое» — чувствовать обиды, настоящие и выдуманные, с необыкновенной остротой. И тут же смеяться и над ними, и над собой.
Мандельштам обижался за то, что он некрасив, беден, за то, что стихов его не слушают, над пафосом его смеются…
Ну, а Байрон? Он был красив, знаменит и богат, но зато прихрамывал. О, чуть-чуть, почти незаметно. А вряд ли не с этого прихрамывания пошел весь "байронизм"…
Да, это «общепоэтическое». Только о Мандельштаме как-то особенно «позаботилась» недобрая фея, ведающая судьбами поэтов. Она дала ему самый чистый, самый «ангельский» дар и бросила в мир вполне голым, беззащитным, неприспособленным… Барахтайся, как можешь.
Он и барахтался:
Нам ли, брошенным в пространстве, Обреченным умереть, О прекрасном постоянстве И о верности жалеть!x x x
Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентом, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бачками и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно бормоча себе под нос (так стихи и сочинялись), стихи эти, рукопись которых потерялась вместе с Бергсоном и зубной щеткой, появились в ноябрьской книжке "Аполлона".
Дано мне тело. Что мне делать с ним, Таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить, Кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок.Я прочел это и еще несколько таких же «качающихся» туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:
— Почему это не я написал!
Такая "поэтическая зависть" — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждений определяет «вес» чужих стихов.
Если шевельнулось — "зачем не я" — значит, стихи "настоящие".
Стихи были удивительные. Именно удивительные. Они прежде всего удивляли.
Я очень «уважал» тогда «Аполлон», чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел как на каких-то посвященных.
До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе «Аполлона», я искренне считал поэзией. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в "роковое раздумье". Она выглядела особенной, непохожей на прежние. И не к украшению это ей служило…
Впервые блеск «Сребролукого» показался мне несколько… оловянным.
…На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло…Стихи, подписанные неизвестным именем "О. Мандельштам", переливались, сияли, холодели, как звезды в воде. И от этого «звездного» соседства — очень уж явно обнаруживалась природа всего окружающего, — типографская краска и «верже» высшего качества.
Недели через две, в своей царскосельской гостиной, Гумилев, снисходительно улыбаясь (он всегда улыбался снисходительно), нас познакомил:
— Мандельштам. Георгий Иванов.
Так вот он какой — Мандельштам!
На щуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и пр.), на щуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая, — но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши… И еще чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой.
Глаза прищурены, полузакрыты веками — глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул. Кивнул — и через секунду еще прямее вытянулся. Точно на веревочке.
Заговорил он со мной, неизвестно почему, по-французски, старательно грассируя. На каком-то слишком «парижском» ррр… как-то споткнулся.
Споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменней…
Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связной фразы, — уже обиделся на меня. За что? — За то, что он не так что-то выговорил, или не так подал руку, и я это заметил и, про себя, что-нибудь непременно подумал…
А через четверть часа он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике — чушь какую-то. Смеялся как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь.
Когда я услышал стихи Мандельштама в его чтении, я был удивлен еще раз.
К странным манерам читать — мне не привыкать было. Все поэты читают «своеобразно», — один пришепетывает, другой подвывает. Я без всякого удивления слушал и «шансонетное» чтение Северянина, и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова. И все-таки чтение Мандельштама поразило меня.
Он тоже пел и подвывал. В такт этому пенью он еще покачивал обремененной ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным.
Однако не казалось.
Напротив, — чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным.
Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке (во всем, во всем, даже в клетчатых штанах), — я еще не видал в жизни.
И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства.
Кончив читать — Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками без ресниц были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза.
x x x
"Над желтизной правительственных зданий" светит, не грея, шар морозного солнца. Извозчики везут седоков, министры сидят в величественных кабинетах, прачки колотят ледяное белье, конногвардейцы завтракают у «Медведя», — но что же делать в этом распорядке царского Петербурга — ему, Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся с какого-то Марса на петербургскую мостовую? Денег у него нет. Его оттопыренные уши мерзнут.
Летит в туман моторов вереница, Самолюбивый скромный пешеход, Чудак Евгений — бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет…Что же, чем не занятие — шагать по тротуару, вдыхая бензин и стыдясь бедности! Тем более, что —
…И в мокром асфальте поэт Захочет — так счастье находит.Вскоре по приезде из-за границы (в родительском доме стало ему совсем "не житье") Мандельштам зажил самостоятельно.
Мандельштам и самостоятельная жизнь!
Жил все-таки. Ценою долгих переговоров, сложных обменов готового белья на превосходящую его груду нестиранного, — из цепких, красных рук прачек вырывались ослепительные пестрые рубашки, которыми любил блистать Мандельштам. Каким-то чудом поддавались уговорам и непреклонные по природе мелкие портные и кроили в кредит, вздыхая и качая головами, крупно-клетчатые костюмы на его нелепую фигуру. Это и карманные деньги было самой сложной частью самостоятельного существования. Квартира и стол были делом пустяшным: симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов, в дореволюционные времена водились в Петербурге… Карманные деньги были нужны на табак и на черный кофе: для написания стихотворения в пять строф — Мандельштаму требовалось, в среднем, часов восемь, и в течение этого времени он уничтожал не менее пятидесяти папирос и полуфунта кофе.
Если денег окончательно нет — остается последний выход, утомительный, но верный. Броситься, как в пучину, под замороженную полость извозчика. — Пошел…
Заплатить нечем. Но ведь придется заплатить. Значит, кто-то, где-то заплатит. А уж, наверно, у того, кто заплатит извозчику, найдется трехрублевка и для седока…
Замороженный ванька плетется в "неизвестном направлении". Мелькают другие извозчики, знающие, куда ехать, с седоками, имеющими квартиры и текущие счета в банке. В витринах Елисеева мелькают тени ананасов и винных бутылок, призрак омара завивает во льду красный чешуйчатый хвост. На углу Конюшенной и Невского продаются плацкарты международных вагонов в Берлин, Париж, Италию… Раскрасневшиеся от мороза женщины кутаются в соболя; за стеклами цветочных магазинов — груды срезанных роз. — И все это так… кажущееся… Реально — пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяют, извозчик, за которого неизвестно кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды настоящие и выдуманные, — выдуманные часто больнее настоящих… И все то же, единственное жалкое утешение:
…И в мокром асфальте поэт Захочет — так счастье находит.…Зачем пишут юмористику, — не понимаю. Ведь и так все смешно…
Раз Мандельштам должен был срочно ехать в Варшаву. Он был влюблен (разумеется, безнадежно). И от этой поездки зависела как-то (или ему казалось, что зависела) "вся его судьба". Было военное время, но он проявил небывалую энергию и выхлопотал все пропуски и разрешения. Но в хлопотах он забыл о «пустяшном» — деньгах на поездку.
Ему надо было — "непременно, или умереть", — быть в Варшаве к определенному сроку. И вот — нет денег. И полная абсолютная невозможность их достать. Я столкнулся с ним в дверях одной редакции, где "высоко ценили" его "прекрасное дарование", но аванса, конечно, не дали. Он сказал тогда:
— Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех, и никто даже не обернется…
В Варшаву он попал все-таки, — его взял в свой санитарный поезд покойный H. H. Врангель. В Варшаве с его «судьбой» произошла какая-то катастрофа, — Мандельштам стрелялся, конечно, неудачно. Отлежавшись в госпитале — он вернулся в Петербург. На другой день после его приезда я встретил его в "Бродячей Собаке". Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишие, только что им сочиненное:
Не унывай, Садись в трамвай, Такой пустой, Такой восьмой…x x x
Когда пришел «Октябрь» и «неудачникам» всех стран были обещаны и дворцы, и обеды, и всяческие удачи, Мандельштам оказался "на той стороне" — у большевиков. Точнее — около большевиков. В партию он не поступил (по робости, должно быть, — придут белые — повесят), товарищем народного комиссара не пристроился. Но терся где-то около, кому-то льстил, пожимал какие-то руки, которые не следовало пожимать, — пожимал и какими-то благами за это пользовался. Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственной — (притом голодной, беспомощной, одинокой) "птицей Божьей" был Мандельштам. Да и не одному ему из "литераторов российских", и отнюдь при этом не «птицам», вроде Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть:
Какие грязные не пожимал я руки, Не соглашался с чем…вспомнив 1918–1920 годы, Смольный, Асторию, "Белый коридор" Кремля…
…1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное — большевики и левые эсеры. И вот в каком-то реквизированном московском особняке идет «коалиционная» попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причине: не бывал. Но вообразить не трудно: интеллигентские бородки и золотые очки вперемежку с кожаными куртками. Советские дамы. "За милых женщин, прелестных женщин"… «Пупсик»… "Интернационал". Много народу, много выпивки и еды. Тут же, среди этих очков, «Пупсика», «Интернационала», водки и икры — Мандельштам. "Божья птица", пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к «ассигновочке», которую Каменева завтра выпишет, если сегодня ей умело польстить. Все пьяны, Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, "ветчинки"…
Советская попойка, конечно, тоже смешна: и как всякое сборище пьяных людей, и «индивидуально»; и советскими манерами "прелестных женщин", и этим «мощным» «Интернационалом», и мало ли чем. «Коалиция» пьет, Мандельштам ест икру и пирожные. Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: "Зайдите завтра к моему секретарю". «Пупсик» гремит. Тепло. Все хорошо. Все приятно. Все забавно. И… много пить не следует, но рюмку, другую…
Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной… Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигары прожег сукно только что с такими хлопотами сшитого костюма?..
Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости, — зубы эти заныли от сахара и конфет?..
Нет, другое.
С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках, Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер. Знает и боится, как боится, впрочем, всех, кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие очки Луначарского или надушенные, отманикюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрелыцик, страшный, ужасный человек… Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?
Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверенны. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом, так же тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров…
— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию… И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:
— Погоди. Выпишу ордера… контрреволюционеры…
— Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в расх…
Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная птица Божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить "ассигновочку".
Слышит и видит:
— …Сидоров? А, помню, в расх…
…Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать приложена.
"Золотое сердце" доверяет своим сотрудникам «всецело». Остается только вписать фамилии и… И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста.
— …Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно…
И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.
Потом, пока еще ни Блюмкин, никто не успел опомниться — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб, погиб… Всю ночь он пробродил по Москве, в страшном возбуждении. Может, благодаря этому возбуждению он, хватавший ангину от простого сквозняка, тут, пробыв на морозе без пальто всю ночь, даже не простудился. — "О чем же ты думал?" — спросил я его. — "Ни о чем. Читал какие-то стихи, свои, чужие. Курил. Когда начался рассвет и Кремль порозовел, сел на скамейку у Москва-реки и заплакал…"
Сел на скамейку, заплакал. Потом встал и пошел в этот самый зарозовевший Кремль, к Каменевой.
Каменева, конечно, еще спала, он ждал. В десять часов Каменева проснулась. Ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала:
— Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь! Я вам дам пальто Льва Борисовича. Нельзя же в таком виде везти вас к товарищу Дзержинскому.
И Мандельштам «чистился» в каменевской ванной, лил себе на голову каменевский одеколон, перевязывал галстук, ваксил башмаки. Потом пил с Каменевой чай. Пили молча.
Потом поехали.
Она молчала, и он молчал. И о чем говорить, мой друг?..Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потеребил бородку. Встал. Протянул Мандельштаму руку.
— Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте. — В телефон: — Немедленно арестовать товарища Блюмкина и через час собрать коллегию ВЧК для рассмотрения его дела. — И снова, к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму:
— Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.
— Тттоварищ… — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так он и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но… "если можно", не расстреливать.
Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть дня два, никуда не показываясь, — "пока вся эта история не уляжется…"
Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В двенадцать дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился "строжайший революционный суд", а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: "Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу".
Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. Как он добрался туда — одному Богу известно. Но добрался-таки, вздохнул свободно. Свобода, впрочем, была довольно относительная: его посадили в тюрьму, приняв за большевистского шпиона.
Через несколько месяцев Блюмкин провинился «посерьезнее», чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха.
Мандельштам из осторожности "выждал события": мало ли, как еще обернется. Но все шло отлично, — левые эсеры рассажены по тюрьмам, Блюмкин, заочно приговоренный к расстрелу, исчез. Мандельштам стал собираться в Москву.
Денег у него не было, той "энергии ужаса", которая чудом перенесла его из Москвы в Грузию, тоже. Все ничего — устроилось. Помогли друзья — грузинские поэты: выхлопотали для Мандельштама… высылку из Грузии в административном порядке.
Первый человек, который попался Мандельштаму, только что приехавшему и зашедшему поглядеть, "что и как" в кафе поэтов, был… Блюмкин. Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафе — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, по-видимому, за два года поостыл: Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал…
XI
Две узкие комнаты с окошками у потолка, точно в подвале. Но это не подвал, напротив, — шестой этаж. Если подняться на носки или, еще лучше, стать на стул — внизу виден засыпанный снегом Таврический сад.
Комнаты небольшие. Мебель сборная. На стенах снимки с Боттичелли: нежно-грустные дети-ангелы на фоне мягкого пейзажа, райски-земного. Много книг. Если посмотреть на корешки — подбор пестрый. Жития святых и Записки Казановы, Рильке и Рабле, Лесков и Уайльд. На столе развернутый Аристофан в подлиннике. В углу, перед потемневшими иконами, голубая «архиерейская» лампадка. Смешанный запах духов, табаку, нагоревшего фитиля. Очень жарко натоплено. Очень светло от зимнего солнца.
Это комнаты Кузмина в квартире Вячеслава Иванова.
Первая — приемная, вторая — спальня. Кузмин встает часов в десять и работает в спальне у конторки — такой, за какими купцы сводят счеты.
Работает — стоя. Сидя — засыпаешь, уверяет он. Пишет Кузмин, по большей части, прямо набело. Испишет несколько страниц, погрызет кончик ручки и опять, не отрываясь, покрывает новые, почти без помарок.
Пока Кузмин работает, — в «приемной» начинают собираться посетители.
Какие-то лощеные штатские, какие-то юнкера. Зеленые обшлага правоведов, красные — лицеистов.
Это эстеты — поклонники "петербургского Уайльда", — как все они Кузмина называют.
Пока мэтр работает, эстеты болтают вполголоса.
— Я сейчас перечитываю Леконт де Лиля, — говорит один. — Как это прекрасно.
Другой, менее литературный, рассеянно морщится:
— Quel est ce comte, Andr?[3]
— Вилье де Лиль Адан, мой милый, — вставляет насмешливо третий.
Но литературный эстет не чувствует насмешки. Он равнодушно пожимает плечами:
— Connais pas…[4]
…такие гении, как Леонардо да Винчи…
…Леонардо, Леонардо, — что такое ваш Леонардо! Если бы Аким Волынский не написал о нем книги, никто бы о нем не помнил. Вот Клевер…
…А Петька-то опять у «Медведя» устроил скандал — слыхали? — вставляет, соскучившись умными разговорами, эстет вовсе серый. — Нализался, велел принести миску, пустил туда омара… — Рассуждавшие о Леонардо смотрят на него укоризненно — кричит во весь голос и еще какую-то чушь. Что скажет мэтр?..
Но мэтр как раз заинтересован.
— Что вы говорите, Жоржик! Опять нализался! Ха, ха! Омара в миску! Ха, ха! Ну и что же? Что потом? Хотел драться? Какой сорванец! Обошлось без протокола? Ну, слава Богу. Все-таки влетит ему от ротмистра. Он заедет?
Лежит дома? Надо навестить бедняжку…
Кузмин возвращается к своей конторке. Горничная приносит чай. Хрустя английским печеньем, дымя египетскими папиросами, эстеты продолжают болтовню.
…Роджерс вчера была очаровательна…
Тот же день вечером. У Вячеслава Иванова гости. В сводчатой зале, обставленной старинной итальянской мебелью, — "Таврический мудрец" ведет важную беседу на какую-нибудь редкую и ученую тему. Это не «среда», когда в этой гостиной собирается весь литературный Петербург, — несколько избранных, «посвященных» собрались потолковать о "тайнах искусства", недоступных профанам.
Кузмина нет. Но ведь это естественно. Что ему делать среди седобородых профессоров?
Нет — Вячеслав Иванов уже дважды посылал спрашивать, "не вернулся ли Михаил Алексеевич". Наконец, Кузмин входит.
Папироса в зубах, запах духов, щегольской костюм, рассеянно-легкомысленный вид. Что ему тут делать?
— Как хорошо, что вы пришли, дорогой друг, — говорит Вячеслав Иванов.
— Мы поспорили тут на интересную филологическую тему. Профессору мои доводы кажутся неубедительными. Я рассчитываю на вашу эрудицию…
x x x
Когда в 1909 году я познакомился с Кузминым, Кузмин только что сбрил бороду. Если бы это касалось кого-нибудь другого — можно было бы о бороде и не упоминать. Но в биографии Кузмина сбритая борода, фасон костюма, сорт духов или ресторан, где он завтракал, — факты первостепенные. Вехи, так сказать. По этим «вехам» можно проследить всю «кривую» его творчества.
Итак — Кузмин только что сбрил бороду. Еще точнее: перестал интересоваться своей внешностью, менять каждый день цветные жилеты, маникюрить руки. Перестал запечатывать письма оранжевым сургучом с оттиском своего герба, перестал душить их приторным «Астрисом». Короче: апостол петербургских эстетов, идеал денди с солнечной стороны Невского стал равнодушен к дендизму и к эстетизму.
Перестал. Но костюмы элегантного покроя еще остались, запах «Астриса» из хрустящей бумаги еще не выветрился. И эти донашиваемые костюмы, эта дописываемая бумага приобрели вдруг «шарм», которого им прежде не хватало, — законный, скромный, побочный шарм вещей "при человеке".
Перестали быть (или казаться) целью — приобрели прелесть.
Маркизы, мушки, XVIII век, стилизованное вольнодумство, подвиги великого Александра, лотосы, Нил, нубийцы, опять XVIII век и маркизы — все, о чем писал Кузмин до тех пор, — перестало его интересовать вместе с галстуками и цветными сургучами. Но галстуки еще донашивались. Кузмин, бросив изысканные темы, — перешел к обыкновенным. Но его язык, манера, легкость — остались. И, перестав быть целью, — приобрели прелесть.
…В 1909–1910 гг. Кузмин дописывал роман "Прекрасный Иосиф", последние стихи из "Осенних озер" — лучшее из им написанного и в прозе и в стихах. Вещи Кузмина той эпохи были совсем хороши, особенно проза. Казалось, что поэт-денди, став просто поэтом, выходит на настоящую, широкую дорогу.
Казалось…
На «настоящую» дорогу Кузмин не вышел. В 1909–1910 году он дописывал свои лучшие вещи. Следующая за "Осенними озерами" книга стихов "Глиняные голубки" — падение, не резкое, но явное. Следующий роман — «Мечтатели» — тоже. Старые галстуки донашивались, новые не покупались. "Прекрасная ясность" стала походить на опасную легкость. Изящная небрежность — быстро превратилась в неряшливость. Освободившись от своего прежнего «эстетического» содержания, писания Кузмина с каждой новой вещью все определеннее делались болтовней безо всякого содержания вообще. Зинаида Петровна дрянь и злюка, она интригует и пакостит, у нее длинный нос, который она вечно пудрит. А подпоручик Ванечка похож на ангела… — вот и тема для повести, а то и для романа. И ставшая предательской "прекрасная ясность" придает все более мертво-фотографический оттенок пустым «разговорчикам» неинтересных персонажей…
Как же это случилось?
x x x
Сбритая борода, сорт духов, ресторан, где Кузмин завтракал, повторяю,
— факты первостепенные в его биографии. Такова уж его «женственная» природа: мелочи занимают одинаковое место с важным, иногда большее. Судьба таких писателей целиком зависит от «воздуха», которым они дышат, — как бы талантливы они ни были. Даже так талантливы, как Кузмин.
Вначале Кузмин попал в блестящую среду — лучше нельзя было для него придумать. Он поселился в квартире Вячеслава Иванова, и все лучшее из написанного Кузминым — написано под «опекой» этого, может быть, единственного за всю историю русской литературы — знатока, ценителя, друга поэзии. Сам поэт холодный, тяжелый, книжный — чужие стихи, чужой дар В. Иванов понимал и умел направлять, как никто.
Жизнь у В. Иванова была именно то, что Кузмину было нужно. Он стал писать уверенней, «звук» его поэзии становился все чище.
Но произошло охлаждение, и Кузмин от Иванова уехал. Жить один он органически не мог — немного времени спустя его уже окружает новое общество, тоже литературное. Он опять живет под одной крышей с другим писателем. Жить Кузмин один не мог — ему нужен был «воздух», чтобы дышать.
Но вот воздух найден. И Кузмин дышит им так же свободно, как воздухом ивановской "Башни".
Теперь он под опекой писательницы Нагродской, автора "Гнева Диониса", — живет у нее. Теперь она дает ему литературные советы. Эстетические правоведы и юнкера, перекочевав за «мэтром» в гостеприимные салоны этой салонной писательницы, — довольны. Здесь гораздо веселей, чем на Таврической. Доволен и Кузмин — нет над ним "никакого начальства", никто его не «направляет», никто не "рассчитывает на его эрудицию", когда ему лень после хорошего обеда вести умные разговоры. Здесь, за глаза и в глаза, называют его гением и на каждое его слово ахают от восторга…
…Михаил Алексеевич — вы русский Бальзак!
…Кузмин — это маркиз, пришедший к нам из дали веков…
…Он выстрадал свою философию…
Автор "Гнева Диониса", знаменитая писательница, внушает своему новому "союзнику":
— Вы тонкий. Вы чуткий. Эти декаденты заставляли вас ломать свой талант. Забудьте то, что они вам внушали… Будьте самим собой.
Забыть так не трудно. Стать "самим собой" так приятно. Писать, не ломая талант, — так легко. Теперь не то что переделок — и помарок не бывает.
И, главное, никаких мудрствований, никаких подводных течений: Зинаида Петровна дрянь и злюка и вечно пудрит нос. А подпоручик Ванечка — ангел…
Дважды два — четыре, Два да три — пять, Вот и все, что мы можем, Что мы можем знать……Charmant, charmant…[5]
…Он выстрадал свою философию…
x x x
— Как вы думаете, включать мне эти стихи в книгу? — спрашиваю я у Кузмина.
Кузмин смотрит удивленно.
— Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили — так и включайте.
Он сам «включает» все, что написалось. Пишет, между прочим, что придется. Сонет-акростих, и поэму, и слова для балета. На одной странице стихи о сивилле, явившейся поэту (правда, они посвящены Нагродской, что несколько смягчает их важный тон), а на другой:
Как радостна весна в апреле, Как нам пленительна она; В начале будущей недели Пойдем сниматься у Боасона…На самом деле собирался идти сниматься. За завтраком у Альбера — об этом проекте заговорили, пришла рифма весна — Боасона, а там и весь «стишок». Придя домой, Кузмин аккуратно переписал его в тетрадку. Собирая новую книгу — не забыл вставить и этот.
…Зачем же не включать? Если написали, так и включайте…
Сочиняет стихи на ходу. Шел к вам — вот сочинил по дороге. Пишет музыку — в комнате, где играют дети сестры. Басы на рояле ему не нужны: дети колотят по басам изо всей силы. А с другого бока, на клавишах повыше, Кузмин подбирает новую песенку, стряпает свою "музычку с ядом".
Прозу пишет прямо набело. — Зачем же переписывать, у меня почерк хороший?..
Сестры, тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы…Сестры "прекрасная ясность" и "опасная легкость" — ваши приметы тоже одинаковы, для невнимательных, для нежелающих быть внимательными глаз…
Но сам Кузмин — какая затейливая жизнь, какая странная судьба!
…Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке.
…Кузмин принимает гостей в шелковом кимоно, обмахиваясь веером…
…Он старообрядец с Волги…
…Он еврей…
…Он служил молодцом в мучном лабазе…
…Он воспитывался в Италии у иезуитов…
…У Кузмина удивительные глаза…
…Кузмин урод…
В этих пересудах много вздора, но в самом вздорном есть капля правды.
Шелковые жилеты и ямщицкие поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италия и Волга — все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Алексеевича Кузмина.
И внешность почти уродливая и очаровательная. Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос — и огромные удивительные «византийские» глаза. Жизнь Кузмина сложилась странно. Литературой он стал заниматься годам к тридцати. До этого занимался музыкой, но недолго. А раньше?
Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дому в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения без счету. Потом — книги, книги, книги, итальянские, французские, греческие.
Наконец, первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником. И первые мысли об искусстве — музыке…
x x x
Кузмин готовился быть композитором — учился у Римского-Корсакова. Консерваторий не кончил, но музыки не бросил.
Именно занятию музыкой Кузмин обязан своей быстрой литературной славой, может быть, и всей своей карьерой.
Музыкальный критик В. Каратыгин где-то услышал игру Кузмина и ею пленился. В качестве музыканта Кузмин и вошел в петербургский поэтический круг, — а там уж распознали его настоящее призвание.
Стихам Кузмина «учил» Брюсов.
— Вот вы все ищете слов для музыки, — уговаривал его Брюсов, — и не находите подходящих. А другие находят без труда — берут первое попавшееся, какого-нибудь Ратгауза, и довольны. Вы же не находите. Почему? Потому, что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сами их сочинять.
— Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подобрать.
И Брюсов учил тридцатилетнего начинающего "подбирать рифмы". Ученик оказался способным.
Кстати — о кузминской музыке. Сам он определял ее так:
— У меня не музыка, а музычка, но в ней есть яд.
Точное определение.
Какая-нибудь петербургская гостиная. Дамы и молодые люди, поднесенные к глазам лорнетки, учтивые улыбки.
— Михаил Алексеевич, сыграйте.
Кузмин по-женски жеманится.
— Право, не знаю…
— Пожалуйста, пожалуйста.
Жеманясь, Кузмин идет к роялю. Тоже как-то по-женски трогает клавиши. С улыбкой оборачивается.
— Но что же мне играть? Я не помню, я забыл ноты…
Дитя, не тянися весною за розой, Розу и летом сорвешь…Кузмин, картавя и пришепетывая, поет, по-старушечьи, подыгрывая что-то сладко-меланхолическое. Голоса у него нет. Пустые, глуповатые слова, пустая, глуповатая музыка под XVIII век. Не музыка — музычка. Закройте глаза: разве это не бабушка-помещица, окруженная внуками, играет, вспоминая молодость, старинные чувствительные романсы?
Когда бы в юности мы знали, Как быстро дни любви бегут, Мы б ничего не пропускали, Ловя блаженство там и тут…Не музыка — музычка. Но в ней — яд. Уже не в салоне, а окруженный знатоками, поет и играет Кузмин. Каратыгин. Метнер. Браудо. Они внимательно слушают это странное «чудо». Подражательно? Еще бы. Банально? — Банально. Легковесно? — Легковесно. Но…
— Михаил Алексеевич, еще, еще спойте…
Дребезжит срывающийся голос, плывут с простенькой мелодией — глуповато-чувствительные «стишки», привычно сталкиваются незатейливые рифмы:
Мне матушка сказала: Беги любови злой, Ее опасно жало, Уколет не иглой. Я матушке послушна, Приму ее совет, Но можно ль равнодушной Прожить в шестнадцать лет?x x x
И литературная судьба у Кузмина странная.
После 1905 года вкусы русской «передовой» публики начали меняться.
Всевозможные «дерзания» ее утомили. После громов первых лет символизма хотелось простоты, легкости, обыкновенного человеческого голоса.
Кузмин появился как нельзя вовремя.
Первое стихотворение его первой книги начиналось строчками, прозвучавшими тогда как откровение:
…Где слог найду, чтоб описать прогулку, Шабли во льду, поджаренную булку…Вот, вот — именно. Все устали от слога высокого, все хотели "прекрасной ясности", которую провозгласил Кузмин.
И редко чье имя произносилось с большим вниманием и надеждой, чем тогда имя Кузмина. И не только читателями, но и людьми, чье одобрение вряд ли можно было заслужить не по праву, — В. Ивановым, Иннокентием Анненским. Для лучшей части тогдашней поэтической молодежи имя Кузмина было самым дорогим.
Они пленительны и сейчас, его ранние вещи. И сейчас, когда очарование новизны прошло, а все недостатки этой поэзии проступили. Перечтите «Сети», "Осенние озера", первые три тома рассказов, "Куранты любви". При всех «частностях», — это прекрасное достояние русской литературы. И это, я думаю, в ней останется.
Но:
…Зачем же переписывать — у меня почерк хороший…
…Если написали — так и включайте…
…Он выстрадал свою философию…
…В начале будущей недели пойдем сниматься к Боасона…
Прекрасная ясность — опасная легкость.
У Кузмина было все, чтобы стать замечательным писателем. Не хватало одного — твердости. "Куда ветер подует".
Ветер подул сначала в сторону бульварного романа, потом обратно к стилизации, потом к Маяковскому, потом еще куда-то. Для судеб русской поэзии эта "смена ветров" уже давно стала безразличной.
XII
Василеостровская вдова-чиновница, колебавшаяся, сдавать или не сдавать комнату Гумилеву, говорила:
— Конечно, вы господин солидный… Слава Богу, я господ знаю…
Собственный домик, говорите, в Царском? Так, так. Комнатку, чтобы было где переночевать, когда наезжаете?.. Так, так. Понятно, нынче с поездами мучение. Верю, сударь, и понимаю; знаю, слава Богу, господ. Мне такой жилец, как вы, — самый подходящий. Только… Желаете, я вам адресок дам, недалеко, тут же на Тучковом — тоже комнаты сдаются. Вы поглядите, может, подойдут…
— Да зачем же я пойду глядеть? Мне у вас нравится.
Вдова жеманно улыбалась.
— И вы мне нравитесь, господин. Слава Богу… Вижу, с кем имею дело.
Собственный домик… Жилец тихий, образованный…
— Ну, так что ж? Давайте по рукам. Завтра же и перееду.
Вдова помолчала минуту.
— Тут же, на Тучковом. За углом. Хорошие комнаты, светлые. Одна подполковница сдает. Сходите, господин, вам пондравится… А я, извиняюсь, — опасаюсь…
— Чего же вы опасаетесь?
— Да ведь вы сами сказали, что поеты. А в поеты, известно, публика идет, извиняюсь, не того… Женщина я старая, мне покой дороже. Сходите, господин, к генеральше…
Как это ни обидно, надо сознаться, что устами старухи говорила житейская мудрость. "Шла в поэты" публика, действительно, "не того" — странная, шалая, беспокойная…
x x x
Поэт Владимир Нарбут ходил бриться к Молле — самому дорогому парикмахеру Петербурга.
— Зачем же вы туда ходите? Такие деньги, да еще и бреют как-то странно.
— Гы-ы, — улыбался Нарбут во весь рот. — Гы-ы, действительно, дороговато. Эйн, цвей, дрей — лосьону и одеколону, вот и три рубля. И бреют тоже — ейн, цвей, дрей — чересчур быстро. Рраз — одна щека, рраз — другая. Страшно — как бы носа не отхватили.
— Так зачем же ходите?
Изрытое оспой лицо Нарбута расплывается еще шире.
— Гы-ы! Они там все по-французски говорят.
— Ну?
— Люблю послушать. Вроде музыки. Красиво и непонятно…
Этот Нарбут был странный человек.
В 1910 году вышла книжка: "Вл. Нарбут. Стихи". Талантливая книжка. Темы были простодушные: гроза, вечер, утро, сирень, первый снег. Но от стихов веяло свежестью и находчивостью — "Божьего дара".
Многое было неумело, иногда грубовато, иногда провинциально-эстетично (последнее извинялось тем, что большинство стихов было подписано каким-то медвежьим углом Воронежской губернии), многое было просто зелено — но все-таки книжка обращала на себя внимание, и в "Русской Мысли" и «Аполлоне» Брюсов и Гумилев очень сочувственно о ней отозвались. Заинтересовались стихами, заинтересовались и автором — где он, каков? Оказалось — Нарбут, брат известного художника Егора Нарбута. Обратились к художнику с расспросами. Тот покрутил головой.
— Братишка мой? Ничего, парень способный. Только не надейтесь — толку не будет. Пьет сильно и вообще хулиган…
— Где же он?
— У себя в Саратовской, именьице там у него. Пьянствует, должно быть, — осенью у него всегда кутеж: урожай продал…
— А в Петербург не соберется?
— Соберется, не беспокойтесь. Особенно теперь, как вы его по «Аполлонам» расхвалили. Успеете познакомиться… И пожалеть о знакомстве успеете…
Разговор шел в ноябре. А в январе секретарь «Аполлона» был вызван в суд свидетелем по делу сотрудника «Аполлона», "дворянина Владимира Нарбута".
Нарбут собрался, наконец, в Петербург, и в первый же вечер был задержан "за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей". Ночью, по дороге из «Давыдки» в какой-то другой кабак, подзадориваемый сопровождавшими его прихлебателями, пытался влезть на хребет одного из коней Клодта на Аничковом мосту и нанес тяжкие побои помешавшему ему городовому…
x x x
Нарбут приехал в Петербург не для того только, чтобы оседлать чугунного скакуна, уплатить по суду соответственный штраф и завести литературные знакомства. У него была цель и посерьезней — удивить и потрясти Петербург и литературу.
Когда Нарбуту говорили что-нибудь лестное о его прежних стихах — он только улыбался загадочно-снисходительно: погодите, то ли будет. Вскоре, то там, то здесь, в литературной хронике промелькнула новость: Вл. Нарбут издает новую книгу «Аллилуйя». Как известно, значение, которое поэт придает появлению своей книги — обратно пропорционально впечатлению от этого же события на читателя. По подсчету Брюсова, его читали, по всей России, около тысячи человек. Брюсова в преуменьшении из скромности заподозрить трудно. А подсчитано это в разгар всероссийской славы Брюсова и читательского интереса к нему. Чего же было ждать начинающему? От одобрительных рецензий в «Аполлоне» и "Русской Мысли" до славы, ну, по крайней мере, как у Леонида Андреева, было очень далеко. Нарбут, при всей своей самонадеянности, это понимал. Но так как славы ему очень хотелось, ждать у моря погоды было не в его нравах, а довольствоваться малым он не привык, то Нарбут и решил форсировать события.
x x x
Синодальная типография, куда была сдана для набора рукопись «Аллилуйя», ознакомившись с ней, набирать отказалась "в виду светского содержания".
Содержание, действительно, было «светское» — половина слов, составляющих стихи, была неприличной.
Синодальная типография потребовалась Нарбуту — потому что он желал набрать книгу церковнославянским шрифтом. И не простым, а каким-то отборным.
В других типографиях такого шрифта не оказалось. Делать нечего — пришлось купить шрифт. Бумаги подходящей тоже не нашлось в Петербурге — бумагу выписали из Парижа. Нарбут широко сыпал чаевые наборщикам и метранпажам, платил сверхурочные, нанял даже какого-то специалиста по церковнославянской орфографии… В три недели был готов этот типографский шедевр, отпечатанный на голубоватой бумаге с красными заглавными буквами и (Саратов дал себя знать) портретом автора с хризантемой в петлице и лихим росчерком…
По случаю этого события в «Вене» было устроено Нарбутом неслыханное даже в этом "литературном ресторане" пиршество. Борис Садовский в четвертом часу утра выпустил все шесть пуль из своего «бульдога» в зеркало, отстреливаясь от "тени Фаддея Булгарина", метр-д'отеля чуть не выбросили в окно — уже раскачали на скатерти — едва вырвался. Нарбут в залитом ликерами фраке, с галстуком на боку и венком из желудей на затылке, прихлебывая какую-то адскую смесь из пивной кружки, принимал поздравления.
Городецкий (это он принес венок из желудей) ухаживал за «юбиляром» деятельней всех. Он уже выпил с ним на «ты» и теперь, колотя себя в грудь, пророчествовал:
— Ты… ты… я верю… вижу… будешь вторым… Кольцовым. Но Нарбут недовольно мотнул головой.
— Ккольцовым?.. Нннехочу…
— Как? — ужаснулся Городецкий. — Не хочешь быть Кольцовым? Кем же тогда? Никитиным?
Нарбут наморщил свой изрытый, безбровый лоб. Его острые глазки лукаво блеснули.
— Не… Хабриэлем Даннунцио…
x x x
Славы «Хабриэля» Даннунцио — «Аллилуйя» Нарбуту не принесла. Книга была конфискована и сожжена по постановлению суда.
Не знаю, подействовала ли на Нарбута эта неудача, или на «Аллилуйя» ушел весь запас его изобретательности.
…Нарбут не пьет… Нарбут сидит часами в Публичной библиотеке…
Нарбут ходит в Университет… Для знавших автора «Аллилуйя» — это казалось невероятным. Но это была правда. Нарбут — "остепенился".
В этот «тихий» период я встречал его довольно часто, то там, то здесь.
Два-три разговора запомнились. Я и не предполагал, как крепко сидит в этом кутиле и безобразнике страсть, наивная "страсть к прекрасному"…
Постукивая дрянной папироской по своему неприлично большому и тяжелому портсигару (вдобавок украшенному бриллиантовым гербом рода Нарбутов), морща рябой лоб и заикаясь, он говорил:
— Меня считают дураком, я знаю. Экая скотина — снял урожай, ободрал мужиков и пропивает. Пишет стихи для отвода глаз, а поскреби — крепостник.
Тит Титыч, почти что орангутанг. А я?..
Молчание. Пристальный взгляд острых, маленьких, холодных глаз. Обычная плутовская «хохлацкая» усмешка сползает с лица. Вздох.
— А я?.. Какой же я дурак, если я смотрю на Рафаэля и плачу? Вот… — он достает из бумажника, тоже украшенного короной, затрепанную открытку. — Вот… Мадонна… Сикстинская… Был за границей. Берлин там. «Цоо», тигра икрой кормил, — ничего, жрет, еще просит, — видно, вкусней человечины, Винтергартен какой-то. Ну, дрянь, пошлость. Коньяк отвратительный, зато дешев — дешевле водки. Пьянствовали мы, пьянствовали, и попал я как-то в Дрезден. Тоже по пьяной лавочке, с компанией. Уж не помню, как и оказались в этой, как ее… Пинакотеке… Нет, это в Мюнхене — Пинакотека. Ну, все равно, идем, — глядим, ну, известно, — музей, картины, голые бабы, дичь…
Идем, галдим — известно, из кабака по дороге в кабак — зашли случайно. И вдруг, у какой-то двери сторож, старенький такой немец, делает нам знак: здесь, мол, кричать запрещено. Мы удивились, однако прикусили языки — может быть, в той комнате Вильгельм или какой-нибудь Бисмарк тоже осматривает…
Входим осторожно. Никого в комнате нет. Так себе зальца небольшая. И на стене эта… Сикстинская Мадонна.
— Полчаса, должно быть, я стоял перед нею, сволочь свою отослал — что она понимает, — сам стою, слезы так и текут. До вечера, может быть, так простоял — сам себя заставил уйти — довольно с тебя, и так на всю жизнь хватит! Такая красота, такая чистота, главное! Сторожу дал двадцать пять марок — не тебе, говорю, даю, в ее честь даю… Понял, кажется…
Нарбут молчит минуту. Его маленькие бесцветные глазки затуманиваются.
Две слезы появляются на красных веках без ресниц…
… - Да, это — красота, это — искусство. Полчаса глядел, — а на всю жизнь хватит. На сто жизней! Запил я после этого отчаянно — дым коромыслом. Весь Дрезден вверх дном. Чуть под суд не попали — какого-то штатсрата смазали по морде, с пылу, с жару. Ничего, откупились… Да, это искусство! Или еще Пушкин:
На холмах Грузии лежит ночная мгла, Шумит Арагва предо мною…— Об этих стихах даже думать спокойно не могу, сейчас сердце колотиться начинает. Когда на Кавказе был — ездил специально смотреть на эту Арагву. Речонка паршивая, кстати, мутная…
Вот! Какой же я орангутанг, если я так красоту чувствую?
А что безобразничаю и Брюсова не боюсь, так потому, что знаю, нечего мне его бояться — и мне, и ему, и третьему — одна цена. Если орангутанги — так все орангутанги. А к Пушкину — в лакеи поступить за счастье бы почел. Вы только вслушайтесь:
Шумит Арагва предо мною…Попалась ему эта Арагва шашлычная, и что он из этой Арагвы сделал? Какое чудо!..
И слезы текут из глаз Нарбута уже одна за другой. А он не пьян. Два-три графинчика водки, только что выпитых, — не в счет.
x x x
В период остепенения Нарбут решил издавать журнал.
Но хлопотать над устройством журнала ему было лень, и вряд ли из этой затеи что-нибудь вышло бы, если бы не подвернулся случай. Дела дешевого ежемесячника — "Новый журнал для всех" — после смены нескольких издателей и редакторов стали совсем плохи. Последний из редакторов этого ставшего убыточным предприятия — предложил его Нарбуту. Тот долго не раздумывал.
Дело было для него самое подходящее. Ни о чем не нужно хлопотать, все готово: и контора, и контракт с типографией, и бумага, и название. Было это, кажется, в марте. Апрельский номер вышел уже под редакцией нового владельца.
Вероятно, подписчики "Нового журнала для всех" были озадачены, прочтя эту апрельскую книжку. Журнал был с «направлением», выписывали его сельские учителя, фельдшерицы, то, что называется "сельской интеллигенцией". Нарбут поднес этим читателям, привыкшим к Чирикову и Муйжелю, собственные стихи во вкусе «Аллилуйя», прозу Ивана Рукавишникова, а отделы статей от политического до сельскохозяйственного «занял» под диспут об акмеизме с собственным пространным и сумбурным докладом во главе. Тут же объявлялось, что обещанная прежним издателем премия — два тома современной беллетристики — заменяется новой: сочинения украинского философа Сковороды и стихи Бодлера в переводе Владимира Нарбута.
Подписчики были, понятно, возмущены. В редакцию посыпались письма недоумевающие и просто ругательные. В ответ на них новая редакция сделала "смелый жест". Она объявила, что "Журнал для Всех" вовсе не означает "для всех тупиц и пошляков". Последним, т. е. требующим Чирикова вместо Сковороды и Бодлера — подписка будет прекращена, а удовлетворены они будут "макулатурой по выбору" — книжками "Вестника Европы", сочинениями "Надсона или Иванова-Разумника".
Тут уж по адресу Нарбута пошли не упреки, а вопль. В печати послышалось «позор», «хулиганство» и т. п. Более всего Нарбут был удивлен, что и его литературные друзья, явно предпочитавшие Бодлера Чирикову и знавшие, кто такой Сковорода, говорили почти то же самое. Этого Нарбут не ожидал — он рассчитывал на одобрение и поддержку. И получив вместо ожидавшихся лавров — одни неприятности, решил бросить журнал. Но легко сказать бросить. Закрыть?
Тогда не только пропадут уплаченные деньги, но придется еще возвращать подписку довольно многочисленным "пошлякам и тупицам". Этого Нарбуту не хотелось. Продать? Но кто же купит?
Покупатель нашелся. Нарбут где-то кутил, с кем-то случайно познакомился, кому-то рассказал о своем желании продать журнал. Тут же в дыму и чаду кутежа (после неудачи с редакторством Нарбут "загулял вовсю") подвернулся и сам покупатель — благообразный, полный господин купеческой складки, складно говорящий и не особенно прижимистый. Ночью в каком-то кабаке, под цыганский рев и хлопанье пробок — ударили по рукам, выпив заодно и на ты. А утром невыспавшийся и всклокоченный Нарбут был уже у нотариуса, чтобы оформить сделку — покупатель очень торопился.
Гром грянул недели через две — когда вдруг все как-то сразу узнали, что "декадент Нарбут" продал как-никак "идейный и демократический" журнал Гарязину — члену союза русского народа и другу Дубровина…
x x x
После истории с Гарязиным Нарбут исчез из Петербурга. Куда? Надолго ли?
Никто не знал. Прошло месяца три, пока он объявился.
Объявился же он так. Во все петербургские редакции пришла краткая, но эффектная телеграмма:
"Абиссиния. Джибутти. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика".
Вскоре пришло и письмо с абиссинскими штемпелями и марками, в центре которых красовался герб Нарбутов, оттиснутый на лиловом сургуче с золотой искрой. На подзаголовке под штемпелем "Джибутти. Гранд-Отель" — стояло:
"Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибутти и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет: почем я знал, что он черносотенец? Я не Венгеров, чтобы все знать. Здесь тощища. Какой меня черт сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу.
…Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер…"
Приехал Нарбут из Африки какой-то желтый, заморенный. На «приеме», тотчас же им устроенном, — он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии, — но из рассказов его выходило, что "страна титанов золотая Африка" — что-то вроде русского захолустья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усумнился, да был ли он там на самом деле?
Нарбут презрительно оглядел сомневающегося.
— А вот приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует.
… - Как же я тебя экзаменовать буду, — задумался Гумилев. — Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься… Хорошо — что такое "текели"?
— Треть рома, треть коньяку, содовая и лимон, — быстро ответил Нарбут. — Только я пил без лимона.
— А… — Гумилев сказал еще какое-то туземное слово.
— Жареный поросенок.
— Не поросенок, а вообще свинина. Ну, ладно, скажи мне теперь, если ты пойдешь в Джибутти от вокзала направо, что будет?
— Сад.
— Верно. А за садом?
— Каланча.
— Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за угол?
Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку:
— При дамах неудобно…
— Не врет, — хлопнул его по плечу Гумилев. — Был в Джибутти.
Удостоверяю.
Вскоре оказалось, что Нарбут вывез из Африки не только эти познания, но еще и лихорадку. Оттого-то он и приехал такой желтый. К его огорчению, и лихорадка была вовсе не экзотическая.
— В Пинске, должно быть, схватили? — спросил его доктор.
Нарбут уехал поправляться сначала в деревню, потом куда-то на юг. В 1916 году он был ненадолго в Петербурге. Шинель прапорщика сидела на нем мешком, рука была на перевязи, вид мрачный. Потом пошел слух, что Нарбут убит. Но нет, — в 1920 году в книжном магазине я увидел тощую книжку, выпущенную в каком-то из провинциальных отделов Госиздата: "Вл. Нарбут. Красный звон" или что-то в этом роде. Я развернул ее. Рифмы «капитал» и «восстал» сразу же попались мне на глаза. Я бросил книжку обратно на прилавок…
XIII
Есть воспоминания, как сны. Есть сны — как воспоминания. И когда думаешь о бывшем "так недавно и так бесконечно давно", иногда не знаешь, — где воспоминания, где сны.
Ну да, — была "последняя зима перед войной" и война. Был Февраль и был Октябрь… И то, что после Октября — тоже было. Но, если вглядеться пристальней, — прошлое путается, ускользает, меняется.
…В стеклянном тумане, над широкой рекой — висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы, и две тонких золотых иглы слабо блестят… Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. Вот царский смотр на Марсовом поле… и вот красный флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи… и вот хоронят «испепеленного» Блока. Распутина убили вчера ночью. А этого человека, говорящего речь (слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев), — зовут Ленин…
Воспоминания? Сны?
Какие-то лица, встречи, разговоры — на мгновение встают в памяти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической точностью… И опять — стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; проходят люди, падает снег. И куранты играют "Коль славен"…
Нет, куранты играют "Интернационал".
x x x
Падает снег. После вагонного тепла — сырой холодок оттепели пронизывает, забирается в рукава и за шиворот. И что за идея ехать ночью в Царское?!.. Но делать нечего — приехали, и обратного поезда нет.
Тускло горят фонари. Ветки в инее. Звезды.
— Эй, извозчик…
Сани мягко летят по рыхлому, талому снегу. Городецкий обнимает меня за талию, галантно, на поворотах.
На коленях у нас Мандельштам. Гумилев с Ахматовой — на переднем извозчике указывают дорогу — это они и выдумали ехать, на ночь глядя, в Царское. Им-то что — царскоселы. "Но нам-то, нам-то всем". В самом деле, глупо. После какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще — "пить кофе". Потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царскосельском вокзале. От «кофе», выпитого и здесь, и там, головы кружились.
— Поедем в Царское… Смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анненский.
— Едем, едем…
В самом деле, как раньше не догадались? Удачней нельзя и придумать, не правда ли? Ночью, по снегу, в какой-то закоулок Царскосельского парка — на скамейку посмотреть. И за это удовольствие ждать потом до семи часов утра — первого поезда в Петербург!..
Но «кофе» действовало, головы кружились.
— Едем, едем…
Вот — приехали. В вагонном тепле — укачало. На талом холодке развезло. Право, как глупо. Зачем приехали, куда приехали?!..
Гумилев с Ахматовой (им что — царскоселы) впереди — указывают дорогу.
Мандельштам на моих с Городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще два «акмеиста», стараются не отстать: у них нет денег на расплату, отстанут — погибнут.
У каких-то чугунных ворот — останавливаемся. Бредем куда-то, по колено в снегу. Деревья шумят заиндевевшими ветками. Звезды слабо блестят. Идем в том же порядке — мы с Городецким под ручки ведем Мандельштама, все тяжелеющего и тяжелеющего. Сугробы все глубже, холод все чувствительней. О, Господи…
Гумилев оборачивается.
— Пришли! Это и есть любимое место Анненского. Вот и скамья.
Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким, монотонным голосом читает стихи…
…Человек ночью, в глухом углу Царскосельского парка, на засыпанной снегом скамье, глядит на звезды и читает стихи. Ночью, стихи, на "той самой" скамье. На минуту становится жутко, — а ну, как…
Но нет, это не призрак Анненского. Сидящий оборачивается на наши шаги.
Гумилев подходит к нему, всматривается…
— Василий Алексеевич, — вы?.. Я не узнал было. Господа, позвольте вас познакомить. Это — цех поэтов: Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов.
Человек грузно подымается и пожимает нам руки. И рекомендуется:
— Комаровский.
У него низкий, сиплый голос, какой-то деревянный, без интонаций. И рукопожатие тоже деревянное, как у автомата. Кажется, он ничуть не удивлен встрече.
— Приехали на скамейку посмотреть. Да, да — та самая. Я здесь часто сижу… когда здоров. Здесь хорошее место, тихое, глухое. Даже и днем редко кто заходит. Недавно гимназист здесь застрелился — только на другой день нашли. Тихое место…
— На этой скамейке застрелился?
— На этой. Это уже второй случай. Почему-то выбирают все эту. За уединенность, должно быть.
— Как же вам не страшно сидеть здесь по ночам одному? — вмешиваюсь я в разговор.
Комаровский оборачивается ко мне и улыбается. Свет фонаря падает на его лицо. Лицо круглое, «обыкновенное», — такие бывают немцы-коммерсанты средней руки. Во всю щеку румянец. И что-то деревянное в лице и в улыбке.
— Нет, когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что болезнь вернется.
Он в течение нашего короткого разговора несколько раз повторяет "моя болезнь", "когда я здоров", "тогда я был болен". Что это за болезнь у этого широкоплечего и краснощекого?
… - Болезнь вернется? — повторяю я машинально конец его фразы.
— Да, — говорит он, — болезнь. Сумасшествие. Вот Николай Степанович знает. Сейчас у меня «просветление», вот я и гуляю. А вообще я больше в больнице живу.
И, не меняя голоса, продолжает:
— Если вы, господа, не торопитесь, — вот мой дом, выпьем чаю, — почитаем стихи.
…В большой столовой, под сияющей люстрой, мы пьем токайское из тонких желтоватых рюмок. Стеклянные двери раскрыты в зимний сад, камин жарко горит.
И еще — этот ослепительный свет. Все люстры, бра, лампы и в столовой и в соседних комнатах зажжены, точно для бала. Но хозяин находит, что света еще недостаточно. Он подзывает лакея.
— Зажгите жирандоли.
— Слушаюсь, ваше сиятельство.
Еще четыре высоких хрустальных канделябра вспыхивают по углам сотней свечей.
И хозяин с круглым румяным лицом деревянно улыбается:
— Я не люблю темноты в доме…
Комаровский внимательно слушает наши стихи. Потом читает свои.
Он сидит в глубоком кресле, широко расставив ноги в толстых американских башмаках. Его редкие волосы — аккуратно расчесаны. Круглое румяное лицо — лицо немецкого бюргера, вскормленного бифштексами и пивом. На лице благополучие, сытость. Глаза смотрят ясно и сонно.
…Это совершенно больной человек. Такой больной, что доктора разводят руками — как он еще живет. Его сердце так слабо, что малейшее волнение может стать роковым. От неожиданного шума, от вида крови, от всякого пустяка с Комаровским делается обморок. А с обмороком, нередко, возвращается "то"…
Он обречен на скорую смерть — и знает это. Перейти через улицу для него — приключение. Поездка в Петербург — подвиг.
Его единственное страстное желание — побывать в Италии — так же для него неосуществимо, как путешествие на Марс. И он утешается, читая целыми днями путеводители и описания, давно изученные наизусть. И пишет:
Иду неспешною походкою И камешек кладу в карман Там, где над новою находкою Счастливый плакал Винкельман.Два-три месяца — он живет «спокойно». Мечтает об Италии. Пишет стихи.
Ночью бредет на глухую "скамейку самоубийц" в засыпанном снегом парке.
…Когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что "болезнь вернется".
…Зажгите жирандоли. Я не люблю темноты в доме…
Два-три месяца. Потом, однажды ночью, он просыпается, окруженный какими-то огненными львами, кричит, отбивается от них… Потом больница, мешок со льдом, смирительная рубашка… Потом, спустя долгие месяцы, новый короткий просвет…
Комаровский недавно выписался из больницы. Припадок был очень тяжел.
Думали — не выживет. Нет — выжил. Ровным, чуть деревянным голосом он читает стихи, начатые «там». О чем мог мечтать человек, лежа на койке сумасшедшего дома?..
О Риме, о славе, о Цезаре…
Лампы сияют, от запаха цветов и каминного жара трудно дышать. И ровный голос монотонно читает:
…В провалы туч, в сияющий излом, За золотым и медленным орлом Пылающие идут легионы…Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые «ледяные» русские стихи. «Парнас» Брюсова — перед ними детский лепет. Но, как в голосе и улыбке Комаровского, и в этом блеске что-то деревянное. И что-то неприятно одуряющее, как в этой комнате, слишком натопленной, слишком освещенной, слишком заставленной цветами.
…Мы слушаем стихи, пьем токайское, о чем-то разговариваем. Наконец, прощаемся. Как приятно вдохнуть полной грудью после благовонной духоты этого дома. Духоты и еще чего-то веющего там — среди смирнских ковров и севрских ваз…
Подморозило. Небо посинело перед рассветом. Через полчаса подадут поезд. Ох — скорее бы в кровать, после бессонной странной ночи.
Это 1914 год, февраль или март. Комаровский говорил о своих планах на осень. Доктора надеются… Если не будет припадка… Поездка в Италию…
Он развернул газету, прочел, что война объявлена, и упал. Сначала думали — обморок. Нет, оказалось, — не обморок, а смерть.
x x x
Из Дома литераторов на Бассейной домой, на Каменноостровский, путь немалый. На Троицком мосту я поставил наземь кулек с крупой, за которым путешествовал так далеко, и облокотился о перила отдохнуть.
Небо красное от заката. С моря теплый, влажный, «душистый» ветер. Снег на Неве слипся и обмяк, у берега расплылись желтоватые полыньи. Если погода не изменится, нельзя будет по льду подойти к Кронштадту. Потом начнется ледоход и Кронштадт станет неприступным. И тогда…
Теплый ветер мягко и сильно бьет в лицо. Пушечные выстрелы — глухие с фортов, резкие с какого-то броненосца, оставшегося "верным революции".
Красное небо, тающий снег… И кругом ни души. "Хождение по улицам" — разрешено до шести вечера, а теперь пять, начало шестого. Но со служб все уже разошлись, а прогуливаться вряд ли кому взбредет в голову. Лучше уж посидеть дома. Вот если погода не изменится… Начнется ледоход, Кронштадт станет неприступным. Тогда…
Пора домой и мне. Я взваливаю свой кулек на плечи и прибавляю шагу.
Конечно, хождение разрешено до шести, а мне пути минут пятнадцать, но все-таки лучше поторопиться…
По пустому мосту навстречу мне медленно приближается человек. Он идет тихо, похлопывая ладонью по перилам, явно не торопясь. Вот остановился, закуривает, швырнул спичку на лед. Точно не касается его осадное положение и все "из него вытекающее". Может быть, так и есть. Тогда — неприятная встреча. «Хождение» до шести и труд-книжка моя в порядке… но все-таки…
Из-под барашковой шапки выбивается вьющаяся седоватая прядь. Под глазами резкие «мешки», еще резче глубокие морщины у рта. Широкие плечи сутулятся. Руки зябко засунуты в карманы. И безразличный, холодный «отсутствующий» взгляд.
Это не чекист, проверяющий документы. Это Блок.
Минуту мы стоим под красным небом, на пустом мосту, слушая выстрелы. Несколько глухих — это с фортов; грохочущий — с броненосца.
— Пшено получили? — спрашивает Блок. — Десять фунтов? Это хорошо. Если круто сварить и с сахаром…
Он не оканчивает фразы. Точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть и улыбается.
— Стреляют, — говорит он. — Вы верите? Я не верю. Помните, у Тютчева:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами, Воскресшими для новых похорон…Мертвецы палят по мертвецам. Так что, кто победит — безразлично.
— Кстати, — он улыбается снова. — Вам не страшно? И мне не страшно.
Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом… живым.
x x x
Зимой 1913 года, что-то очень рано, по петербургским понятиям — меня разбудила прислуга. "К вам господин. Говорят, по литературному делу". Я протер глаза и посмотрел на визитную карточку. Михаил Александрович Ковалев?
Такого знакомого у меня не было. Кто бы это мог быть? Неужели издатель, пленившийся моими стихами в «Аполлоне» или «Гиперборее» и пришедший покупать у меня собрание сочинений? Чем черт не шутит!.. Не без волнения я приказал провести посетителя в гостиную, пока я оденусь. Но одеться мне не пришлось — гость уже входил в дверь.
— Лежите, лежите, — быстро-быстро заговорил он, картавя и пришепетывая. — Лежите, — я к вам на минуту. Что? Можно здесь сесть? Что?
Я сейчас уйду, а вы продолжайте спать. Как у вас холодно. Что? Спите с открытой форточкой? Ах, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть. Что? У меня слабые легкие…
Он вдруг стал в позу, точно балерина, собирающаяся сделать прыжок.
Голова чуть набок, пальчики в сторону, ноги в третьей позиции. И быстро-быстро, нараспев, прошепелявил:
Сказал он, улыбнувшись кротко — Мы рядом шли, плечо к плечу, — Ты знаешь, у меня чахотка, И я давно ее лечу.И прибавил, жеманно улыбаясь:
— Я — поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи.
Пока он проделывал все это, я, несколько ошеломленный, его рассматривал.
Тоненькая, «щуплая» фигурка. Бледное худое «птичье» лицо как-то подергивается, голубоватые глаза близоруко щурятся. Одет старательно и небрежно: костюм хороший, но помят, в пыли, на фалде прилипла нитка. Башмаки не вычищены, щегольской галстук на боку. И растерянная улыбка, растерянное подергивание, растерянное "Что? Что?" — за каждым словом…
— Я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи. Что?
Прочел — и опять своей шепелявой скороговоркой:
— Как я нашел ваш адрес? Мне Н. сказал… Знаете… этот… он бывает (тут «птичье» личико приосанивается) в доме моего дяди X., государственного контролера. Что? Этот Н. прочел мне ваши стихи, и я в них влюбился. Что? Я даже наизусть их запомнил. Погодите, как это? Да.
Был тихий вечер, вечер бала, Был летний бал меж старых лип, Там, где река образовала Свой самый выпуклый изгиб.— Вот в это «образовала», — протянул он, — я и влюбился. И я пришел сказать вам это. А теперь я уйду, а вы спите… Что?
Я поблагодарил его за любезность и поспешил разъяснить небольшое недоразумение: стихи, только что прочтенные, не мои. Это стихи Виктора Гофмана, всем известные, давно перепечатанные разными календарями и чтецами-декламаторами. Так что…
Ивнев удивился чуть-чуть.
— Не ваши? Гофмана? Как странно! Впрочем, это все равно — ведь они так к вам подходят…
Я предложил ему подождать меня в соседней комнате.
— Сейчас я оденусь и будем пить кофе…
Птичье личико надменно наморщилось.
— Кофе? Благодарю, я уже пил свой утренний шоколад. И вообще — который час? Ах, Господи, четверть одиннадцатого. В двенадцать я завтракаю у княгини С., надо заехать домой, переодеться. Княгиня такая прелестная женщина… Вы встречались? Что? Я вас непременно познакомлю… Ах, ах, как поздно…
Он кивнул и убежал, подергиваясь на ходу. На кресле осталась забытая им перчатка. Она была щегольская, светло-желтой замши, на шелковой подкладке. Но для январской погоды мало подходила, особенно с распоротыми по швам пальцами…
С некоторых пор Рюрик Ивнев — постоянный гость в "Бродячей Собаке".
Он сидит ночи напролет в нише красного камина, один, молча, часами. Птичье личико бледно, кажется, еще бледнее обыкновенного, близорукие светлые глаза щурятся на огонь. Перед ним "на низком столике" остывающая чашка черного кофе: вина он не пьет.
Он не любит читать стихи, когда его просят: "другой раз, не помню…" Но иногда, под утро, он сам подымается на эстраду: "Я прочту…" Стихи его путаные, захлебывающиеся, развинченные. Жалко-беспомощные, по большей части. И вдруг иногда какой-то истерический взлет:
От крови был ал платочек. Корабль наш мыс огибал. Голубочек, наш голубочек, Голубочек наш погибал.Прочтет, дернется, растерянно улыбнется на жидкие пьяные хлопки, — и снова в свой угол, сидеть до утра, щурясь близорукими глазками на пылающие головни…
— Послушайте, Рюрик, зачем, в самом деле, вы просиживаете здесь ночи?
Ведь вам вредно…
— Вредно.
— И томительно…
— Томительно.
— Так зачем же сидите?
Он поднял глаза. В их водянистой голубизне мелькнуло тяжелое что-то, «сумасшедшинка» какая-то…
— Зачем сижу… Видите ли… В обыденной жизни я изнемогаю от сознания собственной нереальности. А здесь, в этой обстановке, призрачной, нелепой, я не чувствую этого… Я призрак, и кругом призраки… И мне хорошо…
И сейчас же, — точно испугавшись, — расплывается жеманной улыбочкой:
— Впрочем, вы правы, вы правы — это вредно, это надо прекратить. —
Воробьем прихорашивается:
— Ах, как я рассеян… — воробьем приосанивается. — На вечере у моего дяди… Княгиня Друцкая… Что? Вы будете завтра на верниссаже? Что?
Щебечет, будто и не он полчаса назад кликушей выкликивал:
От этой трезвости, от этой мерзости Куда уйти? Неужели бритвой зарезаться!..x x x
Начальник канцелярии по приему прошений на Высочайшее имя хоть и привык к просьбам самым неожиданным, но, прочтя поступившее к нему прошение "титулярного советника Михаила Александровича Ковалева", был, должно быть, все-таки озадачен.
"Припадая к стопам" царя, "титулярный советник Ковалев" в выражениях «верноподданнейших», но твердых заявлял (это было в 1915 году): от службы в войсках он отказывается.
Тут же пояснялось, что он, Ковалев, собственно, и не подлежит призыву, в ближайшее время по крайней мере. Так что заявление это он делает не из личных соображений, а по долгу "перед Вашим Величеством и Россией". Долг же этот он понимал так: сложить оружие и принять победителя с колокольным звоном, "как радостное искупление".
Легко себе представить, какой «ход» был бы дан этому прошению, если бы не навели справок и не выяснили, что проситель не только "титулярный советник", но и племянник своего дядюшки.
Узнав это обстоятельство, «учли» его: вместо того, чтобы позвонить в охранное отделение, позвонили в государственный контроль. И не жандармы, которых ожидал Ивнев (после подачи прошения, от волнения и ожидания, он заболел и слег), — заплаканная тетушка ворвалась к нему и увезла, вместо Сибири… на Иматру.
x x x
Две маленькие комнаты. Такие узкие, такие низкие и тесные, что даже на комнаты не похожи: футляры какие-то. И, как в футляре, ничего твердого: диванчики застелены плахтами, низкие стеганые креслица, пуховые подушечки, тряпочки, коврики. На две комнаты одна печка, зато огромная, круглая, так натопленная, что трудно дышать. На плетеных жардиньерках — герани, в углу киот, полный образов, а если отвернуть кисейную занавеску, за окном виден высокий забор, утыканный поверху гвоздями, глубокие сугробы и большая лохматая собака, прогуливающаяся на цепи. Где это? В Сибири? На Волге? Нет, это в Петербурге — отыскал Ивнев квартиру по своему вкусу: после истории с прошением он, вернувшись из Финляндии, поселился самостоятельно.
В этих комнатах-футлярах по пятницам вечерами собирается человек по двадцать, двадцать пять. Помещаются как-то. Пьют чай с птифурами от Берена, но половина гостей пьет с блюдечка: общество, которое тут собирается, не совсем обыкновенное.
…Розовый, светлоголовый мальчик в рясе, послушник из Сергиевского подворья. Рядом тоже "духовное лицо", лысый, заплывший жиром дьякон, расстриженный за сношения с сектантами. С ним истово, на «о», беседует человек средних лет, в сапогах бутылками и поддевке, с умными холодными глазами. Это поэт Николай Клюев, "из мужичков", как он сам о себе говорит.
"Мужичок" набелен, нарумянен и надушен "Роз Жакмино"…
Нарумянен и другой поэт "из мужичков" — голубоглазый Есенин.
Вперемежку с ними — лицеисты, правоведы, какой-то бывший вице-губернатор, побывавший в ссылке, какой-то изобретатель "сердечного магнита" — наивернейшего средства привлечь сердца отступников на лоно старообрядчества.
Прихлебывая чай, кто с блюдечка, кто по всем правилам английского воспитания, часами ведут странные разговоры о Книге голубиной, о магните сердечном и о новом Иерусалиме, который воздвигнется "на Руси", когда кончится война и настанет "царство Христово"…
— Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится.
— Аминь, аминь…
— Que Dieu nous b nisse.[6]
И хозяин, растерянно улыбаясь, щурится и нюхает английскую соль.
Это в 1915–1916. Понемногу состав посетителей меняется. В 1917 в кресле, где Клюев вещал о "Купели слезной", — Анатолий Васильевич Луначарский сладко и гладко беседует о марксизме. Те же или такие же лицеисты почтительно слушают, так же хозяин подергивается, улыбается и нюхает английскую соль. И в жарко натопленных комнатах-футлярах так же душно и усыпительно пахнет немного ладаном, немного духами, немного Распутиным, немного Циммервальдом…
x x x
В 1918 г. Рюрик Ивнев, встретив меня на улице, предлагал мне: хотите служить у нас? Не хотите? Но почему? Советская власть — Христова власть. И растерянно улыбаясь:
— Я ведь не революционную службу предлагаю вам, не в Че-Ка, — тут он задергался, и в глазах мелькнула знакомая «сумасшедшинка», — хотя у нас всякая служба чистая, даже в Че-Ка, да, даже в Че-Ка. Но я вам не это предлагаю: нам всюду нужны люди — вот места директора императорских театров, директора публичной библиотеки свободны. А? Почему не хотите?
Я смотрел на этого "сильного мира сего", так легко распоряжающегося директорскими постами, на его мордочку, дергающуюся щеку, измятый костюм и чувствовал к нему необъяснимую, острую, пронзительную жалость, почти нежность. Так и в Че-Ка чистая служба? Ну, что ж. Блаженны нищие духом…
— Не хотите? — Он дернулся по-воробьиному, приосанился. — Очень жаль. Но… может быть, вы думаете, что у нас Бог знает кто служит, сброд какой-нибудь?
— C'est plein de gens du monde!..[7]
XIV
"Кирпич в сюртуке" — словцо Розанова о Сологубе.
По внешности, действительно, не человек — камень. Движения медленные, натянуто-угловатые. Лысый, огромный череп, маленькие, ледяные сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этом лице — каменная.
И голос такой же:
Лила, лила, лила, качала Два тельно-алые стекла. Белей лилей, алее лала Была бела ты и ала…читает Сологуб, и кажется, что это не человек читает, а молоток о стену выстукивает эти ровные, мерные, ничего не значащие слова.
«Обращение» тоже соответствующее.
Молодой поэт, признанная "восходящая звезда", звонит Сологубу по телефону:
— Федор Кузьмич, это вы?
— Я.
— Говорит X. Я хотел бы прийти к вам…
— Зачем?
— Прочесть вам мои стихи.
— Я уже прочел их в "Аполлоне".
— Узнать ваше мнение…
— Я о них не имею мнения.
Сологуб — инспектор какой-то школы на Васильевском острове. И какой инспектор!
— "Федор Кузьмич идет!"… — И самые отчаянные сорванцы сразу присмиревают — знают, что инспектор шутить не любит…
Впрочем, что ж школьники. Когда меня в 1911 году впервые подвели к Сологубу и он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь (правда, мне было семнадцать лет) — зубы мои слегка щелкнули — такой «холодок» от него распространялся.
Вот что, кстати, сказал знаменитый поэт начинающему при этой первой встрече:
— Я не читал ваших стихов. Но, какие бы они ни были, — лучше бросьте. Ни ваши, ни мои, ничьи на свете — они никому не нужны. Писание стихов — глупое баловство и потеря времени…
Сам Сологуб начал заниматься "глупым баловством" поздно, годам к тридцати пяти.
Что было до этого? — То же самое.
Пустая, бедно обставленная казенная квартира, единицы школьникам, прогулка медленным, «каменным» шагом по пустынным «линиям» Васильевского острова. Одинокие вечера под висячей керосиновой лампой, над «письменными», или, когда они просмотрены, над такой же «каменной», как он сам, как все, его окружающее, — "Критикой чистого разума" — любимой книгой.
"Кирпич в сюртуке". Машина какая-то, созданная на страх школьникам и на скуку себе. И никто не догадывается, что под этим сюртуком, в «кирпиче» этом есть сердце. Как же можно было догадаться, "кто бы мог подумать"? Только к тридцати пяти годам обнаружилось, что под сюртуком этим сердце есть.
Сердце, готовое разорваться от грусти и нежности, отчаяния и жалости.
x x x
Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался (в разговоре с Блоком):
— Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник; для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно — не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу. О самом главном — не могу.
— О самом главном?
— Да. О страхе перед жизнью.
И, в параллель к этому разговору, другая обмолвка Сологуба:
— Искусство — одна из форм лжи. Тем только оно и прекрасно. Правдивое искусство — либо пустая обывательщина, либо кошмар. Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно.
Я хорошо помню «каменную» улыбку, с которой говорилось это. Говорилось в 1914 году в «блестящем» литературном салоне, и эстетические хлыщи с удовольствием повторяли и запоминали "меткий парадокс" скупого на них «мэтра». Так же, как и хлыщи эти, я запомнил, а потом забыл. Но пришлось еще раз вспомнить.
Жена Сологуба, Анастасия Чеботаревская, была маленькая, смуглая, беспокойная. Главное — беспокойная. В самые спокойные еще времена — всегда беспокоилась. О чем? О всем. Во время процесса Бейлиса, в обществе эстетическом и безразличном и к Бейлису, и ко всему на свете, хватала за руки каких-то незнакомых ей дам, отводила в угол каких-то нафаршированных Уайльдом лицеистов и, мигая широко открытыми серыми «беспокойными» глазами, спрашивала скороговоркой: "Слушайте. Неужели они его осудят? Неужели они посмеют?"
— Дда… ваазмутительно… — бормотал лицеист, любезно изгибая стан и стремясь поскорее от нее отделаться. Но она не отпускала. Она говорила еще быстрее, еще горячей и беспокойней. То, что собеседник глуп и безучастен ко всему на свете, кроме своего пробора, — не замечала. Напротив, он сказал «возмутительно», ну, конечно, он тоже возмущен, как она, в нем то же беспокойство. Она уже была благодарна, уже видела в нем союзника…
Беспокоилась по важному, беспокоилась и по пустякам. Разницы, кажется, не замечала. Вечная тревога делала ее подозрительной. С той же легкостью, с какой находила мнимых друзей, видела всюду мнимых врагов.
«Враги» — естественно — стремились ущемить, насолить, подставить ножку Сологубу, которого она обожала. Донести на него в полицию (О чем? Ах, мало ли что может придумать враг!). Умалить его славу, повредить его здоровью. И ей казалось, что новый рыжий дворник — сыщик, специально приставленный следить за Федором Кузьмичом. X. из почтенного, толстого журнала, — злобный маниак, только и думающий о том, как разочаровать читателя в Сологубе. И чухонка, носящая молоко, вряд ли не подливает сырой воды "с вибрионами" нарочно, нарочно…
Так было еще в «спокойные» мирные времена. Что же тогда в военные, в советские!
В 1921 году, после долгих хлопот, казалось, что сбудется то, о чем она мечтала, о чем рассказывала, блестя широко раскрытыми глазами, встреченным на улице, на лекции, в хлебной очереди «друзьям». То, что она тщательно скрывала (донесут, все испортят) от неимоверно выросших в числе и ставших особенно злобными «врагов». Отъезд за границу.
"Вырваться из ада" — на это последние месяцы ее жизни были направлены все силы души, все ее «беспокойство». Она не говорила и не думала уже ни о чем другом. "Вырваться из ада". И вот после долгих, утомительных, изводящих хлопот — двери «ада» приоткрылись. Через две-три недели будет прислан заграничный паспорт. Это наверное. «Друзья» помогли, «враги» отступились.
То, что ад в ней самой, и никакой Париж с "белыми булками и портвейном для Федора Кузьмича" ничего не изменит — не сознавала. Хлопотала, бегала по городу оживленная, веселая. Отводила в сторону встреченных «друзей», оглядывалась, не слышат ли «враги». Беспокойно блестя глазами, шептала:
— Через десять дней. Наверное. И вы приезжайте.
Что «ад» в ней самой, не понимала. Но не поняла ли вдруг, сразу, в тот вечер, когда она без шляпы выбежала на дождь и холод, точно ее позвал кто-то? Сологуба не было дома. Женщина, работавшая в квартире (перед отъездом столько дела), спросила — надолго ли барыня уходит. Они крикнула:
"Не знаю". Может, правда не знала. Может быть, сейчас вернется, будет обедать, уедет через несколько дней в Париж… Выбежала на дождь без шляпы, потому что вдруг, со страшной силой прорвалась мучившая ее всю жизнь тревога.
Какой-то матрос видел, как бросилась в Неву с Николаевского моста, в том месте, где часовня, какая-то женщина… Он не успел ее удержать. Был вечер. Фонари в то время не зажигались. Матрос не разобрал ни лица женщины, ни как она была одета. Кажется, она была без шляпы? Кажется, на ней было черное пальто-накидка, как на исчезнувшей Чеботаревской?.. Тела не нашли, может быть, и не искали. Кому была охота шарить в ледяной воде из-за какой-то там жены какого-то там Сологуба? У петербургского пролетариата были дела поважней. Да и спустя несколько дней (как раз к тому сроку, как был обещан, только обещан, разумеется, заграничный паспорт) — стала Нева.
x x x
Чеботаревская за мгновенье до смерти все еще "не знала". И Сологуб с того осеннего вечера до весны, когда лед пошел и тело его жены нашли, — тоже "не знал".
Он не изменил ничего в распорядке своей жизни. В хорошую погоду выходил гулять — по девятой линии на Неву, до часовни у Николаевского моста, и потом по солнечной стороне обратно. Вечером под зеленой лампой, в столовой, — писал стихи «бержеретты» во вкусе 18-го века или переводы для "Всемирной литературы" — Готье, Верлена. Когда его навещали, он принимал гостей все с той же холодной любезностью, как всегда. Иногда в разговоре — вскользь упоминал о Чеботаревской таким тоном, точно она ушла ненадолго из дому.
Шутил, охотно читал стихи, пастушеские, легкомысленные "бержеретты"…
…Зеленая лампа бросает неяркий круг на покрытый пестрой клеенкой стол. На столе аккуратно разложены книжки и рукописи. Тут же вязанье Анастасии Николаевны. Одна спица воткнута в шерсть, другая лежит в стороне.
Так она оставила его в "тот вечер". Так оно и осталось.
Сологуб читает стихи. Лицо его обычное, каменно-любезное, старчески-спокойное. И голос такой же, как всегда, без оттенков, тоже "каменный".
А стихи, пастушеские, легкомысленные "бержеретты":
…С позволенья вашей чести, Милый мой пастух Коллен…Однажды я засиделся. Служанка (та самая, что спрашивала, когда барыня вернется) пришла накрывать стол.
— Может быть, пообедаете со мной, — предложил Сологуб. — Маша, поставьте третий прибор.
Я отказался от обеда, но, должно быть, плохо скрыл удивление — для кого же второй прибор, если для меня ставят третий? Должно быть, как-нибудь это удивление на мне отразилось.
И каменно-любезно Сологуб пояснил:
— Этот прибор для Анастасии Николаевны.
А весной, когда тело Чеботаревской нашли, Сологуб заперся у себя в квартире, никуда не выходил, никого не принимал. Иногда его служанка приходила во "Всемирную литературу" за деньгами или в Публичную библиотеку за книгами. Это была молчаливая старуха, от которой ничего нельзя было узнать, кроме того, что "барин, слава Богу, здоровы, все пишут, велят не беспокоиться". Удивляло всех, что книги, которые брал Сологуб, были все по высшей математике.
Зачем ему они?
Потом Сологуб стал снова появляться то здесь, то там, стал принимать, если к нему приходили. О Анастасии Николаевне как о живой не говорил больше, и второй прибор на стол уже не ставился. В остальном, казалось, ни в нем, ни в его жизни ничего не изменилось.
Зачем ему нужны были математические книги, — узнали позже.
Один знакомый, пришедший навестить его, увидел на столе рукопись, полную каких-то выкладок. Он спросил Сологуба, что это.
— Это дифференциалы.
— Вы занимаетесь математикой?
— Я хотел проверить, есть ли загробная жизнь.
— При помощи дифференциалов?
Сологуб «каменно» улыбнулся.
— Да. И проверил. Загробная жизнь существует, И я снова встречусь с Анастасией Николаевной…
…Этот прибор — для Анастасии Николаевны…Да, я много пишу. Все больше бержеретты… Вот это — вчера написал:
…С позволенья вашей чести, Милый мой — пастух Коллен…Голос тот же. И улыбка та же. И сюртук — побелел только по швам. И стихи — бержеретты пастушеские. Ну, да, — "Искусство только тем и прекрасно… А кошмар…"
x x x
Много было весен, И опять весна. Бедный мир несносен, И весна бедна. Что она мне скажет На мои мечты, Ту же смерть покажет, Те же все цветы, Что и прежде были, У больной земли, Небесам кадили, Никли да цвели.Те же цветы, та же смерть. В стихах этих ключ ко всему Сологубу.
"Искусство одна из форм лжи"? Искренно ли Сологуб считал, что это так?
Или, напротив, боясь, "до дрожи", чтобы в искусстве его не «подчитал» кто-нибудь "самого главного" — придумывал — "одну из форм лжи" — такие фразы?
Не знаю. И не важно это. Важно другое.
В лучшем из созданного Сологубом, его стихах, никакой «лжи» нет.
Напротив, стихи его — одни из самых «правдивых» в русской поэзии.
Они "правдивы до конца" — и художественно, и человечески. И своей сдержанностью, чуждой всему внешнему и показному, и — ясным целомудрием отраженной в них «детской» души поэта.
Совсем недавно, в одном из ответов на литературную анкету, Сологуб был назван "великим поэтом". Это преувеличение, разумеется.
В искусстве «великое» начинается как раз с какой-то «победы» над тем "страхом перед жизнью", которым заранее и навсегда был побежден Сологуб. Но, конечно, он был поэтом в истинном и высоком смысле этого слова — не литератором и стихотворцем, а одним из тех, которые перечислены в "Заповедях Блаженства".
x x x
И вот Сологуб умер. В последний раз, когда я его видел (зашел попрощаться перед отъездом за границу, — осенью 1922 года), он сказал:
— Единственная радость, которая у меня осталась, — курить. Да. Ничего больше. Что ж — я курю…
Еще пять лет он «как-то» жил, «чем-то» жил. Курил. Писал «бержеретты», быть может. Теперь он умер.
Умер в полном одиночестве, в бедности, всеми забытый, никому не нужный.
От воспаления легких, при котором не теряют сознания до последней минуты, а вот курить как раз нельзя…
XV
Я близко знал Блока и Гумилева. Слышал от них их только что написанные стихи, пил с ними чай, гулял по петербургским улицам, дышал одним с ними воздухом в августе 1921 года — месяце их общей — такой разной и одинаково трагической смерти… Как ни неполны мои заметки о них — людей, знавших обоих так близко, как знал я, в России осталось, может быть, два-три человека, в эмиграции — нет ни одного…
Блок и Гумилев. Антиподы — в стихах, во вкусах, мировоззрении, политических взглядах, наружности — решительно во всем. Туманное сияние поэзии Блока — и точность, ясность, выверенное совершенство Гумилева.
"Левый эсер" Блок, прославивший в «Двенадцати» Октябрь: "мы на горе всем буржуям — мировой пожар раздуем" и «белогвардеец», «монархист» Гумилев.
Блок, относившийся с отвращением к войне, и Гумилев, пошедший воевать добровольцем. Блок, считавший мир «страшным», жизнь бессмысленной, Бога жестоким или несуществующим, и Гумилев, утверждавший — с предельной искренностью, — что "все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога". Блок, мечтавший всю жизнь о революции как о "прекрасной неизбежности", — Гумилев, считавший ее синонимом зла и варварства. Блок, презиравший литературную технику, мастерство, выучку, самое звание литератора, обмолвившийся о ком-то:
Был он только литератор модный, Только слов кощунственных творец…и Гумилев, назвавший кружок своих учеников цехом поэтов, чтобы подчеркнуть важность, необходимость изучать поэзию как ремесло. И так вплоть до наружности: северный красавец с лицом скальда, прелестно вьющимися волосами, в поэтической бархатной куртке с мягким расстегнутым воротником белой рубашки — Блок, и некрасивый, подтянутый, «разноглазый», коротко подстриженный, в чопорном сюртуке, Гумилев…
Противоположные во всем — всю свою недолгую жизнь Блок и Гумилев то глухо, то открыто враждовали. Последняя статья, написанная Блоком, "О душе", появившаяся незадолго до его смерти — резкий выпад против Гумилева, его поэтики и мировоззрения. Ответ Гумилева на эту статью, по-гумилевски сдержанный и корректный, но по существу не менее резкий, напечатан был уже после его расстрела.
x x x
Осенью 1909 года Георгий Чулков привел меня к Блоку. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. На мне был кадетский мундир. Тетрадку моих стихов прочел Чулков и стал моим литературным покровителем.
Что же описывать чувства, с которыми я входил в квартиру Блока?.. Блок жил тогда на Малой Монетной, в пятом этаже.
Большое, ничем не занавешенное окно с широким видом на крыши, деревья, Каменноостровский. Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На Офицерской 57, где он умер, было еще выше, вид на Новую Голландию, еще шире и воздушней… Мебель красного дерева — "русский ампир", темный ковер, два больших книжных шкапа по стенам, друг против друга. Один с отдернутыми занавесками — набит книгами. Стекла другого плотно затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкапу, вместо книг, стоят бутылки вина — «Нюи» елисеевского разлива № 22. Наверху полные, внизу опорожненные. Тут же пробочник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкапу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкапу. "Без этого" — не может работать.
Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет — нет ли пылинки. Блок, самый серафический, самый «неземной» из поэтов — аккуратен и методичен до странности. Например, если Блок заперся в кабинете, все в доме ходят на цыпочках, трубка с телефона (помню до сих пор номер блоковского телефона — 612-00!..) снята — все это совсем не значит, что он пишет стихи или статью.
Гораздо чаще он отвечает на письма. Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные или сумасшедшие. Все равно — от кого бы ни было письмо — Блок на него непременно ответит. Все письма перенумерованы и ждут своей очереди. Но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте на его аккуратнейшем — ни пылинки — письменном столе. Листы книжки разграфлены: No письма. От кого. Когда получено. Краткое содержание ответа и дата…
Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах — широкий вид. В квартире тишина. В шкапу, за зелеными занавесками, ряд бутылок, пробочник, стаканы…
— Откуда в тебе это, Саша? — спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. — Немецкая кровь, что ли? — И передавал удивительный ответ Блока. — Немецкая кровь? Не думаю. Скорее — самозащита от хаоса.
x x x
Чулков, близкий к Блоку человек, вошел в кабинет, потряхивая своей лохматой гривой, улыбаясь бритым актерским лицом, тыча пальцем в мой кадетский мундир.
— Вот привел к тебе военного человека, ты хоть не любишь армию, а его не обижай… Я, вслед за Чулковым, робко ступал не совсем слушавшимися от робости ногами.
Больше всего меня поразило то, как Блок заговорил со мной. Как с давно знакомым, как со взрослым, и точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение не то что прошло — я просто о нем забыл. Я вспомнил о нем с новой силой уже потом, спустя часа два, спускаясь вниз по лестнице, с подаренным мне Блоком экземпляром первого издания "Стихов о Прекрасной Даме" с надписью: "На память о разговоре".
Потом у меня собралось несколько таких книг, все с одинаковой надписью, только с разными датами. О чем были эти разговоры? Была у меня и пачка писем Блока — из его Шахматова в наше виленское имение, где я проводил каникулы.
Письма были длинные. О чем Блок мне писал? О том же, что в личных встречах, о том же, что в своих стихах. О смысле жизни, о тайне любви, о звездах, несущихся в бесконечном пространстве… Всегда туманно, всегда обворожительно… Почерк красивый, четкий. Буквы оторваны одна от другой.
Хрустящая бумага из английского волокна. Конверты на карминной подкладке.
Туманные слова, складывающиеся в зыбко-мерцающие фразы…
Зачем Блок писал длинные письма или вел долгие разговоры со мной, желторотым подростком, с вечными вопросами о технике поэзии на языке? Время от времени какой-нибудь такой вопрос с моего языка срывался.
— Александр Александрович, нужна ли кода к сонету? — спросил я как-то. К моему изумлению, Блок, знаменитый «мэтр», вообще не знал, что такое кода…
В дневнике Блока 1909 г. есть запись: "говорил с Георгием Ивановым о Платоне. Он ушел от меня другим человеком". В этой записи, быть может, объяснение и писем и разговоров. Должно быть, Блок не замечал моего возраста и не слушал моих наивных реплик. Должно быть, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Случай — я был перед ним, в его орбите, — и он посылал мне свои туманные лучи, почти не видя меня.
x x x
В эту блоковскую орбиту попадали немногие — но те, что попадали, все казались попавшими в нее случайно. Настоящих друзей, сколько-нибудь ему равных, у Блока не было. Связи его молодости либо оборвались, либо переродились, как в отношениях Блока с Андреем Белым, — в мучительно сложную, неразрешимую путаницу. Обычной литературной среды Блок чуждался. А близкие к нему люди, приходившие к нему запросто, спутники его долгих утренних прогулок и частых ночных кутежей — были все какие-то чудаки.
Нормальным человеком и к тому же, все-таки, — хотя и второстепенным, — писателем был среди них один Чулков. — Но что связывало Блока с этим милым, поверхностно талантливым изобретателем "мистического анархизма", в который никто, в том числе и сам Чулков, всерьез не верил?
Непонятна его дружба с Пястом, еще непонятней — с Евгением Ивановым и В. Зоргенфреем, которым, кстати, посвящены два шедевра блоковской поэзии: одному — "У насыпи во рву некошенном", другому — потрясающие "Шаги Командора".
Пяст, поэт-дилетант, лингвист-любитель, странная фигура в вечных клетчатых штанах, носивший канотье чуть ли не в декабре, постоянно одержимый какой-нибудь «идеей»: то устройства колонии лингвистов на острове Эзеле, то подсчетом ударений в цоканье соловья — и реформы стихосложения на основании этого подсчета, и с упорством маниака говоривший только о своей, очередной, «идее», пока он был ею одержим… Евгений Иванов — "рыжий Женя" — рыжий от бороды до зрачков, готовивший сам себе обед на спиртовке из страха, что кухарка обозлится вдруг на что-нибудь и "возьмет да подсыпет мышьяку".
"Рыжий Женя", в противоположность болтливому Пясту, молчал часами, потом произносил ни с того ни с сего какое-нибудь многозначительное слово: «Бог», или «смерть», или «судьба», и снова замолкал. — Почему Бог? Что смерть? Но рыжий Женя смотрит странно, странными рыжими глазами, скалит белые, мелкие зубы, точно хочет укусить, и не отвечает. Зоргенфрей — среднее между Пястом и Ивановым — говорит вполне вразумительно и логично. Только заводит разговор большею частью на тему о ритуальных убийствах — это его конек. Он большой знаток вопроса — изучил Каббалу, в переписке с знаменитым ксендзом Пранайтисом. Точно в насмешку, природа дала ему характерную еврейскую внешность, хотя по отцу он прибалтийский немец, а по матери грузин…
Почему эти люди близки Блоку? Чем близки? Вернее всего — он их не замечает. Они попали в его орбиту — общаясь с ними, он видит только себя, свое одиночество в "Страшном мире". И их лица, их голоса, даже их странности, к которым он привык, — то же, что аккуратно протираемый полотенцем стакан, разграфленная "получено — отвечено" книжка с золотым обрезом, методический порядок на письменном столе. Все та же "самозащита от хаоса"…
Эти четверо — Зоргенфрей, Иванов, Пяст и Чулков — неизменные собутыльники Блока, когда, время от времени, его тянет на кабацкий разгул.
Именно — кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные "злачные места": «Слон» на Разъезжей, «Яр» на Большом проспекте. После «Слона» или «Яра» — к цыганам…
…Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит — "Пожалей ты меня, дорогая" или "На сопках Манчжурии". Кругом пьяницы.
Навеселе и спутники Блока. — «Бог», неожиданно выпаливает Иванов и замолкает, скалясь и поводя рыжими зрачками. Зоргенфрей тягуче толкует о Бейлисе. Пяст, засыпая, что-то бормочет о Лопе де Вега…
Блок такой же, как всегда, как на утренней прогулке, как в своем светлом кабинете. Спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но на нем это не заметно.
Проститутка подходит к нему. "О чем задумались, интересный мужчина? Угостите портером". Она садится на колени к Блоку. Он не гонит ее. Он наливает ей вина, гладит ее нежно, как ребенка, по голове, о чем-то ей говорит. О чем? Да о том же, что всегда. О страшном мире, о бессмысленности жизни. О том, что любви нет. О том, что на всем, даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, как луч, отражена любовь…
— Саша, ты великий поэт! — кричит пришедший в пьяный экстаз Чулков и, расплескивая стакан, лезет целоваться. Блок смотрит на него ясно, трезво, задумчиво, как всегда. И таким же, как всегда, трезвым, глуховатым голосом, медленно, точно обдумывая ответ, отвечает:
— Нет. Я не великий поэт. Великие поэты сгорают в своих стихах и гибнут. А я пью вино и печатаю стихи в «Ниве». По полтиннику за строчку. Я делаю то же самое, что делает Гумилев, только без его сознания правоты своего дела.
x x x
С тем, что Блок одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования, — уж никто не спорит, а те, кто спорят, не в счет.
Для них, по выражению Зинаиды Гиппиус, "дверь поэзии закрыта навсегда". Но вокруг создателя этой поэзии, ее первоисточника, — Блока-человека — еще долго будут идти противоречивые толки. Если они теперь утихли, это только потому, что спорить некому… Там — Блок забыт, по циркуляру Политбюро, как "несозвучный эпохе", здесь — в силу все возрастающей усталости и равнодушия ко всему, кроме грустно доживаемой жизни… Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди русскими людьми. Русский читатель никогда не был и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным "ценителем прекрасного", которому мало дела до личности поэта. Любя стихи, мы тем самым любим их создателя — стремимся понять, разгадать, если надо, — оправдать его.
Блок как раз как будто нуждается в оправдании. «Двенадцать» — одна из вершин поэзии Блока, и именно потому, что она одна из вершин, на имя Блока и на все написанное им ложится от нее зловещий отблеск кощунства в отношении и России, и Христа. Стихи подлинных поэтов вообще, а шедевры их поэзии в особенности, неотделимы от личности поэта. И раз Блок написал «Двенадцать», — значит…
Дальше я расскажу, как умирал Блок. Одного его предсмертного бреда достаточно, по-моему, чтобы это «значит» потеряло значение. Но прежде чем показать, как он сам, умирая, относился к своей прекрасной и отвратительной поэме, я хочу попытаться объяснить, почему Блок не ответствен за создание «Двенадцати», не запятнан, невинен.
Первое — чистые люди не способны на грязный поступок. Второе — люди самые чистые могут совершать ошибки, иногда страшные, непоправимые. Блок был человек исключительной душевной чистоты. Он и низость — исключающие друг друга понятия. Говоря его же стихами, он
…был весь дитя добра и света, был весь свободы торжество.И он же написал «Двенадцать», где во главе красногвардейцев, идущих приканчивать штыками Россию, поставил — "в снежном венчике из роз" Христа!.. Как же совместить с этим свет, свободу, добро? Если Блок, действительно, "дитя добра и света", как он мог благословить преступление и грязь?
Объяснение в том, что Блок только казался литератором, взрослым человеком, владельцем «Шахматова», «квартиронанимателем», членом каких-то союзов… Все это было призрачное. В нереальной реальности, в которой он жил и писал стихи, Блок был заблудившимся в "Страшном мире" ребенком, боявшимся жизни и не понимавшим ее…
Одаренный волшебным даром, добрый, великодушный, предельно честный с жизнью, с людьми и с самим собой, Блок родился с "ободранной кожей", с болезненной чувствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес "страшному миру" с его "мирской чепухой", он с юности создал мечту о революции-избавлении и поверил в нее как в реальность.
Февральская революция, после головокружения первых дней, разочаровала Блока. Предпарламент, министры, выборы в Учредительное собрание — казались ему профанацией, лозунг "Война до победного конца" — приводил в негодование…
И в выкриках атеиста Ленина Блоку почудилась любовь к людям и христианская правда…
Предельная искренность и душевная честность Блока — вне сомнений. А если это так, то кощунственная, прославляющая октябрьский переворот поэма «Двенадцать» не только была создана им во имя "добра и света", но она и есть, по существу, проявление света и добра, обернувшееся страшной ошибкой.
Я не прощу. Душа твоя невинна. Я не прощу ей никогда,— писала, прочтя «Двенадцать», Зинаида Гиппиус. Эти ее строчки подтверждают мои слова. Их противоречивость только кажущаяся. По существу, они — как все у Гиппиус — очень точны и ясны. Гиппиус близко знала Блока и очень любила его. То, что в своей непримиримости она так резко отказывается Блока простить, только усиливает силу ее признания-утверждения: "душа твоя невинна".
За создание «Двенадцати» Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку «Двенадцати» и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от «Двенадцати», как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца.
Вот краткий перечень фактов. Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие без явной причины силы, потом, когда он стал, неизвестно от чего, невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий… Но все-таки от чего он умер? "Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем". Эти слова, сказанные Блоком на пушкинском вечере, незадолго до смерти, быть может, единственно правильный диагноз его болезни. За несколько дней до смерти Блока в Петербурге распространился слух: Блок сошел с ума. Этот слух определенно шел из большевизанствующих литературных кругов. Впоследствии в советских журналах говорилось в разных вариантах о предсмертном «помешательстве» Блока. Но никто не упомянул одну многозначительную подробность: умирающего Блока навестил "просвещенный сановник", кажется, теперь благополучно расстрелянный, начальник Петрогослитиздата Ионов. Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? — "Люба, хорошенько поищи, и сожги, все сожги". Любовь Димитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал: заставлял жену клясться, что она его не обманывает, вспомнив об экземпляре, посланном Брюсову, требовал везти себя в Москву. — Я заставлю его отдать, я убью его… И начальник Петрогослитиздата Ионов слушал этот бред умирающего…
Брюсов, бывший «безумец», «маг», «теург», во время войны сильно начавший склоняться к "союзу русского народа", теперь занимал ряд правительственных постов — комиссарствовал, заседал, реквизировал частные библиотеки "в пользу пролетариата". Писал, как всегда, множество стихов, тоже, разумеется, прославлявших пролетариат и его вождей. Возможно, что по привычке «теургов» заглядывать в будущее — славя живого Ленина, сочинял, уже про запас, оду на его смерть:
Вот лежит он Ленин, Ленин, Вот лежит он скорбен, тленен…Пильняк рассказывал как курьез, что на второй или третий день после посещения Блока Ионовым Брюсов в московском "Кафе поэтов" подробно, с научными терминами, объяснял характер помешательства Блока и его причины.
Партийная директива была уже принята бывшим «безумцем» к исполнению.
x x x
В дни, когда Блок умирал, Гумилев из тюрьмы писал жене: "Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы". Гумилев незадолго до ареста вернулся в Петербург из поездки в Крым. В Крым он ездил на поезде Немица, царского адмирала, ставшего адмиралом красным. Не знаю, кто именно, сам ли Немиц или кто-то из его ближайшего окружения состоял в том же, что и Гумилев, таганцевском заговоре и объезжая в специальном поезде, под охраной "красы и гордости революции" — матросов-коммунистов, Гумилев и его товарищ по заговору заводили в крымских портах среди уцелевших офицеров и интеллигенции связи, раздавали, кому надо, привезенное в адмиральском поезде из Петербурга оружие и антисоветские листовки. О том, что в окружении Немица был и агент Че-Ка, провокатор, следивший за ним, Гумилев не подозревал.
Гумилев вообще был очень доверчив, а к людям молодым, да еще военным — особенно. Провокатор был точно по заказу сделан, чтобы расположить к себе Гумилева.
Он был высок, тонок, с веселым взглядом и открытым юношеским лицом.
Носил имя известной морской семьи и сам был моряком — был произведен в мичманы незадолго до революции. Вдобавок к этим располагающим свойствам этот "приятный во всех отношениях" молодой человек писал стихи, очень недурно подражая Гумилеву…
Вернулся Гумилев в Петербург загоревший, отдохнувший, полный планов и надежд. Он был доволен и поездкой, и новыми стихами, и работой с учениками-студистами. Ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости, удачи, которое испытывал в последние дни своей жизни Гумилев, сказалось, между прочим, в заглавии, которое он тогда придумал для своей «будущей» книги:
"Посередине странствия земного". «Странствовать» на земле, вернее, ждать расстрела в камере на Шпалерной, ему оставался неполный месяц…
Гумилев в день ареста вернулся домой около двух часов ночи. Он провел этот последний вечер в кружке преданно влюбленной в него молодежи. После лекции Гумилева — было, как всегда, чтение новых стихов и разбор их по всем правилам акмеизма — обязательно "с придаточным предложением" — т. е. с мотивировкой мнения: "Нравится или не нравится, потому что…", "Плохо, оттого что…" Во время лекции и обсуждения стихов царила строгая дисциплина, но когда занятия кончались, Гумилев переставал быть мэтром, становился добрым товарищем. Потом студисты рассказывали, что в этот вечер он был очень оживлен и хорошо настроен — потому так долго, позже обычного и засиделся. Несколько барышень и молодых людей пошли Гумилева провожать. У подъезда "Дома искусства" на Мойке, где жил Гумилев, ждал автомобиль. Никто не обратил на это внимания — был «нэп», автомобили перестали быть, как в недавние времена "военного коммунизма", одновременно и диковиной и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались "на завтра".
Люди, приехавшие в стоявшем у подъезда автомобиле с ордером Че-Ка на обыск и арест, ждали Гумилева в его квартире.
Двадцать седьмого августа 1921 года, тридцати пяти лет от роду, в расцвете жизни и таланта, Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель? Нет — ужасная, но имеющая глубокий смысл. Лучшей смерти сам Гумилев не мог себе пожелать. Больше того, именно такую смерть, с предчувствием, близким к ясновидению, он себе предсказал:
умру я не на постели, При нотариусе и враче.x x x
Сергей Бобров, автор "Лиры лир", редактор «Центрофуги», сноб, футурист и кокаинист, близкий к В.Ч.К. и вряд ли не чекист сам, встретив после расстрела Гумилева М. Л. Лозинского, дергаясь своей скверной мордочкой эстета-преступника, сказал, между прочим, небрежно, точно о забавном пустяке:
— Да… Этот ваш Гумилев… Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу…
Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны…
Эту жуткую болтовню дополняет рассказ о том, как себя держал Гумилев на допросах, слышанный лично мной уже не от получекиста, как Бобров, а от чекиста подлинного, следователя петербургской Че-Ка, правда, по отделу спекуляции — Дзержибашева. Странно, но и тон рассказа и личность рассказчика выгодно отличались от тона и личности Боброва. Дзержибашев говорил о Гумилеве с неподдельной печалью, его расстрел он назвал "кровавым недоразумением". Этого Дзержибашева знали многие в литературных кругах тогдашнего Петербурга. И многие, в том числе Гумилев, — как это ни дико — относились к нему… с симпатией. Впрочем, Дзержибашев был человек загадочный. Возможно, что должность следователя была маской. Тогда объясняется и необъяснимая симпатия, которую он внушал, и его неожиданный «индивидуальный» расстрел в 1924 году.
Допросы Гумилева больше походили на диспуты, где обсуждались самые разнообразные вопросы — от «Принца» Макиавелли до "красоты православия".
Следователь Якобсон, ведший таганцевское дело, был, по словам Дзержибашева, настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маниака. Более опасного следователя нельзя было бы выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилева. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Якобсон Гумилева чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть гумилевские стихи, изощренно спорил с Гумилевым и потом уступал в споре, сдаваясь или притворяясь, что сдался, перед умственным превосходством противника…
Я уже говорил о большой доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности — наконец, не чуждую Гумилеву слабость к лести, — легко себе представить, как, незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Якобсоном ловушку. Как незаметно в отвлеченном споре о принципах монархии он признал себя убежденным монархистом. Как просто было Якобсону после диспута о революции «вообще» установить и запротоколить признание Гумилева, что он непримиримый враг Октябрьской революции. Вернее всего, сдержанность Гумилева не изменила бы его судьбы. Таганцевский процесс был для петербургской Че-Ка предлогом продемонстрировать перед Че-Ка всероссийской свою самостоятельность и незаменимость. Как раз тогда шел вопрос о централизации власти и права казней в руках коллегии В.Ч.К. в Москве.
Именно поэтому так старался и спешил Якобсон. Но кто знает!..
Притворись Гумилев человеком искусства, равнодушным к политике, замешанным в заговор случайно, может быть, престиж его имени — в те дни для большевиков еще не совсем пустой звук — перевесил бы обвинение? Может быть, в этом случае и доводы Горького, специально из-за Гумилева ездившего в Москву, убедили бы Ленина…
x x x
…Семилетний Гумилев упал в обморок от того, что другой мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь — домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку гимназистку. Он следит за ней, бродит за ней по улицам, наконец, однажды подходит и, задыхаясь, признается: "Я вас люблю". Девочка ответила «дурак» и убежала.
Гумилев был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Он не спал ночами, обдумывал способы мести: сжечь дом, где она живет? похитить ее? вызвать на дуэль ее брата? Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилеву, была так глубока, что в тридцать лет он вспоминал о ней смеясь, но с оттенком горечи…
Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном: как бы прославиться.
Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в Царскосельскую гимназию.
Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Безразлично что — только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему.
Понемногу эти детские мечты сложились в стройное мировоззрение, которому Гумилев был верен всю жизнь. Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни всегда стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных. Быть поэтом, по его понятиям, достоин только тот, кто, яснее других сознавая человеческие слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, на личном примере, в главном и в мелочах, силой воли преодолевает "ветхого Адама". И, от природы робкий, застенчивый, болезненный человек, Гумилев «приказал» себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим два Георгия, заговорщиком. То же, что с собственной жизнью, он проделал и над поэзией.
Мечтательный грустный лирик, он стремился вернуть поэзии ее прежнее значение, рискнул сорвать свой чистый, подлинный, но негромкий голос, выбирал сложные формы, «грозовые» слова, брался за трудные эпические темы.
Девиз Гумилева в жизни и в поэзии был: "всегда линия наибольшего сопротивления". Это мировоззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятым поэтом. Незадолго до смерти — так, за полгода — Гумилев мне сказал: "Знаешь, я сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал — угадай, кому? — кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно, и еще замазывают каждую щелку. Кирпич к кирпичу, друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое тяжелое в жизни — одиночество. А я так одинок…"
x x x
Всю свою короткую жизнь Гумилев, признанный, становившийся знаменитым, был окружен непониманием и враждой.
Очень остро сам сознавая это, он иронизировал над окружающими и над собой.
Я вежлив с жизнью современною, Но между нами есть преграда — Все, что смешит ее, надменную, Моя единая отрада. Победа, слава, подвиг — бледные Слова, затерянные ныне, Гремят в душе, как громы медные, Как голос Господа в пустыне. О нет, я не актер трагический, Я ироничнее и суше. Я злюсь, как идол металлический Среди фарфоровых игрушек. Он помнит головы курчавые, Склоненные к его подножью, Жрецов молитвы величавые, Леса, охваченные дрожью, И видит, горестно смеющийся, Всегда недвижные качели, Где даме с грудью выдающейся Пастух играет на свирели.Наперекор этой чуждой ему современности, не желавшей знать ни подвигов, ни славы, ни побед, Гумилев и в стихах, и в жизни старался делать все, чтобы напомнить людям о "божественности дела поэта", о том, что в Евангелии от Иоанна Сказано, что слово — это Бог.
Всеми ему доступными средствами, от названия своей юношеской книги "Путь конквистадора" до спокойно докуренной перед расстрелом папиросы, — Гумилев доказывал это и утверждал. И когда говорят, что он умер за Россию, необходимо добавить — "и за поэзию".
x x x
Блок и Гумилев ушли из жизни, разделенные взаимным непониманием. Блок считал поэзию Гумилева искусственной, теорию акмеизма ложной, дорогую Гумилеву работу с молодыми поэтами в литературных студиях вредной, Гумилев как поэт и человек вызывал в Блоке отталкивание, глухое раздражение. Гумилев особенно осуждал Блока за «Двенадцать». Помню фразу, сказанную Гумилевым незадолго до их общей смерти, когда он убежденно говорил: "Он (т. е. Блок), написав «Двенадцать», вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя".
Я возразил, что, независимо от содержания, «Двенадцать» как стихи близки к гениальности. — "Тем хуже, если гениальна. Тем хуже и для поэзии, и для него самого. Диавол, заметь, тоже гениален — тем хуже и для диавола, и для нас…"
Теперь, когда со дня их смерти прошло столько лет, когда больше нет "Александра Александровича" и "Николая Степановича", левого эсера и «белогвардейца», ненавистника войны, орденов, погон и "гусара смерти", гордившегося "нашим славным полком" и собиравшегося писать его историю, когда остались только "Блок и Гумилев", — как грустное утешение нам, пережившим их, — ясно то, чего они сами не понимали.
Что их вражда была недоразумением, что и как поэты и как русские люди они не только не исключали, а скорее дополняли друг друга. Что разъединяло их временное и второстепенное, а в основном, одинаково дорогом для обоих, они, не сознавая этого, братски сходились.
Оба жили и дышали поэзией — вне поэзии для обоих не было жизни. Оба беззаветно, мучительно любили Россию. Оба ненавидели фальшь, ложь, притворство, недобросовестность — в творчестве и в жизни были предельно честны. Наконец, оба были готовы во имя этой "метафизической чести" — высшей ответственности поэта перед Богом и перед собой — идти на все, вплоть до гибели, и на страшном личном примере эту готовность доказали.
XVI
Пятнадцати лет поэт Скалдин поступил мальчиком-рассыльным в одно крупное петербургское коммерческое предприятие.
В двадцать пять лет он был одним из его директоров, прочел по-итальянски, французски, немецки и гречески все, что можно было на этих языках прочесть, был другом Вячеслава Иванова и носил матовый цилиндр на удивление петербуржцам.
Весной 1911 года я зашел в редакцию «Гаудеамуса», эстетического студенческого журнала. Там печатала свои первые стихи начинающая поэтесса Ахматова, печатал, в числе многих других поэтов, и я. Впрочем, не впервые.
Журнал, где я впервые "испытал счастье" видеть себя в печати, — назывался пышней. — "Все новости литературы, искусства, техники, промышленности и гипноза".
После этих "новостей гипноза" «Гаудеамус» казался мне "храмом поэзии".
Редактировал его Вл. Нарбут, впоследствии автор книги «Аллилуйя», отпечатанной в синодальной типографии церковнославянским шрифтом и немедленно по выходе сожженной за порнографию.
В числе «надежд» «Гаудеамуса» называли поэта Скалдина. Его стихи все хвалили, о нем самом никто толком ничего не знал, — в редакцию Скалдин показывался очень редко и мельком.
Я пришел в «Гаудеамус» неудачно. Не было ни Нарбута, ни секретаря, ни посетителей. Это было досадно. Я хотел если уж не узнать о судьбе новой партии моих стихов, то, по крайней мере, наговориться вдоволь на литературные темы.
В приемной сидел только один посетитель, мне незнакомый. Он с любопытством посмотрел на мой кадетский мундир, я с почтением (может быть, это Сологуб — кто его знает) — на краснощекого господина в визитке и с онегинскими баками.
Я сел в угол и стал что-то читать. Нарбут не приходил. Я послонялся по всем комнатам редакции — никого. В передней висел телефон. Что ж — хоть позвоню секретарю.
Секретаря не было дома. На вопрос, кто звонит, я сказал мою фамилию, повесил трубку и пошел в приемную за шинелью.
— Позвольте узнать, — спросил меня краснощекий господин с баками, — вы автор стихов в прошлом No?
Я подтвердил, что я.
— Вот как приятно. Я как раз хотел просить Нарбута нас познакомить. Я — Скалдин…
………………………………………..
Я уже теперь не помню, как у нас пошла дружба, о чем мы вели бесконечные разговоры и летом писали друг другу письма на десяти страницах.
О поэзии главным образом, конечно. Но ко всем разговорам и письмам Скалдина, самым обыденным, примешивалась какая-то тень тайны, которую он, казалось, не мог мне, как не посвященному, открыть. Эту «мистику», исходившую от Скалдина, я почувствовал чуть ли не с нашей первой встречи, хотя ни в наружности, ни в характере Скалдина тоже ничего таинственного не было.
Человек он был расчетливый, трудолюбивый, положительный. Если Россия когда-нибудь действительно будет крестьянской республикой, такие, должно быть, будут в ней министры и по внешности, и по складу ума. Визитка от Калина — визиткой, и Эсхил в подлиннике — Эсхилом, но это так, постороннее, форма. Главное же, «свое», с Волги, где купцов рубят топором, и спасаются в скитах, и продают (вот те крест!) тухлую рыбу с барышом. Все это было собрано в Скалдине как в фокусе, хоть держался он европейцем, порой даже утрируя.
Иногда он вел странные разговоры.
— Ты дворянин?
— Дворянин. А что?
— А вот я мужик. Дед крепостным был.
— Ну так что ж, ты ведь не крепостной.
Молчание.
— Тебе не понять этого.
— Чего же?
— Важности для меня быть дворянином.
— Действительно, не понимаю.
— Видишь ли. Вот ты дворянин и, значит, имеешь герб и пятизначную корону. Тебе это не нужно, и герб у тебя дурацкий, сочиненный писарем в департаменте геральдики — какой-нибудь лафет и куча ядер… А вот есть люди, которым дан герб с тремя лилиями и соломоновой звездой, дан Господином за доблесть и подвиг, — и такой герб надо таить ото всех, потому что он лишен прав, которые всякий отставной генерал имеет.
— Это не тебе ли дан герб с соломоновой звездой?
— Может быть, и мне.
— Кем же?
— Этого я тебе сказать не могу.
— Хочешь, я тебя усыновлю, вот ты и украсишь моей короной свой замечательный герб?!.
Скалдин, усмехаясь, переводит разговор, и больше от него ничего нельзя добиться.
x x x
Не знаю, что влекло Скалдина ко мне, но меня, хотя я слабо отдавал себе в этом отчет, — в нем влекла именно эта недоговоренность. Я был очень молод, и все таинственное меня очень занимало. Свои недомолвки и намеки Скалдин «подавал» очень серьезно, и я, не без основания, подозревал, что он не только директорствует в своей фирме и пишет стихи, но ведет еще какую-то другую загадочную жизнь. Недавно я с упоением прочел Гюисманса и порой задумывался, не дьяволопоклонник ли мой друг…
Раз я пришел к нему на Каменноостровский, невзначай, довольно поздно вечером. Я долго напрасно звонил у двери его квартиры и собирался уже уходить, когда в передней послышались шаги. Открыл мне сам Скалдин. Он был во фраке, бледнее обыкновенного. Посмотрел он на меня как-то странно.
— Ты… вот не ждал. Подожди минутку. Я сейчас освобожусь. Я понял, что попал некстати, и хотел откланяться.
— Нет, ничего, напротив, я очень рад. Посиди здесь минуту, — он втолкнул меня в гостиную и притворил дверь.
Я посидел с четверть часа, — мне стало скучно. Я приоткрыл дверь в соседнюю комнату — столовую — и чуть не ахнул. Стол был накрыт необычайно богато, — я никогда не думал, что у Скалдина такое множество дорогой посуды, — каких-то вызолоченных блюд, кубков, графинов. На столе стоял большой канделябр с оплывающими красными восковыми свечами. Стол был накрыт, но еды никакой не было видно, только на золотом чеканном блюде лежало несколько кусков черного хлеба и в двух желтых бокалах немного воды или вина. Я с удивлением рассматривал все эти странные богатства. На всех вещах был выгравирован герб со звездой и лилиями, и без короны. Я хотел было приподнять крышку какого-то блюда, чтобы посмотреть, что там есть, как вдруг ступени лестницы на антресоль, где был кабинет Скалдина, заскрипели.
Любопытство посмотреть на даму Скалдина (что он принимал даму, я не сомневался), — было слишком сильно. Я нагнулся к замочной скважине. На мое счастье, ключа в ней не было.
…Скалдин подавал шубу маленькому худому старичку с длинной, совершенно белой бородой. Скалдин подал ему шубу, потом сам надел ему ботики, подал шапку и палку и низко, почти до земли, поклонился. Старичок сделал благословляющий жест и протянул руку. Скалдин ее поцеловал. Они вышли вместе. Должно быть, Скалдин провожал своего гостя до улицы…
Когда он вернулся, вероятно, по моему лицу было видно, что я подсмотрел. Скалдин подошел ко мне, взял за руку и крепко сжал.
— Я тебе друг, и как друга прошу никогда меня не расспрашивать, если ты что-нибудь видел или слышал. Все равно я тебе никогда ничего не могу рассказать. Приходи ко мне, пожалуйста, завтра или когда хочешь. Сегодня я нездоров… Извини меня…
На другой день я, оставив в стороне торжественные обещания, пристал к Скалдину, что называется, с ножом к горлу. Он только отшучивался в своей обычной манере.
— Ну, да, — у меня была дама.
— С седыми волосами!
— Напротив, с черными… Испанка.
— Я видел…
— Значит, плохо видел.
— А золотая посуда с гербами?
— Не золотая, а серебряная, и без гербов… — и он показал мне какую-то нюренбергскую кружку. — Ну, полно говорить о глупостях. Ты будешь завтра в балете?..
Любопытство мое так и осталось неудовлетворенным.
x x x
С годами дружба моя с Скалдиным несколько охладела. Таинственность его перестала меня занимать, — да и с того странного вечера он, кажется, ни разу больше не обмолвился ничем загадочным. Литературные интересы тоже нас не связывали, — дороги наши пошли в разные стороны.
Все же мы встречались и даже переписывались порой. В конце мая 1914 г. я написал Скалдину из деревни, прося его выслать мне какие-то книги. Зная, что он собирается за границу, я желал ему счастливого пути. В ответном письме было: "За границу я не еду. Опоздал. Теперь скоро будет война во всем мире и лет на десять…"
"Что за чушь ты пишешь, какая война?" — спрашивал я, но не получил ответа. — Скалдин уехал из Петербурга на Кавказ.
Началась война. Предсказание Скалдина пришло мне на память. Я разыскал его.
— Откуда ты знал, что будет война? — было первым моим вопросом при встрече.
— Откуда? Сам не знаю… Приснилось… Почудилось.
— Ты бы мог зарабатывать хорошие деньги предсказаниями, как мадам Тэб.
— Как мадам Тэб? Это и ты бы мог. Она в этих делах полная невежда.
x x x
Последняя наша встреча была странной. Был 1918 год. Я шел по Карповке вечером. Было темно и пусто. Навстречу мне попался человек. Шел он как-то покачиваясь, шляпа его была на затылке. Поравнявшись, я узнал Скалдина.
Я ему очень обрадовался, он, кажется, тоже.
— Где ты пропадал? — спросил я.
— Все время здесь, в Петербурге.
— Что ж тебя нигде не было видно? — Он покачал головой неопределенно.
— Так… где же теперь видеться… Зайдем ко мне, потолкуем, хочешь? Я здесь теперь живу.
Дом был очень роскошный, но швейцара не было, лифт не действовал, электричество не горело. Мы поднялись на третий этаж. Скалдин, не раздеваясь, вел меня через какие-то неосвещенные комнаты. Иногда он чиркал спичкой, и видны были зеркала, огромные вазы, картины, стекляшки старинных люстр. Квартира была, по-видимому, очень большой и пышно обставленной. Холод стоял нестерпимый. Наконец, — резкая перемена температуры — камин, полный пылающих поленьев. Скалдин зажег свечи в большом канделябре. Я сразу узнал его — это был тот самый канделябр…
— Узнаешь? — спросил Скалдин, с улыбкой, точно угадав мои мысли.
Он снял свое потертое пальто. В пиджаке он имел прежний вид, разве немного похудел.
— Хочешь чаю? Или вина, — у меня есть.
— Почему ты спросил "узнаешь?"
— Так ведь ты узнал канделябр. Зачем ломаться?
— Узнал. И, раз ты сам об этом заговорил, — может быть, ты теперь мне расскажешь, что все это значило?..
— Ну, что там рассказывать. — Скалдин помолчал. — Показать тебе, если хочешь, могу кое-что. А рассказывать нечего. Да ты и не поймешь все равно…
Мы выпили подогретого Нюи. Разговор наш как-то не выходил. Поговорили о большевиках, о том, что нет хлеба, о стихах, — обо всем одинаково вяло.
— Что же ты хочешь мне показать? — спросил я.
— А… ты об этом? Стоит ли? Во-первых, чепуха, я убедился. Да и ты мальчик нервный, еще испугаешься.
— Что за страхи? Ты меня мистифицируешь! Показывай, раз обещал.
— Ну, изволь. Только уговор — объяснений не требовать. Скалдин достал из ящика бюро простую глиняную миску.
Потом вышел, вернулся с кувшином воды и налил миску до краев. Потушил все свечи. Камин ярко горел.
— Ну, — Скалдин взял меня крепко за локоть, — гляди.
— Куда?
— В воду гляди…
Я с недоверием стал глядеть в воду. Вода как вода. Он меня морочит. Я хотел это сказать, но вдруг мне показалось, что на дне миски мелькнуло что-то вроде золотой рыбки. Скалдин крепче сжал мой локоть. — Гляди! — В воде снова что-то мелькнуло, потом, как на матовом стекле фотографического аппарата, обрисовались какие-то очертания, сначала неясно, потом отчетливей… Я вздрогнул. — Это столовая Скалдина в его старой квартире.
Стол накрыт, как в тот вечер, — золотая посуда, цветы, канделябр с оплывшими свечами. И я стою в дверях, подхожу к столу, осматриваюсь, трогаю крышку блюда…
…Резкий свет, и все пропало. Это электрическая станция на радость (и на беспокойство — вдруг обыск) советским гражданам включила ток. Огромная люстра на потолке засияла всеми свечами.
— Тсс… — остановил меня Скалдин. — Помни уговор. Потерпи. Другой раз я покажу тебе что-нибудь поинтереснее.
Но не только что «поинтереснее», но и самого Скалдина мне увидать не удалось. Через два дня я получил от него записку: "Не приходи ко мне, у меня на квартире засада, из Петербурга приходится удирать…"
Примечания
1
У раннего часа — золото во рту (т. е.: Кто рано встает, тому Бог подает.).
(обратно)2
Фраза имеет двойной смысл: "Вот хозяйка Собаки" и "Вот собачья любовница" (фр.).
(обратно)3
Что это за граф, Андрей? (фр.).
(обратно)4
Не знаю (фр.).
(обратно)5
Очаровательно, очаровательно… (фр.).
(обратно)6
Да благословит нас Господь (фр.).
(обратно)7
Множество светских людей! (фр.).
(обратно)



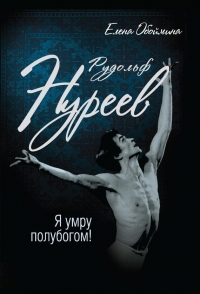


Комментарии к книге «Петербургские зимы», Георгий Владимирович Иванов
Всего 0 комментариев