Олег МИХАЙЛОВ СУВОРОВ
Моим однокашникам и офицерам-воспитанникам Курского суворовского военного училища
ГЛАВА ПЕРВАЯ ЮНОСТЬ
1
В лето одна тысяча семьсот сорок второе, числа двадцать девятого месяца апреля, на пятый день празднования своей коронации в Москве, дочь Петра Первого Елизавета готовилась торжественно отправиться из Кремля в зимний Аннингоф на Яузе. С семи пополуночи знатные особы, определенные к церемонии, уже собрались на Ивановской площади в каретах цугом. Прочие персоны загодя отправились в зимний ее величества дом и ожидали процессию там. В числе их был и Василий Иванович Суворов, находившийся при штатских делах в Берг-коллегии в чине полковника. Пользуясь тем, что строгий прокурор все эти дни был занят в бесчисленных церемониях, его двенадцатилетний сын Александр с самого утра убегал из дому, не слушая наставлений мамаши Евдокии Федосеевны.
Чуть свет забежал он в людскую, где под тулупом сладко спал его сверстник Ефимка, сын истопника Ивана.
— Ефим, слышь, Ефим, — нетерпеливо тряс его Александр, — ты что, уговор забыл — царицу идти глядеть?..
Со сна Ефимка вскочил, бессмысленно тараща глаза под рыжими ресницами, стирая с конопатого лица невидимую паутину. Похлебали вчерашнюю окрошку из одной деревянной миски — и айда!
Они уже побывали на колокольне церкви Николая Чудотворца, что в Покровском, и пособили знакомому звонарю, когда в восемь утра по сигналу Ивана Великого вся Москва отозвалась благовестом своих сорока сороков; оглядели четверо триумфальных ворот, специально воздвигнутых к коронации, — на Тверской у Земляного вала, в Китай-городе подле церкви Казанской Богоматери, на Мясницкой и, конечно, ближние к их дому, на Яузе.
По тракту от Кремля до Яузского дворца, чернея треуголками, стояли в параде лейб-гвардии Преображенский, Семеновский, Измайловский, Конный, а также армейские полки со своими музыкантами. Места для смотрения и окна домов были украшены повсюду сукнами, коврами, шелковыми и шерстяными материями. За зелеными и синими мундирами солдат пестрели по-весеннему разряженные толпы москвичей, ожидавших царский поезд.
Резвый и юркий Александр тянул за собой и увальня Ефимку. В невообразимой толчее они пробились к самой дворцовой решетке Лефортова. Отсюда, с берега Яузы, была хорошо видна вся пышная громада Москвы, с бесчисленными золотыми куполами, увенчанными крестами, с ее дворцами и усадьбами, утопающими в розовом и белом цветении вишен и яблонь.
В одиннадцать часов звон колоколов и пальба на бастионах из ста одной пушки возвестили о выступлении процессии. Путь ее лежал через Маросейку, Покровку и Немецкую улицу. По мере приближения царского поезда, все явственнее становились приветственные клики, беглый огонь в полках из мелкого ружья, звуки труб и литавр с барабанным боем.
Нетерпение все напиравшей и напиравшей толпы у Яузского дворца было так велико, что она прорвала заслоны, и дюжие гренадеры в украшенных плюмажами шапках с трудом оттеснили ее на отведенные для смотрения места. Потерявший Ефимку, щупленький Александр оказался зажатым меж здоровенных спин и плечей.
— Лезь под мышку, сыне, — пропуская его вперед, добродушно прогудел чернобородый дьяк с чернильницей у пояса.
Высунувшись, Александр увидал в конце дороги, идущей от нового моста через Яузу и уставленной пьедесталами с урнами и статуями, конных лейб-гвардии рейтар под их штандартом. За ними верхами ехали два полковника.
— Сие церемониймейстеры — Бейер и, толстый, что к нам ближе, князь Прозоровский, — объяснил бойкий дьяк.
Будущий тесть Суворова Иван Прозоровский важно сидел на богато убранной лошади, держа золоченый жезл в двуглавым орлом.
За церемониймейстерами медленно потянулись вереницы карет знатных особ: мелькание золоченых спиц в огромных колесах, арапы, карлы, пажи на запятках, перед экипажами лакеи и скороходы в островерхих шапках и пышных ливреях, по бокам гайдуки.
— Обер-ягермейстер, действительный камергер, обоих российских орденов кавалер и лейб-кампании поручик Разумовский… Генерал-аншеф Ушаков… Генерал-аншеф Салтыков… — бормотал, с наслаждением выговаривая чины и имена, дьяк. — Канцлер князь Черкасский… Генерал-фельдмаршал Трубецкой… Президент Военной коллегии князь Долгоруков…
За каретами ведены были служителями двадцать четыре лошади в богатых попонах из конюшни императрицы. Далее, за новыми церемониймейстерами, — трубачи, герольды и князь Сергей Голицын в окружении майоров и сержантов с кожаными мешками, метавший в толпу золотые и серебряные жетоны.
— Лови, дяденька! — крикнул Александр дьяку, но, изловчившись, схватил сам желтый блестящий кружочек. На одной стороне изображение короны, светящей из облака, на другой надпись: «Елисавет Императрица и Самодержица Всероссийская коронована в Москве 1742 года».
Мимо уже шли по двое шестьдесят лакеев двора, проезжали верхами камер-юнкеры и камергеры, шталмейстер и за ним — сверкающая золотом, под огромною короною карета, заложенная осмью белыми лошадьми…
— Царица! Матушка наша Елисавет! Петрова дщерь! — раздалось вокруг.
Александр поднялся на цыпочки и увидел в огромном окне, проплывавшем совсем рядом, среди пунцового бархата, тканного золотыми цветами, крупную фигуру императрицы, одетой в епанчу или легкую мантию, и под блистающей бриллиантами короною — круглое большеглазое лицо. Он уже знал за собой эту способность мгновенно схватить и запомнить — содержание ли книжной страницы, встреченного ли человека, в его памяти сразу же запечатлелась эта русская красавица, которую только портил слегка приплюснутый толстый нос. Елизавета поэтому не позволяла писать себя в профиль. Вообще же живописцам указывалось «делать нос государыни подлиннее…». Процессию замыкали кареты статс-дам, жен вельмож, камер- и гоффрейлин.
У въезда во дворец, перед триумфальными воротами, Елизавету встретили ожидавшие ее знатные персоны, генералитет и шляхетство. Царица удалилась с гостями в зимний дворец, выкрашенный желтой охрой, с белеными наличниками и фронтоном. Когда она села за стол, на площади перед дворцом взметнулись вверх фонтаны белого и красного вина, сняты были с рундуков покрышки, под коими лежали жареные быки, поросята, окорока, куры и утки.
Александр, нашедший наконец в толчее своего Ефимку, бросился было к угощению, но в дворцовых воротах им преградил путь гренадер.
— Пусти, солдат! — гневно крикнул маленький Александр. — Я сын прокурора Суворова, а это мой дворовый.
— Ишь ты, барчонок востроносый, — удивился гренадер, давая дорогу подростку, — тебя-то я пущу, а вот в подлом платье входить сюда не велено. — И он пихнул Ефимку назад в толпу.
…Когда стало смеркаться, небо над дворцом озарилось шутихами, ракетами, огненными снопами, загорелось вензловое имя ЕЛИСАВЕТ между двумя орлами под короною.
Ликовала Россия, которой правление Анны Иоанновны виделось дурным сном. Покойная императрица окружила себя немецкими дворянами из Курляндии, а ее фаворит, митавский конюх, грубый и тупой герцог Бирон, прямо преследовал все русское. С 1730 года начались аресты, пытки, казни русских дворян по подозрению в заговоре против антинационального правительства. Особое недоверие у Бирона и близких к трону иностранцев вызывали созданные Петром I Преображенский и Семеновский гвардейские полки. Желая ослабить их роль, Бирон и честолюбивый датчанин на русской службе Миних сформировали в 1730 году новый, лейб-гвардии Измайловский полк, почти все офицеры которого состояли из остзейских немцев.
Восшествие на престол Елизаветы Петровны означало конец немецкому засилью — поэтому так радовались, приветствуя царицу, дворяне, купцы, чиновники, лица духовного сана. Впрочем, многомиллионному крепостному крестьянству, «подлому люду», переворот 25 ноября 1741 года не сулил ровно никаких перемен к лучшему…
Через неделю в доме Суворовых, что в Покровском, с утра царило необычное оживление. В трапезную носились меды и пива, соленья, варенья, жаренья. Скуповатый хозяин на сей раз не жалел ничего. Евдокия Федосеевна в широком сарафане, скрывавшем ее тяжелый живот, самолично спускалась в погреба и подклети, давая указания дворне. Разбитной, нагловатый малый, подававший к столу квас, на вопрос старухи няньки коротко ответил:
— И, баушка, черен чисто галка! Старуха пожевала сухими губами.
— Так это, Сидор, ён…
— Кто? — притворно удивился Сидор.
— Ну да ён!
— Какой такой ён?
— Будто не знаашь… — Она мелко закрестилась и неохотно пояснила: — Да черт!
Знаменитый царский арап Абрам Петров Ганнибал был давним, с детских лет, знакомцем Василия Ивановича. Крестник Петра Великого, он в страшную пору бироновщины отсиживался на лифляндской мызе своей жены Христины-Регины и лишь после падения любимца Анны Иоанновны был принят на службу в Ревельский гарнизон подполковником. Елизавета не позабыла «птенца гнезда Петрова» и 12 января 1742 года пожаловала Абрама Ганнибала прямо в генерал-майоры.
Во время обеда гость рассказывал о праздничных днях в Ревеле, где уже он был обер-комендантом:
— В высокий день коронования ее императорского величества собрал я ополудни господ из генералитета и от флота, равным же образом штаб и обер-офицеров от артиллерии, инженерного корпуса и городского гарнизона, также ландратов герцогства Эстляндского и прочих разных персон. По окончании стола начался бал, который продолжался до полуночи… Перед моею же квартирою представлена была следующая иллюминация: ее императорское величество, на коленях молящаяся, а сверх ее с небес сияние с надписью: «Жив Бог, и жива душа моя». Пред Елисаветою на троне императорская корона и скипетр с надписью: «Богом и родом Петра Великого избранна, свыше Елисавет России данна». А ты, любезный камерад, к каковым ныне делам приставлен?
Рядом с крупным темнокожим генералом без парика и с курчавыми волосами голубоглазый Суворов, маленький и неказистый, выглядел еще плоше.
— Государыня соизволила назначить меня прокурором в Генерал-Берг-Директориум.
— Постой, а где же твой первенец? Суворов махнул рукою:
— Он у меня сущий чудак — гостей дичится и чтением до излишества занят.
— Сие похвально. А к чему склонность имеет?
— Всего более к гиштории и военной науке. Представь, вижу у него «Записки принца Евгения» о нынешних войнах и осадах крепостей. Спрашиваю его: «Что делаешь?» — «Читаю, батюшка». — «О мой друг, книгу ту читать тебе еще рано». — «Но почему же? — говорит он. — Я ее довольно понимаю и разумею, и она мне очень полюбилась». — «Ну хорошо, мой друг, — отвечаю я, — ежели так, то, пожалуй себе, читай». Он же мне: «Я ее уже вдругорядь читаю».
— Вот как? Любопытно.
— Все просит, чтобы записал его в гвардию. А я боюсь — здоровьем он слаб. Пригоден ли к военной службе?
— Дозволь же мне на него взглянуть…
Двенадцатилетний Александр по обычаям того времени поцеловал черную руку генерала. Убранство светелки было бедным: в углу деревянная кровать с жестким тюфяком и кожаной подушкой, над кроватью образ с засохшею вербой и фарфоровым яичком, у окна стол, несколько книг в свиной коже, ландкарты и планы битв.
На вопросы мальчик отвечал смело, толково, не смущаясь необычного гостя — чернолицего, с большими красными губами и резко блестевшими белками глаз и зубами. Бегло проэкзаменовав Александра по разным наукам, особливо инженерному делу (которое он знал в совершенстве, так как учился в специальной школе в Меце), Ганнибал пришел в восторг. Разговор завершился любимой для Абрама Петрова темой — воспоминаниями о покойном императоре, полководце и преобразователе армии российской.
Блаженной памяти Петр Алексеевич самолично написал в дополнениях к уставу, чтобы офицеры солдат отечески содержали, понеже ни единый народ в свете так не послушлив, яко российский… Вернувшись к отцу, Ганнибал на его немой вопрос ответил:
— Петр Великий непременно, поцеловал бы мальчика в лоб за настойчивые его труды и определил бы обучаться военному делу…
— Я уже и сам к тому склоняюсь, — вздохнул отец. — Может, позвать его сюда?
— Нет, камерад, — остановил его Ганнибал, — не зови: его беседа лучше нашей. С такими гостями, как у него, он уйдет, и, поверь, далеко…
2
На берегу Яузы, против потешной крепости Прессбург, заложил Петр Преображенскую и Семеновскую слободы для первых гвардейских полков. В 1689 году в Преображенской слободе был срублен Съезжий двор (впоследствии названный Генеральным), место управления регулярной русской армией. Указ Петра от 8 ноября 1699 года предлагал тем, «кто хочет поступить на службу, явиться в Преображенское в солдатскую избу…». Указ был подписан генеральным писарем Преображенского полка Иваном Суворовым.
Молодой царь не раз запросто бывал в его доме, что в Преображенском, и самолично крестил его сына Василия. В 1722 году, через семь лет после смерти отца, четырнадцатилетний Василий Иванов Суворов был определен в денщики к Петру I. «При сем государе, — сообщает А. В. Суворов, — он начал службу в должности денщика и переводчика и, по кончине его, императрицею Екатериною Первою выпущен был лейб-гвардии от бомбардир-сержантом и вскоре пожалован прапорщиком в Преображенский полк, где он службу продолжал до капитана…»
О нем писали вскользь и словно нехотя. Большинство биографов Александра Васильевича Суворова подчеркивало в его отце незначительность личности и заурядность судьбы. Такой человек, по их мнению, не мог оказать сколько-нибудь заметного влияния на знаменитого сына. И выходило, что генералиссимус Российских войск был обязан ему разве что некоторыми частными особенностями характера — расчетливостью и бережливостью, переходящими у В. И. Суворова в скупость. Огромная тень, которую отбрасывала фигура сына, заслонила и поглотила отца.
Между тем Василий Иванович Суворов был личностью незаурядной, сыгравшей заметную роль в нескольких важных для России исторических эпизодах. Один из младших «птенцов гнезда Петрова», он под конец жизни достиг высокого положения — был генерал-аншефом, членом Военной коллегии, кавалером Андреевского ордена, орденов Святой Анны и Александра Невского, сенатором.
Это был дворянин не очень знатного рода. По существовавшей моде выводить свой род непременно от иностранцев Суворовы называли своим предком покинувшего в 1622 году Швецию Сувора, но исторические данные никак не вяжутся с этой легендой. Предки Суворовых упоминаются уже в царствование Ивана Грозного, когда Михаил Иванович Суворов служил четвертым воеводой правой руки войск в Казанском походе 1544 года и третьим воеводой большого полка в шведском походе 1549 года.
Место царева денщика не было при Петре ни «подлым», ни тем более лакейским и предполагало обязанности скорее адъютантские. Можно даже сказать, что служба эта была школой, через которую прошли многие известные лица. В сем звании начинал «полудержавный властелин» Меншиков, а также Потемкин и Румянцев — родоначальники исторических фамилий.
В конце 20-х годов ставший уже прапорщиком Суворов женился на девице Евдокии Мануковой. Оба гвардейских полка — Преображенский и Семеновский — в 1728–1730 годах безотлучно стояли в Москве, в своих слободах на Яузе. Евдокия получила в приданое от отца, вице-президента Вотчинной коллегии, каменный дом, расположенный в начале Арбата, неподалеку от церкви Николая Явленного.
Здесь 13 ноября 1729 года, через четыре года после кончины Петра Великого, родился Александр Васильевич Суворов.
Карьера его отца резко затормозилась после воцарения в 1730 году Анны Иоанновны. Натура глубоко национальная, В. И. Суворов в пору бироновщины, очевидно, старался уделять как можно меньше внимания службе, хотя и не скрылся в деревню, как это сделали многие другие. 16 февраля 1730 года он был пожалован в подпоручики Преображенского полка и только 27 апреля 1737 года — в поручики. В 1738 году, состоя в полевых войсках прокурором, Василий Иванович был командирован вместе с гвардии поручиком Федором Ушаковым в Тобольск для производства следствия над опальным князем И. А. Долгоруковым, которое по тогдашнему обычаю производилось с «пристрастием», то есть с помощью пытки. В Сибири Суворов пробыл с лишком год.
Вообще же, в недоброе для России царствование Анны Иоанновны, В. И. Суворов больше занимался хозяйством, приумножая все последующие годы свое недвижимое и оставив сыну уже крупное состояние. Помещик по тем временам небогатый, но состоятельный, он владел имениями с тремястами крепостных «мужска полу» в Пензенском, Переяславль-Залесском и Суздальском уездах.
Суворов-юноша за чтением книги.
Детство Александра Васильевича Суворова проходило в деревне, а затем в московском доме, что в Покровской слободе (дом на Арбате был продан в 1740 году). Ребенок был ростом мал, хил, тощ, дурно сложен и некрасив, зато резв, подвижен, сметлив. Он рос одиноко, так как других детей у Суворовых в ту пору не было. Мальчик присутствовал при беседах отца с друзьями и знакомыми, и сам Василий Иванович занимал сына рассказами о недавнем прошлом, о времени Петра I и проведенных им войнах.
Когда маленький Саша научился читать, то нашел в библиотеке отца книги военного и исторического содержания, возбудившие его особый интерес. Конечно, хорошей библиотеки у скуповатого В. И. Суворова быть не могло, книги попадались случайные, к тому же по изложению трудные для детского восприятия. Маленького книгочея все это нисколько не смущало.
Как мы помним, в юности своей Василий Иванович Суворов находился при особе Петра не только в качестве денщика, но и переводчика. Незаурядные способности Суворова-старшего к языкам были отмечены много позднее Екатериной II, отозвавшейся о нем как о человеке «весьма образованном», который «говорил, понимал или мог говорить на семи или восьми мертвых или живых языках». Блестящие лингвистические способности А. В. Суворова, надо полагать, были унаследованы от отца. Мальчик скоро начал бегло читать по-французски.
Среди его детских героев был Карл XII, король-юноша, неустрашимо пускавшийся в самые рискованные военные авантюры. Безрассудства его стали ясны подростку позднее, когда под влиянием отца он обратился к исполинской фигуре Петра. Всю жизнь Суворов ощущал себя исполнителем его дела, видел в нем тип национального вождя, в лихолетье Павловых гонений на все русское утверждал, что «кокард» Петра Великого «я носил и не оставлю до кончины моей».
Уже в отроческие годы Суворов поставил себе примером «героя древних времен». Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Конде, Тюренн, принц Евгений Савойский, маршал де Сакс — полководцы, превращавшие войну в искусство, поочередно сменяли друг друга, разгорячая воображение мальчика. Иногда, отложив книгу, он садился на резвого коня и мчался невзирая на непогоду, дождь и ветер. Он любил купаться, играть в бабки и лапту, лазить по деревьям. От природы болезненный, подросток принялся закалять свое здоровье, изнуряя себя физическими упражнениями; даже в холод носил легкую одежду, отчего часто простужался и хворал. Отец не на шутку тревожился, усматривая в поступках сына одни странности. Уже тогда стали называть его чудаком. Василию Ивановичу надо было, однако, думать о будущем сына.
Известно, что Петр I обязал служить всех дворян, причем запретил производить в офицеры тех, «которые с фундаменту солдатского дела не знают». Нашли средство обходить дух закона, сохраняя его букву. Знатные дворяне записывали детей в гвардию при рождении или в годах младенческих капралами и сержантами (в 70-х годах, например, в одном Преображенском полку числилось до тысячи таких сержантов). Чины «на вырост» шли и в армии.
Суворов-старший был слишком практичен, чтобы не воспользоваться таковой привилегией. Офицер Преображенского полка, он к тому же имел знакомства и связи в гвардии и все-таки не сделал того, что почиталось в ту пору за норму. Причина заключалась не в одной телесной слабости маленького Суворова. Очевидно, в пору бироновщины, когда свирепствовала страшная Тайная канцелярия, отец вообще стремился держаться в тени, на службу не напрашиваться (но и от службы не отказываться) и просьбами никого не беспокоить.
Все переменилось для Суворова-старшего лишь после вступления на трон Елизаветы Петровны.
3
23 октября 1742 года «недоросль Александр Васильев сын Суворов» был зачислен в Семеновский полк солдатом. Сам полк этот Василий Иванович избрал скорее всего потому, что место его расположения — Семеновская слобода — находилось на берегу Яузы, как раз напротив дома Суворовых.
Отрочество Александра протекало в обстановке умеренного достатка, учебы, чтения, энергичной самостоятельной работы — отцу, занятому службой, было недосуг уделять мальчику много внимания: мать умерла вскоре после рождения в 1744 году младшей дочери Анны. Когда Суворову исполнилось пятнадцать лет, отец предпочел оставить его дома и 11 декабря 1744 года представил оставшейся в Москве канцелярии Семеновского полка обязательство в том, «что находящийся в оном полку 8 роты солдат Александр Суворов имеет обучиться во время его от полку отлучения, то есть генваря по первое число тысяча седьмь сот сорок шестого году, на своем коште указным наукам, а именно: арифметики, геометрии, тригонометрии, артиллерии и часть инженерии и фортификации, тако ж из иностранных языков да и военной экзерциции совершенно, и о том должен я, сколько от каких наук обучится, через каждые полгода в полковую канцелярию для ведома рапортовать». Документ этот еще раз подтверждает если не обширное, то, по крайней мере, систематическое образование, полученное Суворовым в домашних условиях.
Он познакомился с трудами греческого историка Плутарха и записками римского полководца Цезаря, обратился к серьезной военной литературе — прочитал «Трактат о военном искусстве» австрийского военачальника Раймунда Монтекуккули, изучал историю и географию по Гюбнеру и Ролленю, а начала философии по Вольфу и Лейбницу. Артиллерию и фортификацию Суворов проходил под руководством отца, возможно переведшего по указанию Петра «Главные основы фортификации» Вобана. Тогда же помимо французского языка он освоил и немецкий, хотя и допускал в них неправильности. «Впрочем, — справедливо говорит биограф Суворова А. Петрушевский, — неправильность эта заключается и в его русском языке». По мысли Петрушевского, она выявляет живой темперамент, нетерпеливость и энергию Суворова, не любившего останавливаться на мелочах и обладавшего, по собственному выражению, «быстронравием». Это «быстронравие» еще в юношеские годы соединялось у Суворова с набожностью, строгим соблюдением православных обрядов, доскональным знанием Библии и всего «церковного круга».
Несомненно, что молодой Суворов самым серьезным образом изучил все, что требовалось для офицера, еще до фактического поступления в полк. Он не мог пройти мимо уставов Петра I, обобщивших преобразования и огромный военный опыт русской армии начала XVIII века. Убежденный патриот и воспитанник Петра, Суворов-старший, безусловно, сделал все от него зависящее, чтобы привить сыну любовь к своему отечеству и преклонение перед великим преобразователем России.
Получив в наследство от предыдущего столетия две сложнейшие проблемы — турецкую и шведскую, Петр решил только одну из них, утвердившись на Балтийском побережье. В победах над шведами выковалась регулярная русская армия, ставшая одной из сильнейших в Европе. Из первых опытов на Яузе и Плещеевом озере со сказочной быстротой вырос могучий военный и торговый флот. Россия вошла в Европу, по словам Пушкина, «как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек».
Созданная Петром регулярная армия прежде всего была национальной, пополнявшейся в основном рекрутскими наборами из крестьян и опиравшейся на однородный тыл, в то время как на Западе вплоть до конца XVIII века солдаты набирались из наемников, преимущественно из чужестранцев. В петровском «Кратком обыкновенном учении» 1700 года и особенно в знаменитом «Уставе» 1716 года молодой Суворов нашел начатки, определившие все дальнейшее развитие военного искусства XVIII века. Характерно, что уже в «Кратком обыкновенном учении», являвшемся строевым уставом пехоты, совершенно отсутствуют правила показного «штукмейстерства», усиленно применявшиеся в западных армиях. Описанные в нем приемы призваны выработать у каждого солдата четкость и быстроту перестроения для ведения огня, сноровку при стрельбе, наконец, ловкость и твердость в рукопашном бою, почти не применявшемся в тактике зарубежных армий.
Разбирая ход Северной войны со шведами, молодой Суворов мог проследить, какие блестящие результаты принесло обучение петровской пехоты рукопашному бою. Так, 28 сентября 1708 года при деревне Лесной Петр разгромил генерала Левенгаупта. После нескольких залпов артиллерии русская пехота бросилась в штыки сперва на левое крыло шведов, а затем и по всему фронту. Когда противник, не выдержав штыкового удара, стал отходить, Преображенский полк прорвался в тыл и занял полевое укрепление — Вагенбург, отрезав шведам путь к отступлению. 27 июня 1709 года под Полтавой штыковой бой разгорелся во второй половине сражения, когда обе армии, развернутые одна против другой, на равнине, почти одновременно пошли в атаку. Шведская пехота, почитавшаяся лучшей в Европе, была опрокинута и обращена в бегство.
Новым для своего времени было и высказанное в «Учении» требование «каждому солдату стрелять особливо». Если в западных армиях настойчиво добивались скорострельности, то Петр обращал внимание, прежде всего, на прицельную стрельбу из тогдашних гладкоствольных, с кремневым замком фузей, что резко повышало эффективность огня.
Создав регулярную кавалерию взамен небоеспособного дворянского ополчения, Петр утвердил в 1702 году «Краткое положение при учении драгунскому строю». Как и в пехотном уставе, главное значение отводилось и тут владению холодным оружием. В 1706–1707 годах конница получила вместо шпаг палаши. Драгун обучили рубить, а не колоть, как это делали шведы. В Полтавском сражении одновременно с рукопашным боем пехоты драгуны на флангах стремительно атаковали противника на полном аллюре, немало способствуя победе. На вооружение драгунского полка Петр ввел и артиллерию, опередив в этом Европу на пятьдесят лет.
Весь уже проверенный боевой опыт Петр I свел в «Уставе воинском» 1716 года, по которому учился молодой Суворов и который оставался официально действующим законом до издания в 1812 году «Учреждения для управления большой действующей армии». В основу своей тактики Петр, как известно, положил линейную, принятую на протяжении XVIII века всеми европейскими армиями. На поле боя войско вытягивалось в длинные линии, лишавшие его маневренности, но позволявшие зато использовать наибольшее количество ружей. В линейную тактику Петр, однако, внес так много нового и значительного, что уже при нем русская регулярная армия оказалась впереди наиболее организованных европейских армий.
Правда, новаторские идеи Петра были забыты при Анне Иоанновне. В эти годы его строевые уставы были постепенно вытеснены «Экзерцицией пешей», или прусской, и «Экзерцицией конной» Миниха, узаконившими, плац-парадный характер обучения войск, внедрение палочной дисциплины и усиление жестоких телесных наказаний. Даже после восшествия на престол Елизаветы, когда велено было «экзерциции чинить во всем по прежним указаниям, как было при жизни государя императора Петра Великого, а не по прусской», восстановление прогрессивных традиций в армии шло черепашьим шагом. В полной мере это удалось сделать много позже, усилиями П. А. Румянцева и А. В. Суворова.
Продолжая свое обучение «на домашнем коште», юный Суворов получил 25 апреля 1747 года первое повышение — был произведен в капралы. В декабре того же года он покинул Москву и отправился в Петербург. С ним ехали двое крепостных — Ефим Иванов и Сидор Яковлев.
Так открылась первая страница более чем полувековой военной службы Суворова.
ГЛАВА ВТОРАЯ СУВОРОВ СОЛДАТ
1
Имя салдата просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть, от вышняго генерала даже до последнего мушкетера, коннаго и пешаго.
«Устав воинский Петра I».
Восемнадцатилетний капрал остановился у своего дяди — поручика лейб-гвардии Преображенского полка Александра Ивановича Суворова, в его офицерском доме, в расположении 10-й роты Преображенского полка. Здесь и прожил Александр в продолжение всей своей солдатской службы.
До явки в полк оставалось несколько дней, и Александр отправился поглядеть город, который дядя вызвался ему показать. В молодой столице все напоминало о Петре, все было обязано своим рождением кипучей деятельности преобразователя России. Суворов привык к Москве, к ее разнообразию и неправильностям, бесчисленным золотым куполам, вольготно раскинувшимся дворцам вперемежку с деревенскими постройками, к ее улицам, выложенным бревнами или досками, ее громадности и азиатской пестроте. Петербург не мог не поразить его обилием камня, разбегом архитектурных линий, открытыми площадями и речными просторами.
С набережной в дымке хмурого декабрьского дня открылся дивный вид на остуженную Неву и Петропавловскую крепость с гигантским золоченым шпилем-иглой, на торжественный строй зданий Васильевского острова.
— Там дворец Меншикова, — махнул черной форменной треуголкой Александр Иванович. — Учрежден в нем Минихом шляхетский корпус наподобие того, какой имеется в Берлине. Ныне именуется Сухопутный. Теперь смотри — множество одинаких домов, как бы под одною зубчатою кровлей. Сие Двенадцать коллегий. Когда достроят последнюю, занимать будет фронтом без малого версту…
— А это, дядюшка? — юноша указал на растянутое вширь трехэтажное здание с многоярусной башней, увенчанной золотым глобусом. — Неужто Куншткамера?
— Она. Выставлены тут заспиртованные уроды-младенцы, диковинные звери, человеческие кости, редкостных пород камни, необыкновенные ружья, посуда, медали. А также тело удивительного великана, здесь же до кончины своей проживавшего, по имени Буржуа…
— Нельзя ли нам внутрь зайтить?
— Куншткамера сейчас закрыта. Здание сие совсем недавно, пятого декабря, горело, причем многие знатные вещи погибли…
Перейдя деревянным Зеленым мостом реку Мью, Суворов-младший увидел императорский дворец, охраняемый гвардейцами, — место пребывания Елизаветы. Дворец был из камня и дерева, невысокий, но обширный, с пристройками и флигелями. Солдаты-преображенцы четко отдали комплимент — приветствие своему поручику.
— До седьмь сот двадцать осьмого года дом сей принадлежал богачу и генерал-адмиралу Апраксину, — пояснил дядя Александру, — и был заново отстроен и расширен по указанию покойной государыни Анны Иоанновны…
От нового каменного здания Адмиралтейства с семидесятиметровым вызолоченным шпилем тремя лучами расходились Невская, Вознесенская перспективы и Гороховая улица. На Невском меж двухэтажных голландской архитектуры дворцов строились новые, во французском стиле, иные в три этажа, с небольшим окном полуциркульной дугой сверх потолка во фронтоне.
Семеновские казармы находились на окраине Петербурга, «позади Фонтанки, за обывательскими дворами», как значилось в указе императрицы Анны Иоанновны от 13 декабря 1739 года. За прошедшие годы Семеновская слобода уже почти отстроилась, имея в центре деревянную церковь Богородицы, вблизи нее — полковой двор и учебный плац. Слобода была разбита на перспективы и правильные улицы; каждой роте отвели свой участок, на котором ставились достаточно просторные дома или связи. Многие из солдат-гвардейцев жили семьями, завели собственные дома и огороды. В казенных же связях помещалось по четыре человека на светлицу.
Облачившись в зеленый солдатский мундир с одной капральской нашивкой, Суворов начал свою каждодневную действительную службу в 3-й роте семеновцев. Больше всего хлопот доставляла ему коса. Крепившаяся на проволоке, ленточная, она должна была быть крепко ввязана в собственную волосяную косу с бантом. С висков полагалось опускать по букле, расчесанной и хорошо завитой на трех бумажках. В полковом и церковном строю, на караулах и во всякое время в городе волосы требовалось содержать напудренными. Трудно было сразу приноровиться ко всем тонкостям тогдашнего солдатского туалета, не уступавшему по сложности дамскому.
Наступил 1748 год, а вместе с ним празднества и новые царицыны милости дворянскому воинству. В канун Нового года указом Елизаветы Петровны были произведены в очередные чины многие офицеры, и в их числе Александр Иванович Суворов, получивший звание капитан-поручика. Это был заурядный гвардейский офицер, обязанности в полку исполнявший с прохладцей, весь ушедший в семейные заботы, воспитание своего девятилетнего сына Федора. Подобно многим другим гвардейцам, Александр Иванович не имел особого призвания к военному делу и, понятно, мало чем был полезен жадному до новых знаний племяннику. Разве что он мог как-нибудь на досуге за тавлейной — шахматной — доской поведать о блестящих походах 1742 и 1743 годов шотландца на русской службе фельдмаршала П. П. Ласси, об эпизодах недавней войны со шведами, коей был участником:
— Потеряв города Вилманстранд и Фридрихсгам и оставя все княжество Финляндское, шведское войско принуждено было ретираду получить. Война им была весьма разорительна и окончена миром, к удовольствию России. И оному первому шведского войска предводителю генералу Левенгаупту и генералу при нем Буденброку в Стекголме парламентом, почитая слабые их поступки, публично оным бедным генералам головы отсечены…
С воцарением Елизаветы и заключением в 1743 году выгодного мира в Або, по которому России отходила часть Финляндии и граница со Швецией отодвигалась по реке Кюмени, о войне, кажется, не помышлял никто. Будучи прямой наследницей Петра Великого, Елизавета, однако, не обладала ни его государственным умом, ни его военными наклонностями. Достаточно того, что она была вполне русской монархиней, пресекла бироновщину, сделала первый шаг к уничтожению пыток при допросах. Миновала тяжелая пора репрессий — общая амнистия вернула в семьи жертвы Бирона.
Провозгласив возвращение к традициям Петра, Елизавета в то же время сильно расширила привилегии дворянства, щедро раздавала земли и крепостных в собственность, ввела указом 14 марта 1746 года исключительное право дворян владеть землей и крепостными, а затем узаконила гнусную торговлю людьми.
В 1748 году императрице было тридцать девять лет. Доверив штурвал государства канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину и братьям Шуваловым, она, как и в ранней молодости, обожала балы, маскарады, танцы, наряды — гардероб ее насчитывал более тридцати тысяч платьев.
Роскошь и блеск дворца, подражавшего Версалю, стали удивлять самих иностранцев. Щегольство костюмами, головными уборами, драгоценными камнями не знало пределов. Нравы двора смягчились, появилась любовь к изнеженности, в придворных залах впервые распространилась атмосфера куртуазного, любовного флирта. На балах и празднествах Елизаветы царило обожание женщины, которой уже не была свойственна робость первых петровских ассамблей. Частые банкеты предшествовавшего царствования с обильными возлияниями сменились куртагами — приемами, где играла «обширная музыка итальянской капели», или «новоприезжие буфон с буфонкой и прочие итальянцы пели разные арии», или танцевали «приезжие из Италии и российские донсоры и донсорки». Увеселения при дворе следовали одно за другим почти ежедневно. Редкий день в камер-фурьерском журнале не отмечен куртагом, балом или театральным представлением.
Беззаботность и веселье, царившие при дворе, не могли не сказаться на состоянии русской армии, а гвардии в особенности.
Рапорт сержанта А. В. Суворова.
Юный Суворов немало изумился, не видя вокруг той суровой дисциплины и требовательности петровских времен, о которых так много рассказывал ему отец. Свои воинские обязанности гвардейцы выполняли из рук вон плохо. Солдаты-дворяне самовольно отлучались с постов, учиняли попойки и драки, присылали на тяжелые работы вместо себя своих крепостных. А так как в Семеновском полку солдат-дворян было около половины, то их помещичьи привычки и наклонности сделались причиною множества разного рода льгот и послаблений, к числу которых относилось и разрешение жить вне черты расположения части.
В обычный мокрый петербургский день, когда не разберешь, зима это или осень, дежурный по полку вывел семеновцев на главный плац для проведения строевых учений. Поставленные в каре или четырехугольник солдаты недовольно переговаривались, браня гнилую погоду. Дежурный подал команду «Смирно!» и бросился к полковой избе, откуда уже выходили господа полковые штапы во главе с командиром семеновцев генерал-аншефом Степаном Федоровичем Апраксиным, в пышной шубе поверх расшитого золотыми лаврами мундира. Сняв форменную шляпу, дежурный доложил о готовности полка к проведению экзерциций.
Вельможа задумчиво поднял толстое лицо к сочащемуся небу, вздохнул и неожиданно зычно скомандовал:
— Слушай приказ! Начать экзерциций на сей неделе… — Он передохнул, поправил на брюхе золотой шарф и решительно закончил: — Ежели на сей неделе будет благополучная погода. — И, тяжело повернувшись, пошел в избу. На крыльце Апраксин остановился: — А свободное время употребить на полковые работы…
Слобода продолжала отстраиваться, и хозяйство семеновцев не вполне еще наладилось.
Возвращаясь в казарму, долговязый солдат из дворян Петр Кожин кивнул Суворову:
— Знамо дело: работа не волк, в лес не уйдет…
— Ты-то чего радуешься, — ответил Суворов, — пойдешь, братец, в команду лес вырубать, твой черед.
— Нет уж, господин капрал, — усмехнулся Кожин, — не пойду. Или неведом тебе приказ, так пойдем покажу… «Нижеписаных рот солдат, а именно… Прозоровского… Лихачева…»
Кожин долго водил пальцем по строчкам, отыскивая свою фамилию, ибо в грамоте российской силен не был:
— Вот! «…Третьей роты Петра Кожина… как на караулы, так и на работы до приказу не посылать, понеже оные, вместо себя, дали людей своих в полковую работу для зженья угля; того ради оных людей присылать сего числа пополудни во 2 часу на полковой двор…»
— Сколько ж у тебя с собой дворовых? — полюбопытствовал Суворов.
— Двадцать осемь душ, не считая женского полу, — охотно сообщил тот. — За господской головою живут, так надо ж и им хлеб отрабатывать…
Суворов все более убеждался в том, что положение солдат-дворян никак нельзя было назвать тяжелым. Унтер-офицеров же гвардии приравнивали к армейским офицерам как в служебном отношении, так и по значению их в обществе. На них возлагались серьезные поручения, они ездили за границу от Иностранной коллегии, командировались и в глубь России. Дворяне, даже рядовые солдаты, приглашались на высочайшие балы и маскарады.
— В машкераде, который по соизволению ея императорского величества назначен в будущую пятницу, быть всем знатным чинам и всему дворянству российскому и чужестранным фамилиям, кроме малолетних, в приличных масках и притом, чтоб платья пилигримского и арлекинского и непристойного деревенского, також и на маскарадные платья мишурного убранства и хрусталей употреблено не было, да и не иметь при себе никаких оружий… — Лейб-гвардии майор Никита Федорович Соковнин со значением оглядел ровные ряды солдат-дворян. — Того ради в ротах и заротной команде всем чинам объявить, и кто из дворян пожелает быть в том машкераде, о тех подать за руками командующих господ обер-офицерам в полковую канцелярию ведомости неотменно.
Стоявший на правом фланге взвода, рядом с капралом, долговязый Кожин толкнул локтем Суворова:
— В машкерад пойдешь? Суворов замотал головой.
— Экой ты, право, чудак. Да почему же не хочешь?
Кожин имел собственный выезд. Начальству даже приходилось ограничивать его в количестве запрягаемых в карету лошадей.
— Недосуг мне, да и к дамскому полу я склонности не имею…
— А ты слышал, что после бала будет разыгрываться кадетами на складной сцене русская трагедия «Хореф и Нарт»? Александр живо обернулся к Кожину, позабыв, что находится в строю:
— Изволь, братец, пойдем. Трагедию посмотрю, и с превеликим удовольствием…
В назначенный час Суворов в простой полумаске уже сидел в богатой карете Кожина, разодетого в немыслимый восточный костюм. Императорский дворец был иллюминирован разноцветными плошками, сиял тысячами свечей в хрустальных жирандолях, отражавшихся в венецианских зеркалах, сверкавших в драгоценных уборах знатных дам.
Суворов впервые оказался посреди великолепия дворцовых зал, затянутых алыми, пунцовыми, вишневыми и зелеными шелками, шитыми серебром и отделанными золотым позументом. В залах стояли резные золоченые стулья и банкетки из березы, ясеня и темного дуба. В тяжелых рамах красовались писанные маслом парсуны и картины на мифические сюжеты.
В потоке нарядных гостей Кожин чувствовал себя как рыба в воде, раскланиваясь со знакомыми масками, обращая особливое внимание, словно он искал кого-то, на молодых женщин — они носили на платьях, у выреза, специальный бант для интимных записочек, именуемый почтою любви.
Проходя зимним садом, Кожин вдруг остановился, в преувеличенно низком поклоне пропуская мимо себя веселую и шумную компанию. Впереди разряженных дам, большею частью с грубыми, топорными фигурами, двигался офицер-преображенец без маски. Узкий, в талию, темно-зеленый мундир очень шел его красивому круглому лицу, белому и живому, с голубыми глазами и маленьким ртом, твердо очерченным и алым. Он держался прямо и стройно, весело улыбаясь в ответ на приветствия окружающих.
Суворов удивился, но последовал примеру Кожина, шепнув ему:
— Лицо этого капитан-порутчика кажется мне знакомым…
— Тише, — не поднимая головы, отвечал Кожин, — сие всемилостивейшая государыня наша Елизавета Петровна…
Капрал еще не знал, что на балах и маскарадах императрица любила появляться в мужских платьях, которые ей очень шли, заставляя приближенных офицеров надевать дамские наряды.
Кожин скоро бросил новичка-семеновца, проследовав за кокетливой китаянкой с украшенным драконами веером и мушкою на щеке — условным знаком согласия на свидание. Маленький голубоглазый капрал едва дождался начала театрального представления, проскучав в чужой разряженной толпе и зарубив себе не ходить более на дворцовые увеселения.
Суворов предпочел наблюдать жизнь двора лишь по необходимости — отправляясь в караулы — и рано почувствовал неприязнь к «розовым каблукам» — придворным, их изнеженности, сибаритству, легкомыслию, скорому и несправедливому возвышению, начинавшемуся с младенчества, «будучи от отца у сиськи».
…День тезоименитства Елизаветы, 5 сентября 1748 года, читал он в газете «Санкт-Петербургские ведомости», «празднован в Летнем доме обыкновенным образом»: по окончании литургии в церкви объявили о награждении сановников орденами и чинами. Среди отмеченных были сыновья Николая и Андрея Шуваловых — «первому из них шесть, а второму пять лет от роду».
«Ввечеру был при дворе бал, и на дворе перед залою представлена была великолепная иллуминация, состоящая в монументе или великолепном здании в честь имени ее императорского величества, в двух крылах по обе стороны перспективы, или главного входа во дворец, с аллегорическими и на славное имя ее императорского величества склоняющимися украшениями…»
В эту пору первые воинские места заняли люди хоть и русские, но малоодаренные — фельдмаршал на двадцать втором году жизни, фаворит Елизаветы А. Г. Разумовский, никогда не бывший в сражениях князь Н. Ю. Трубецкой, ловкий придворный граф А. Б. Бутурлин, сам называвший себя «фельдмаршалом мира, а не войны», брат фаворита и украинский гетман К. Г. Разумовский, наконец, генерал-аншеф благодаря дружбе с Шуваловым и Бестужевым С. Ф. Апраксин.
«Возлюбленная тишина», которую воспел в оде на восшествие Елизаветы М. В. Ломоносов, длилась целых четырнадцать лет.
Суворову она позволила довершить свое самодеятельное военное образование. Получая от отца небольшую сумму, он ухитрялся экономить и все оставшиеся деньги тратил на покупку книг, посылая за ними в лавку смышленого Ефима Иванова. Прежней близости, понятно, между ними не могло быть. Теперь для Ефимки Александр был молодым барином. Но как радостно удивился Суворов, застав однажды своего дворового за чтением.
— Ты когда же грамоте выучился?
— Да в книжной лавке. Кажный раз спрашивал о какой-нибудь букве. А дома сидеть скушно, вот и складать стал…
Не в пример Ефиму другой слуга Суворова — Сидор Яковлев с молодым господином бывал дерзок, из дому отлучался и нередко попивал, невесть где добывая деньги.
Суворову, впрочем, было не до Сидора. У него не оставалось времени даже на легкий досуг и развлечения, так много он читал, так усердно нес службу в полку. Возможно, капрал-семеновец посещал и Сухопутный шляхетский корпус, хотя преподавание в нем при Елизавете велось дурно и вряд ли мог он почерпнуть там что-либо для себя новое.
С поступлением в Семеновский полк перед Суворовым открылась возможность практического изучения самых основ воинской жизни. Впрочем, слово «изучение» тут, пожалуй, неуместно. Суворов принял солдатчину не как систему мелочных и угнетающих обязанностей, от которых надо уклоняться, но как необходимое и уже потому увлекательное начало длинного пути, ведущего к тому, чтобы в будущем сравняться со своими кумирами. Со стороны такое упорство могло показаться одной странностью: неказистый, хилый капрал-дворянчик без связей и покровителей задался выполнить нечеловечески трудную программу. Но он принялся за нее с настойчивостью почти маниакальной.
Первый ее пункт значил: не притвориться солдатом, а претвориться в него — познать его психологию, особенности, привычки, быт, досконально изучить его душу. Проведший отрочество без матери, под рукой сдержанного и сурового отца, он быстро вжился в новую, воинскую семью. Для молодого Суворова начатое теперь познание, и открытие русского солдата было и познанием и открытием русского народа.
Крепостные крестьяне, отданные в солдаты, несли, как известно, службу почти всю жизнь, не меньше, чем в войнах, гибли в госпиталях от плохого ухода, скученности, эпидемий, страдали от муштры и жестокого обращения офицеров. Если солдату-дворянину, особенно гвардейцу, служба могла и не быть в тягость, то для вчерашнего крестьянина трудность солдатчины была непомерной. Все это правда, точнее — полправды. Другая половина заключалась в том, что и на такой тяжкой службе русский человек оставался самим собою, не терял драгоценных качеств своего национального характера. Народ и в солдатчину внес нечто свое, неповторимое и ее облагородившее.
«В русской солдатской среде, — справедливо замечает А. Петрушевский, — много привлекательного. Здравый смысл в связи с безобидным юмором; мужество и храбрость спокойные, естественные, без поз и театральных эффектов, но с подбоем искреннего добродушия; уменье безропотно довольствоваться малым, выносить невзгоды и беды так же просто, как обыденные мелочные неудобства. Суворов был русский человек вполне; погрузившись в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести на себе ее сильного влияния. Он сроднился с нею навсегда; все, на что она находила отголосок в его натуре, выросло в нем и окрепло или же усвоилось и укоренилось».
Суворов заставил себя почувствовать вкус ко всему, что связано с действительной службой в армии, и стать образцовым солдатом. Вечером, перед уходом из казармы, он всякий раз проверял, как вычищено после стрельб его ружье, хорошо ли смазаны шурупы. Это была все та же кремневая гладкоствольная фузея петровских времен. Лишь дальность и меткость стрельбы с тех пор несколько повысились за счет более тщательной отделки ствола и улучшения качества пороха. Прицельный огонь, однако, можно было вести только на расстоянии шестьдесяти — восемьдесяти шагов.
— Жена моя в надлежащем виде, — ставя ружье в «перемиду», объявил он дежурному — Петру Кожину, недавно нашившему на рукав капральский позумент.
— Тебе, Суворов, только и забот что ружье да экзерциции, — уныло возразил тот.
— А тебе?
Кожин скорчил смешную гримасу и вместо ответа запел:
Радость моя паче меры, утеха драгая, Неоцененная краля, лапушка милая И веселая, приятно, где ты теперь гуляешь. Стосковалось мое сердце, почто так терзаешь…— Сиречь, рандеву его ожидало, а вышло, сиречь, дежурство! — догадался туповатый Александр Прозоровский, прозванный в полку Сиречь за неумеренное употребление этого слова.
— Так, братцы. Суждено мне здесь всю ночь маяться да о лапушке моей мечтать.
— Погоди, — остановил его Суворов, — в беде такой я тебе сикурсовать могу. Пойдем к сержанту, он дозволит мне за тебя на дежурство заступить…
Длинный капрал сгреб Суворова в объятия, поднял и закружил по казарме, припевая:
Если вас сподоблюсь видеть, закричу: «Ах, светик мой! Ты ли, радость, предо мной! Я раб и слуга твой». То ли разно развернусь, прижав, поцелую. Подарю драгую перстнем, кинусь, размилую. Виват, радость! Виват, сердце! Виват, дорогая! Неоцененная краля, браллиант, дорогая!..Суворов охотно шел на дежурство, в караулы, с тщанием отрабатывал экзерциции, ровно никакого значения не имевшие в условиях боевых, — он повиновался, и его всегда критический ум молчал. Можно вообще предположить, что в эту начальную пору своей солдатчины он нигде не бывал, кроме казармы, караулов, дома в Преображенской слободе да еще Сухопутного корпуса.
Несмотря на свой неказистый вид, Суворов добился отличной выправки, ловко выполнял ружейные приемы и отдавал приветствия. Однажды был он наряжен в караул в садах Летнего дворца, когда неподалеку прогуливалась Елизавета. Капрал так молодцевато отдал ей комплимент, что царица остановилась и поинтересовалась его именем. Узнав, что он сын Василия Ивановича Суворова, крестника ее отца, она вынула серебряный рубль и подала ему.
— Государыня, не возьму, — почтительно сказал Суворов. — Закон воспрещает солдату брать деньги, стоя на часах.
— Молодец! Знаешь службу, — ответила дочь Петра и потрепала по щеке маленького капрала. Она положила рубль к его ногам. — Возьми, когда сменишься.
2
Ревностное отношение к службе молодого Суворова сразу же выделило его среди других семеновцев-дворян. Не удивительно, что он очень скоро стал получать довольно почетные назначения. Летом 1748 года в морской крепости России — Кронштадте должно было состояться торжественное «провожание» корабля «Захарий и Елисавет», для чего от гвардейских полков посылалась команда, отбор в которую производился очень тщательно. От Семеновского полка в числе четырех капралов был назван и Суворов. Сборы и подготовка длились весь май, а в Петербург команда вернулась в 20-х числах июня.
В один из июльских дней, занимаясь на плацу с новобранцами, Суворов заметил запыхавшегося Ефима Иванова.
— Батюшка, Александр Васильевич! — только и выговорил он. Сидор бежал, а куда — неведомо, и два рубля забрал, что на книги ты оставил!..
Событие это считалось по тем временам весьма неприятным, даже чрезвычайным, хотя крепостные в поисках лучшей доли часто бежали от своих господ. По Семеновскому полку был отдан специальный приказ с точным описанием примет беглого. Сидор Яковлев, однако, как в воду канул: никто о нем более ничего не слыхал.
В конце 1748 года по случаю «шествия» в Первопрестольную императрицы Елизаветы был составлен для сопровождения ее гвардейский отряд. И снова капрал Александр Суворов, несмотря на то что он находился во 2-м батальоне, а от семеновцев в отряд был определен 3-й батальон, оказался в числе «московской» команды. Эта командировка особливо обрадовала Суворова. Помимо почетного ее значения, поездка в Москву, первая со времени вступления капрала в полк, позволяла повидать родных — отца и сестер, город, где прошло его детство.
Жизнь семеновцев на новом месте ровно ничем не отличалась от петербургской. В полковой школе продолжалось обучение солдат уставным наукам; велись ежедневные разводы и назначались караулы в «дом ее императорского величества» на Яузе. Впрочем, к числу обычных нарядов прибавились недельные дежурства «по Генеральной Московской Сухопутной гофшпитали».
Русский военный госпиталь той поры был могилою для солдат. На содержании больных, приписках и мертвых душах наживались лихоимцы подрядчики. Госпитали были переполнены, врачей приходилось по одному на сотню больных, госпитальная прислуга отличалась невежеством. Инфекция косила солдат. Молодым и беззаботным гвардейцам-дворянам вовсе не хотелось идти на целую неделю в духоту, грязь и видеть вокруг страдания и смерть. Не помогали даже угрозы записывать провинившихся унтер-офицеров и капралов в солдаты, а солдат — в «извозчики». Больные продолжали жаловаться, что «определенные за оными капралы не токмо никакого не имеют смотрения, но и сами тут редко бывают».
Несомненно, что капрал Суворов уже тогда поставил своей целью с рвением и усердием выполнять самые трудные и неприятные поручения. Его назначение на дежурство в госпиталь последовало 1 июля 1749 года; через неделю прибыла, как и полагалось, смена. Но 15-го числа он снова наряжен к больным солдатам и остается там вопреки правилу подряд две недели. Подмененный 30 июля, он получает передышку лишь до 12 августа и опять назначается в «гофшпиталь». Последнее в 1749 году дежурство капрала Суворова длится беспрерывно восемь недель, а всего он проводит в госпитале около четырех месяцев.
С ранних лет проявилось одно очень ценное качество Суворова: извлекать для себя пользу из самых, казалось бы, малоинтересных поручений. Что могло дать девятнадцатилетнему капралу длительное дежурство в «Московском гофшпитале»? Нет сомнения, что его позднейшее, резко критическое отношение к военным больницам и лазаретам — «богадельням», как называл он их, — обязано этому вот раннему опыту. «Бойся богадельни, — не уставал твердить полководец, — немецкие лекарственницы, издалека тухлые, сплошь бессильны и вредны; русский солдат к ним не привык; у вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог; береги здоровье; чисти желудок, коли засорился, голод — лучшее лекарство… В богадельне первый день — мягкая постель, второй день — французская похлебка, третий день — ея братец, домовище, к себе и тащит. Один умирает, а десять его товарищей хлебают его смертный дух…»
Это было, понятно, не отрицанием медицины как таковой, но следствием стремления Суворова в корне улучшить положение и самый быт русского солдата. «Причины болезней, — писал он впоследствии, — изыскивать не в лазаретах между больными, но между здоровыми и в полках, батальонах, ротах и разных отдельных командах, исследовав их пищу, питье, строение казарм и землянок, время их построения, пространство и тесноту, чистоту, поваренную посуду, все содержание, разные изнурения, о чем доносить полковому или другому командиру, а в другой раз уже в главное дежурство».
Кроме несения службы в госпитале, Суворов регулярно участвовал в проводимых экзерцициях, носивших по преимуществу парадный или условно-полевой характер. Ордер-баталии на учебном плацу проводил сам командир батальона Соковнин, его чин гвардии майора приравнивался к генерал-майору армейских войск. В диспозиции, составленной Соковниным, особое внимание уделялось в согласии с «прусской экзерцицией» Миниха, слаженности залповой, а не прицельной: стрельбы. Стреляли плутонгами — подразделениями, на которые делилась рота. Последующие перестроения были сложны и громоздки.
Майор вызывал одного за другим офицеров, отдававших батальону команды согласно ордер-баталии.
— Маршировать без пальбы три шага по бою одного-барабана! Потом командовать офицерам поплутоножно, аванзируя вперед по три шага, три патрона, и в то время во всех дивизионах бить поход в один барабан!..
Следя за выполнением команд, Соковнин обратил внимание на четкость и отменную чистоту, с которой производили экзерциции солдаты 11-й роты. Однако вызванный из этой роты офицер неожиданно для Соковнина своими распоряжениями весь батальон спутал, так что вместо желаемого перестроения получился один хаос.
— Диспозиции не знаете! — накинулся на вконец растерявшегося поручика Соковнин. — Извольте сдать шпагу и итить под арест!..
Майор медленно проследовал вдоль сломанного строя семеновцев и остановился перед маленьким голубоглазым капралом, который держался молодцевато и у которого все сияло вычищенной медью: пуговицы, эфес тесака, герб на суме.
— Как звать?
— Одиннадцатой роты капрал Александр Суворов! — громко и смело ответил тот, сняв шляпу и держа ее опущенной в левой руке.
Соковнин уже слышал об этом капрале от его ротного командира, который сказывал, что Суворов сам напрашивается на трудные поручения, никогда не нанимает для служебных надобностей за себя солдат, любит учить фронту, причем весьма требователен и большую часть времени проводит в казарме. Солдаты, по словам ротного командира, очень любят Суворова, но считают чудаком…
— Господин капрал, — растягивая слова, приказал майор, — командуйте, якобы вы офицер!..
Поправив трость, висевшую на пуговице, — знак его капральской власти, — Суворов четко и внятно принялся отдавать команды, вернув батальону стройность.
— Отменно, братец, отменно! — подобрел Соковнин. — А можешь изложить диспозицию батальона-каре на походе и каким манером оная делается?
— Гренадеры второго и третьего плутонга, поворотясь направо кругом, входят сквозь первую роту в батальон-каре и примыкают с правых флангов ко второму и четвертому дивизионам, а первый и четвертый плутонги, заступая места второго и третьего, проходят на правые ж фланги к первому и третьему дивизионам, — без запинки начал сыпать словами капрал. — Первый дивизион дает место проходить гренадерам на батальон-каре, и для того сказать должно: «Направо!» и «Налево!», а как гренадеры пройдут, паки сомкнуться…
— Довольно, братец! — остановил его Соковнин. — Вижу, что ты диспозицию лучше иных обер-офицеров изучил. Зайди-ка после экзерциции ко мне в полковую избу.
Майор встретил Суворова еще более приветливо:
— Отрадно, что у нас в полку есть унтер-офицеры, которые не в одном гулянье да деланье пуншей упражняются… Расскажи мне, братец, как ты столь отменных знаний добился и солдат своего карпоральства экзерцициям в совершенстве обучил.
— Я, прочитав сию диспозицию несколько раз, понял ее совершенно. Но досадно было, что не дали нам планы перестроения. Из одного описания солдаты разобрать и понять экзерциции никак были не в состоянии. Постарался я сам оные по единому описанию сделать…
— Похвально! — удивился майор.
— Что касается до обучения солдат, — продолжал Суворов, — то не одних рекрутов, но и старых солдат упражняться заставлял, притом без употребления строгости и всяких побоев. Я вперил в каждого охоту и желание выучиться скорее и искусством своим превзойти товарищей…
Соковнин только хмыкнул, удивляясь все больше и больше.
— Обходясь с ними ласково и дружелюбно, разделяя с ними труды, довел я их до того, что солдаты сами старались все понять. Для скорейшего достижения установили они между собою — не давать тому прежде обеда, кто не промечет без ошибки артикула… Солдаты были довольны, ни один не мог жаловаться, что он слишком убит или изувечен, ни один из них не ушел и не отправлен был в лазарет…
Исполнительный, усердный, инициативный капрал Суворов вскоре добился повышения. Всего лишь через год после прибытия в Семеновский полк, 22 декабря 1749 года, он был записан в подпрапорщики. Через три месяца после возвращения гвардейской команды в Петербург, очевидно, по представлению лейб-гвардии майора, последовало новое назначение: «Каптенармусу Ушакову и подпрапорщику Суворову быть бессменно на ординарцах у его превосходительства господина майора и кавалера Никиты Федоровича Соковнина…»
Жизнь в полку текла монотонно, по-прежнему низкой была дисциплина, чему способствовало еще и отсутствие единовластия. Пресекая возможные злоупотребления, Петр I всюду вводил коллегиальное устройство, не сделав исключений и для полков. Действительными распорядителями их судеб были «господа полковые штапы», то есть комитет штаб-офицеров полка.
С провинившимися гвардейцами-дворянами «господа полковые штапы» обходились до удивления мягко, принимая их сторону в конфликтах с выходцами из крепостных, хотя бы и унтер-офицерами. Суворов хорошо знал сержанта Иосифа Шестаковского, обучавшегося в полковой школе, где сидели наравне дворяне с недворянами, солдаты с унтер-офицерами, взрослые с малолетними. Сам Шестаковский благодаря своим незаурядным способностям выдвинулся из числа солдат-недворян и несколько лет находился в кадетском корпусе. С 1747 года в чине каптенармуса он начал преподавать в полковой школе.
Немало доставалось от него ленивым и нерадивым ученикам, в числе которых был и Петр Кожин. Однажды, оказавшись в одной компании с Шестаковским, Кожин со своим дружком капралом Лихачевым напал на своего учителя. Бутылкой он разбил сержанту лоб до кости, а Иван Лихачев драл его за волосы, после чего Шестаковский был увезен в больницу. Читая приказ Соковнина, Суворов мог только возмущаться пристрастности несправедливо легкого наказания:
«И за вышеписанныя их предерзости Кожина и Лихачева при собрании всех унтер-офицеров и школьников на полковом дворе поставить их на сутки через час под 6 ружей да сверх оного взыскать с них за увечье ему, сержанту Шестаковскому, денег 50 рублей и пользовать оным, Кожину и Лихачеву, его, Шестаковского, от болезни его своим коштом…»
— Нет, — бормотал он, возвращаясь после отбоя в дом своего дядюшки, — тут вам не дворовые люди, кои побои принимают безответно… Таковое рукоприкладство пресекать в армии — и беспощадно!..
К полковому двору метнулась тень. Суворов резко бросился наперерез и тут же остановил красивого солдатика, тонкого и высокого, норовившего тайком проскользнуть в свою избу.
— Стыдно! Звание солдата российского позоришь! — набросился Суворов. — Придется в полковое дежурство доложить. Как фамилия?
— Орлов Григорий… — заливаясь смуглым румянцем, отвечал юноша.
— Сколько лет? — смягчая тон, продолжал допрос Суворов.
— Пятнадцать, господин подпрапорщик.
— А отчего я тебя ни разу в ротах не видел?
— Прикомандирован к Сухопутному корпусу.
— Ладно. — Суворов совсем остыл. — Иди к себе в роту, только господам обер-офицерам не попадайся.
Им было суждено встретиться вторично только через долгих двенадцать лет…
8 июня 1751 года Суворов был произведен в сержанты. Как справедливо отмечал один из исследователей, «снова приходится подчеркнуть факт довольно хорошего относительного движения Суворова по службе». Это тем более очевидно, что многие сверстники оставались рядовыми по десять и даже пятнадцать лет. Будучи гвардии сержантом, Суворов, по собственным словам, исправлял «разные должности и трудные посылки». Что это были за «посылки», частично выясняется из двух сохранившихся подорожных: в начале 1752 года Суворов-курьер был отправлен с депешами в Дрезден и Вену и находился за границей с марта по октябрь. Кроме блестящей служебной репутации причиною назначения его в эту командировку было, конечно, знание иностранных языков. Почти восьмимесячное пребывание в Дрездене и Вене позволило Суворову совершенствоваться в немецком, французском, а возможно, и изучить итальянский язык. Недаром в списке офицеров Суздальского полка 1763 года против имени Суворова обозначено, что он владеет всеми этими тремя языками.
Поздним октябрьским вечером, воротившись из долгого путешествия в Пруссию и Австрию, появился он в доме капитан-поручика, своего дядюшки.
— Батюшка, Александр Васильевич! — всплеснул руками рыжий Ефим. — И до чего исхудал, исплошал — один нос остался!..
Пока Суворов утолял голод, Александр Иванович подступал к нему с вопросами:
— Ну как там, у немцев, чать, навидался чудес?..
— Что чудеса, — отвечал Суворов, обводя счастливыми глазами домашних Александра Ивановича, — веришь ли, дни считал, так домой тянуло… В Пруссии встретил я русского солдата. Боже, как я обрадовался — братски расцеловал я его! Расстояние сословное между нами исчезло! Я прижал к груди земляка… Право, если бы Сулла и Марий встретились нечаянно на краю земли на Алеутских островах, соперничество между ними пресеклось бы. Патриций обнял бы плебея, и Рим не увидел бы кровавой реки…
Следующий, 1753, год значительно изменил судьбу прокурора Василия Ивановича Суворова. Представленный Сенатом к назначению в синодские обер-прокуроры, он был по высочайшей резолюции 29 марта пожалован в «брегадиры» и члены Военной коллегии. Начинается быстрое возвышение Суворова-старшего, в котором Елизавета оценила приверженность петровским идеям. 18 декабря того же года, в день своего рождения, она, в числе других награжденных, произвела Василия Суворова в генерал-майоры при той же Военной коллегии.
Сыну его шел уже двадцать пятый год. В очередном «шествии» в Москву сделано было Апраксиным представление Елизавете о производстве определенного числа гвардейцев в армию офицерами. Генерал-аншеф и лейб-гвардии подполковник напомнил, что Петр I оставлял для гвардейцев треть офицерских вакансий в напольных, то есть армейских, полках. Императрица в ответ повелела учинить выпуск в армию наиболее достойных гвардии сержантов — поручиками, унтер-офицеров — подпоручиками, капралов и рядовых — прапорщиками.
25 апреля 1754 года в числе других ста семидесяти пяти гвардейцев Суворов был произведен в офицеры, причем чин поручика получили лишь тридцать четыре человека. 10 мая Военная коллегия определила Суворова в Ингерманландский полк, один из старейших и лучших в русской армии, принимавший при Петре I участие в походах совместно с гвардией. Тотчас после определения Суворов с разрешения Военной коллегии был уволен на один год в «домовой» отпуск. Он жил и это время как в имениях отца, так и в Москве, вместе с сестрами.
Этот год он употребил на продолжение своего образования — совершенствовался в знании языков, читал книги по истории и военному искусству.
3
Пятидесятые годы XVIII века в России отмечены взлетом отечественной науки, искусства, литературы. «Бег державный», который получила страна при Петре, не могло уже остановить никакое лихолетье. К 50-м годам относится оживление работы Российской академии наук, создание Московского университета, выход в свет первого русского журнала «Ежемесячные сочинения», учреждение Российского театра и Академии художеств в Петербурге. В эту же пору в Москве создается первая частная «Типографская компания», начинает выходить газета «Московские ведомости». Это было время, когда великий Ломоносов совершил капитальные открытия в физике, химии, астрономии, геологии. Его многосторонняя деятельность отражала стремительное развитие могущественного русского национального государства и была пронизана высоким патриотическим пафосом.
«Где удобней совершиться может звездочетная и землемерная наука, как в обширной державе, над которою солнце целую половину своего течения совершает и в которой каждое светило восходящее и заходящее во едино мгновение видеть можно. Многообразные виды вещей и явлений, где способнее исследовать, как в полях великое пространство различным множеством цветов украшающих, на верьхах и в недрах гор выше облаков восходящих и разными сокровищами насыпанных в реках от знойныя Индии до вечных льдов протекающих, и во многих пространных морях», — писал Ломоносов в 1749 году. Эти мысли были близки и Суворову — они соответствовали его внутренним устремлениям, его преклонению перед величием и неисчерпаемыми возможностями России, его уважению, с каким он относился к науке, к знаниям.
Ломоносова и Суворова сближало их безусловное восхищение Петром I, под руководством которого, как писал Ломоносов, «укрепилось российское воинство и в двадцатилетнюю войну с короною шведскою и потом в другие походы наполнило громом оружия и победоносными звуками концы вселенной». Их роднила и борьба за развитие и укрепление национальных традиций — Суворов в военном искусстве боролся против прусских порядков, а Ломоносов — в отечественной науке против засилья иноземцев.
В Петербурге при кадетском корпусе в царствование Елизаветы образовалось первое «Общество любителей российской словесности». Суворов не только следил за произведениями тогдашних знаменитостей — Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, но, по свидетельству поэтов Хераскова и Дмитриева, посещал это общество и даже читал там собственные литературные произведения.
К офицерской службе он мог в эту пору отнестись довольно формально. Вернувшись из годичного отпуска, Суворов пробыл в полку всего лишь восемь месяцев и уже 17 января 1756 года по определению Военной коллегии был произведен в обер-провиантмейстеры (ранга капитанского) для «смотрения в Новгородской губернии: Новгородского, Старорусского и Новоладожского провиантских и фуражных магазейнов». И в этой должности он находился недолго. Разумеется, интендантская служба не могла быть ему по сердцу, зато обогатила будущего полководца полезным опытом. Через много лет, направленный в Финляндию, Суворов столкнулся с необходимостью привести в порядок хозяйственную часть войск и обмолвился в одном из писем, что к этому роду службы подготовился, когда был обер-провиантмейстером.
28 октября 1756 года последовало новое назначение, вновь с повышением в ранге. Суворов был произведен в генерал-аудитор-лейтенанты, что по петровской «Табели» означало восьмой класс и соответствовало чину пехотного майора. В новой должности, однако, он не находился ни одного дня. Уже 4 декабря того же года по определению Военной коллегии Суворов был переименован в премьер-майоры и определен в «пехотные полки команды генерал-фельдмаршала Бутурлина».
В результате через два года и семь месяцев из сержанта гвардии Суворов стал премьер-майором. Нельзя, стало быть, утверждать, что он слишком долго засиживался в чинах, и его признание: «Я не прыгал смолоду…» — справедливо лишь отчасти. Конечно, вблизи стремительной карьеры иных его сверстников, баловней судьбы, такое продвижение представлялось более чем скромным: М. Ф. Каменский сделался полковником двадцати трех лет и тридцати одного года — генералом; Н. В. Репнин — полковником двадцати четырех, генерал-майором — двадцати восьми лет; наконец, талантливейший П. А. Румянцев стал полковником на девятнадцатом году жизни и генерал-майором — на тридцатом. Не следует забывать, однако, что все эти лица принадлежали к придворной элите и были исключением из правила. В массе же служивого, «средней руки» дворянства Суворов выделялся своим относительно быстрым продвижением в штаб-офицеры, что открывало перед ним возможность проявить свои дарования и знания, накопленные в годы солдатской молодости.
Скромный человек, Суворов исподволь, трудолюбиво, начав с низших чинов, продвигался к намеченной цели. Он хотел показать себя в деле, и случай этот скоро представился.
Примерно с 1750 года, когда вероятность войны с Пруссией становилась все реальнее и выяснилось, что в сравнении с русско-турецкими и русско-шведскими кампаниями борьба с таким противником, как Фридрих II, потребует от русской армии значительно больше усилий и искусства, начались медленно перемены в организации и вооружении войск. В пехоте были выделены особые отборные полки — гренадерские, а в обычных сформировано по три гренадерские роты. Те же изменения проводились и в коннице, где появились конно-гренадерские полки; в состав ее вошли и полурегулярные полки, получившие названия гусарских. Значительные перемены, связанные с именем П. И. Шувалова, коснулись русской артиллерии. В 1756 году армия получила знаменитые «шуваловские» гаубицы и более легкие, подвижные скорострельные орудия — единороги. Шуваловские единороги блестяще зарекомендовали себя в боевых условиях и состояли на вооружении войск во всех походах Суворова.
Самый факт изобретения фейерверкерами Даниловым и Мартыновым единорога доказывает, насколько русская военная мысль шла тогда впереди Запада. Известно, что французский артиллерист Грибоваль, познакомившись с единорогом в Вене, где он демонстрировался, снял с него чертежи и фактически заимствовал у русских ряд усовершенствований. Через пятнадцать лет орудия подобной системы появились во Франции.
15 декабря 1755 года были обнародованы новый пехотный и кавалерийский уставы, которые были значительно ближе «прусской экзерциции» Миниха, чем законам Петра Великого. Между тем именно этими уставами обязан был руководствоваться Суворов при переучивании солдат в последние месяцы службы в Ингерманландском полку и позже, находясь в пехотных частях Бутурлина. В согласии со вновь изданными уставами должна была действовать русская армия в течение всей Семилетней войны. Такова была сила косности и инерции. Впрочем, нельзя упускать из виду, что все «экзерциции» Петра I оставались действующим законом и сохраняли свое значение как «Генеральный устав о полевой службе».
Сделав выбор между гвардией и армией, Суворов начал путь русского боевого офицера. Он нашел себе опору в солдатской массе, которую не только досконально изучил, но и полюбил всей душой. Проводником своих идей он считал армейское офицерство, формировавшееся из среднего служилого дворянства. «Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII веке. Впрочем, более шумная, чем благотворная», — писал В. Ключевский. У среднего дворянства и судьбы были скромнее. «Они не делали правительств, — продолжал историк, — но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых».
Кунерсдорфская битва была первой крупной битвой, в которой участвовал пехотный армейский офицер Суворов, приведший российскую армию к победам при Рымнике и Нови.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
Ты, Мемель, Франкфурт
и Кистрин,
Ты, Швейдниц, Кенигсберг
Берлин,
Ты, звук летающего строя,
Ты, Шпрея, хитрая река,
Спросите своего героя:
Что может росская рука.
М. Б. Ломоносов1
Стремительное возвышение Пруссии, получившей независимое бытие лишь в XVII веке и возведенной в степень королевства в 1701 году, несоразмерный с внутренними ресурсами рост ее военной машины, алчность ее правителей — все это нарушило и без того непрочный мирный эквилибр — равновесие — в Европе. Пока крупнейшие западные державы занимались в начале столетия дележом так называемого испанского наследства, энергичные прусские короли уже подготовили на маленьком плацдарме своего государства составленную из всякого сброда, но отлично выдрессированную армию.
Король Фридрих Вильгельм I оставил своему сыну в 1740 году небольшое государство — всего с 2,2 миллиона населения, но зато с 76-тысячным войском, по численности не уступавшим австрийскому, однако, по мнению современников, лучше организованным, обученным и вооруженным. С 1713 года была введена пожизненная служба солдат. Вся страна превратилась в единый военный лагерь, где население жило для армии и работало на армию.
Честолюбивый и циничный, единовластно распоряжавшийся всеми ресурсами страны, склонный, как и Карл XII, к авантюризму и одаренный полководчески, Фридрих II откровенно стремился к захвату чужих земель, благо его соседями были клонившиеся к упадку австрийские Габсбурги и раздираемое внутренними противоречиями Ягеллонское королевство. В состав Габсбургских владений входили Австрия с Каринтией и Тиролем, Чехия, Венгрия, Ломбардия и области в Нидерландах. После смерти императора Карла VI явилось сразу несколько претендентов на различные области этой лоскутной монархии. Тогда еще малоизвестный Фридрих II ввел свои войска в богатую промышленную провинцию Силезию. В декабре 1740 года началась война за «австрийское наследство».
По Аахенскому миру (1748) Силезия осталась за Пруссией, благодаря чему та приобрела в Европе значение великой державы. Население королевства увеличилось на полтора миллиона человек, а численность армии достигла ста шестидесяти тысяч. В угрожающей близости от границ России со сказочной быстротой выросло сильное милитаристское государство. В январе 1756 года Англия заключила с Фридрихом соглашение, по которому стороны «обязывались поддерживать мир в Германии и выступить с оружием в руках против всякой державы, которая посягнет на целость германской территории». В ответ на это Елизавета немедленно возобновила русско-австрийский союз, придав ему наступательный характер. Россия обязывалась выставить восьмидесятитысячную армию в помощь Австрии. В случае победы над Фридрихом австрийцы возвращали себе Силезию, а Россия получала Восточную Пруссию. К русско-австрийской коалиции присоединилась Франция, а затем Швеция и большинство мелких германских государств.
Фридрих решил упредить противников, чувствуя их неподготовленность к войне, и разбить поодиночке. В августе 1756 года он ворвался во главе почти стотысячного войска в Саксонию, оттеснив австрийцев, полностью занял ее и даже включил саксонцев в свои войска. 16 августа Россия объявила войну Пруссии. Конференция — совет высших сановников при Елизавете — возложила формирование армии на Александра Борисовича Бутурлина, одного из влиятельнейших вельмож Елизаветы, возведенного ею в графское достоинство, фельдмаршала, подполковника Преображенского полка, сенатора и многих российских орденов кавалера. В пехотные полки Бутурлина, как мы помним, был направлен двадцатисемилетний премьер-майор Суворов.
— …Мы с батюшкой твоим Василием Ивановичем вместе состояли в денщиках у незабвенного государя нашего Петра Великого. Я же был у него любимейшим. — Рассказывая, Бутурлин покосился на секретаря, не уходившего из покоев. — Тебе чего?… — Престарелый вельможа сей был слегка навеселе.
Секретарь, ничуть не смущаясь присутствием Суворова, положил на стол бумагу:
— Ваше сиятельство сделали ошибку в этом слове…
Бутурлин взглянул на Суворова, взял гусиное перо, подумал над своей резолюцией и тут же с досадой бросил перо прочь:
— А вы… Вы даже перьев очинить не умеете! Извольте сами поправить…
Суворов уже слышал о Бутурлине, что он отличался добротой, умом, однако не получил, как и многие другие вельможи, никакого образования и не был способен командовать не только армией, но даже и двумя-тремя полками. Позднее, когда его назначили в 1760 году главнокомандующим, театр будущих военных действий специально для него отмечался карандашом, так как фельдмаршал не имел представления о географической карте. Случилось Бутурлину выйти, и граф Захар Чернышев, желая подшутить над ним, перевернул карту. Возвратившийся главнокомандующий, не видя отмеченного места, при рассуждениях о будущих операциях все время тыкал пальцем в море. «Тут утонешь», — заметил ему с улыбкой Чернышев, отводя его руку в сторону…
Находясь у Бутурлина, Суворов мог лишь издали следить за действиями русской армии, которую возглавил осторожный С. Ф. Апраксин, шеф семеновцев и фельдмаршал с 1756 года. Премьер-майор Суворов, причисленный 4 февраля 1757 года «в комплект в Куринский пехотный полк», был направлен сперва в распоряжение начальника этапного пункта в Либаве, а после обер-провиантмейстером в Мемель с поручением снабжать войска, идущие на Тильзит. Подробности кампании 1757 года доходили до него через немецкие и русские газеты, рассказы раненых офицеров-очевидцев и приезжающих в Петербург курьеров.
Действия Апраксина отличались крайней медлительностью: только во второй половине июня 1757 года он перешел Неман и черепашьим шагом двинулся в глубь Восточной Пруссии. Осведомленный от своих шпионов о нерешительности русских, Фридрих поручил защищать Пруссию двадцатидвухтысячному отряду Левальда, а сам в первых числах апреля вторгся в Богемию, в кровопролитном сражении разбил австрийцев и осадил Прагу. Однако 18 июня под Колином пруссаки потерпели сокрушительное поражение. К августу 1757 года Прусское королевство было в кольце союзных армий, насчитывавших около трехсот тысяч солдат. Все усилия Фридрих устремил теперь на запад, против франко-австрийских войск. Опасность с востока, по его мнению, ему не грозила. Он презирал Россию, презирал ее армию, высокомерно заявлял: «Это орда дикарей, не им воевать со мною…»
Елизавета, крайне недовольная Апраксиным, побуждала его разгромить войска фельдмаршала Левальда, которые преградили путь на Кенигсберг. 17 августа русская армия переправилась через реку Прегель и расположилась на лугу перед деревней Гросс-Егерсдорф, а рано утром 19 августа Апраксин был атакован Левальдом. Напряженный бой продолжался несколько часов, преимущественно в центре русских боевых порядков. Полки, понесшие уже большие потери, вели борьбу с необычайной стойкостью. Исход сражения решила штыковая атака отряда тридцатидвухлетнего генерал-майора П. А. Румянцева. Когда правое крыло 2-й дивизии русских дрогнуло и подалось назад, Румянцев с четырьмя полками резерва пробрался через лес и неожиданно ударил противнику во фланг. Туман, пожары деревень, сильный ветер, разносивший пыль, способствовали усилению паники, дошедшей до того, что вторая линия пруссаков открыла огонь по первой. Русская кавалерия закрепила победу. Путь на Кенигсберг был открыт. Занятый на Западе, Фридрих ничем не мог помочь Восточной Пруссии.
Настроение русской армии несмотря на значительный урон было приподнятое. Однако Апраксин, простояв в бездействии несколько дней у Алленбурга, внезапно приказал бить ретираду, ссылаясь на недостаток продовольствия и заболевания в войсках. Говорят, что он получил от канцлера Бестужева-Рюмина письмо с извещением об опасной болезни императрицы. Отход в ужасную осеннюю распутицу принес больше вреда, нежели военное поражение. Большую часть продовольственных запасов и снаряжения пришлось уничтожить, так как по пятам шли пруссаки. Отступление было столь быстрым, что походило на бегство. Только в первых числах октября войска остановились в Мемеле на зимние квартиры.
Обер-провиантмейстер Суворов только и слышал в Мемеле возмущенные речи.
«Что это, братцы? Что это такое с нами творится и совершается? Где девался ум наших генералов?» — открыто роптали солдаты, оголодавшие, намерзшиеся, обносившиеся за время отступления. Офицеры высказывались не в пример резче: «Господа полководцы наши помышляли, видно, о том, как бы обратить в ничто все понесенные убытки и пролитую толь многими сынами отечества кровь; расплесть полученный венец славы и победы, покрыть себя позором и бесчестием и нанесть всей армии позорное пятно!»
Адъютант, находившийся при дежур-майоре Апраксина князе Иване Романовиче Горчакове, будущем шурине Суворова, рассказывал:
— От Тильзита до Мемеля шла наша армия с великою поспешностью, причем такими местами, которые и в сухую погоду не гораздо сухи, а теперь от беспрестанного дождя, слякоти и снега превратились в самую топкую и вязкую грязь, из которой ноги почти вытащить не можно. Наши главные командиры, боясь неприятеля, впали в великое малодушие и трусость и наделали множество смеха достойных дел. Ночью вызвал меня фельдмаршал проверить обозы на дорогах. Я нашел его в преогромной, богато внутри украшенной и жаровнями и спиртами нагретой кибитке, лежащего на пуховиках, в присутствии лейб-медика. Но чем бы, вы думали, победитель наш при тогдашних печальных обстоятельствах упражнялся? Истинно стыдно сказать. Изволил слушать сказки сидящего у него в головах за столиком гренадера и болтавшего вздор нелепый во все горло!.. С трудом добрался я до переправы, где стеснилось несколько сот повозок, слышен был только вопль, шум и треск. Мне не было никакого способа далее проехать и не только сосчитать их все, но даже окинуть глазом. Вернувшись, я доложил фельдмаршалу обо всем. Но что же, вы бы думали, он на сие сказал? Только приказал итить на свое место, а гренадеру продолжать сказку!..
Действия Апраксина, сведшие на нет плоды Гросс-Егерсдорфской виктории, вызвали негодование при дворе и в Конференции. Елизавета, повелевшая было внести в его родовой герб в память о победе две крестообразно положенные пушки, отстранила Апраксина от командования и вызвала для объяснений в Петербург. По дороге он был арестован, привлечен к следствию по подозрению в измене и на допросе скончался. Канцлер Бестужев-Рюмин был снят с должности и сослан в деревню; на его место Елизавета назначила М. И. Воронцова. Командование русскими войсками принял ученик Миниха В. В. Фермор, от которого Конференция потребовала немедленно занять Восточную Пруссию.
Фридрих метался, обложенный армиями союзников, и лишь несогласованность их действий позволяла ему всякий раз уходить от окончательного поражения. Был момент, когда немецкие имперские чины даже отрешили его от престола. Отступление Апраксина дало ему очередную передышку, которой он не замедлил воспользоваться. 5 ноября 1757 года при деревне Россбах Фридрих разбил сильную франко-австрийскую армию с помощью кавалерии генерала Зейдлица и бросился в Силезию, где пруссаки терпели поражение, 5 декабря у местечка Лейтен искусными маневрами он выиграл сражение у австрийцев, захватив более двадцати тысяч пленных, всю артиллерию и обоз. Силезия снова была у него в руках.
Тем временем медленно, но, как грозная, неодолимая громада, на германские границы надвинулась с Востока русская армия. В январе 1758 года, почти не встречая сопротивления, она овладела Тильзитом, затем Кенигсбергом и Восточной Пруссией. По манифесту Елизаветы Петровны область присоединилась к Российской империи. К марту все важнейшие пункты на Нижней Висле были заняты русскими войсками, но из-за противоречивых указаний Конференции Фермор потерял затем много времени на бесцельное маневрирование между Вислой и Вартой и только 4 августа подошел к сильной крепости Кюстрин.
В эту пору Суворов, назначенный комендантом Мемеля, занимался формированием батальонов в Лифляндии и Курляндии. В Мемеле он услышал о кровопролитнейшей битве, происшедшей 14 августа 1758 года у деревни Цорндорф. Из дошедших раньше всего берлинских газет он с досадой узнал, что армия наша, имевшая дело с самим королем, будто бы им разгромлена наголову, так что одних убитых насчитывалось у россиян до двадцати тысяч человек, в то время как пруссаков якобы погибло всего пятьсот шестьдесят три.
— Умилосердитесь, государи мои, — говорил Суворов тем, которые тому верили. — Неужели наши рук не имели и сами только шеи протягивали и давали себя рубить без всякой обороны? Сами же они говорят, что баталия целый день продолжалась и была наижесточайшая. Каким же образом их урон столь несоразмерен? Нет, дело, конечно, было, да происходило иначе.
Через несколько дней проскакал через Мемель курьер — полковник Розен, подтвердивший, что битва действительно была кровавой и длительной, но что выиграли ее русские.
— Когда Фермор обложил Кюстрин и после жестокой бомбардировки зажег его, Фридрих бросился на помощь с тридцатидвухтысячной армией. Узнав об этом, Фермор снял блокаду и занял позицию на обширном, всхолмленном и прорезанном двумя оврагами поле, имея в тылу деревню Цорндорф. Однако в ночь на 14 августа Фридрих произвел глубокий обход правого крыла русских войск и вышел им в тыл. Утром Фермор был вынужден перевернуть фронт армии так, что вторая линия стала первой, а правый фланг — левым. Вражеские батареи открыли сильный огонь с высот севернее Цорндорфа; пруссаки выстроили косой боевой порядок и около одиннадцати часов начали атаку правого крыла русских.
Фридрих усовершенствовал линейную тактику, атакуя один фланг противника и охватывая его своим сильным флангом; остальную часть своих войск он держал в это время позади — уступом. Такая косая атака позволяла создать в нужном месте превосходство в силах и грозила охватом неприятельскому флангу.
Под губительным огнем прусской артиллерии и натиском пехоты правый фланг русских стоял неподвижно. Фридрих бросил в атаку всю свою конницу. Наша пехота пропускала ее в интервалы, а затем смыкала свои ряды; прусская конница вместе с королем едва пробилась назад. После двух часов дня Фридрих перенес направление главного удара на левый фланг, но и там встретил героическое сопротивление. К семи вечера расстроенная и обескровленная прусская армия прекратила наступление. Оба войска провели ночь под ружьем. На другой день Фридрих не решился возобновить битву.
«Все советовали, — рассказывал в штабе Бутурлина Розен, — наутро отважиться Фермору на баталию. Мы могли б, верно, совершенно разбить короля, ибо у него не было уже пороха ни одного почти заряда. Но вместо того, чтобы испытать свои силы, Фермор повелел отступить на другой день к своему вагенбургу.
Великим упущением служило и то, что армия наша в деле сем не вся находилась, но сильный корпус под командою графа Румянцева случился за несколько миль в отдалении и не поспел к сражению. Один из главных наших генералов, князь Александр Михайлович Голицын, ушед с баталии, поскакал без души к сему корпусу и уверил оный, что вся наша армия побита и нет ей никакого спасения. О том же вторили и другие беглецы — принц Карл Саксонский, австрийский барон Сент-Андре, генерал-квартирмейстер-лейтенант Герман и секретарь самого Фермора Шишкин…
Главная же польза от сего сражения была та, что войска наши прославились неописуемой храбростью и непреоборимостью. Сам король ужаснулся, увидев, как дралась наша пехота, и пруссаки в реляциях своих писали, что русских легче убить, нежели побудить к бегству, и что само простреливание человека недостаточно к совершенному его низложению…»
Странное положение создалось в российских верхах той поры. В то время как Елизавета Петровна и Конференция всемерно желали победы своему воинству над Фридрихом, в том же Зимнем дворце расхаживал окруженный бывшими прусскими капралами и сержантами долговязый, насмешливый великий князь Петр Федорович. Без пяти минут император России разговаривал почти исключительно по-немецки, читал только прусские газеты, носил перстень с портретом Фридриха и открыто желал ему побить русских. Слыша о победах союзников, он только смеялся: «Это все неправда, мои известия говорят иное…» Когда полковник Розен явился в Петербург, его слуга начал рассказывать во дворце, что битва русскими проиграна, за что и был посажен на гауптвахту.
Узнав об этом, великий князь велел привести его к себе.
— Ты поступил как честный малый, — встретил Петр Федорович слугу Розена, — расскажи мне все, хотя я хорошо знаю и без того, что русские никогда не могут победить пруссаков.
Затем он указал на голштинских офицеров, куривших свои глиняные трубки и галдевших по-немецки:
— Смотри! Это все пруссаки; разве такие люди могут быть побиты русскими?..
Не удивительно, что такое положение тревожило осторожного Фермора, который просил уволить его от главного начальствования. Армия наша стояла на винтер-квартирах, куда прибыл, препроводя семнадцать подготовленных батальонов, Суворов. За успешное выполнение этого задания, очевидно, по представлению благоволившего к нему Бутурлина он был произведен в октябре 1758 года в подполковники. С наступлением тепла русские войска начали стягиваться к городу Познани.
8 мая Конференция назначила главнокомандующим шестидесятилетнего генерал-аншефа Петра Семеновича Салтыкова.
2
Познань и по-июньски зеленые ее окрестности полны были военным народом. В полях забелели установленные повсюду палатки, Суворов ехал лагерем, испытывая радостное волнение от окружающего кипения и суеты — бегания пеших и скакания конных, ржания лошадей, звуков труб, биения барабанов.
Отдалившись от лагеря, он заметил в глубоком овраге копошащихся солдат — треуголки мешались с кожаными гренадерскими каскетами, сделанными наподобие древних шишаков и имевшими на себе род плюмажей. Заинтересовавшись, он спешился и, раздвигая кусты, подошел к самому краю оврага. Солдаты разделывали раздобытую где-то говяжью тушу, ловко орудуя тесаками. И то сказать: из-за перебоев в снабжении недостаток в провизии ощущался — и остро.
Неподалеку от Суворова зашуршал кустарник, и вдруг раздался слегка дребезжащий старческий альт:
— Убирайтесь скорее, ребята! Не то Фермору скажу! Солдаты брызнули из оврага навстречу вышедшему седенькому, маленькому и простенькому старичку в белом ландмилицейском кафтане без украшений, спокойно помахивавшему хлыстиком. Со стороны лагеря меж тем уже, поднимая пыль, скакали всадники. Первый офицер спрыгнул с лошади и вытянулся перед странным старичком:
— Ваше сиятельство! С ног сбились, искамши вас… Пешком, без конвоя… Нешто можно эдак-то!
По окаменевшей группе солдат прошло шелестом: «Салтыков…»
Генерал-аншеф отмахнулся хлыстиком от адъютанта и обернулся к солдатам:
— Что, ребята, напужал вас?… Ничего, не серчайте на старика. — Он сощурил маленькие свои глазки. — Как у нас на Руси говорят?… Виноват медведь, что корову съел… — Салтыков выждал, оглядывая усатые и безусые лица, и закончил решительно — А не права и корова, что в поле ходила!
Солдаты несмело хохотнули. Не сдержал улыбки и затаившийся Суворов.
— Надеюсь на вас крепко, солдатики, как встретимся с пруссом, — посерьезнев, сказал командующий.
Стоявший ближе всех к нему краснощекий могучий гренадер с лихо подкрученными усами выдохнул:
— Отец ты наш родной, Петр Семенович! Рады стараться!
— А сейчас, — продолжал Салтыков, — слушайтесь к своему провианту!
Он, кряхтя, сел на подведенную к нему лошадь и затрусил к лагерю, но солдаты остались стоять на месте.
— А и прост, а и мал и ласков… — наконец выговорил старик мушкетер. — Сущая курочка!..
К вечеру весь лагерь гудел, обсуждая эту встречу. Суворов зная о Салтыкове, что он начал службу при Петре I в 1714 году в гвардии, затем послан был царем изучать мореходство во Франции, участвовал в походе 1734 года в Польше и в русско-шведской кампании 1741–1743 годов. До прибытия в армию он командовал на юге Украины ландмилицейскими полками. Никаких выгодных и громких слухов о нем доселе не было.
По приезде в Познань Салтыков решил долее не медлить ни дня и учинил назавтра всей армии генеральный смотр. Войска побригадно должны были идти церемонией мимо круглой калмыцкой кибитки генерал-аншефа. Впереди маршировали бригадные фурьеры при предводительстве квартирмейстеров, с распущенными своими «значками» в виде разноцветных маленьких знамен. Далее ведены были лошади командующего бригадою генерала — все в прекрасных попонах, с золотыми вензловыми именами и гербами. За ними следовал уже сам генерал со всей своей свитой. Полки его бригады шли с развернутыми знаменами, с барабанным боем и играющей военной музыкой. Все офицеры и знаменосцы должны были салютовать, проходя мимо Салтыкова, стоявшего перед своей кибиткой в окружении штаба.
Суворов, временно приставленный к бригаде генерал-майора М. Н. Волконского, ехал на лошади перед гренадерским батальоном. У всех солдат в шляпы, а у гренадер в их каскеты воткнуты были зеленые ветви, как бы в предвозвестии будущих, новых побед. Поравнявшись с генерал-аншефом и отдав ему положенный комплимент, Суворов услышал слова Салтыкова:
— Вот они наши, русские солдатики!.. Изрядные, бодрые — любо-дорого поглядеть. Вся надежа на них! Слава им!..
По плану союзников в июле 1759 года с армией Салтыкова должны были соединиться австрийские войска фельдмаршала Дауна. Так как их выступление затягивалось, Салтыков, оказавшийся по натуре очень самостоятельным, сам перешел бранденбургскую границу и направился к городу Кроссену, навстречу Дауну. Ему пытался преградить путь генерал-поручик Ведель, но слабый его корпус был раздавлен 12 июля в кровопролитном сражении у местечка Пальциг. Потеряв до шести тысяч убитыми, ранеными и пленными, пруссаки в беспорядке отступили за Одер. 14 июля любимец Фридриха Ведель, получив подкрепления, вновь решил воспрепятствовать продвижению русских и с небольшим отрядом занял Кроссен. В ответ Салтыков приказал князю Волконскому взять Тобольский драгунский полк с его артиллерией и самолично отправился с ним к Кроссену. В этом поиске принял участие и подполковник Суворов.
Когда полк подошел к городу, прусские гусары в числе шести эскадронов уже выстроились на лугу за Одером, в то время как остальные перестреливались перед форштадтом с казаками. Салтыков повелел кинуть в пруссаков четыре бомбы из большого единорога. Секретное Шуваловское орудие было тотчас установлено. Суворов, находясь в свите Салтыкова, видел на боку пушки выдавленного однорогого зверя — герб графа П. И. Шувалова — и опечатанную медную сковороду, прикрывающую дуло единорога. Особый артиллерийский офицер с командою, которым под страхом смерти воспрещалось рассказывать о шуваловских орудиях, распоряжался ведением огня. Первая же бомба угодила в пруссаков, торопливо ретировавшихся теперь вверх по Одеру. Командующий, наблюдавший за боем с бугра, неподалеку от единорога, тотчас отправил полковника Минстера с двумя пушками атаковать город. Суворов, пришпоривая коня, мчался с первым эскадроном драгун.
Навстречу приближались блестевшие каски с одноглавыми прусскими орлами, медная пушка и красные гусарские мундиры у форштадта. Но, очевидно, самый вид надвигавшейся русской кавалерии устрашил пруссаков, кинувшихся из форштадта к городу через мост. Драгуны преследовали их. Перед мостом вышла заминка, так как пруссаки, прикрываясь огнем двух пушек, наполовину разобрали его. Тогда заговорила русская артиллерия. Над Кроссенским замком был поднят белый флаг, и трубач в сопровождении городских депутатов появился в воротах. Кроссен сдался Салтыкову.
Оставшись в действующей армии, Суворов был назначен на должность генерального и дивизионного дежурного при графе Вилиме Вилимовиче Ферморе, начальствовавшем над 1-й дивизией. В качестве дежурного штаб-офицера он участвовал в одной из ключевых битв Семилетней войны — «Франкфуртской баталии», или сражении при Кунерсдорфе.
Соединившись с восемнадцатитысячным корпусом храброго шотландца, находящегося на австрийской службе, — Лаудона, Салтыков предполагал, достигнув Франкфурта, без проволочек идти на Берлин. Однако 30 июля конная разведка Г.-Г. Тотлебена донесла, что Фридрих сосредоточил значительные силы у Фюрстенвальде, на полдороге между Берлином и Франкфуртом-на-Одере, и движется на сближение с русскими. На деле неприятельские гусары уже переходили вброд Одер гораздо ниже нашей армии. Задержка с донесением объяснялась просто: генерал-майор Тотлебен давно уже был прусским шпионом, выдававшим Фридриху секретные планы и сообщавшим русскому командованию заведомо ложные сведения о численности противника и его местонахождении.
Вечером 30 июля командующие дивизиями со своими штабами собрались в калмыцкой кибитке Салтыкова.
— Положение наше, выгодное и довольно натурою и искусством укрепленное, опасно в случае несчастья, ибо путь к ретираде отрезан… — Маленький Салтыков поднялся со скамьи и развернул карту. — Воззрите сами: армия российская обращена туда лицом, откудова ожидался неприятель, весь фронт перед нею защищен топким и непроходимым почти болотом… Ан прусс учинил знатную стратагему — обман, совершил дальний круг Франкфурта обход и грозит на слабейший наш левый фланг напасть и в тыл выйтитъ!.. Что делать?
Все молчали, изведав уже Салтыкова, характер которого, по общему мнению, не принадлежал к числу изящных. Сколь ласков он был с солдатами, столь же крут и неуступчив с генералитетом…
— Мы неделю под Франкфуртом лагерем стоим, укреплений построили довольно, и нас так просто не возьмешь!.. Оставаться на прежних позициях и спокойно дожидаться прибытии его величества короля прусского, — твердо закончил он.
Весь следующий день был употреблен на усиление оборонительной мощи армии — на отрытие окопов с брустверами бастионного начертания для защиты артиллерийских батарей и устройства куртин между ними для пехоты. Утром 31 июля, отвозя генерал-аншефу рапорт Фермора, Суворов имел возможность воочию обозреть русские боевые порядки. Войска расположились на трех холмах, протянувшихся на четыре километра с северо-востока на юго-запад, под углом к Одеру, в который упирался наш правый фланг. Левый фланг держали пять молодых, или новых, полков князя Голицына на небольшом холме Мюльберг, примыкавшем к густому лесу и прикрытом глубоким буераком. Он укреплен был окопом — ретраншементом — и несколькими батареями, содержавшими в себе до восьмидесяти пушек.
В центре, на соседнем, более обширном холме Гросс-Шпицберг, расположилась 2-я дивизия Румянцева, тут же находилась и ставка Салтыкова.
1-я дивизия Фермора занимала правый фланг на высоком холме Юденберг, укрепленном шанцами и сделанными наподобие звезды ретраншементами. Что до австрийцев, то по тесноте в линию уместить их было невозможно, и поставлены они были позади правого крыла. Легкое войско разместилось перед Юденбергом.
На обратном пути с холма Гросс-Шпицберг Суворов встретил плутонг легкой кавалерии, переправившийся через болотистую речушку Гюнер и теперь возвращавшийся в расположение 2-й дивизии.
— Откуда, братцы? — окликнул он их.
— Из деревни Фраундорф, — ответил офицер.
— Что слышно?
— Нажимают пруссы, барин, — раздался низкий голос из задних рядов. — Навалились… Сегодня их и жди…
И верно, к двум часам пополудни послышались частые выстрелы от едва видной с Юденберга деревушки Кунерсдорф и от совсем уже далеких Суворову Третинских высот за рекой Гюнер. Русские батареи с Гросс-Шпицберга подожгли зажигательными снарядами деревню, уже занятую прусской кавалерией. Однако против ожидания пальба с севера стала затихать. Сколько ни глядел Суворов с высокого Юденберга, все было пусто и тихо — справа синие зубцы франкфуртского леса, прямо — болотистая низина. Юденберг застыл в тревожном молчании, и лишь в тылу слышалось позвякивание уздечек и негромкое, тревожное всхрапывание лошадей: там угадывалась русская и австрийская конница.
Ночью никто не спал, и около трех часов разнеслось: «Пруссаки!» В предрассветных летних сумерках были видны колонны, выходившие из леса, быстро и четко перестраивавшиеся с очевидным намерением атаковать русских по всему фронту. Образовав три линии — в первой восемь русских полков, во второй два русских и восемь австрийских и в третьей конница, — группа Фермора ожидала своего часа. Но, маневрируя перед Юденбергом, пруссаки постепенно отходили к северо-востоку, за Кунерсдорф.
В девять утра с левого фланга раздалось несколько пушечных выстрелов. Становилось окончательно ясно, что именно на этот наиболее слабый фланг обрушит Фридрих главный удар. В половине двенадцатого загрохотали прусские батареи. Около двухсот орудий било с Третинских высот с холма Клейн-Шпицберг за сожженным Кунерсдорфом. Мюльберг сразу окутался темным пороховым дымом.
— Смотрите! Смотрите! Идут! — крикнул кто-то из свиты Фермора, указывая в сторону Кунерсдорфа.
В дыму и пыли на Мюльберг наступала армия Фридриха: синие мундиры с красными, синими, зелеными, белыми отворотами, высокие медные шапки и треуголки. Пехота образовала три идеально ровные шеренги, выставившие стальную щетину штыков.
— Как экзерцициям обучены! — не сдержал восхищения офицер, стоявший рядом с Суворовым. — Равнение-то, равнение каково! Точно механизм единый!
— Нет-с! — живо отреагировал тот. — Долго они линию не удержат. Здесь Фридриху не гладкая тавлейная доска, как на плац-параде!..
Но все уже и так видели, что стройные шеренги исчезли, преобразившись в гигантские зигзаги.
Соседний холм содрогнулся: раздался страшный рев шуваловских единорогов. Даже с Юденберга было видно, какой тяжелый урон наносила русская артиллерия пруссакам. Однако, потеряв равнение, они продолжали надвигаться на Мюльберг. Не останавливаясь, пехота дала залп и, зарядивши на походе свои ружья, достигла подошвы Мюльберга. Подойдя ближе, пруссаки снова дали залп по русской пехоте. С этого мгновения огонь сделался с обеих сторон беспрерывным, и с Юденберга нельзя было отличить неприятельской стрельбы от нашей. Лишь выстрелы секретных шуваловских гаубиц выделялись среди прочей канонады своим особливым звуком и густым черным дымом.
Штабы и офицеры Фермора, собравшись кучками на макушке Юденберга, смотрели на побоище и только рассуждали, ибо самим им делать было нечего. Хотя все происходившее было видно как на ладони, дивизия находилась так далеко от Мюльберга, что до неприятеля не могли достать не только ружья, но и самые полковые пушки.
Наших пять слабейших полков сдерживали натиск всей армии Фридриха. Первая шеренга русской пехоты встала на колени, выставив ружья, — прусский же фронт казался в беспрестанном движении, то приближаясь к русским вплотную, то опять отступая назад. Вскоре от стрельбы дым так сгустился, что, противников не стало видно вовсе. Очевидно, шла уже рукопашная.
Батареи с Гросс-Шпицберга перенесли огонь на овраг Кунгрунд. Из тыла передали: Мюльберг пал; пруссаки заполнили овраг и рвались наверх, по склону Гросс-Шпицберга. Пушки, уже вражеские, открыли с Мюльберга губительный продольный огонь.
В свите Фермора почитали баталию уже совершенно проигранною. «Салтыков мнил, что будет счастливее искусного Фермора, — шушукались штаб-офицеры, — но как такому простенькому и ничего не значащему старичку можно быть главным командиром толь великой армии!.. Как можно ему предводительствовать против такого короля, который удивляет всю Европу своим мужеством, храбростию, проворством и знанием военного искусства!..»
К пяти часам пополудни стало известно, что пруссаки овладели уже всеми нашими батареями на левом фланге и имели в своей власти несколько тысяч взятых в плен. Разнесся слух, будто бы Салтыков впал в такое расстройство и отчаяние, что, позабыв все, сошел с лошади, стал на колени и, воздев руки к небу, при всех просил со слезами Всемогущего помочь ему в таком бедствии и крайности и спасти людей своих от погибели явной…
Посыльный привез приказ: передвинуть часть резерва австрийского генерал-поручика Кампители и русскую конницу в центр. Происходила медленная перегруппировка сил.
— Извольте отвезти ответ командующему об исполнении… — Фермор отправил дежурного по штабу в ставку.
Суворов пробирался болотистой низиной, мимо новотроицких, киевских, казанских драгун и чугуевских казаков, остававшихся в резерве. Доехав с тыла до Гросс-Шпицберга, он принужден был спешиться, так густо стояла тут русская пехота, так тесно расположились батареи. Ядра и пули, долетая сюда, почти не знали промаха.
Крутой склон Гросс-Шпицберга, обращенный к Мюльбергу, был замкнут в несколько рядов фузелирами, которые вели непрерывный огонь с колена, погибали, заменялись новыми, но не отходили назад. Иные ложились целыми шеренгами, давая пруссакам переходить через себя как через побитых, а потом вскакивали и стреляли в них с тылу. Те же из пехотинцев Фридриха, кому удавалось достигнуть обрывистого верха, находили там либо смерть, либо свергаемы были вниз, в Кунгрунд…
Салтыков сидел на барабане на лысой вершине холма, хладнокровно помахивал хлыстиком, слыша свист пролетавших пуль, и шутил с генералом Яковом Александровичем Брюсом.
— Ваше сиятельство!.. — Рослый, курносый и круглолицый генерал-поручик в грязном мундире и без парика докладывал Салтыкову — Атаки неприятельские слабеют! Знатный буерак забит мертвыми чуть не вполовину!..
Суворов не сразу признал в нем командира 2-й дивизии Румянцева.
Салтыков неспешно поднялся с барабана.
— Ходила лиса курят красть, да попала в пасть… Готовь, батюшка Петр Александрович, резерв к атаке…
Раздавленные численным превосходством полки Голицына выполнили свою роль: измотали наступавших. Салтыков между тем методично укреплял центр, переводя все новые войска с Юденберга. Атака вражеской конницы через Кунгрунд вначале имела успех, но затем Румянцев взял часть русской кавалерии и опрокинул кирасир Фридриха. Большие толпы прусской пехоты скопились в овраге и теперь истреблялись губительным огнем единорогов с Гросс-Шпицберга.
Вернувшись на Юденберг, Суворов жадно следил за ходом сражения. Битва достигла своей высшей точки. Пересеченной, болотистой низиной от Кунерсдорфа на Гросс-Шпицберг шла на рысях знаменитая конница Зейдлица, почитавшаяся — и не без оснований — лучшею в Европе. Теперь пришел черед действовать всем батареям Юденберга. Лавируя между прудами, под перекрестным артиллерийским огнем, прусская кавалерия быстро потеряла стройность своих боевых порядков и, так и не достигнув окопов Гросс-Шпицберга, покатилась назад. В этот момент вслед ей тремя лавинами вырвалась русская и тяжелая австрийская конница. Зейдлиц в беспорядке отступал к Кунерсдорфу.
Фридрих еще пытался спасти положение, направив драгун принца Вюртембергского и гусар генерала Путткаммера на Гросс-Шпицберг: противник достиг было вершины холма, но русская пехота генерал-поручика Румянцева и австрийцы Лаудона, действуя холодным оружием, смели прорвавшихся, а артиллерия довершила их уничтожение. К вечеру пехота генерала Петра Панина погнала пруссаков на Мюльберг, где сгрудившиеся вражеские толпы расстреливались батареями Гросс-Шпицберга. Прусская пехота и кавалерия повсюду обратились в бегство. Около семи часов вечера преследование противника было поручено Тотлебену и Лаудону, но продолжалось оно только до темноты. Сорокавосьмитысячная армия Фридриха перестала существовать.
…Фермор, рыжеватый, с тонким овалом красивого лица, оторвался наконец от подзорной трубы:
— Поздравляю, господа офицеры! Виктория, и полная! Суворов быстро ответил ему:
— На месте главнокомандующего я пошел бы теперь на Берлин, и война могла бы окончиться…
Как раз этого больше всего и боялся Фридрих. Самонадеянный, он встретил курьера от Фердинанда Брауншвейгского, известившего его о победе над французами при Миндене, словами: «Оставайтесь здесь, чтобы отвезти герцогу такое же известие…» В ходе боя под ним были убиты две лошади и прострелен мундир. Прусская кавалерия едва спасла его от русско-австрийских гусар. У короля, по его собственному признанию, оставалось после сражения не более трех тысяч боеспособных солдат: девятнадцать тысяч было убито, ранено или пленено, а остальные разбежались. В полной прострации он намеревался покончить с собой и писал в Берлин: «Все потеряно, спасайте двор и архивы». Раньше он ненавидел и презирал русских, теперь он их страшился и ненавидел. С этого дня и до своего смертного часа «старый Фриц» изыскивал любые возможности, чтобы ослабить Русское государство, был его последовательным и заклятым врагом.
…Генералы со своими штаб-офицерами съезжались в ставку командующего. Вся низина перед Гросс-Шпицбергом, его склоны и овраги, Кунгрунд и холм Мюльберг были усеяны трупами. Около шестнадцати тысяч человек потеряли союзники в этой кровопролитнейшей битве, причем главные жертвы — тринадцать с половиной тысяч человек — понесли русские. В палатке Салтыкова уже собрались командир 3-й дивизии — раненый Голицын, выказавший в бою отменную храбрость; один из главных героев дня — граф Румянцев; генералы Вильбоэ, Панин, Берг, Волконский, Долгоруков; австрийские военачальники; командующий 1-й дивизией Фермор, прибывший в сопровождении Суворова.
Генерал-аншеф Салтыков в съехавшем набок парике диктовал реляцию Елизавете:
— Напиши: «Ваше императорское величество! Не удивитесь великой потере нашей… Король Прусский не продает дешево побед…»
Полный разгром Фридриха II при Кунерсдорфе произвел громадное впечатление не только в Петербурге, но и во всех союзных столицах. Салтыков получил чин фельдмаршала, и в честь его была выбита медаль с надписью: «Победителю над пруссаками». От него ожидали развития успеха, однако силы были истощены — не хватало лошадей для артиллерии и обозов, кончались снаряды, ощущалась острая нужда в продовольствии. Тем не менее решительный Салтыков предлагал фельдмаршалу Дауну совместное наступление на столицу Пруссии. Но Даун и венский гофкригсрат вовсе не желали усиления России. Среди русских главных командиров в итоге возобладали крайнее неудовольствие и досада на австрийцев, желавших, чтобы армия Салтыкова играла роль вспомогательной силы. Теперь уже Даун уговаривал Салтыкова действовать совместно, но к выгоде Вены.
— Всякому свои сопли солоны… — буркнул австрийскому фельдмаршалу маленький Салтыков при встрече.
— Was? Что? — удивился Даун.
— Я говорю: мы свое сделали, теперь ваша очередь…
Разногласия эти привели к тому, что Салтыков отвел армию к Нижней Висле, а сам вернулся к любимому своему занятию — псовой охоте на зайцев. Все происшедшее Фридрих назвал «чудом Бранденбургского дома» — в который раз Пруссия была спасена. Война, первоначально казавшаяся в Петербурге непродолжительною, затягивалась. И все же, несмотря на тяжелое экономическое положение страны, энергичная Елизавета Петровна не желала и слышать о мире до полного разгрома Пруссии…
После Кунерсдорфской битвы и с небольшим перерывом до середины 1761 года Суворов оставался в 1-й дивизии Фермора; «при правлении дивизионного дежурства бессменно». В те периоды, когда Фермор замещал главнокомандующего, подполковник Суворов, помимо своей должности, исполнял еще и обязанности генерального дежурного армии. Он пользовался особенным расположением своего начальника и даже в старости хранил благодарную о нем память, говоря с неостывшей признательностью: «У меня было два отца — Суворов и Фермор…»
Сам Василий Иванович Суворов в апреле 1760 года решением Конференции был направлен в русскую заграничную армию «главным при провиантском департаменте», что соответствовало званию «генерал-губерпровиантмейстера» по Воинскому уставу 1716 года. На это место нужен был человек «неподкупной честности». Так назовет Суворова-старшего Екатерина П. Еще 5 января 1758 года В. И. Суворов получил чин генерал-поручика. Вместе с армией он проделал походы в Польше, Шлезии, Бранденбурге и Померании.
Будучи главным полевым интендантом, он заслужил всеобщее уважение своей неустанной деятельностью по бесперебойному снабжению армии продовольствием. Это отмечалось в донесениях и реляциях. Так, 18 июля 1760 года Конференция обратилась к В. И. Суворову со специальным рескриптом, где отмечались его заслуги и излагались последующие задачи по снабжению армии:
«Реляция ваша, из Познани, от 6-го сего месяца под № 20-м отправленная, причинила нам особливое удовольствие. Что в Познане, несмотря на все бывшие затруднения, однако ж столько вами провианта запасено, что армия наша с собою с лишком на месяц возьмет, то поэтому уповаем мы, что ревностным вашим старанием и в Калише не с меньшею скоростию потребные магазины поспеют, а армия наша в своем походе и операциях за тем отнюдь остановлена не будет». Если В. И. Суворов и не обладал выдающимися военными дарованиями, то в качестве главного интенданта проявил себя как организатор деятельный и талантливый. Заслуги его были отмечены: 25 июня 1760 года он стал кавалером ордена Святого Александра Невского, а 16 августа пожалован в сенаторы…
К началу кампании 1760 года русская заграничная армия состояла из передового корпуса Захара Чернышева, 1-й дивизии Фермора, 2-й — фон Броуна, 3-й — Румянцева, регулярной кавалерии генерал-поручика М. Н. Волконского и генерал-майора П. Д. Еропкина, легкой кавалерии (гусары и казаки) — Тотлебена. Получая противоречивые указания Конференции, войска топтались на месте. Единственным ярким событием всей кампании был знаменитый Берлинский рейд.
К тому времени, недовольный планом ведения войны, непрестанно ссорившийся с австрийцами, больной Салтыков ушел в отставку. Руководил операцией Фермор, временно, до прихода нового командующего — А. Б. Бутурлина, выполнявший его обязанности. Начальником отряда, выделенного для похода на Берлин, Конференция назвала Тотлебена. Прикрывать его должен был легкий подвижной корпус — корволант Чернышева. В инструкции указывалось — взять с прусской столицы «знатную денежную контрибуцию», а также «все арсеналы, пушечный литейный двор, все магазины и оружейные и суконные фабрики в конец разорить». По соглашению с австрийцами одновременно к Берлину направлялся их корпус.
Посадив пехоту на повозки, Тотлебен уже 21 сентября подошел с юга к окрестностям Берлина, а Чернышев занял Фюрстенвальде на реке Шпрее. Столица Пруссии была почти беззащитна и тогда же могла быть занята без особых усилий. Но Тотлебен ограничился легкой бомбардировкой и в ночь на 23 сентября произвел слабыми силами безрезультатный штурм Котбусских и Гальских ворот столицы. В это время с севера, через Бранденбургские ворота, в Берлин беспрепятственно вошел принц Вюртембергский. Тотлебен, ссылаясь на слабость своего отряда, тут же отвел его за двадцать километров от города. В этой передовой команде Суворова не было. Не было его, очевидно, ни в корволанте Чернышева, который соединился в городке Копенике с отрядом Тотлебена, ни в передовых частях генерал-поручика Панина, спешившего на помощь русскому авангарду. Скорее всего, Суворов оставался при Ферморе, прибывшем в Копеник.
К 27 сентября под Берлином сосредоточилось около двадцати тысяч русских и четырнадцать тысяч австро-саксонцев. На семь утра следующего дня Чернышев назначил штурм города. «Невозможно довольно описать, — доносил он Фермору, — с какою нетерпеливостью и жадностью ожидали войска сей атаки». Однако перед дождливым рассветом Чернышев получил неожиданное известие, что принц Вюртембергский знатно о том уведал или так рассудил себя в отвагу подвергнуть, и ночью отвел войска к северо-западному пригороду Шпандау. Столица Пруссии капитулировала.
Послав офицера и трубача для принятия города, Чернышев не без удивления узнал, что Тотлебен, вовсе не участвовавший в подготовке штурма, тою же ночью успел заручиться согласием берлинского коменданта на капитуляцию, причем на условиях, крайне выгодных для пруссаков. Занимая Берлин, Тотлебен не выполнил важнейших указаний Фермора о разрушении арсенала и суконных фабрик. Его позорное поведение вызвало ропот в войсках. Фермор, как главнокомандующий, возбудил против него следствие, но в Петербурге Тотлебену удалось оправдаться.
Русские пробыли в Берлине несколько дней, поддерживая в городе порядок, но ворвались легкие войска австрийской армии — кроаты, и начались грабежи, насилия, бессмысленные разрушения, так что русским силою пришлось восстанавливать спокойствие. Это не помешало Фридриху издать и распространить в Европе клеветническое сочинение под заглавием «Описание неслыханного опустошения, причиненного войсками российскими, австрийскими и саксонскими в Маркбранденбургии, и свирепств, произведенных ими при нападении на Берлин в октябре месяце 1760 года».
…После набега на Берлин казаки привезли с собою красивого ребенка, которого, очевидно, потеряла мать во время охватившей город паники. Суворов взял его к себе, заботился о нем в продолжение всего похода, а по прибытии на винтер-квартиры послал его матери письмо: «Любезнейшая маменька, ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться о нем, как о собственном сыне. Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь, или напишите мне, куда его выслать». Одинокий, и в свои тридцать лет не заведший семьи, Суворов, надо полагать, сильно привязался к мальчику. Мать, разумеется, затребовала его обратно…
3
Кампания 1761 года по плану Конференции должна была стать последней и завершиться поражением Фридриха. Главные силы Бутурлина направлялись в Силезию, а вспомогательные войска — в Померанию для овладения важной крепостью и портом Кольберг. Командование этими войсками Бутурлин поручил Румянцеву, а сам двинулся в направлении Бреславля, на соединение с австрийцами. Но в самом начале его похода случилось то, что должно было случиться давно: разоблачение и арест Тотлебена, шпионившего в пользу Фридриха. Событие это повлияло и на будущее Суворова. Командиром над легкими войсками Бутурлин назначил генерал-майора Густава Густавовича Берга, сыгравшего важную роль в судьбе молодого офицера: он первым оценил выдающееся военное дарование Суворова.
Открывается непосредственно боевая и причем совсем особая страница в биографии Суворова, которую можно бы назвать партизанской. Все еще числясь в дивизии Фермора, он участвует в операциях летучего корпуса Берга.
С отрядами казаков и гусар Суворов наскакивал на регулярные соединения Фридриха и, нанеся удар, снова отступал. Эпизоды его боевой деятельности, хотя и отрывочные, показывают, сколь многого может добиться инициативный и относительно независимый командир с отрядом легких, подвижных войск.
Когда соединенные русско-австрийские силы оттеснили Фридриха в его укрепленный лагерь Бунцельвиц, находящийся у самых стен крепости Швейдниц, крайняя нерешительность Бутурлина и Лаудона мешала им дать решающее сражение; их страшила мощь оборонительных сооружений Бунцельвица. Во время осады лагеря происходили лишь стычки передовых частей, где опять-таки отличился подполковник Суворов.
В один из дней второй половины августа он с малою командой казаков приблизился к лагерю Фридриха и атаковал в близлежащей деревне прусскую заставу. За нею, на холме, оказался сильный пикет неприятельских гусар. Хотя враг превосходил его числом едва не вдвое, Суворов кинулся с казаками на холм, атака была отбита, атаковал снова — и опять безуспешно, налетел в третий раз, сбил гусар и удерживал высоту несколько часов до прихода присланных Бергом двух казачьих полков. С ними Суворов повел наступление на два полка прусских гусар у подошвы холма и, несмотря на подоспевшее к ним подкрепление — еще два полка драгунских, — оттеснил неприятеля в его лагерь.
Захваченная высота господствовала над местностью и позволяла следить за противником. «Отсюда, — рассказывает Суворов, — весь лагерь был вскрыт, и тут учреждена легкого корпуса главная квартира, соединением форпостов, вправо — к российской, влево — к австрийской армиям. Происходили потом здесь непрестанные шармицели…» Во время одной из таких перестрелок на полном карьере он преследовал разбитые драгунские полки пруссаков почти до самого королевского шатра.
Успехи легкого кавалерийского корпуса еще сильнее оттеняли бездеятельность всей армии. Дурной пример подавал главный командир, в продолжение всего похода не могший отвыкнуть от частого и беспрестанного почти «куликования». Целые ночи просиживал престарелый фельдмаршал Бутурлин в кружке гренадеров, заставляя их с собою пьянствовать и орать песни, и полюбившихся жаловал прямо в обер-офицеры, а проспавшись, упрашивал их сложить с себя чины и сделаться опять тем же, чем они были.
Военные же действия пущены были на самотек. Бутурлин надеялся на то, что недостаток продовольствия понудит Фридриха вывести из лагеря свои войска. Как обычно, из прусской армии часто бежали дезертиры. Один из них, сержант, на допросе у Берга показал, что хлеба и фуража пруссакам хватит еще на три месяца. Хорошо изучив нерешительный характер командующего, Суворов советовал Бергу не отсылать перебежчика в главную квартиру, но тот не обратил на это внимания. Показания дезертира, конечно, не могли быть решающими, но они еще более укрепили Бутурлина в мысли о бесплодности осады Бунцельвица. На военном совете 29 августа союзники пришли к выводу вовсе отказаться от наступления на лагерь. В тот же день Бутурлин начал марш на север, а Лаудон, подкрепленный корпусом Чернышева, повернул на юго-запад.
Теперь с русской стороны Фридриху реально угрожали лишь войска Румянцева в Померании, осадившие Кольберг. Выступив против Лаудона, король отрядил десятитысячный легкий корпус генерала Д. Б. Платена, приказав ему уничтожать русские коммуникации в Польше, а затем тревожить тылы Румянцева в Померании. Платен проник в Польшу, где у Костян и Гостына, на пути от Познани к Бреславлю, громил русские магазины и транспорты, прорвался в Познань и с частью своих войск направился через Ландсберг в Померанию. Легкая конница русских устремилась за ним.
Перед рейдом Берг обратился к Бутурлину с просьбой оставить у себя Суворова. В приказе по заграничной армии значилось: «Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполковника Казанского полка Суворова, то явиться ему в команду означенного корпуса». В сентябре, находясь в авангарде у Берга, Суворов неоднократно нападал на Платена, впервые столкнувшись с ним при местечке Станишеве в Польше.
Суворов был первым в строевых экзерцициях, когда носил солдатский мундир; теперь, став кавалерийским офицером, он постарался заслужить репутацию отчаянного наездника-партизана. При Костянах отряд Берга глубокой ночью пробрался через лес и с тыла обрушился на лагерь Платена. Потерпевшие значительный урон пруссаки принуждены были сняться с места. Суворов «при всем происшествии» находился впереди атакующих. Платен направился к Кольбергу левым берегом Варты. Стремясь преградить ему дорогу в Померанию, Суворов со слабым — «во сто конях» — казачьим полком переплыл приток Варты Нец и, пройдя за ночь более сорока верст, оказался у городка Ландсберга на правом берегу Варты. Казаки, ведомые подполковником, кинулись в ров, выломали городские ворота и взяли в плен две прусские команды с офицерами, а затем подожгли большой мост через Варту.
Мы помним, что Фридрих послал Платена уничтожать коммуникации русских. Суворов действовал в тылу у самого Платена. Нерасторопность Берга, не успевшего привести к Ландсбергу основные силы, позволила пруссакам продолжать движение к Кольбергу. Суворов во главе трех гусарских и семи казачьих полков тревожил пруссаков с фланга. 15 сентября у самой границы Померании, при выходе из Фридбергского леса, он под огнем всей прусской артиллерии ударил на боковые отряды Платена, положив более сотни неприятельских драгун и взяв много пленных, и гнался за прусской конницей, как сказано в Журнале военных действий, «даже до неприятельского фронта».
Дальнейшие боевые эпизоды, в которых отличился Суворов, неотделимы от событий, завершившихся падением Кольберга. Весь август Румянцев стягивал петлю вокруг этой мощной крепости. Он оттеснил пруссаков к их главному лагерю, занял окружающие высоты и начал постепенно приближать к крепости траншеи, подвергая гарнизон жестокой бомбардировке с суши и с моря. Обстановка вынудила Румянцева, полководца-новатора, отказаться от шаблонов линейной тактики: он обучал войска действию в колоннах и создал легкие батальоны стрелков, предшественников егерей.
Наступила осень, а с ней распутица, затруднявшая подвоз боеприпасов и продовольствия. Прорвавшийся-таки в Померанию Платен соединился с войсками принца Вюртембергского. В этих условиях, как считали собравшиеся на военный совет генералы, взять крепость не представлялось возможным. Однако Румянцев упрямо продолжал осаду. Желая ободрить энергичного полководца, Конференция обратилась к нему с рескриптом, где говорилось: «…Службу вашу не с тем отправляете, чтоб только простой долг исполнить, но паче о том ревнуете, чтоб имя ваше и заслуги сделать незабвенными…»
Появление в Померании легкой конницы Берга дало возможность держать под контролем важнейшую коммуникацию пруссаков Штеттин — Кольберг. Здесь в непрестанных стычках с неприятелем, в нападениях на подкрепления и обозы, в схватках с Платеном в полной мере проявился военный талант Суворова, внезапно налетавшего на пруссаков и смертельно жалившего их. 5 октября 1761 года Суворов участвовал «при разбитии прусского деташамента под командою майора Подчарли при деревне Вестентине, где на оной делал легкими войсками разные нападения…» Удар по гарнизону Вейсентина (Вестентина. — О. М.) был нанесен с такой стремительностью, что сам майор Подчарли был пленен, а шедший ему на подмогу отряд подполковника де Корбиера, впоследствии фельдмаршала, повернул восвояси. Вдогонку ему кинулся Суворов, настиг арьергард и с эскадроном желтых — сербских — гусар гнал его около мили и захватил пленных.
Желая удержать в своих руках важный узел коммуникаций между Кольбергом и Штеттином — крепость и город Трептов, пруссаки уничтожили мосты через Регу, оставив на другом берегу реки непрестанно маневрирующий корпус Платена. С Бергом соединились кирасирские полки генерал-поручика Волконского; одновременно наперерез пруссакам, идущим от Кольберга к Штеттину, двинулась дивизия Фермора. В округе Регенвальд произошло столкновение передовых отрядов Берга и Волконского с неприятельским авангардом.
Суворов отправился накануне к Фермору с просьбой о подкреплении, и старый начальник обещал помочь. Возвращаясь, Суворов был застигнут в лесу близ Аренсвальда сильною грозой. Проводник бежал; Суворов заблудился, проплутал всю ночь и рано утром едва не наткнулся на аванпосты Платена. Суворов, однако, не растерялся, высмотрел расположение пруссаков и счел их силы. Найдя свой отряд, он тут же изготовил его к атаке, не дожидаясь подкреплений от Фермора.
Авангард Платена под командованием Корбиера начал наступление по безлесной равнине, превратившейся после ночного ливня в подобие болота. Русские передовые гусарские эскадроны смешались. «При моем нахождении, — вспоминает Суворов, — четыре эскадрона конных гренадер атаковали пехоту на палашах…» Пруссаки открыли по гренадерам картечный огонь, построили пехотные батальоны в каре, однако пехота не выдержала атаки и сложила оружие. Корбиер ввел в бой кавалерию. Суворов, собрав гусар, опрокинул ее, а затем под носом у самого Платена захватил вражеских фуражиров.
Сообщая Елизавете о действиях легкого корпуса, Румянцев доносил 11 октября, что Берг «паки знатной авантаж над деташементом неприятельским получил и без потери с своей стороны ни одного человека, до тысячи рядовых, и с предводителем подполковником Корбиером в плен взял…»
Преследуемый Бергом Платен отступил к крепости Гольнау; следом за ним подошла дивизия Фермора.
Проведя рекогносцировку, Фермор, однако, нашел, что не может атаковать укрепившегося противника, и ограничился двухчасовой бомбардировкой Гольнау из единорогов и гаубиц. Платен перенес свой главный лагерь в лес, оставив в городе гарнизон и разместив у моста на выходе из Гольнау несколько батальонов с артиллерией и конницей. Тогда Суворов во главе гренадерского батальона атаковал ворота и, сломив упорное сопротивление, ворвался в Гольнау. Русские штыками прогнали прусский отряд через город за противные ворота и далее, через мост до вражеского лагеря. Под Суворовым ранило лошадь, сам он был контужен.
Решительные действия корпуса Берга облегчили русским войскам ведение общих операций на вертикали Кольберг — Штеттин. 14 октября капитулировал сильный гарнизон города Трептова, что было крупным успехом всей кампании 1761 года. Суворов продолжал свои боевые операции и 17 ноября заступил на место заболевшего полковника де Медома, командира драгунского Тверского полка.
В новой должности он отличился в схватке с пруссаками у деревни Кельц 20 ноября. Преследуя неприятельскую колонну, Суворов обнаружил в деревне вражеский гарнизон — три батальона пехоты и шесть эскадронов кавалерии с артиллерией. Под прикрытием пушечной пальбы противник пытался оторваться от русских, но венгерцы полковника Зорича с левого, а драгуны Суворова с правого фланга врубились в прусскую пехоту, после чего опрокинули кавалерию. Под Суворовым одна лошадь была убита, а другая ранена. Тверцы захватили много пленных и шестифунтовую пушку.
В перерывах между боями Суворов на короткое время отлучался в Кенигсберг, столицу новой российской провинции. В 1759–1760 годах генерал-губернатором Восточной Пруссии был барон Корф.
4
Балы-машкерады у Николая Андреевича Корфа продолжались до четырех пополуночи.
Сам хозяин, дородный, холеный, невзирая на костюмированный вечер, в голубой своей «кавалерии» и при звездах, оттанцевал с давно его пленившей прусской графинею Кайзерлинг и теперь ушел за ломберные столы. Там звучала отменная немецкая речь: генерал-губернатор, равно как и его советники Бауман, Вестфален, Калманн и Клингшет, по-русски говорил нетвердо, предпочитая родной язык.
Казалось, весь огромный Кенигсбергский замок, дворец прежних владетелей прусских, сотрясся от топота танцоров, загудел от множества голосов, зазвенел от скрипиц, флейтуз и фаготов. Выстроивши две пестрые линии, гости — в масках и причудливых костюмах — начали фигуры контртанца, или режуисанса, запрыгали, завертелись. Глаза ломило от пестроты костюмов, изображавших не только разные народы, но даже вещи, как-то: шкафы, дома, пирамиды…
Кавалеров собралось премного, но дам и девушек оказалось еще больше. Оставивши обычную чопорную свою рассудительность, они сами приглашали русских офицеров. Не нашедшие партнера образовали род стены позади танцующих. Через эту толпу пробирались, отвешивая шуточки о девушках и дамах, три молодца гвардейского росту. Двое были в одинаковых арапских или невольничьих платьях из черного бархата, опоясанных розовыми тафтяными поясами, и в чалмах, богато изукрашенных бусами. Для полного впечатления они сковали себя длинной цепью из жести. Третий, в пышной тоге, изображал римского сенатора.
— Не правда ли, этот костюм раба, — с натянутым смехом проговорил по-немецки один из невольников, — вполне подходит моему положению военнопленного?..
— Полноте, ваше сиятельство! — запинаясь, на чудовищном немецком языке отвечал римский сенатор. — Вы должны быть благодарны судьбе за то, что веселитесь сейчас в славном русском городе Кенигсберге, а не гоняетесь за своенравною фортуною по всей Европе с вашим воинственным королем.
— Гляди, Гриша, никак, граф Петр Иванович Панин с молодежью прыгает! — схватил за локоть римского сенатора другой невольник.
— И как понаторел, наблошнился! — подхватил сенатор.
Одному из героев Цорндорфа, генерал-майору Панину, не исполнилось еще и тридцати восьми лет, однако молодым офицерам он казался уже глубоким стариком.
— Господин Шверин, — снова по-немецки обратился римский сенатор к первому невольнику, — может, подойдем поближе к оркестру — оттуда виднее вся зала…
Королевский флигель-адъютант граф Шверин, плененный в Цорндорфской битве, был привезен с двумя приставами в Кенигсберг, где содержался, впрочем, вольно, имея полную свободу. Пристава при нем были армейские поручики Григорий Орлов и его двоюродный брат Зиновьев. Пробираясь мимо танцующих, Орлов задел могучим плечом тоненького гишпанца в полумаске и, обернувшись для извинения, вдруг схватил его своими ручищами за плечо:
— Ах, Болотенка, мой друг! Здравствуй, голубчик!
Переводчик при генерал-губернаторской канцелярии, книгочей и охотник до наук, подпоручик Андрей Болотов тотчас оставил хорошенькую немку, обиженно отвернувшую фаянсовое свое личико, и порывисто обнял Орлова. Невольно залюбовавшись им, его лицом, грубая красота которого еще резче оттенялась одеянием римского вельможи, Болотов пылко воскликнул:
— Никакое платье, Григорий, так к тебе не пристало, как сие! Только и быть тебе, братец, большим боярином и господином!..
Как красотою своей, щегольством, так и тем более ласковым обхождением Григорий Орлов приобрел всеобщую к себе симпатию русских офицеров в Кенигсберге. Впрочем, то же чувство у современников вызывали все четверо его братьев — Иван, Алексей, Федор и Владимир, богатыри, как на подбор, радовавшие приятной внешностью, веселонравием, мягкосердечностью и необыкновенною силою. Дед Орловых, как говорили, стрелец, прозванный за храбрость «орлом», был осужден Петром I на казнь и, дождавшись своей очереди у палача, спокойно вышиб ногой оставшуюся на плахе голову ранее казненного. Поведение сие так поразило царя, наблюдавшего за казнью, что он даровал ему жизнь. Сам Григорий начал службу пятнадцати лет рядовым гвардейцем-семеновцем и в 1757 году был переведен офицером в армию. Трижды раненный в сражении под Цорндорфом, он через несколько дней уже руководил на кенигсбергском балу, так как был превеликий охотник до танцев.
Выслушав с видимым удовольствием похвалу своей внешности, Орлов покачал головой:
— Ах, Болотенок… Колесо фортуны гладкое — попробуй-ка ухватись… Да что же, господа, мы и его от дела оторвали, и сами без толку стоим. Пора и нам попрыгать…
Уже выменян был Фридрихом граф Шверин, уже отбыл в Петербург весельчак Орлов, уже самый Берлин склонился пред русской силой — ничего не менялось в Кенигсберге. Влюбленный в Кайзерлинг Корф не упускал случая ее потешить. Он выписал из Берлина целую ораву комедиантов, дававших регулярные представления, на которые Болотов тотчас раздобыл фрейбилет. Со всех сторон в Кенигсберг съезжались наилучшие артисты, устраивались новые музыкалии, танцы, представления. Едва ли самые прусские короли жили так весело, как наместник Елизаветы Петровны в новой российской провинции.
В конце 1760 года город облетела неожиданная новость. Корф отзывался на должность петербургского генерал-полицеймейстера, а на его место императрица назначила главного полевого интенданта заграничной русской армии генерал-поручика Василия Ивановича Суворова. Строптивый и вздорный характер Корфа не был по душе, но опасались, не будет ли взамен ему чего худшего?
Новый губернатор начал правление не пышным балом, а торжественным празднованием в Кенигсберге дня водосвятия. Посреди города, на реке Прегель сделана была богато украшенная иордань. По берегам реки и острова выстроились все имевшиеся войска — побатальонно, в парадном убранстве и с распущенными знаменами. Подле проруби поставлено было несколько пушек.
Несметное число горожан, привлеченных красочным зрелищем, высыпало на улицы. Не только берега реки и рукава ее, но все окна и даже самые кровли ближних домов унизаны были любопытными.
Пышная процессия отправилась от бывшей штендамской кирки, превращенной после снятия петуха с высокого шпица и утверждения на оный креста в православную церковь. Впереди шел архимандрит в богатых ризах и драгоценной шапке. От самой церкви, несмотря на дальность пути, процессию сопровождал губернатор — неказистый, маленький и голубоглазый генерал в простом мундире с одним орденом Александра Невского. При погружении креста в воду производилась пальба как из поставленных на берегу пушек, так и с Фридрихсбургской крепости, а потом и троекратный беглый огонь из мелкого ружья всеми войсками. Празднество завершилось обедом, на котором губернатор удивил Болотова и остальных чиновников простотою, нелюбовью к пышности, скромностью обхождения. Многое переменилось с появлением нового губернатора. Раньше чиновники прихаживали в канцелярию в девятом часу утра. Василий Иванович отличался таковым трудолюбием, что бывал одет и доступен уже с двух часов пополуночи, а посему хотел, чтобы и канцелярские стали поприлежнее. Ничего не оставалось, как приходить в канцелярию с четырех поутру, хоть сперва и шел о том превеликий ропот.
Прежде в обед чиновники прямо из канцелярии гурьбою отправлялись в покои Корфа, за готовый и сытный стол. Суворов доходами барона не обладал и обедов подчиненным не заводил, тем паче что и сам стол имел очень умеренный. Каждый должен был теперь помышлять о собственном пропитании.
Над головою Болотова собрались меж тем тучи: в Кенигсберге получен был приказ фельдмаршала Бутурлина — всем без исключения офицерам воротиться по своим полкам. А так как Болотов был взят Корфом из Архангелогородского полка, то и надлежало ему туда отправиться. Удержал его в Кенигсберге случай.
Случилось Василию Ивановичу Суворову ненароком повредить крест Александра Невского, так что необходимо было сделать оный заново. Но так как в середине креста находился написанный на финифти миниатюрный образок и во всем Кенигсберге не могли отыскать мастера, оставалось послать образок в Берлин и написать там. Для этого потребен был рисунок, точный против прежнего. Призванный живописец запросил за работу не менее пяти рублей, что возмутило скуповатого генерала. Придя в канцелярию, Суворов показывал образок и бранил живописца, и тогда один из чиновников со смехом сказал ему:
— И, ваше превосходительство! Есть за что платить пять рублей. Да извольте приказать Болотову, он вам в единый миг это срисует…
Едва завидя Болотова, генерал повел его в маленький кабинет к окошку, показывая свой орденский крест:
— Мне сказывали, ты умеешь рисовать. Не можешь ли этот образок в точном виде на пергамент перевесть?
— Кажется, диковинка невеликая, — сказал Болотов, поглядев образок, — может, и срисую.
Работа подлинно составляла самую безделку, так что Болотову удалось ее в то же утро кончить. Войдя в судейскую, он изумил генерала.
— Что ты, мой друг? Неужели рисунок готов?
— Готов, ваше превосходительство.
— Посмотрим-ка, посмотрим, — подхватил Суворов, развертывая бумагу с рисунком. — А! Как хорошо! — воскликнул он. — Ей-ей, хорошо! Никак я того не ожидал! Посмотрите-ка, государи мои, истинно нельзя бы сделать лучше и аккуратнее!..
Болотов хотел откланяться, но Суворов остановил его:
— Постой и не уходи, мой друг. Пойдем-ка со мной, поговорим…
В губернаторских покоях был накрыт маленький столик, ибо Суворов обедывал почти всегда один. Генерал велел поставить еще прибор и сказал, пока носили кушанья:
— Право, мой друг, уж не отложить ли тебе отъезд до просухи? Путь начал уже портиться совершенно, и мы сегодня получили известие, что реки Висла и Ноготь так разлились, что сделалось превеликое наводнение и многие селения затоплены. Подумай-ка, это, право, не малина и не опадет, а приехать к армии всегда успеешь… Может быть, переменятся обстоятельства, и мы удержим тебя и долее. А пока ходи-ка ты по-прежнему в канцелярию и помогай нам своими переводами, а кстати, можешь продолжать и свои науки. Мне сказывали, что ты учишься философии, это истинно похвально и препохвально. Сядем-ка отобедаем, а потом поговорим с тобою о науках да познакомимся короче.
Когда Суворов узнал, что Болотов научился всему самодеятельно, по единственной своей охоте, то довольно расхваливал его. Что же до новой философии, то губернатор слушал об этом с особливым вниманием, попросил перечислить наиглавнейшие ее начала и советовал никак не покидать ученья в университете.
Поговорив с ним более двух часов, Болотов убедился, что Суворов сведущ во многом и отменно любит науки.
Во всех делах новый губернатор был гораздо степеннее и разумнее Корфа и несравненно более знающ. Он входил во всякое дело с основанием и не давал никому водить себя за нос. Усердие его к службе было так велико, что он не только наблюдал и исправлял все, что требовал долг его, но денно и нощно помышлял, как бы доход, получаемый тогда с Восточной Пруссии и простиравшийся только до двух миллионов талеров, сделать больше и знаменитее. Он вникал в самое существо, во все подробности тамошнего правления и высматривал все делаемые упущения местными чиноначальниками.
Полюбив Болотова, он удостаивал доверенности только его одного, так как все канцелярские советники были немцы. Нередко запирался он с ним в своем кабинете и, посадив Болотова за маленький столик, по нескольку часов диктовал ему разные прожекты или давал делать переводы и выписки из важных бумаг. Своими стараниями губернатор не только сократил многочисленные траты, но почти целым миллионом увеличил доходы сей провинции.
С наступлением весны к Суворову из России приехали его дочери — Анна и Мария, обе уже совершенные невесты, скромницы, правда, не блиставшие красотою. С этого времени генерал-поручик начал устраивать балы. Однако мало чем напоминали они пышные увеселения Корфа. Гостями у Суворова были преимущественно офицеры и чиновники на русской службе со своими семьями. Вечера проходили скромно. На одном из таких балов, в конце 1761 года, Болотов увидел прибывшего из действующей армии единственного сына губернатора.
Хотя Александр Васильевич Суворов состоял в скромном звании подполковника, о нем и в Кенигсберге уже носилась молва. Болотов слышал, что это не только дерзкий офицер, но и человек странного, особливого характера и по многим отношениям сущий чудак. Сходство с отцом сразу бросилось в глаза, едва Болотов увидел худого и маленького голубоглазого офицера в кавалерийском мундире. Ему не терпелось послушать рассказы Суворова-младшего, но на положении первого на балу танцора и даже щеголя Болотову пришлось полвечера отдать Марии Суворовой. От сестры ее Анны почти не отходил сорокапятилетний генерал-провиантмейстер-лейтенант в Кенигсберге Иван Романович Горчаков, ближайший деревенский сосед Болотова. Впоследствии Анна была выдана за князя Горчакова замуж.
Суворов-младший в танцах участия не принимал, за карты не садился и, по-видимому, тяготясь обстановкой, рассказывал о чем-то в кружке молодых офицеров, с жадностью слушавших его. Протанцевав с Марией, Болотов поспешил к ее брату. Туда уже подошел и сам губернатор, по лицу которого было заметно, что он горд сыном. Подполковник Суворов выглядел старше своих тридцати двух лет — из-за крайней худобы, обветренной и загрубелой кожи, преждевременных морщин и жидких волос, убранных наверху в аккуратную плетенку с букольками и косицей. Говорил он быстро и горячо, все больше короткими, отрывистыми фразами:
— Осенью, в мокрое время, выступили мы около Регенвальде в поход. Регулярная конница просила Берга идти окружною, гладкою дорогой. Он оставил при себе эскадрона три гусар да два полка казаков. Выходя из лесу, вдруг увидели мы в нескольких шагах весь прусский корпус. Фланкировали его влево. Разгадали, что впереди в версте незанятая болотная переправа мелка. Мы стремились на нее. Погнались за нами первее прусские драгуны на палашах. За ними — гусары. Достигши переправы, приятель и неприятель, смешавшись, погрузли в ней почти по луку. Нашим надлежало прежде на сухо выйти. За ними — вмиг несколько прусских эскадронов. Генерал приказал их сломить…
Суворов заблестевшими голубыми глазами оглядел слушателей, задержал взгляд на Болотове и взмахнул маленьким кулаком.
— Ближний эскадрон был слабый, желтый. Я его пустил. Он опроверг пруссаков опять в болото. Через оное нашли они влеве от нас суше переправу. Первой перешел ее полк их драгунской… Неможно было время тратить: я велел ударить стремглав одному нашему сербскому эскадрону. Капитан оного Жандр бросился на саблях. Пруссаки дали залп из карабинов. Ни один человек наш не упал. Но пять вражеских эскадронов в мгновенье были опровергнуты, рублены, потоптаны и перебежали через переправу назад. Они были подкреплены батальонами десятью пехоты. Вся сия пехота — прекраснее зрелище! — с противной черты, на полвыстрела давала по нас ружейные залпы. Мы почти ничего не потеряли, от них же, сверх убитых, получили знатное число пленников!
Молодежь возгласами восхищения встретила рассказ боевого подполковника. Василий Иванович со значительностью сказал:
— Его сиятельство фельдмаршал Бутурлин в донесении всемилостивейшей государыне нашей написать изволил о моем сыне, что подполковник сей себя перед прочими гораздо отличил… Ах, Александр, толь родительскому сердцу приятно знать, что ты у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу…
Зимней кампанией 1761 года война с Пруссией для России завершилась. 16 декабря пал Кольберг, а 25 декабря скончалась Елизавета Петровна. Пруссия Фридриха II, оказавшаяся на краю полного военного краха, была спасена. Унаследовавший российский престол Петр III писал прусскому королю: «Я вижу в вас одного из величайших героев мира». По позорному договору, подписанному 24 апреля 1762 года, Фридриху возвращались все земли, занятые русскими войсками.
Как замечал историк С. М. Соловьев, «сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитою в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого; мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным; но, что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным; всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения — Остерман, Миних, Бирон — были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет в утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное, решительное влияние на европейские дела, а теперь до какого позора дожили! Иностранный посланник заправляет русскою политикою, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное».
В Кенигсберг известие о кончине Елизаветы Петровны пришло в ночь на 2 января 1762 года и привело всех русских в смущение. Все тужили и горевали о скончавшейся дочери Петра и, поздравляя друг друга с монархом, делали это не столько с радостным, сколько с огорченным чувством. Войска и местные жители еще не успели принести присягу, как получен был именной указ, которым повелевалось губернатору В. И. Суворову сдать тотчас команду и правление провинцией генерал-поручику Панину, а самому ехать в Петербург. Таковая скорая и меньше всего ожидаемая смена, означавшая явное неблаговоление нового государя к усердному и исправному губернатору, была не только удивительна, но и крайне неприятна русским кенигсбержцам.
«Может быть, — переговаривались чиновники, — дошли до государя какие-нибудь жалобы немцев или король прусский не был им доволен, как Корфом, и писал о том Петру Федоровичу…»
Сам Суворов-старший перенес опалу спокойно и, не изъявив ни малейшей обиды, сдал правление П. И. Панину.
Старого генерала проводили со слезами на глазах. Все к нему уже так привыкли и за кроткий и хороший нрав его так любили, что сожалели о нем как о родном. Прощаясь, он расцеловал всех дружески и отправился в Петербург.
Указом Петра III Василий Иванович был послан губернатором в отдаленный сибирский городок Тобольск, что фактически означало почетную ссылку. Но в Тобольск Суворов так и не отправился, оставшись в Петербурге и приняв самое активное участие в июньском перевороте 1762 года, приведшем на русский престол Екатерину II.
5
Вся политика императора Петра III, нарушившего самые основы национальной и государственной целесообразности, все ближе и ближе подталкивала его к пропасти. К лету 1762 года положение России стало едва не критическим: доходы не покрывали расходов; в Тульской и Галицкой провинциях, в Белевском, Волоколамском, Эпифанском, Каширском, Клинском, Тверском и других уездах разгорались волнения крестьян; с юга приходили вести «о намеряемом крымским ханом на российские границы нападении». Но волею сумасбродного императора все были заняты предстоящею войною с Данией из-за далекой Голштинии, вотчины Петра III.
Потомкам может показаться, что противоречивые действия и обидные для нации указы Петра III неправдоподобно вздорны, так как не вяжутся даже с инстинктом личного самосохранения. По словам историка В. А. Бильбасова, подробно изучившего обстановку восшествия на престол Екатерины II, «вскоре после воцарения Петра III русские люди, не только в столице, но и в провинции, потеряли всякое доверие к правительству. Не было такой нелепости, такой лжи, которая не принималась бы на веру и не повторялась бы всеми». Причин для переворота было слишком много, ожидался только случай. Понадобилось четыре десятка гвардейских офицеров, распропагандированных братьями Орловыми и готовых «пролить кровь за государыню», чтобы Петр Федорович оказался низложенным. Используя крылатую фразу прусского короля, Петр III «позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого отсылают спать».
В памяти Суворова-старшего 28–29 июня 1762 года слились в один пестрый клубок: измайловцы, семеновцы, преображенцы, иные в полной форме, при оружии, другие полуодетые, заняв середину улицы, густою беспорядочною массою движутся по Невской перспективе; эскортируемая конногвардейцами, под торжественный звон колоколов появляется Екатерина в черном запыленном платье, сидящая в дрянной двухместной коляске; безо всякого на то приказа солдаты переодеваются в «старые», темно-зеленые петровские мундиры, со злобой бросая ненавистные им каски и многоцветные узкие мундиры прусского образца; растерянное лицо генерал-полицеймейстера Петербурга и любимца Петра III Корфа, к которому в панике прибежал дядя свергнутого царя принц Георг-Лудвиг, жестокий, бессердечный и тупой. Толпа гренадер вломилась в дом Корфа и не только разграбила многое, но и самому ему надавала толчков. Лишь крепкий караул спас его и принца от расправы…
В день переворота В. И. Суворов получил от Екатерины крайне почетное назначение премьер-майором лейб-гвардии Преображенского полка. Ему было поручено обезоружить и раскассировать голштинские войска Петра III в «Раниенбоме», то есть Ораниенбауме. С отрядом гусар Суворов арестовывает и заключает в крепость солдат экс-императора. Уже на другой день после ареста Петра Федоровича, 30 июня, адмирал Талызин доносил Екатерине из Кронштадта: «В силе же полученного сего числа из Раниенбома от генерал-поручика Суворова письма, в котором включено имянное Вашего императорского величества все-высочайшее повеление о перевозе из Раниенбома на судах голштинских генералов, так же штап-, обер- и ундер-офицеров и рядовых до несколька сот человек, суда и конвойных отправлять определено». Природных голштинцев Суворов отсылал в Киль, лифляндцев и малороссов — на родину, русские же получали новые паспорта и после приведения их к присяге в ораниенбаумской церкви принимаемы были на службу с теми же чинами. Из отпущенной ему суммы — семи тысяч рублей — В. И. Суворов представил более трех тысяч экономии. Деньги эти Екатерина ему подарила.
По всему чувствуется, что новая царица особливо доверяет В. И. Суворову, поручая ему наиболее деликатные, не терпящие отлагательства и огласки задания. Арестованный и направленный под крепким конвоем в Рошпу Петр Федорович просит Екатерину прислать ему кое-что из имущества и вернуть нескольких приближенных. Та в опровержение позднейших заграничных слухов о будто бы жестоком обращении с Петром отправляет письмо фактическому коменданту бывшей «голштинской столицы»: «Господин генерал Суворов. По получении сего извольте прислать, отыскав в Ораниенбауме или между пленными, лекаря Лидерса, да арапа Нарцыса, да обер-камердинера Тимлера; да велите им брать с собою скрипицу бывшего государя, его мопсинку собаку; да на таможния конюшни кареты и лошадей отправьте их сюда скорее».
Пришедшая к власти в результате дворцового переворота Екатерина чувствовала себя неуверенно. В среде гвардейских офицеров, обделенных счастливым жребием, происходило брожение. Столь легко удавшееся свержение императора, возвышение вчера еще безвестных Орловых кружило молодые головы. Потянулась цепь мелких заговоров, вплоть до знаменитой попытки поручика Мировича возвести на престол «императора под запретом» Иоанна Антоновича. Рядом с Екатериною мы видим «праведного судью» (выражение царицы), одного из руководителей Тайной канцелярии — сенатора Суворова, охраняющего ее от заговорщиков.
Очевидно, все поручения он исполнял с радением и такой суровостью, которая даже пугала молодую императрицу. Недаром она писала: «Суворов очень мне предан и в высокой степени неподкупен: без труда понимает, когда возникает какое-либо важное дело в Тайной канцелярии; я бы желала довериться только ему, но должно держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе предписала».
Екатерина торопится совершить то, чего не успел ее уже покойный супруг, — торжественно короноваться в Москве. В отличие от Петра III, презиравшего русские традиции и обычаи, она прекрасно понимала чрезвычайную важность этого шага. Но на кого оставить Петербург? Из двадцати пяти сенаторов в Москву на коронацию должны были отправиться двадцать (в их числе и Суворов-старший). Гвардия тоже следовала в Первопрестольную, а содержание городских караулов в Петербурге возлагалось на Астраханский полк. Надо ли говорить, сколь важно для новой царицы было иметь командиром этого полка человека доверенного. Выбор пал на А. В. Суворова. В августе 1762 года генерал-поручик Панин послал его с депешами в Петербург.
Суворов спешил в столицу с чувством радостной надежды. Его не могли оставить равнодушным слова манифеста Екатерины от 7 июля, где Петр III обвинялся в разрушении всего того, «что Великий в свете Монарх и Отец своего Отечества, блаженныя и вечно незабвенный памяти Государь Император Петр Великий, Наш вселюбезный Дед, в России установил, и к чему он достиг неусыпным трудом тридцатилетнего Своего царствования…». По всему чувствовалось, что прусским порядкам в России приходит конец. Это ощущалось даже в мелочах. Еще в Кенигсберге, у Панина, Суворов прочитал в «Санкт-Петербургских ведомостях» указание полицеймейстерской канцелярии, разрешающее впускать в столичные сады «всякого звания людей обоего пола во всякой чистоте и опрятности, а в лаптях и прусском платье пропускаемы не будут…».
Его охватило волнение, когда, подъехав к Петербургу, он увидел по-августовски темную зелень городских садов, золотые спицы высоких башен и колоколен, а затем верхний этаж нового дворца Зимнего, который только что был отделан.
— Мы уже в прах заждались тебя… — встретил Суворова отец, сообщив о том, что сама царица пожелала видеть подполковника.
Накануне представления Екатерине отец и сын отправились на куртаг к ее всесильному фавориту Григорию Григорьевичу Орлову. Первые сановники империи почитали за честь побывать на вечере у недавнего армейского поручика. Когда Суворовы вошли в нарядную, бело-голубую залу, гости слушали, как величественный поэт с открытым, по-русски круглым лицом, высокий и крепкий, в старомодном, петровских времен, кафтане и чем-то неуловимым сам напоминавший Петра I, читал оду на восшествие Екатерины II:
…А вы, которым здесь Россия Дает уже от древних лет Довольства вольности златыя, Какой в других державах нет, Храня к своим соседям дружбу, Позволила по вере службу Беспреткновенно приносить!..
— Сей статский советник, ученый и стихотворец Михайло Ломоносов, — шепнул Василий Иванович сыну, но тот уже узнал, кто читает эти волнующие, отвечающие его мыслям стихи, направленные против засилья иноземцев.
На то ль склонились к вам монархи И согласились иерархи, Чтоб древний наш закон вредить? И вместо, чтоб вам быть меж нами В пределах должности своей, Считать нас вашими рабами В противность истины вещей. Искусство нынешне доводом, Чтоб было над российским родом Умышлено от ваших глав К попранью нашего закона, Российского к паденью трона, К рушению народных прав…Ломоносов шагнул вперед, подняв над головой руку, голос его окреп и зазвенел:
Обширность наших стран измерьте, Прочтите книги славных дел И чувствам собственным поверьте: Не вам подвергнуть наш предел! Исчислите тьму сильных боев, Исчислите у нас героев От земледельца до царя, В суде, в полках, в морях и в селах, В своих и на чужих пределах, И у святого алтаря…Молодой великан в камзоле камер-юнкера поднялся из кресел, подошел к поэту и обнял его. Суворов с любопытством присматривался к Орлову, которого помнил еще юным гвардейцем-семеновцем.
— Отменно, Михаило Васильевич!.. Наша государыня воистину туда силы свои простирает, дабы вернуть отечество на путь, начертанный Петром Великим.
Ломоносов ответил Орлову:
— Единственно верный путь коего требует честь русского народа. Отечество наше может пользоваться собственными сынами и в военной храбрости, и в рассуждении высоких знаний…
Перед отъездом на коронацию Екатерина приняла подполковника Суворова.
В новом Зимнем дворце среди сонма вельмож Суворов увидел улыбающуюся женщину среднего роста, голубоглазую, темноволосую, с довольно острым носом. Она разговаривала с маленьким Салтыковым, надевшим ради торжественного случая нарядный фельдмаршальский мундир.
— Петр Семенович, — негромким грудным голосом говорила она с чуть заметным акцентом, — я все тебя спросить хотела, как же это удалось тебе разбить такого славного противника, каков король прусский?
— Это не я, матушка, — отвечал скромный Салтыков. — Все это сделали наши солдатики…
Григорий Орлов представил царице Суворова.
— Поздравляю полковника Астраханского полка, — сказала она и подарила ему свой портрет.
Сын своего века, дворянин, солдат, Суворов со свойственной ему простодушной экзальтированностью отнесся к этой встрече.
Придя домой, Суворов сделал на портрете надпись: «Это первое свидание проложило мне путь к славе…»
Семилетняя война показала Суворову многое. Он убедился в слабости традиционных военных теорий. Войска на марше двигались тяжело, обремененные огромными обозами, страшились оторваться от коммуникаций и искали не столько встречи с неприятелем, сколько выгодных позиций, где можно было бы без помех развернуть линейные порядки. Лишь в партизанской, «неправильной» войне Берга с Платеном молодой Суворов познал иную практику ведения боя, быстрого, маневренного. Семилетняя война явила Суворову в деле русского солдата с его беспримерной стойкостью, терпеливостью к лишениям и спокойной храбростью.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «СУЗДАЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
Солдат любит ученье лишь коротко и с толком… Тяжело в ученье — легко в походе; легко в ученье — тяжело в походе…
А. В. Суворов1
Коляску, остановившуюся у полковой избы, встретил адъютант унтер-штаба подпоручик Андрей Шипулин. Приехавший капитан был в обычной пехотной форме — зеленом кафтане, по случаю теплого времени расстегнутом на груди, красном камзоле и белых штанах. Ответив на приветствие Шипулина, он спросил:
— Где можно найти его высокоблагородие господина полковника Суворова?
— Извольте, господин капитан, я вас провожу…
У подпоручика на груди серебряный офицерский знак с вызолоченным гербом суздальцев: в золотом щите белый сокол в княжеской короне. Такие же, только медные, гербы на патронных сумах мушкетеров и на высоких суконных, с зеленым верхом гренадерских шапках.
Несмотря на то что утренние учения закончились, капитан не видел вокруг праздношатающихся солдат: все были заняты делом. Иные под присмотром капрала высаживали на пустыре деревья; другие складывали каменный фундамент под здание; третьи таскали к дороге на Старую Ладогу бревна и доски.
— Здесь господин полковник приказал разбить фруктовый сад… — молвил подпоручик. — Это вот будет школа для сирот солдатских, коя временно в мазанке помещается… А там, — он указал на штабеля бревен, — закладывается полковая Петропавловская церковь.
— В Суздальском полку, я вижу, солдаты сложа руки не сидят, — удивился капитан.
— Наш командир внушает, что праздность — корень всему злу, — пояснил Шипулин, — так что в свободное от экзерциций время солдаты благоустройством гнезда своего полкового заняты. Господин полковник самолично в том участие принимает…
— А где он теперь?
— Проводит с солдатскими детьми урок… Сам составил молитвенник и короткий катехизис. Написал такоже учебник арифметики. Он у нас полковник особливый. — В тоне и словах Шипулина звучала гордость. — Солдаты его без памяти любят, офицеры тоже. Ну а кому из господ офицеров не по душе его учение, те перевелись в другие полки…
— Смею спросить, что же это за учение?
— «Полковое учреждение» — добавление к пехотному уставу 1763 года. Его имеют на руках все должностные лица, начиная от командира роты и кончая капралом. Неустанным и неизнурительным повторением экзерциций господин полковой командир готовит нас к военным действиям. Подымает по тревоге на марши, приучает к длинным переходам. Постигаем искусство осады крепостей. Как-то на походе повторял он нам беспрестанно: «Солдат и в мирное время на войне…» Встретился нам монастырь. По велению командира полк бросается по всем правилам на штурм, солдаты взбираются на стены с криком «ура», и победа оканчивается взятием монастыря. Полковник наш извинился перед напуганным настоятелем, объяснил, что он учит солдат. Но жалоба на высочайшее имя была подана…
— И что же?
— Ее императорское величество командира нашего перед другими отличает. Сказывают, только посмеялась сему происшествию и ответила: «Не троньте его, я его знаю…» Осенью произвела в Петербурге нашему полку смотр, осталась им чрезвычайно довольна, пожаловала офицеров к руке, а нижним чинам повелела выдать по рублю…
За разговором офицеры незаметно добрались до мазанки, где помещалась школа для солдатских детей, за нею другая, в которой учились солдаты-дворяне.
— Постойте! — Словоохотливый подпоручик сразу весь подобрался, стал строже, официальнее. — Никак, его высокоблагородие!
Перед мазанкой с окнами, затянутыми промасленной бумагой, Суворов громко распекал двух подпрапорщиков, энергично помогая себе жестами:
— Безграмотной дворянин отличность в полку имеет против прочих разночинцев только в том, что его за вину штрафуют ударом по спине плашмя саблей или тесаком, а не палкою!.. Ленивка! Лукавка! Ни в какой чин не производить, пока по-российски читать и писать довольно не обучатся!..
Капитан был поражен стремительностью слов и движений Суворова, который, не переставая внушать нерадивым ученикам, успел что-то коротко сказать полковому священнику, дать распоряжение рыжему дворовому и теперь уже махал рукою подпоручику и капитану. Казалось, Суворов ощущал потребность делать одновременно тысячу дел, переносясь как молния от предмета к предмету, от одной мысли к другой.
— Кто таков? — подступился он к капитану.
— Капитан Алексей Набоков. Прибыл в полк для прохождения службы.
— Постой! Постой! — Суворов склонил голову набок, разглядывая офицера. — Ты, часом, не брат ли Андрея Ивановича Набокова?
— Брат, господин полковник!
Набоков прекрасно знал о приятельстве Андрея Ивановича, служившего в Военной коллегии, с Суворовым. Но он знал уже и о другом — о нелюбви полковника к похлебству — кумовству, ко всякого рода рекомендациям родственников и знакомых — и потому не торопился отдавать письмо брата.
— А и молодец какой! Ростом, статью, лицом — истинной русский! — Суворов обежал капитана. — Обвыкай да проштудируй-ка мое «Учреждение», тогда и роту получишь. А пока, — он хлопнул в ладоши, обращаясь к рыжему дворовому, — готовь, Ефимка, нам с капитаном ужин. — Он подмигнул ему. — Ты ведь у меня и ключник, и казначей, и камердинер, и славный повар!
Читая «Полковое учреждение», молодой офицер восхищался воспитательной системой, применяемой Суворовым в Суздальском полку. Главным здесь было строевое обучение, «искусство в экзерциции» солдата, «в чем ему для побеждения неприятеля необходимая нужда. Для того надлежит ему оной обучену быть в тонкости». Суворов требовал: «и в начале господам обер-офицерам должно оную весьма знать и уметь показать, дабы, убегая праздности, подчиненных своих в надлежащее время и часы, чтобы ее не забывали, в ней свидетельствовать и без изнурения подробно изучать могли, так, чтоб оное упражнение вообще всем забавою служило».
Стремясь выработать из «новоповерстанных» умелых и неустрашимых солдат, Суворов строго указывал командиру: «В обучении экзерциции и протчего наблюдать, чтоб поступаемо было без жестокости и торопливости, с подробным растолкованием всех частей особо и показанием одного за другим». Такая метода — от простого к сложному — не позволяла даже усомниться в успешном достижении цели.
Правда, замечательное своей новаторской устремленностью «Полковое, или Суздальское, учреждение», появилось не на пустом месте. В 1764 году русские войска получили «Инструкцию полковничью пехотного полку» А. И. Бибикова, в какой-то мере возвращавшую порядки Петра I. Значительно уступая «Суздальскому учреждению», она тем не менее была, бесспорно, прогрессивной для своего времени, особенно в той части, которая посвящалась воспитанию и обучению новобранцев. И все-таки в армии продолжала процветать палочная дисциплина. Всяк торопился из новобранца сделать солдата, а торопливость вела к батожью и шпицрутенам как самому надежному средству воздействия. Недаром в народе сложено было столько песен о жестокости обхождения с рекрутами, о горькой солдатской доле, о бесчеловечности самого обучения:
Нам ученье ничево, Только очень тяжело, Между прочим, тяжело, Что не знаем ничево: Ни налево, ни направо, Бьют солдата чем попало — И прикладом, тесаком: Не будь, солдат, дураком…Суворов был сторонником строжайшей дисциплины. Воинское послушание составляло для него незыблемую основу порядка, тем более что век был суровый, армия комплектовалась из крепостных, не лучших по выбору, на войне законной считалась «добыча». По нужде он прибегал и к «палочкам». «Вся твердость воинского правления, — учил командир суздальцев, — основана на послушании, которое должно быть содержано свято. Того ради никакой подчиненной перед своим вышним на отдаваемый какой приказ да не дерзнет не токмо спорить или прекословить, но и рассуждать…»
Однако, требуя беспрекословного послушания, Суворов добивался его отнюдь не жестокостями, утверждая, что «умеренное военное наказание, смешанное с явным и кратким истолкованием погрешности, более тронет честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние». Главным он считал воспитание в нижних чинах нравственного чувства.
«Всякий имел честолюбие», — скажет Суворов, вспоминая годы суздальского учения. Он старался пробудить во вчерашнем крепостном ощущение собственного достоинства, самостоятельность, инициативу, убежденность в выполнимости поставленных командиром задач. Обученный «на суворовской ноге» солдат верил в свои силы, не мог растеряться, оказавшись в неожиданных условиях боя, был отважен и храбр. Если ставшая после Семилетней войны повсеместной модой прусская система воспитания подавляла в солдате личность, превращая его в неодушевленную часть общего военного механизма, то ей противоположная — суворовская на личность опиралась, вырабатывала у каждого глубоко сознательное отношение к воинскому долгу. С помощью соревнования, поощрения ревностных, исполнительных подчиненных перед солдатами открывалась перспектива продвижения по службе, обещавшая славу и почести. Суворов постоянно обращался к чувству национальной гордости, любви к своему отечеству. Подкреплением нравственного воздействия служило воспитание религиозное.
Суворов прекрасно понимал важность нравственного воспитания, отдавая при этом определенную дань воспитанию религиозному. «Кто боится Бога — неприятеля не боится», — не раз повторял он. В 1771 году в Польше Суворов писал своему начальнику Веймарну: «Немецкий, французский мужик знает церковь, знает веру, молитвы; у русского едва знает ли то его деревенский поп; то сих мужиков в солдатском платье учили у меня некиим молитвам. Тако догадывались и познавали они, что во всех делах Бог с ними, и устремлялись к честности». Для солдат было обязательным чтение вслух и заучивание молитв, соблюдение всех религиозных обрядов, включаемых в общую систему строевой подготовки. Суворов свято чтил добрые обычаи предков и даже любил нарочно усиливать все то, что начинало казаться устарелым, патриархальную простоту прошлого. Не только непристойности, но и двусмысленности запрещалось говорить в его присутствии.
Нравственное воспитание предопределяло неукоснительное выполнение солдатом своих обязанностей, которые были подробно разобраны в «Полковом учреждении», вплоть до мельчайших и как будто бы незначительных сторон воинского быта. Но для Суворова великое начиналось с малого; даже не сочувствуя обременительным излишествам в наряде пехотинца, он требовал безусловного и скрупулезного выполнения всех уставных положений. В «Учреждении» содержатся указания, как солдат-гренадер и мушкетер должен быть одет, обут, причесан, напудрен; говорится, в частности, об убранстве головы, о буклях и косах, об усах у гренадер; тут же перечислены предметы, которые надлежит солдату иметь при себе, чтобы содержать в порядке обмундирование, снаряжение, ружье. Здесь учтено и предусмотрено все, вплоть до того, как и где выпивать солдату:
«Нижним чинам вино и протчее пить не запрещаетца, однако не на кабаке, где выключая что ссоры и драки бывают и военной человек случаетца во оные быть примешен; по крайней мере через сообщение тамо с подлыми людьми он подлым поступкам, речам и ухваткам навыкнуть может и потеряет его от них отменность. Чего ради, вышедши, из кабака и купя пива или вина, идти немедленно из него вон и выпить оное с артелью или одному в лагере ж или в квартире…» Нетрудно заметить, что и в этой рекомендации явлена все та же забота о нравственном воспитании: вино само по себе не зло — важно лишь исключить возможность дурных поступков и последствий.
…Через несколько дней после приезда Набокова в полк барабанщики ударили ночью тревогу. В пять минут палатки были уложены на возы, и полк, взяв провианту на сутки и наполнив манерки водкою, выступил в поход. Споро пройдя около сорока верст, суздальцы вышли близ деревни Вындин Остров к берегу Волхова, где стоял красивый и довольно высокий курган, увенчанный густою шапкою столетних сосен. После обеда и короткого отдыха Суворов приказал мушкетерам и гренадерам строиться поротно, а обер-офицеров собрал на кургане.
— Граф де Сакс говаривал: «Для обыкновенных умов война есть ремесло, для превосходных — наука». В чем ее первейшая экзерциция состоит? — Суворов подбежал к крутому склону и громко, внятно, так что слышал весь полк, отчеканил: — В захождении и захождении! Дабы солдат ко всякому движению и постановлению против неприятеля искусен был. — Он сделал паузу и, помогая себе резкими жестами, энергично закончил: — Победа зависит от ног, а руки — только орудие победы!
Солдаты под командованием своих унтер-офицеров производили лишь самые простые перестроения: излишних строевых хитросплетений Суворов не уважал, понимая их никчемность в деле, и презрительно именовал «чудесами». Невысоко ценил он и ружейные приемы, почитавшиеся в тогдашней армии за самую существенную часть строевого образования. Во многих полках ружья, чтобы они стояли отвесно, когда солдаты держат их на плече, имели прямые ложи, что было совсем неудобно для стрельбы; приклады были выдолблены, и положено было в оные несколько стекол и звучащих черепков, дабы при исполнении приемов каждый удар производил звук. Из-за пустого по смыслу и вредного в боевом отношении франтовства в жертву наружной красоте фузеи и эффектному исполнению приемов приносились военные качества оружия.
Проверив, как колонны разворачивались в шеренги, смыкали и размыкали ряды, Суворов отдал команду начать любимейшее свое упражнение — сквозную атаку.
— Покажите-ка, господа обер-офицеры, как ваши солдаты русским штычком владеют!..
Не получивший еще роты Набоков вместе с адъютантом унтер-штаба Шипулиным остался на кургане. Он наблюдал невиданную экзерцицию — штыковую атаку, почти позабытую после Семилетней войны и не упомянутую в последнем пехотном уставе 1763 года.
Глядя сверху на ровное и широкое поле, Набоков заметил:
— Место-то для упражнений больно удобное, и вид отсель отменный.
— Любимейшее место нашего полкового командира, — отозвался Шипулин. — Мы курган сей промеж себя прозвали Суворовскою сопкою…
Зеленые шеренги суздальцев, ощетинившиеся штыками, стремительно сближались. Казалось, Набоков присутствует при настоящей рукопашной, где обе стороны, с офицерами на правом фланге, неудержимо шли на прорыв. Лишь в самый последний момент солдаты подняли штыки и, сделав пол-оборота, протиснулись в интервалы, образовавшиеся в шеренге «противника». Несколько мушкетеров заколебались, промедлили и тут же получили штыковые царапины. Суворов скатился с кургана.
— Второй роте назавтра упражнение повторить паки и паки!.. Пятая — орлы! — Он стремительно обнял худенького подпоручика. — Твои солдаты, Железнов, богатыри! Ты не Железнов, братец, а Железный! Право, Железный!..
Набоков встречал в Петербурге отца подпоручика — Ивана Петровича Железнова, влиятельного управляющего канцелярией Екатерины, и ожидал увидеть в его сыне скорее неженку и белоручку. Однако сквозная атака показала капитану, что Железнов — деятельный и отважный пехотный офицер.
Суворов, слегка припадая на одну ногу, бежал вдоль строя:
— Молодцы, суздальцы! С вами я готов побеждать!..
Готовя своих солдат к будущим боям, он приучал их не дожидаться опасности, а смело идти ей навстречу. Этой цели служили наступательные операции с преимущественной атакой холодным оружием. На Суворова произвели огромное впечатление действия русской пехоты в Семилетнюю войну, особенно рукопашная в битве при Кунерсдорфе.
Штыковой удар требовал особенного, исключительного напряжения воли. Из западноевропейских армий к атакам холодным оружием наиболее способной была французская; немцы заменили рукопашную огнем, стремясь сделать его более частым. Почти повсеместное поклонение Фридриху II и его системе привело к тому, что штыком стали пренебрегать. Прусский наемник, не имевший отечества, понятно, не годился для штыкового удара. Ничтожность тогдашнего ружейного огня, поражавшего лишь на шестьдесят — восемьдесят шагов, Суворов оценил вполне в ту же Семилетнюю войну, признав негодным для пересадки на русскую почву прусский образец. Его философские взгляды на военное дело исходили из глубокого понимания особенностей русского солдата.
«При недостаточности обучения вообще, — замечал А. Петрушевский, — и при слабости огнестрельного действия в особенности русская армия всегда чувствовала склонность к штыку; но эта склонность оставалась инстинктивной и неразвитой. Суворов взялся за дело рукою мастера. Драгоценная особенность русской армии, замеченная им в Семилетнюю войну, стойкость — была элементом, обещавшим Суворову богатую жатву. Предстояло дорогой, но сырой материал — пассивную стойкость обработать, усовершенствовать и развить до степени активной настойчивости и упорства…»
Вопреки всей Европе безвестный полковник придал штыку значение первостепенное и сделал его главным военно-воспитательным средством. То, что практиковалось в 1763–1768 годах в Суздальском полку, Суворов применил затем ко всей русской армии.
Из скромного «Полкового учреждения» впоследствии выросла знаменитая «Наука побеждать».
2
Назначенный в 1762 году командиром Астраханского пехотного полка, Суворов пробыл в нем всего семь месяцев и 6 апреля 1763 года по именному высочайшему указу был переведен в Суздальский.
Полк этот являлся одним из старейших и знаменитейших в русской армии. Он был образован подполковником Ренцелем из солдат, пробившихся из окружения в битве со шведами при Фрауштадте 2 февраля 1706 года. Под своим алым знаменем Ренцелев полк совершил знатные подвиги на поле брани в петровскую пору: при Полтаве он преследовал отступавших шведов, а у Переволочны в составе отряда Меншикова пленил остатки разбитой армии Карла XII; участвовал в осаде Риги в 1710 году и взятии Динамюнда (Усть-Двинска), а затем — в неудачном Прутском походе. В армии Миниха суздальцы успешно воевали в Крыму в 1735–1736 годах, штурмовали и обороняли Очаков в 1737–1739 годах, под командованием Ласси сражались в течение всей победоносной войны 1740–1743 годов со шведами. В Семилетней кампании Суздальский полк прошел буквально через все баталии. Не будет преувеличением сказать, что его история была и историей русской армии.
Суворов в короткий срок превратил Суздальский полк в образцовую воинскую часть, в новаторскую школу воспитания солдата. Свою отличную боевую выучку суздальцы продемонстрировали на маневрах, проведенных по указанию Екатерины летом 1765 года. Это был первый случай в истории русской армии, когда в период компонентов, то есть лагерного сбора, проверялась боевая подготовка войск.
Семилетняя война выявила как замечательные боевые качества русского солдата, так и серьезные недостатки в организации и управлении вооруженных сил, прежде всего их слабую маневренность, малоподвижность. С первых же дней своего царствования Екатерина обратила внимание на захиревших детей Петра I — армию и флот, постепенно возродившийся после долгого небытия. Она ходила с флотом в Кронштадт и за Красную Горку, присутствовала на морских маневрах и при бомбардировании специально построенного городка на острове Гаривалла. Энергично укреплялась и модернизировалась армия. Важнейшим нововведением было учреждение специального егерского корпуса — сперва небольших команд легкой стрелковой пехоты, действовавшей как в сомкнутом, так и в рассыпном строю. Одновременно выявилась необходимость в формировании легких конных полков из коренного русского и украинского населения, а не только из окраинных национальных меньшинств — сербов, молдаван, венгров, грузин, как это делалось прежде.
На сборах 1765 года перед войсками были поставлены весьма конкретные задачи: «не солдатство токмо ружейной экзерциции обучать, но пользу установленных ее императорским величеством новых учреждений видеть; генералам подать случай показать новые опыты доказанного уже ими искусства; ревнительным офицерам являть частию свою способность быть таковыми ж и частию обучаться тому, чего не ведают, и наконец всем вообще, воспоминая свои прежние подвиги, доказать, елико можно во время глубокой тишины и покоя, коль охотно и усердно все и каждый понесли бы жизнь свою за честь и славу великия своея самодержицы и в оборону своего Отечества».
Главный лагерь указом Военной коллегии велено было собрать в тридцати верстах от Петербурга, неподалеку от Красного Села, и состоять ему из трех дивизий — первой, под руководством А. Б. Бутурлина, второй — А. М. Голицына, третьей — П. И. Панина. Кроме того, под командою бригадира И. М. Измайлова был сформирован «особливый легкий корпус» из Суздальского, Санкт-Петербургского карабинерного, Грузинского гусарского полков, ста пятидесяти егерей, двух орудий и двухсот казаков. Один из батальонов Суздальского полка наравне с лейб-гвардии Конным полком оставался для охраны «главной квартиры» — ставки Екатерины у подошвы Дудуровской горы. Гвардейские полки входили в состав первой дивизии, причем Измайловским командовал Суворов-старший.
Василий Иванович Суворов достиг к этому времени наивысшего своего положения; 12 июля 1762 года именным указом он был назначен членом Военной комиссии при высочайшем дворе, 9 марта 1763 года получил чин генерал-аншефа, а еще через три года — орден Святой Анны. 11 июля 1763 года Суворов-старший был пожалован в подполковники лейб-гвардии Измайловского полка, полковником коего, как известно, являлась сама Екатерина.
…Собранные войска 15 июня 1765 года вступили в лагерь, причем Александр Суворов привел свой полк из Новой Ладоги форсированными маршами. Несколько дней ушло на проведение ружейных экзерциций. 19 июня в пятом часу пополудни выстрел сигнальной пушки возвестил о начале торжественного парада. Полки выстроились в две линии перед своими палатками.
Находясь в строю суздальцев, которые были в парадном убранстве — шляпах с бантом и шерстяными кисточками, мундирах с красными лацканами и галстуках из красного стамеда, с бело-желтым погоном на левом плече, — полковник Суворов слышал накатывающееся с правого фланга могучее русское «ура». Как нарастающий гул морского прибоя, как надвигающаяся гроза, оно росло и надвигалось. Словно одна огромная грудь выдыхала это грозное слово, в котором слышался отзвук недавних побед при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе и Кольберге.
Приближалась блестящая кавалькада. Впереди с обнаженною шпагою ехал командовавший парадом граф Бутурлин. Старый фельдмаршал держался в седле неловко и грузно, что еще более подчеркивала щеголеватая посадка следовавшего за ним конногвардейца, у которого взамен обычного парика из-под треуголки свободно ниспадали на плечи черные локоны. То была императрица. Ее сопровождал на смирном коне мальчик, живоглазый, курносый, в сверкающей золотом вензловой кирасе, синем кафтане и золоченом шлеме с плюмажем — полковничьем убранстве конной гвардии, — великий князь Павел Петрович. Позади них ехал красавец генерал-адъютант и с недавнего времени граф — Григорий Орлов. В пышной толпе придворных Суворов увидел и своего отца в мундире измайловца. Залпы сорока четырех орудий и беглый ружейный огонь сопровождали процессию на всем пути ее следования.
Были образованы две армии — государыни и Панина. 20 июня панинская дивизия дефилировала двумя колоннами в свой новый лагерь — при реке Пудости, близ деревни Пуско. На следующий день Екатерина произвела с легким корпусом рекогносцировку неприятельского расположения. Сначала Измайлову было приказано занять деревню Технину, не высылая никаких патрулингов, дабы форпосты противника до времени не тревожить, затем императрица отправилась с корпусом к насупротивному крылу. Разумеется, Панин в соревновании с Екатериною был уступчив, при приближении казаков и гусар отвел свои пикеты, хотя и чинил им непрерывные нападения. Наступательными действиями авангарда руководил полковник Суворов.
Характерно, что неизвестный автор, описывающий в официозной брошюре Красносельские маневры, приводит в ней имена только некоторых генералов, не упоминая вовсе штаб-офицеров. Исключение сделано лишь для Суворова. Этим подтверждается, что Суздальский полк уже успел выдвинуться из ряда других полков своей обученностью, маневренностью, быстротой.
При всей условности этих первых в истории русской армии маневров, они, однако, имели немалое практическое значение. Это была игра, но приближенная к военной обстановке, с атаками, обходами и даже главной баталией, которая состоялась 25 июня. 1 июля войска были распущены по квартирам, причем Суздальский полк двинулся в Ладогу снова ускоренным маршем, при этом не оставив в пути ни одного больного.
Опять потекли полковые будни, до предела насыщенные учебой и трудными упражнениями. Менее всего Суворов щадил самого себя. «Знают офицеры, — писал он впоследствии Веймарну, — что я сам делать то не стыдился… Суворов был и майор, и адъютант, до ефрейтора; сам везде видел, каждого выучить мог». В Ладоге он беспрестанно производил походные движения, заставлял полк бивуакировать, переходить реки и ручьи вброд, прыгать через широкие рвы, совершать в пути боевые ученья. Днем и ночью, летом и зимой, в жару, в дождь, в мороз неутомимый полковник водил солдат экзерцировать, маршировать с ружьем, заходить, атаковать. Порою он не спал по нескольку ночей кряду, питался самою грубой походной солдатской пищей, сутками не слезал с лошади.
Внешне он казался подчиненным воплощением силы, энергии, выносливости. Никто даже не догадывался, какой трудной ценой доставались Суворову его навыки. Он все еще продолжал борьбу с природной хилостью и слабостью организма. Процесс этот был долгий и многотрудный, пока наконец дух не одержал победу над плотью. Не раз самому Суворову казалось, что кончина близка, что тщедушный организм не выдержит установленных им же чрезвычайных нагрузок. «Головные и грудные боли не прекращаются, — жаловался он знакомой Л. И. Кульневой. — У меня остались кости да кожа, я раздражен, похож на осла без стойла. Во всем напоминаю настоящий скелет или тень, витающую в воздушном пространстве; я точно беспомощный, поглощаемый волнами корабль. Смерть чуть не перед глазами у меня. Она медленно сживает меня со свету, — но я ее ненавижу, решительно не хочу умирать так позорно. Хотел бы ее найти только на поле сражения». За скупыми строками этого письма, первого из дошедших до нас и датированного 1764 годом, возникает настоящая драма целеустремленного и героического характера.
В Петербурге меж тем уже ходили легенды о «чудаке-полковнике», о его странных выходках, оригинальничанье, необычных действиях. Однако за чудачествами Суворова скрывалась продуманная до мелочей, четкая система. Изучая действия пехоты, Суворов исключил залп, предшествовавший атаке, ради принципа: «в атаке не задерживай». Но, отводя ружейному огню скромную роль, командир суздальцев не отвергал его значения вовсе. Он лишь настойчиво указывал на неэффективность и даже вредность бесприцельных залпов, производя экзерциции и «цельные» стрельбы, занимаясь лично с теми ротами, где было более всего новобранцев.
Пройдя вдоль строя, Суворов взял у правофлангового — добродушного вида гиганта — его ружье и начал объяснять:
— Оружие и амуниция рядового фузилера суть: шпага с портупеею, фузея с медным шомполом, штыком, пыжевником, трещоткою, замочного заверткою, погонным ремнем, натруска, патронная сума с жестянкою и перевязью, ранец и водоносная фляжка.
Солдаты, старослужащие и новобранцы, с одинаковым вниманием слушали своего полкового командира.
— Фузея заряжается дульным патроном с бумажною гильзою, коя именуется картуз… Склеиваешь патрон… Перед заряжанием скуси картуз со стороны пороха… Теперь сыпешь из патрона немного пороху на полку. Остальной заряд — в ствол, закупориваешь пулею с бумажною гильзою и забиваешь шомполом. — Он вернул фузею солдату. — Можешь повторить?..
В огромных ручищах правофлангового фузея казалась игрушкою; тем удивительнее была ловкость, с которою великан зарядил ружье. Но особенно отличился он при стрельбе в ростовые мишени, не сделав ни одного промаха, в то время как многие ни разу не попали.
После учений Суворов по обыкновению собрал солдат для короткой беседы. Суздальцы так тесно обступили его казачью лошадку, что она не могла повернуть морды.
— В деле, хотя бы весьма скоро заряжать, скоро стрелять отнюдь не надлежит! — строго сказал он.
— Пуля виноватого найдет, господин полковник, — пробовал вступиться за своих мушкетеров Набоков.
— Сие могло быть в нашем прежнем нерегулярстве, — молниеносно обернувшись к капитану, отрезал Суворов, — когда мы по-татарскому сражались, куча против кучи! Задние не имели места целить дулы, вверх пускали беглый огонь!
Он нашел взглядом отличившегося солдата:
— Как звать, братец?
— Климов, ваше высокоблагородие.
— Искусен ты в огневом деле. Думаю, что и штычком русским владеешь не хуже…
— Штыковому бою обучен совершенно, — отозвался Набоков.
— Чудо-богатырь! Эдакими-то ручищами и толь быстро и сноровисто фузею зарядил…
— И, вашескородие, — ответил Суворову курносый и румяный солдатик, — что фузея! Наш Климов вошь на г… убьет и рук не замарает!
По толпе прошел хохот.
— Капитан Набоков, — переждав смех, сказал Суворов, — и как же такой чудо-богатырь по сию пору в капралы не представлен? Поздравляю, господин капрал! — И медленно выехал из толпы.
Пятилетнее командование Суздальским полком в мирных условиях позволило Суворову со всей страстностью и целеустремленностью его натуры отдаться преобразовательской деятельности. Нижние чины видели в своем полковом командире не только начальника строгого и требовательного, но и непрестанно заботящегося об «успокоении и удовольствии» солдата, о его «целости», в чем, по выражению Петра I, «все воинское дело состоит». Авторитет полковника зиждился на его безукоризненном, образцовом поведении, несении всех воинских тягот, хозяйственности, бережливости и кристальной честности.
При преемниках Петра полковые командиры часто употребляли солдат на свои личные нужды, не стеснялись пользоваться и казной. Их жалованье равнялось семистам — восьмистам рублям, а доход — пятнадцати — двадцати тысячам. Екатерина II раз так ответила чиновнику, ходатайствовавшему перед нею за одного бедного офицера: «Он сам виноват, что беден: ведь он долго командовал полком». Таким образом, воровство было разрешено, а честность считалась чуть не глупостью. Унаследовавший от отца сугубую бережливость, Суворов всю до копейки экономию употреблял на дальнейшее благоустройство полка.
Посетивший Новую Ладогу в 1766 году губернатор Сиверс нашел уже образцовое полковое хозяйство — выстроенные школы, церковь, конюшни, разведенный на бесплодной песчаной почве сад. В одной из школ имелось даже некое подобие сцены, на которой к приезду губернатора ладожские кадеты разыграли специально поставленную пьесу.
Умный и честолюбивый, предельно волевой и всесторонне образованный, всецело отдающий себя службе, Суворов, следуя заветам Петра, готовил подчиненных исключительно для военного времени: «Надлежит непрестанно тому обучать, как в бою поступать». Огневые испытания для суздальцев были близки: в 1768 году начались военные действия против польских конфедератов и турок.
Возведенный 22 сентября того же года в чин бригадира, Суворов стремился туда, где, по его собственным словам, «будет построже и поотличнее война», то есть на турецкий фронт. Ради этого он был готов даже расстаться со своим полком. Таков смысл его письма А. И. Набокову от 15 декабря 1768 года. 9 января следующего года он вновь повторил свою просьбу Андрею Ивановичу. Могущественный еще недавно покровитель, отец мало чем мог ему теперь пособить. Как раз в 1768 году он выходит в отставку с сохранением полного содержания и переезжает в Москву, где покупает дом в Земляном городе, вблизи Никитских ворот.
Вопреки его собственным желаниям Суворов был вызван в Польшу. В ноябре 1768 года он получил приказ о немедленном выступлении в Смоленск. Новоиспеченный бригадир устремился в поход с такой поспешностью, что даже не успел отдать распоряжений об оставшемся в Новой Ладоге полковом имуществе и посылал указания с дороги. Предстояло пройти восемьсот шестьдесят девять верст, в самое дурное осеннее время, болотистою стороною, по бездорожью, в грязь и распутицу. Но Суворов не был бы Суворовым, если бы не обратил все эти неблагоприятные условия себе на пользу.
До сих пор его марши не превышали ста пятидесяти верст; самым длинным был поход из Новой Ладоги до Красного Села и обратно. Представлялся случай проверить солдат в трудном деле. Посадив полк «на колеса», бригадир привел его в Смоленск ровно через месяц: за тридцать переходов захворало лишь шестеро и пропал один.
Россия вступала в полосу новых войн, которые должны были окончательно решить ее значение как великой державы в Европе и Азии. Суворову, состоявшему в скромном воинском звании бригадира, предстояло сыграть в этих кампаниях роль самую выдающуюся.
ГЛАВА ПЯТАЯ ОТ СМОЛЕНСКА ДО ВИЛЬНЫ
1
Пасхальный стол полномочного министра Екатерины при варшавском дворе князя Николая Васильевича Репнина ломился от яств. За ним сидело не менее ста вадцати человек.
Хозяин, потомок знатнейшей в России фамилии, ведущей начало от великого князя Владимира, был внуком петровского фельдмаршала Аникиты Ивановича Репнина и племянником екатерининского вельможи Никиты Панина.
Поклонник масонов и сугубый мистик, он придавал числам особливый смысл. Все на столе должно было служить каким-либо символом: четыре кабана, нашпигованные поросятами, ветчиной и колбасами, соответствовали четырем временам года; двенадцать начиненных дичью зубров означали число месяцев; триста шестьдесят пять ромовых баб и столько же куличей, мазурок, жмудских пирогов и украшенных фруктами лепешек указывали на количество дней в году. Не позабыты были и вина: на столе стояло четыре стопы, двенадцать кубков, пятьдесят два бочонка итальянского, кипрского, испанского и триста шестьдесят пять бутылок венгерского; дворне было послано восемь тысяч семьсот шестьдесят кварт меду, по числу часов в году.
Среди однообразно зеленых генеральских и офицерских мундиров выделялись, как цветы на лужайке, яркие женские наряды — розовые, голубые, белые, алые; пышные прически были украшены шелковыми бантами, страусиным пером, целыми сооружениями из шиньонов с бриллиантами и жемчугом. Казалось, во дворце князя, дававшего прощальный обед перед отъездом в Россию, расцвел маленький Париж. Лишь более внимательный взгляд мог выделить в этой ослепительной веренице драгоценных причесок, хорошеньких лиц, роскошных туалетов голубоглазую красавицу, сидевшую подле Репнина, — его фаворитку Изабеллу Чарторижскую.
Кроме нее и десятка паненок, все собравшиеся за пасхальным столом были русскими подданными, и потому разговор тек свободно, без околичностей и политеса. Военные рассуждали о недавних победах над конфедератами, о восстании Железняка и Гонты в Правобережной Украине, о двусмысленном поведении короля Станислава…
Объединившиеся в XVI веке в одно государство Речь Посполитая, Польша и Литва распространили было свое господство на огромные территории к востоку от Днепра и Западной Двины. К XVIII веку, однако, все переменилось. Как отмечает советский историк, «в течение 20-60-х годов XVIII в. политическая жизнь Польши являла собой картину полнейшей» анархии. Бесконечные интриги магнатства и шляхты, бескоролевье и борьба за престол, правительство, не способное провести на сейме никакого решения, малочисленная, плохо организованная и вооруженная армия, лишенная твердой дисциплины, — все это приводило Речь Посполитую в состояние полного развала. Все более значительное влияние на ее политическое развитие стали оказывать иностранные державы, не желавшие допустить ее усиления или рассматривавшие ее как выгодный козырь в сложной дипломатической игре.
Избранный в 1764 году королем польским Станислав Понятовский, фаворит Екатерины в бытность ее принцессою, был наделен честолюбием, но отличался мягким, робким и нерешительным характером. Он сразу же столкнулся с трудностями, разрешить которые у него не хватило ни способностей, ни сил. Речь шла о положении диссидентов — разномыслящих в вере, большею частью православных — украинцев и белорусов, притесняемых католической церковью и искавших помощи у России. Воспользовавшись их жалобами, Екатерина II и Фридрих II потребовали уравнения диссидентов в правах с католиками. Репнин, опираясь на десять тысяч русских штыков, предложил польскому сейму обеспечить свободу вероисповедания и гражданские права иноверцам. Встретив сопротивление шляхты, он приказал ночью арестовать четырех влиятельных вожаков и отправить их под конвоем в Россию. Недовольные депутаты примолкли, и закон о диссидентах был принят.
Взрыв негодования распространился по дворянской Польше. В местечке Бар Каменецкий епископ Михаил Красинский, адвокат Иосиф Пулавский со своими тремя сыновьями 29 февраля 1768 года составили конфедерацию, то есть союз против решений сейма. Они объявили Станислава лишенным престола и послали своих людей в Турцию, Саксонию и Францию за помощью. Число конфедератов быстро увеличивалось, хотя движение это носило характер чисто дворянский: отвлеченные лозунги не могли увлечь подневольное крестьянство. Как отмечается в написанной советскими учеными «Истории Польши», «Барская конфедерация по своей программе в целом была реакционным католическо-шляхетским движением, направленным в такой же мере против каких бы то ни было реформ в Речи Посполитой, как и против царской России».
В ответ на конфедерацию Екатерина II ввела в пределы Польши новые войска, объединив их под командованием генерал-поручика Веймарна. Столкновения с конфедератами повсюду оканчивались их поражением. Тогда фанатизм конфедератов обратился против православного населения. Возбуждаемые католическим духовенством, они преследовали покинувших унию украинцев, издевались над православными священниками, запрягали их в плуги, били каменьями, секли терновыми розгами, насыпали в голенища горячих углей, забивали в колоды. Назревало уже иное восстание — угнетенных украинских крестьян против польской шляхты. Его возглавили запорожец Максим Железняк, оставивший уже войсковое житье и находившийся на послушании в монастыре, и казачий сотник Иван Гонта.
Страшившейся народного восстания больше, чем движения польских дворян, Екатерине II пришлось проявить сословную солидарность. Посланный ею бригадир М. Н. Кречетников обманом захватил гайдамацких вожаков. Железняк был сослан в Сибирь, а Гонта выдан королевским польским войскам, где его предали мучительной казни. Когда с его спины снимали двенадцать полос кожи, Гонта говорил полякам: «От казали: буде боліти, а воно нi крапки не болить, так наче блохи кусають!» Затем его четвертовали.
Между тем военные действия против конфедератов не прекращались ни на один день. Для успешного ведения начавшейся войны с турками и недопущения их в Польшу, где бы они могли соединиться с мятежными конфедератами, надобно было употребить усилия для занятия польских крепостей Замостья и Каменец-Подольского, пограничных с Оттоманской Портою. Гостей Репнина волновал поступок короля Станислава, который в ответ на тайное предложение Репнина уступить крепости собрал своих министров и объявил им о русских намерениях.
— Я заявил королю, что занятие Замостья необходимо для безопасности Варшавы в случае татарского набега из Крыма и что я овладею крепостью хотя бы и с огнем. Если вы хотите, чтобы война шла не у вас, а в турецких границах, сказал я Станиславу, то отдайте нам и Каменец… — слегка гнусавя, цедил французские слова маленький, смуглолицый и изящный Репнин, генеральский мундир которого украшал орден Александра Невского на пунцовой ленте — награда за успешные действия в Польше.
— И что же его величество? — спросил по-немецки генерал-поручик Веймарн, на котором зеленый, шитый золотыми лаврами кафтан сидел неловко, словно снятый с чужого плеча.
— Его величество? — снисходительно усмехнулся Репнин. — Потребовал в ответ вывода наших войск и уничтожения диссидентского дела…
— Императрица не может отступить от своих прав без унижения собственного достоинства, — важно заметил Веймарн, подцепив золоченой вилкой здоровенный кус молочного поросенка.
— Долг наш беспрекословно исполнять все ее повеления, — бесстрастно продолжал Репнин, — хотя, — он тонко улыбнулся, глядя на свет, как переливается бледно-желтое токайское в хрустале, — почему русское правительство так заботится о единоверцах в Польше, раз между ними нет дворян?..
— Зато их слишком много среди наших противников — барских возмутителей, — вкрадчиво сказал секретарь Репнина и будущий знаменитый дипломат Булгаков.
Репнин наградил молодого человека обворожительной улыбкой.
— Король дважды предупреждал меня о грозящей смерти от руки мстителей. — Растягивая слова, тридцатилетний князь покосился на Изабеллу, сидевшую с непроницаемым лицом. — «Вы забываете, ваше величество, — отвечал я, — что мой дом в Варшаве охраняют две тысячи мушкетеров…»
Чарторижская метнула на него быстрый и гневный взгляд.
— Ваше сиятельство, — напомнил Репнину педантичный Веймарн, — у Иосифа Пулавского с Красинским растет число приверженцев, в Галиции все полыхает мятежным огнем. Для его потушения надобно вдвое больше войск, чем мы имеем.
Репнин побледнел и поставил бокал на стол с такой поспешностью, что вино пролилось на скатерть.
— Таковы плоды медленности нашей!.. Ежечасно рождаются новые возмущения, которых предупредить нельзя!.. Нельзя по всей Польше войска иметь… — Волнуясь, он всегда переходил на русский язык. — Нет, я счастлив, что государыня вняла моим просьбам и освободила меня от таковой каторги. Пусть ужо князь Михайло Никитич Волконский тут помучается. — Обычное амообладание постепенно возвращалось к нему. — Иван Иванович, когда прибудет резервный корпус Нумерса?
Лифляндца на русской службе Ганса фон Веймарна переименовали в Петербурге Иваном Ивановичем.
Слегка замешкавшись от гневной вспышки вельможи, Веймарн не сразу ответил:
— Передовой отряд под командованием бригадира Суворова ожидается через месяц-два… Бригадир сей отлично себя проявил в минувшей войне с Фридериком…
— Вы хотите сказать, с Фридрихом Великим… — Вспыльчивый князь еще не остыл. Он провел несколько лет при берлинском дворе, был в близких отношениях с королем Пруссии, состоял с ним в откровенной переписке и преклонялся перед его личностью и военной системой.
— Несомненно! Кто может отнять славу у толь великого полководца! — с неожиданной для него пылкостью воскликнул Веймарн.
— Погодите, — Репнин наморщил смуглый лоб, — Суворов? Сын нашего генерал-аншефа и суздальский полковой командир?
— Да, и еще искусный партизан, хотя и чудак.
— Но ведь он, сказывают, не признает никакой системы и не ставит ни во что самого Фридриха… — Князь отхлебнул из бокала. — Я слышал, он сущий натуралист, а у нас и без того несказанная разладица, коей возмутители искусно пользуются.
— Очень уж мы церемонимся с этими поляками, — вызывающе громко сказал с другого конца стола по-немецки майор. Он один среди остальных военных был одет в голубой гусарский доломан, украшенный черными шнурами и пуговицами, выделялся непудреными волосами, отращенными на висках, и длинными висячими усами.
Князь знал о майоре, командире сербских гусар фон Древице (взявшем Бар и отправившем в Россию тысячу двести пленных), что это храбрый, но свирепый и холодный наемник, уважающий лишь деньги, откровенно презирающий всех славян и даже не пожелавший выучиться русскому языку. Брезгливо поморщившись, он вытер кончики пальцев батистовым платочком, зато Изабелла шумно поднялась и ушла из-за стола.
Репнин пылко любил красавицу Чарторижскую, рожденную графиню Флеминг, но ради своего чувства он ни разу не пожертвовал интересами России и теперь только проводил разгневанную Изабеллу взглядом. Националистически настроенная полька, известная «майка отчизны», она воспитала своего сына от Репнина, Адама Чарторижского, горячим патриотом Польши, ставшим впоследствии одним из вдохновителей восстания 1794 года.
После ухода Изабеллы за огромным столом воцарилось молчание, которое нарушил Репнин.
— Что ж, — глядя в сторону Древица, сказал он, — может быть, нам и нужен против польских партизан таковой натуралист, каков бригадир Суворов…
Высокомерный вельможа, конечно, не предполагал, сколь сложные отношения установятся у него скоро с этим скромным бригадиром, который затмит его воинскими подвигами, породнится с ним, женившись на княжне Прозоровской, наконец обойдет его, бывшего уже в двадцать восемь лет генералом, чинами и наградами. Во всем антипод Репнина, эксцентричный Суворов поведет со своим сиятельным родственником настоящую войну, осыпая его за педантизм, нерешительность, преклонение перед прусскими порядками ядовитыми прозвищами и «кусательными» эпиграммами. В свою очередь, Репнин до конца дней будет упрямо отказывать Суворову в выдающихся военных дарованиях, объясняя его победы удачей и счастьем.
2
В Смоленске ожидала приказа о выступлении в Польшу дивизия генерал-поручика И. П. Нумерса. 15 мая 1769 года Нумерс назначил Суворова командиром бригады в составе Суздальского, Смоленского и Нижегородского полков. Бригадир поспешно начал обучать солдат и офицеров, незнакомых с его «Полковым учреждением»: проводил штыковые экзерциции, совершал ночные марши и действия. В начале августа ввиду слухов о приближении к Варшаве крупного отряда конфедератов Веймарн потребовал от Нумерса подкреплений. Тот спешно отправил в Польшу Суворова с Суздальским полком и двумя эскадронами драгун. Бригадир посадил свою пехоту в полном вооружении и часть драгун на реквизированные у обывателей подводы и в двенадцать суток прошел двумя колоннами более шестисот верст, не потеряв ни одного человека и рассеяв попутно скопление конфедератов под Пинском. В ночь на 21 августа Веймарн вызвал только что прибывшего Суворова к себе.
Варшава жила тревожными слухами. Король Станислав склонялся то к русским, то к конфедератам, шляхта устраивала тайные сборища, организовывала нападения на одиночек-солдат. Веймарн был растерян и напуган.
— Мне донесли, — встретил он Суворова, — что варшавский маршалок Котлубовский находится вблизи столицы с восемью тысячами возмутителей. Он будто бы готовит нападение на Варшаву и приближается к ней сухим путем и водою, по Висле…
— Я тотчас же соберу сведения сам, ваше превосходительство, — поспешил успокоить его бригадир. — Варшава охраняется надежно — две роты моих суздальцев стоят в караульной команде в Праге, а две другие стерегут посольский двор.
В четыре пополуночи 21 августа Суворов выступил в поиск с двумя ротами Суздальского полка, с орудием при каждой, эскадроном драгун и сотней казаков. В разведку он взял своего племянника Николая Суворова, поступившего в полк поручиком.
В семи верстах выше Варшавы казаки нашли брод, немаленький отряд бесшумно переправился через Вислу. Выслав вперед казачий разъезд, бригадир прошел без остановок около семидесяти верст, собирая по пути сведения о противнике. Был обследован обширный район между Варшавою и Западным Бугом. Обыватели выглядели перепуганными, местечки были разорены.
Весь обратный путь Суворов проделал молча. Отдыхать ему пришлось лишь сутки. В районе Бреста появились крупные партии конфедератов под предводительством Казимира и двадцатитрехлетнего Франца Ксаверия Пулавских. «Староста жезуленицкий, полковник, ордена Святого Креста кавалер, панцирный товарищ, региментарь и комендант войск коронных конфедератских», как пышно именовал себя Казимир, и полковник воеводства Подольского Франц Ксаверий были замечательными силачами, лихими наездниками, мастерски владели оружием, проявляли в военных операциях находчивость и изобретательность. Не удивительно, что они быстро сделались кумирами конфедерации. В мае 1769 года пять тысяч партизан, ведомых Пулавскими, напали на Львов, сожгли несколько улиц в городе, но затем были оттеснены из города слабым гарнизоном. В августе Казимир и Франц Ксаверий во главе восьми тысяч заняли Замостье, но при приближении Каргопольского карабинерного полка фон Рённа отошли к Люблину, энергично преследуемые русскими. Вступив в Литву, Пулавские волновали шляхту и вербовали себе новых приверженцев. Суворов с семью сотнями солдат устремился к Бресту, наращивая скорость при переходах и преодолев в последние тридцать пять часов семьдесят пять верст.
Здесь он убедился, что весть о Пулавских справедлива, и решил с небольшим отрядом — ротою драгун, ротою гренадер, егерями и двумя единорогами — идти по дороге в Кобрин, на соединение с Рённом. Считая Брест важным опорным пунктом, бригадир оставил в нем остальные войска.
За ночь малочисленный русский отряд преодолел тридцать шесть верст. Первого сентября на рассвете он был встречен патрулем Рённа из полусотни карабинеров и трех десятков казаков под командованием ротмистра Каргопольского полка графа Кастели. Первым делом Суворов осведомился о неприятеле. Живой, чернявый Кастели, одетый в синий карабинерский кафтан с красным лацканом и обшлагами, с малиново-голубым каргопольским погоном, был возбужден недавней стычкой с арьергардом Пулавских.
— Мы довольно пощипали их, одних пленных взято двадцать человек…
— А где же господин полковник фон Рённ?
— Он со всем деташаментом идет другой дорогой.
Бригадир недовольно поморщился:
— Что же он толь долго в бездействии обращается вблизи мятежников?… — Он повернулся в седле: — Поручик Сахаров! Пойдешь со своими гренадерами впереди. Гляди, братец, лес, болота, гати, не ровен час потеряем Пулавских.
— Не может быть, — отвечал поручик, — ведь мы суздальцы!
Перестроившись, отряд Суворова с присоединившимся к нему разъездом каргопольцев вступил в довольно густой лес. Около десяти верст было пройдено в глубокой тишине, когда близ полудня на тесной поляне за болотом русским внезапно открылись главные силы Пулавских, готовые к бою. Прикинув, Суворов определил, что тремстам двадцати его солдатам противостоит не менее двух — двух с половиною тысяч конфедератов, исключительно кавалеристов. Решение было молниеносным:
— Господину квартирмейстеру Васильеву вести из единорогов отменный огонь… Сахарову с гренадерами немедля итить через гать, строиться — и в штыки! Драгуны и карабинеры атакуют на палашах!.. Казакам быть на месте для охранения тылу…
С обеих сторон загремела артиллерия. У поляков на фланге действовала батарея из трех медных трехфунтовых орудий. Гренадеры бросились, увлекаемые Сахаровым, по бревнам и фашинам через все три моста. Хотя огонь противника был метким и вскоре у русских оказался поврежденным зарядный ящик, остановить гренадер пальба была не в состоянии. Суворов видел, как, перейдя болото, Сахаров выстроил роту тылом к густому лесу, непроходимому для кавалерии. По сторонам рассыпались егеря поручика Борисова, открывшие прицельный огонь.
С непокрытою головою, без кафтана, в одном зеленом камзоле, бригадир пришпорил казачью свою лошадку:
— Братцы, за мной! С Богом!..
Огонь польских орудий усилился. Проскочив гать, Суворов повел драгун на батарею, а Кастели вместе с гренадерами атаковал польских кавалеристов. Боясь потерять орудия, конфедераты сняли их с позиций. Пользуясь многократным численным превосходством, они вводили в сражение все новые силы. Теперь уже пришлось обороняться Суворову. Был момент, когда в тылу русских произошло тревожное движение, заволновались казаки, и дежурный при бригадире майор крикнул: «Мы отрезаны!» Суворов тут же арестовал его. Бой продолжался.
Раз за разом накатывались на гренадер свежие конфедератские эскадроны, но меткий ружейный огонь и особенно картечные залпы отбрасывали их назад. После четырех неудачных атак повстанцы заколебались. Суворов приказал дать сигнал к общей атаке.
Гренадеры — неслыханное дело! — бросились в штыки на кавалерию и опрокинули ее; карабинеры Кастели и драгуны погнали поляков через горящую деревню. На глазах Суворова огромного роста сержант-суздалец сколол штыком одного за другим трех всадников. Бригадир узнал его: это был Климов, получивший сержантский чин незадолго до выступления полка в Польшу.
Взяв десяток кавалеристов, бригадир сам преследовал конфедератов версты три, нагнал их в поле, где они начали было перестраиваться, но те при появлении русских, потрясенные поражением, снова пустились в бег. Остатки рассеянного отряда Пулавских, наткнувшись 2 сентября на основные силы Рённа, бросили артиллерию и обоз. Вдогонку им поспешил Кастели. В поле он наскочил с пистолетом на Казимира Пулавского, но Франц Ксаверий заслонил своего брата, получив пистолетный выстрел в упор. Он скончался на другой день в плену, оплакиваемый поляками и окруженный уважением русских.
Разгром конфедератов был полный, и это при ничтожных потерях русских: пятерых погибших да десятке раненых. Суворов рекомендовал Веймарну отличившихся — графа Кастели, поручика Сахарова, квартирмейстера Васильева и, наконец, сержанта Климова. В указе Военной коллегии от 21 октября 1769 года подвиг последнего был отмечен особо: «…храброго же Суздальского же полка сержанта Климова, при будущем впредь в корпусе вашем произвождении, произвести преимущественно пред прочими в прапорщики».
Под Ореховом Суворов оставался недолго. В ночь после боя он выступил во Влодаву, надеясь, очевидно, нагнать остатки разбитых конфедератских сил. Во Влодаве он дал своим солдатам вполне заслуженный двухдневный отдых: под руководством своего командира они прошли без дневок сто восемьдесят верст и одержали победу над противником, превосходившим их численностью в пять-шесть раз.
«Отменная храбрость, расторопность и хорошая резолюция господина бригадира Суворова» не укрылись от внимания Военной коллегии. Победа, достигнутая им, сказалась на состоянии целого края. «По разбитии пулавцев под Ореховом вся провинция чиста», — сообщал Суворов Веймарну. Главнокомандующий русских войск в Польше предложил ему выступить в Люблин.
17 сентября Суворов был уже в Люблине.
3
Люблинский район имел в те дни особенное, первостепенное значение. Благодаря обилию лесов и болот, бездорожью, близости к австрийской границе, многочисленным укрепленным замкам и монастырям, годным к обороне, он словно был создан для партизанских действий. Владея им, конфедераты могли угрожать тылам русской армии, оперировавшей в Оттоманской Порте. Хорошо вооруженные, мобильные отряды состояли из кавалеристов, которые знали эти места как свои пять пальцев, ходили через топи и дремучие леса. О каждом появлении русских их извещали тайные доброжелатели. В ответ на партизанскую тактику противника требовались особые контрмеры — исключительная быстрота и стремительность. Суворов понял это в совершенстве.
Избрав своим капиталем, то есть столицей, сам Люблин, старинный город, расположенный почти на равном расстоянии от Варшавы, Бреста и Кракова, он мог наблюдать отсюда за Литвой, Великопольшей и областями Австрии, где формировались конфедератские соединения. В Люблине бригадир сосредоточил артиллерию, устроил амуничные склады и продовольственные магазины, учредил свой главный резерв. Из Люблина по мере увеличения своего отряда он постепенно растягивал по всему району сеть постов, благодаря которым ему становилось известно не только о сосредоточении, но о самом возникновении новых отрядов противника. Это позволяло Суворову являться как снег на голову в отдаленные городки и местечки. Благодаря внезапности часто удавалось избежать кровопролития: оружие отбиралось, и поляки распускались по домам.
Воспитанные своим командиром маленькие гарнизоны отдаленных постов не терялись в боевых переделках и, сталкиваясь с превосходящими силами противника, сами смело проявляли инициативу. Подросшие за годы ладожского обучения орлята могли уже летать самостоятельно. Когда стало неспокойно на среднем течении Вислы, Суворов выставил в местечке Пулавы, владении Чарторижских, пост под командованием Набокова. Набеги конных партий вынуждали храброго капитана постоянно высылать команду за Вислу.
15 января 1770 года Набоков вместе с поручиком Шипулиным и подпоручиком Железновым, восемнадцатью суздальцами и дюжиной драгун и казаков переправились через Вислу для очередного поиска. Проезжий еврей сообщил им, что в десяти верстах отсюда, в местечко Козеницы вступила партия конфедератов. Ускорив продвижение, команда подошла туда вечером. Решено было разделиться: Шипулин с десятью пехотинцами и четырьмя казаками направился к стоявшей с краю корчме, а Набоков и Железнов должны были тем временем совершить обход Козениц, чтобы зайти неприятелю в тыл. Польский караул поздно заметил шипулинцев, дал залп и скрылся; за ним бросилась горстка солдат. Они добежали до площади и без промедления ударили в штыки. Конфедераты очистили площадь, но дважды атаковали отряд Шипулина с фланга, через боковые улицы. Тем временем Набоков с Железновым вошли в Козеницы с другой стороны. Это и решило исход смелого предприятия: конфедератский отряд в полтораста сабель бежал из Козениц. Переночевав в местечке, команда на обратном пути в Пулавы рассеяла шестьдесят кавалеристов и захватила богатый обоз.
Сообщая о храбрых поисках Пулавского гарнизона, Суворов не без гордости за своих воспитанников писал Веймарну: «Они рекогносцировали, а что так дерзновенны, я один тому виновен. Как в Ладоге, так уже и под Смоленском, зимою и летом, я их приучал смелой нападательной тактике…» Он не только был доволен суздальцами, но и стремился защитить их от гнева пристрастного Веймарна, обвинявшего бригадира и его офицеров в напрасных потерях.
По приезде Суворова в Польшу у него очень скоро начались трения и размолвки с Веймарном. Довольно искусный дипломат и организатор, Веймарн как человек отличался вздорным самолюбием и излишним педантизмом. Защищая русские интересы, он не любил Россию. Мелочная его опека доходила до анекдотичности: так, он упрекнул Суворова в излишней трате денег на лекарства, указывал на недополучение четырнадцати (!) злотых из вырученной суммы за соль и всячески ограничивал самостоятельность начальника Люблинского отряда. В то же время Веймарн явно благоволил к командирам-немцам — Древицу, Рённу, предоставляя им льготы и поблажки.
Еще не добравшись до Польши, Суворов, как мы знаем, просил своего друга А. И. Набокова помочь ему перевестись на турецкий фронт, с такими же просьбами он обращался к разным лицам и позже. Однако Военная коллегия не соглашалась отпустить энергичного командира со сложного и запутанного польского военного театра. Боевые успехи принесли Суворову 1 января 1770 года чин генерал-майора; в том же году были повышены в звании многие его воспитанники-суздальцы — в их числе Парфентьев, Железнов, Шипунин, Набоков, а Сахаров получил крест Святого Георгия 4-й степени. 5 января командиром суздальцев коллегия назначила полковника В. В. Штакельберга, боевого офицера, правда, не отличавшегося какими-либо выдающимися дарованиями. До этого времени Суворов совмещал обязанности бригадного и полкового начальника.
В его распоряжении были теперь батальон и команда егерей Суздальского, рота Казанского и две роты Нашебургского полков, пять эскадронов 3-го Кирасирского, один — Санкт-Петербургского карабинерного, по два — Воронежского и Владимирского драгунских полков и сто семьдесят казаков, а также четыре единорога, восемь медных пушек и столько же чугунных. Всего в суворовской бригаде было три — три с половиной тысячи бойцов.
В начале апреля стало известно, что конфедераты подготавливают нападение на пост в Сандомире. Отряд под командованием Суворова — в двести пехотинцев и сотню кавалеристов при двух единорогах, — идя по следу противника, настиг его 8 апреля неподалеку от местечка Климентов и деревни Наводице, в густом лесу. Польская конница под началом полковника Мощинского находилась в боевом строю — около тысячи всадников под прикрытием шести орудий.
В спешке перестроившись, русские поставили справа драгун, карабинеров и казаков, а слева — пехоту, поместив на флангах егерей. Суворов начал атаку сразу в нескольких направлениях. По его приказу поручик Шипулин с двумя дюжинами егерей занял Климентов, чтобы преградить полякам путь к отступлению. Несколько позже последовала атака в центре: Сахаров ударил в штыки на батарею и «сорвал оную вмиг». Драгуны, карабинеры, казаки и посаженные на коней егеря атаковали конфедератов справа, врубились в их порядки и «все переломали». Поляки после этой атаки были выбиты в поле, но, ретируясь через два буерака и болотистый ручей, отступили в полном порядке. Их мужество и стойкость вызвали восхищение Суворова.
Ожесточенное сражение длилось три часа, пока наконец Парфентьев не провел с казаками и конными егерями решающую атаку, отбил оставшуюся последнюю неприятельскую пушку, после чего конфедераты, по словам Суворова, ударились «в совершенное бегство». Во время этого отступления они лишились лучших своих офицеров; сам полковник Мощинский, получивший в схватке с карабинерами сабельный удар в голову, был спасен от плена хорунжим, который поплатился за свой подвиг жизнью. Всего убитыми поляки потеряли около трехсот человек, в плен попало лишь десять. Были захвачены весь польский обоз и знамя.
«Гнали их по мягкому грунту больше мили. Тако они разбиты в клочки, жаль, что Тарновский и Пулавский… сего не видели», — ядовито замечал Суворов в рапорте Веймарну. Однако вожди конфедерации быстро узнали обо всех подробностях кровопролитного боя. Победа при Наводице, одержанная Суворовым над Мощинским, безусловно, охладила их пыл, и последующие два месяца почти ничто не нарушало монотонности люблинского «сиденья». Вскоре, однако, произошел неприятный инцидент, надолго испортивший настроение Суворову.
В местечке Сокал, в юго-восточном углу Люблинского района, был учрежден пост, который обеспечивал охрану коммуникаций русской армии, оперировавшей против турок. Начальник этого поста поручик Семен Веденяпин не был у Суворова на хорошем счету. Достаточно сказать, что Веденяпин перевелся в Польшу с турецкого театра военных действий, в то время как все лучшие офицеры стремились тогда к берегам Дуная. К тому же в местечке при Веденяпине было, по словам Суворова, «больше обид».
Прослышав о появлении конфедератов, Веденяпин 3 июня прибыл с командою, состоящей из семидесяти кавалеристов, в деревню Старые Соли и остановился у одного шляхтича, который дал ему подробные сведения о неприятеле. «В благодарность», как ехидно замечает Суворов, поручик забрал у гостеприимного хозяина жеребца и отправился дальше. На другой день отряд расположился в местечке Фрамполь. Никаких мер предосторожности Веденяпин не принял и прежде всего занялся экзекуциями: приказал выпороть за какую-то провинность казака, а затем под кнутом принялся допрашивать евреев.
Поручику скоро пришлось раскаяться в своей небрежности. Русский отряд был замечен конфедератами, которыми командовал ломжинский полковник Петр Новицкий. Польская дружина в составе трехсот всадников пробиралась по приказу Казимира Пулавского в Литву. Когда казачий пикет сообщил Веденяпину о неприятеле, поручик взял нескольких драгун и с ними поскакал навстречу Новицкому, не зная толком о численности его отряда. Подскакав к полякам на близкое расстояние, он оробел, приказал дать залп и помчался назад в местечко, преследуемый по пятам конфедератами.
Ворвавшиеся в селение поляки спешились, окружили русских и открыли губительный огонь. В результате трехчасового боя в команде Веденяпина погибло тридцать шесть человек, в том числе герой Орехова граф Кастели. Сам поручик приказал положить оружие и сдаться Новицкому. Молодой поручик Суздальского полка Лаптев и пятнадцать солдат сдаться отказались и, предпочитая смерть позору, ударили в штыки. Лаптев и восемь нижних чинов полегли на месте, остальные попали в плен.
Возмущению Суворова не было предела:
— Разбит в прах русской офицер с толь крупною командой! А почему? Токмо по его безумию, оплошности и неосторожности. Надлежит иметь всегда наиточнейшее разведывание! Малым партиям далее суточного марша с поста не ходить! Сделавши удар, на том месте ни минуты не останавливаться! Идти на свой пост назад, и лучше другой дорогой… Веденяпин с драгунами опешил. По своему расслабленному безумию он с семьюдесятью человеками не сумел разбить трехсот партизан польских! Всем внятно внушено, что на них можно нападать с силами в четыре и в пять раз меньшими, но с разумом и искусством!
Суворов повторил излюбленную свою мысль о решающем значении в бою атаки холодным оружием:
— Еще глупее, что Веденяпин, допустя себя окружить, отстреливаться начал скорострельно. Доселе во всех командах моей бригады едино только атаковали на палашах и штыках, а стреляли егеря. Веденяпин на храбрый прорыв не пошел…
Командир Люблинского отряда был недоволен своим положением и самим характером кампании. Вместо настоящего дела ему приходилось только оберегать коммуникации главной армии, громившей турок, препровождать курьеров да совершать молниеносные перелеты, гоняясь за мелкими партиями конфедератов.
Край был уже совершенно разорен войною, поборами с обеих сторон, где неизвестно даже было, кто приносил мирному населению более тягот — русские войска или польские дворяне-повстанцы. Слыша вокруг непрекращающиеся жалобы, Суворов повел борьбу с мародерами, главным образом из числа казаков. «Ежели впредь будут услышаны какие жалобы, — говорилось в его приказе, — то винные жестоко будут штрафованы шпицрутенами».
Рассеивая и уничтожая конфедератские партии, Суворов с необычною для той поры гуманностью обращался с пленными, требуя соблюдать в отношении к ним «порядок и человечество», кормить, «хотя бы то было сверх надлежащей порции», часто отпуская конфедератов под честное слово, а раненых передавая в монастыри.
— В бытность мою в Польше, — вспоминал он, — сердце мое никогда не затруднялось в добре и должность никогда не полагала тому преград…
Он с жадностью следил за турецким фронтом. Если 1769 год мог порадовать врагов России, то сменивший его 1770-й ознаменовался серией громовых, блистательных викторий, поразивших Европу. Ларга и Кагул, покорение Бендер и занятие крепостей по Дунаю, восстание греков и истребление турецкого флота в Чесменском заливе потрясли до основания весь государственный организм Оттоманской Порты. Помыслами своими генерал-майор был там, вместе с Румянцевым и Долгоруковым, горячо завидуя всем, кому удалось добиться перевода из Польши в главную армию. В августе он проводил на турецкий фронт проезжавшего через Люблин бригадира Кречетникова.
Рослый медлительный Михаил Никитич Кречетников едва поспевал за семенившим генералом. Впрочем, со стороны могло показаться, что генералом пристало быть, конечно, Михаилу Никитичу, дородному и щеголеватому, а не этому сухонькому и маленькому человеку, по случаю прохладного дня надевшему прямо поверх рубахи зеленый длиннополый, закрывающий икры сюртук, или сертук, с высоким стоячим воротником и круглыми красными обшлагами.
— Сколь вы счастливы, что направляетесь к Петру Александровичу Румянцеву! — отрывисто говорил Суворов. — Дела ваши будут видны, лишены невероятных хлопот. Способные случаи имеете отлично блистать!
— Вы доказали, ваше превосходительство, — слегка задыхаясь от непривычной скорой ходьбы, отвечал Кречетников, — что искусной командир и в Польше способен себя проявить.
— Какое там в Польше! — перебил его Суворов, все ускоряя шаг. — Коликая бы мне была милость, если бы выпустили в поле! Я такого освобождения не предвижу. Разве нечаянно благополучная будущая рапортиция сие учинить возможет.
Завидев, что бригадир хочет возразить, Суворов сердито добавил:
— Уповаю, верите, что я не притворствую паче… Я с горстию людей по-гайдамацкому принужден драться по лесам. А Древиц нерадиво, роскошно и великолепно в Кракове отправляет празднества. — Генерал нахмурился, отчего между глаз пролегла резкая морщина.
— Главнокомандующий наш в Польше довольно его выхваляет, — заметил Кречетников, едва сдерживая одышку.
— Не прилеплен он к России! — взорвался Суворов, начавший уже не идти, а бежать. — Купно и с нашим главнокомандующим! Ее императорское величество довольно имеет верноподданных, которые прежде Древица талантами прославились. А господин Веймарн таковым наемникам безмерно потакает!
— О сем генерал-порутчике, — Кречетников старался не отстать, — в Санкт-Петербурге знатную историю рассказывают.
Бригадир в душе давно уже с неприязнью относился к Веймарну, но был осторожен, пока оставался у него в подчинении. Теперь же он чувствовал себя независимо и рад был сообщить ходивший в придворных кругах анекдот.
— Поведай, батюшка Михаил Никитич! — Мучений Кречетникова Суворов не замечал и побежал еще быстрее.
— Извольте, ваше превосходительство… — Голос бригадира прерывался. Он отдувался и вытирал платком мокрое лицо. — Находясь в столице… генерал наш заметил, что из его спальни пропала шкатулка… с дорогими вещами и деньгами… Уф! Он заподозрил своего секретаря… ласково стал увещевать его: «Милый Гейдеман, признайся, тебе известно, кто украл ее». Тот клялся, что не способен на мошенничество… Уф! Тогда Веймарн трижды наказал его батогом, но признания не добился.
— Ай да Веймарн, храброй генерал! — не удержался Суворов, легко беря подъем в гору.
— В отчаянии секретарь на глазах у Веймарна распорол себе живот перочинным ножом… — продолжал вконец обессилевший Кречетников. — На другой день шкатулка нашлась в сарае… Вором оказался канцелярист… — Кречетников перевел дух и снова побежал за Суворовым. — Гейдеман послал жалобу императрице… но Веймарн заставил секретаря отказаться от жалобы… пообещав за это тысячу рублей… Но и тут словчил: отдал только шестьсот… Императрице же донесли… что генерал-порутчик вполне удовлетворил своего секретаря… за нанесенное ему оскорбление… Уф! — На бригадира жалко было смотреть: зеленый кафтан дымился на его полном теле.
— Тонкой Веймарн! — Суворов резко остановился. — Поступает в стыд России, лишившейся давно таких варварских времен. Здесь мне горькая мука. Даруй, Боже, нам скоро увидеться там, куда вы поехали!..
К неудовлетворенности своим положением и обязанностями прибавилась нежданная беда. В начале ноября Суворов стал получать тревожные известия о приближении к Сандомиру большого отряда графа Иосифа Миончинского. Самолично отправившись в поиск, генерал едва не утонул при переправе через Вислу и, вытащенный солдатами, так сильно ударился о понтон грудью, что «к живственным операциям» далее не годился и даже не мог сидеть на лошади. Он вернулся в капиталь, усилив пост капитана Дитмарна в Сандомире командою подпоручика Суздальского полка Арцыбашева.
15 ноября Миончинский с тремястами пехотинцами, почти полуторатысячным отрядом конницы и шестью пушками подошел к Сандомиру. Атака началась днем: после ружейной пальбы поляки бросились в направлении Краковских ворот, спеша ворваться в город через пролом в стене. Здесь их встретил и отразил прапорщик Климов. Главный удар конфедераты произвели с другой стороны, против Опатовских ворот, где действовали их отборные войска под командованием полковника Шица. Он нашел, однако, достойного противника в лице Арцыбашева: прицельный огонь из ружей и пушки заставил поляков отступить.
Двадцать один час продолжался штурм Сандомира. Гарнизон его, насчитывавший менее двухсот человек, раз за разом отражал настойчивые атаки. Сам Миончинский приезжал «на пароль» к воротам, уговаривая капитана Дитмарна уступить силе и сдаться. Потеряв множество убитых и раненых, поляки утром 16 ноября «все разом отступили». Через своего региментаря — командира полка Миончинский пригласил Дитмарна со свитою к себе. Желая отдать дань храбрости русских, граф дружески принял капитана, больше не упоминая о сдаче города. Эта встреча словно бы из рыцарских времен закончилась тем, что Дитмарн снабдил Миончинского провизией, так как поляки ничего не ели уже сутки.
Суворов по достоинству оценил оборону Сандомира, сказав, что «диспозиция его (Дитмарна. — О. М.) обороны может равняться с диспозициями славнейших полководцев».
Заканчивался тревожный 1770 год. Бой под Ореховом сделал Суворова генерал-майором; победы, одержанные в Люблинском районе, принесли ему орден Святой Анны (учрежденный в 1735 году в честь дочери Петра I). Орден этот стал у Суворова любимейшим: уже будучи знаменитым полководцем, он, отправляясь в бой, часто надевал только Аннинский крест.
Наступил 1771 год, с которым оказались связаны главные победы Суворова в Польше.
4
Дипломатические усилия французского двора и его первого министра герцога Шуазеля оказали немалое воздействие на характер русско-турецких и русско-польских отношений. Франция прибегла к прямой помощи Оттоманской Порты и конфедератам. В Константинополе лил туркам пушки посланец Шуазеля барон Франсуа де Тотт; в пределы Польши был послан с крупными суммами денег опытный офицер де Толес; в Эпериеш, в Венгрии, где собрался верховный совет конфедератов, явился от Шуазеля честолюбивый полковник Дюмурье.
Правда, вместо ожидаемых зрелых государственных и военных мужей он нашел в Эпериеше «вельмож с азиатскими нравами», которые предавались попойкам, карточным играм да волокитству. К тому же силы конфедератов в общей сложности не превышали пятнадцати-шестнадцати тысяч конницы под командованием десятка маршалков, постоянно враждовавших между собою. Для шляхтича, кичившегося своим происхождением, служить в пехоте издавна считалось унизительным, поэтому у конфедератов пехоты как таковой не было. Они щеголяли своими мундирами, оружием, лошадьми, восхваляли польское мужество, вспоминали Жолкевских и Ходкевичей, сравнивали своих маршалков с Александром Македонским и Юлием Цезарем, пировали, пели и плясали.
Чтобы привести шумных и заносчивых конфедератов к согласию, Дюмурье пришлось прибегнуть к услугам женщины — влиятельнейшей графини Мнишек. Он выписал французских офицеров всех родов войск, приступил к организации пехоты из австрийских и прусских дезертиров, предложил вооружить двадцать пять тысяч крестьян, на что, однако, шляхтичи не решились. Давал себя знать резко выраженный классовый, дворянский характер всего конфедератского движения.
К началу 1771 года Дюмурье надеялся собрать шестидесятитысячное войско. План его, столь же остроумный, сколь и авантюрный, заключался в том, чтобы «поджечь Польшу» сразу с нескольких сторон, захватив русских врасплох. Двадцатитрехлетний маршалок великопольский Заремба и маршалок вышеградский Савва Цалинский с десятитысячным отрядом должны были наступать в направлении Варшавы. Казимиру Пулавскому вменялось угрожать русским магазинам в Подолии. Великого гетмана Литовского князя Михаила Казимира Огинского, неудачного претендента на польский престол, просили двинуться с восемью тысячами регулярных войск к Смоленску. Сам же Дюмурье, имея двадцать тысяч пехоты и восемь тысяч конницы, собирался захватить Краков, а оттуда идти на Сандомир, развивая наступление (в зависимости от того, где конфедераты добьются большего успеха) на Варшаву или Подолию. При втором варианте тылы Румянцева оказывались под прямой угрозой и он был бы принужден очистить Молдавию.
Конфедераты приняли план 31 марта 1771 года. Химеричность его заключалась, прежде всего в том, что Дюмурье переоценил возможности польского дворянства; другою и не менее важною причиной невыполнимости плана было то, что французский эмиссар совершенно неожиданно встретил сильного противника. «При крайне трудных условиях своей деятельности, — пишет русский историк Д. Масловский, — Дюмурье нарвался на великого мастера своего дела, тоже открывшего новые пути в партизанской войне, — и в первом столкновении разумные, по существу, меры Дюмурье разбились вдребезги о гениальные распоряжения Суворова, о его образцово составленный и идеально выполненный план обороны люблинского участка».
Из Люблина Суворов внимательно следил за первыми шагами Дюмурье, хотя и не предполагал размаха готовящейся операции. Прослышав о появлении в окрестностях Сандомира генерала Миончинского, он выступил с «легким деташаментом» в начале февраля и в двух стычках рассеял конфедератов. Остатки партии бежали в горы, к старинному местечку Ландскрона, укрепленному замком, палисадником и рогатками. Суворов сразу понял значение этого опорного пункта для Дюмурье и вознамерился захватить его.
Гарнизон Ландскроны состоял из трехсот человек; у Суворова было около восьмисот — из них в штурме участвовало менее половины. 9 февраля в час пополудни пехота перелезла через наружные укрепления местечка, расположенного на скате холма, выгнала конфедератскую конницу и устремилась к замку. Разрубив и разбросав окружные рогатки, егеря овладели двумя пушками. Передовая команда гренадер уже пробила ворота и кинулась на последнюю пушку, когда был тяжело ранен картечью шедший во главе гренадер прапорщик Суздальского полка Подлатчиков; в то же время смертельное ранение получил начальник первой колонны храбрый Дитмарн, а поручику Арцыбашеву пуля пробила левую руку. Колонна отступила.
Суворов, по-видимости, не ожидал столь яростного сопротивления, привыкнув до сих пор легко одолевать польских партизан. Защитники Ландскроны вели непрерывный огонь, поражая наших солдат и офицеров. Надвинулась вторая колонна, но командир ее, поручик Сахаров, получил тяжелую рану, а Николаю Суворову пуля попала в правую руку. Подоспел резерв — его начальник, поручик Суздальского полка Мордвинов, тотчас был ранен. Сам Суворов пострадал от пули, лошадь под ним пала, почти все офицеры вышли из строя. Пришлось вновь отступить.
Возвращаясь к своей неудаче в Ландскроне, самолюбивый Суворов поначалу обвинял во всем суздальцев, «кои ныне совсем не те, как при мне были». Однако, поразмыслив, он понял, что каменную крепость открытым штурмом, без предварительной подготовки не возьмешь. Ему пришлось признать, что русским солдатам не хватало еще опыта.
У Ландскроны генерал-майор получил тревожное известие о намерении соединенной партии Пулавского и Цалинского захватить Люблин, где оставался Штакельберг. Суворов настиг Цалинского ночью 18 февраля, расположившегося в местечке Рахов с четырьмястами драгунами, лучшими кавалеристами в рядах конфедератов. Русская конница, опередившая пехоту, сорвала польский пикет и быстро заняла местечко. Поляки засели в избах и сараях; подоспевшие суздальцы вступили в бой с обороняющимися. Суворов, оставшийся по случайности один, оказался перед корчмою, где заперлось полсотни драгун. Ему удалось уже уговорить их сдаться, как несколько казаков, проезжавших мимо, открыли по ним огонь из пистолетов. Поляки ответили выстрелами. Генерал пригрозил сжечь корчму — драгуны сдались.
Всего взято было около ста пленных и весь конфедератский обоз. Савве Цалинскому удалось уйти, но 13 апреля он был захвачен в плен премьер-майором Салеманом. Тяжело раненный в схватке, он скончался тридцати одного года от роду на руках у своей матери, сопровождавшей его во всех походах. Гибель Саввы тяжело отозвалась на всем конфедератском деле, так как шляхта потеряла энергичного и боевого руководителя.
В то время как Суворов разоружал в Рахове драгун Саввы, Казимир Пулавский безуспешно штурмовал русский пост в Краснике. После девятичасового боя команда во главе с капитаном Суздальского полка Панкратьевым и поручиком Железновым отогнала пулавцев с большими для них потерями. Суворов, посадив пехоту на коней, поспешил на помощь Панкратьеву, но тот уже сам справился с противником, несмотря на его десятикратный перевес. Разгрому конфедератов у Рахова и Красника генерал-майор придавал большое значение, сообщая Веймарну: «Намерение их было одно из наиопаснейших — сорвать Красник, потом Пулаву, впасть в Люблин и потом в Литву».
Храбрость и решительность, проявленные суздальцами в двух последних боевых эпизодах, вернули им уважение Суворова. Как он отмечал, «пехота поступала с великою субординацией), и за то я с нею помирился».
В Люблинском районе, как и во всей Польше, наступило затишье. Но то было затишье перед бурей. Ночью 18 апреля, внезапно атакованные крупными силами к югу от Кракова, русские были отброшены за Вислу. Дюмурье занял Краков, не овладев лишь замком, и тотчас приступил к образованию опорных пунктов в городских окрестностях. Однако первый же успех вскружил головы конфедератам; возобновились раздоры, попойки, к которым прибавились грабежи местного населения. В этот момент, делая стремительные, по сорок верст в сутки переходы, у Кракова появился Суворов. Он присоединил к себе двухтысячный отряд Древица, собрав всего около трех с половиной тысяч пехоты, драгун, карабинеров и казаков.
Спокойно ужинавший в Заторе Дюмурье был застигнут врасплох. Пока французский полковник, спешно собирая войска, скакал навстречу Суворову через деревни, где безмятежно спали конфедераты, русские обложили укрепленный и превращенный в крепость монастырь Тынец. Несмотря на сильный огонь пехоты, набранной из австрийских дезертиров, казанцы во главе с подполковником Эбшельвицем ворвались в редут и захватили два орудия. Развить успех Суворову, однако, не удалось. Уже был сделан выстрел по монастырю из единорога, как со стороны Ландскроны показался Дюмурье. Русские обратили польскую конницу в бегство и двинулись за конфедератами. Суворов решил покончить с отрядом Дюмурье одним ударом.
В седьмом часу утра 10 мая русский генерал с казачьим авангардом уже был у Ландскроны. На противоположной высоте, за глубокою лощиной, выстроилось четырехтысячное войско Дюмурье. В последний момент Казимир Пулавский со своей конницей отказался присоединиться к нему, заявив, что не намерен подчиняться иностранцу и будет воевать самостоятельно.
Дюмурье сразу же учел выгоды своей позиции: конфедераты расположились на крутом гребне, причем левый фланг, занимаемый маршалком краковским Валевским, был надежно защищен тридцатью дальнобойными пушками Ландскроны, а центр и правый фланг, составленные из кавалеристов маршалка пинского Оржешко и князя-Каэтана Сапеги, — обрывистым скатом, где в двух еловых рощах укрылись французские егеря.
Окинув взглядом позиции конфедератов, Суворов принял решение, неожиданное для всех, и прежде всего для Дюмурье. Прекрасно зная польских шляхтичей, их пылкость, отвагу и неустойчивость (мгновенную смену храбрости отчаянием), он решил нанести дерзкий удар казачьей лавой, неопасный при дисциплине регулярных войск, но способный навести панику в рядах конфедератов.
Однако то, что понимал Суворов, не уяснил себе французский предводитель. Когда он с изумлением увидел, как две сотни бородатых всадников в высоких черных шапках с выпуклым красным верхом, зеленых и красных кафтанах, с пиками наперевес и шашками наголо, что-то нестройно крича, кинулись вниз, с занятой русскими возвышенности, то испугался одного — как бы Суворов не отменил атаку. Дюмурье приказал своим егерям пропустить русскую конницу, а затем объявил полякам, что победа в их руках: лишь только казаки появятся на гребне, им будет нанесен удар раньше, чем они успеют перестроиться. Поляки шумно приветствовали план своего командующего.
Расчет Дюмурье оказался неверным. Взобравшись на высоты, казаки тотчас же сомкнулись в лаву и понеслись на центр и правый фланг конфедератов. За ними на гребень уже поднялась тяжелая конница Древица. Пехота выбила из центральной рощи французских егерей. Литовцы Оржешко и драгуны Сапеги стали отступать. Напрасно останавливал их Дюмурье, а Сапега ударами сабли пытался повернуть отступающих против неприятеля. Польский фронт повсюду был сломлен. Генерал Миончинский, раненный, упал с коня и попал в плен; храброго Оржешко закололи пикой; Каэтана Сапегу убили собственные обезумевшие солдаты. Лишь отряд Валевского да французы Дюмурье отступили, сохраняя порядок.
В Ландскронском сражении, продолжавшемся всего полчаса, был нанесен смертельный удар всей конфедерации. Поляки потеряли около пятисот убитыми, в плен попало два маршалка, но что самое важное — разочарованный Дюмурье выбыл из игры. Как иронически заметил Суворов, он «откланялся по-французскому и сделал антрешат в Бялу, на границу». С разгромом подвижного отряда Дюмурье поляки вынуждены были вернуться к чисто партизанским действиям.
Правда, оставался еще Казимир Пулавский, устремившийся в Литву. Суворов нагнал старосту жезуленицкого юго-восточнее Люблина, у крепости Замостье, рано утром 22 мая. Пулавский пытался захватить крепость с ходу, но вошел лишь в форштадт. Не давая противнику опомниться, русский генерал направил туда пехотную колонну с егерями, чтобы расчистить путь кавалерии. Конфедераты подожгли предместье, но пехота уже открыла дорогу карабинерам, которые врубились в левое крыло поляков. Пулавский начал отступать через болото по длинному мосту, разрушив его за собой. Замешкавшись при починке моста, русские энергично его преследовали. Суворов понимал, что, отступая к Люблину, Пулавский попадет в сети русских постов, и отжимал польский арьергард все дальше к северо-западу, пока в короткой схватке не разгромил его.
Генерал-майор приказал привести пленного командира арьергарда. Толстый, с выпученными глазами и уныло опущенными длинными усами ротмистр в красном кафтане, синих штанах и с серебряной портупеей с опаскою глядел на знаменитого генерала. Тот выглядел так странно, словно не состоял в регулярстве, а предводительствовал вольной гайдамацкою дружиной. На лесной полянке прямо на траву была брошена солдатская васильковая епанча, устроившись на которой Суворов быстро черпал деревянной ложкой из котелка горячую кашу. Он был в нательной рубахе, холщовых штанах, босиком.
— Пан разумеет по-французски? — отдав котелок лысеющему рыжеватому денщику, осведомился на скверном польском языке необыкновенный генерал.
— Пан — шляхтич! — с гордостью, которая не вязалась с его расстроенной физиономией, ответил ротмистр. — А для шляхетства французский язык что польский…
— Далеко ли господин маршалок Пулавский? — вскинул Суворов на пленного голубые проницательные глаза.
Ротмистр запыхтел, покрутил головой, буркнув: «Мы свое дело сделали…», и вдруг решительно сказал:
— Очень далеко — под стенами Ландскроны! Суворов вскочил.
— Пока мы отступали к Люблину, он с главными силами обошел войско ясновельможного пана, вывел отряд в тыл русским, на прежнюю дорогу, и ушел за Краков. — Ротмистр замолчал, поглядывая на Суворова.
— Ай да Пулавский… — с расстановкой проговорил, Суворов. — Ай да хитрец… — Досада, сожаление, восхищение сменились на его подвижном, морщинистом лице. — Молодец! Браво, Пулавский! — Генерал уже хлопал в ладоши. — Обманул меня, и как ловко. — Он обернулся к штабной палатке: — Поручик Борисов!.. Выдай, братец, господину ротмистру пропуск до Ландскроны да распорядись привести ему из нашей добычи самого доброго коня…
Ротмистр еще ничего не понимал и только пучил глаза.
— Ефим! — кричал уже генерал денщику, нетерпеливо притопывая ногой. — Неси-ка сюда мою табакерку фарфоровую!.. Вот, господин ротмистр, передашь ее в собственные руки маршалку Пулавскому… Она у меня любимая… Ну да его искусство большего стоит.
Когда ротмистр выезжал из русского лагеря, кончики его усов как-то сами собой поднялись и теперь лихо топорщились. Впрочем, вполне возможно, что он незаметно подкрутил усы, садясь на лошадь.
5
После полного крушения планов Дюмурье конфедераты могли рассчитывать только на литовского великого гетмана Огинского. Талантливый композитор, музыкант, писатель, инженер, Огинский не обладал только одним даром: военачальника, полководца. Как гетман, то есть главнокомандующий вооруженными силами, он пользовался огромным влиянием, имел свое собственное войско. Огинский долго колебался. Он не начал боевых действий даже тогда, когда это было всего опаснее для русских, — одновременно с Дюмурье. С трех-четырех тысячным войском гетман выжидал благоприятного стечения обстоятельств. Назначенный в 1771 году русским послом в Варшаве Каспар Салдерн и генерал-поручик Веймарн с тревогою следили за его действиями; для контроля над ним был отряжен батальон под командованием полковника Албычева.
Между тем Верховный совет конфедерации поручил подлясскому маршалку Коссаковскому пройти в Литву и побудить гетмана к открытому вооруженному выступлению. Рейд его ускорил развитие событий. Всюду, где проходил Коссаковский, начиналось глухое брожение: казалось, на северо-востоке Польши назревает гроза.
Станислав Понятовский и Салдерн всячески старались удержать Огинского от выступления, однако подстрекательская политика Версаля, сильный нажим сторонников конфедерации, а также требование русских дать в категорической форме ответ, «за или против кого он содержит войска», побудили наконец Огинского сделать выбор. В ночь на 30 августа он предательски напал на батальон Албычева; сам полковник погиб, а его солдаты были захвачены в плен. Направившись в Пинск, Огинский издал манифест о своем присоединении к конфедерации.
К гетману потянулись мелкие отряды повстанцев; он звал к себе Коссаковского и ожидал подхода войск из Курляндии. Русские, находившиеся поблизости, не решались нападать на него и только наблюдали. В Варшаве началась паника. Салдерн совместно с Веймарном срочно составили подробный план военных действий. По этому плану главная роль отводилась Древицу, который должен был собрать в Новом Минске сильный отряд. Суворову оставалось пассивно наблюдать за происходящим. Оттеснить его на второй план, однако, было не так-то просто. Когда Веймарн послал ему свой ордер, инициативный генерал находился уже в пути, направляясь через Коцк, Бялу, Брест навстречу Огинскому.
Ночью 12 сентября, после нескольких быстрых переходов, Суворов получил сведения о том, что сильное трех-четырех тысячное войско гетмана расположилось в местечке Столовичи, лежащем примерно на полпути между Брестом и Минском. Генерал-майор тотчас же отдал приказ своему небольшому отряду, насчитывавшему восемьсот двадцать два солдата, готовиться к атаке.
В полной тишине приближались русские к Столовичам. Тучи, покрывавшие небо, усиливали темноту. Войска шли на огонь, мерцавший в монастырской башне. Великий гетман литовский сибаритствовал с француженкою.
Близ местечка русские разъезды захватили польский пикет из четырех улан, которые послужили проводниками. Между двумя и тремя утра Суворов подошел к Столовичам и построил отряд в две линии. В первой была пехота, правым флангом которой командовал премьер-майор Фергин, а левым, где стояли суздальцы, — секунд-майор Киселев. Орудия и прикрывавшая их резервная рота составляли центр; здесь начальствовал капитан Нашебургского полка Исаак Ганнибал, сын знаменитого петровского сподвижника. Вторую линию образовала кавалерия во главе с премьер-майором Рылеевым. Фланги прикрывали казаки.
Наступление началось до рассвета «со спины» местечка и долгое время развивалось столь бесшумно, что противник ничего не подозревал. Однако у предместья русским внезапно преградила путь обширная болотистая низина, преодолеть которую можно было лишь по узкой и длинной, в две сотни шагов, плотине. Свернув свой отряд в колонну, Киселев вступил на плотину и тут был замечен одним из часовых. Поднялась тревога. Поляки стали поспешно выскакивать из домов, затрещали выстрелы. Огонь конфедератов не мог причинить особого вреда: было еще темно, и едва начинала мерцать утренняя заря.
В ответ загрохотали орудия и выстрелы егерей, но все это покрыло могучее русское «ура», с которым суздальцы двинулись на местечко. Ужас поразил конфедератов. Одни стреляли наугад из окон, другие пытались сопротивляться на улицах, однако суздальцы под командою Киселева и капитана Шипулина шли стеною, очищая себе путь штыками. По этому коридору за ними двинулась кавалерия Рылеева. В это время, перейдя плотину, с другой стороны в местечко вошла колонна премьер-майора Фергина.
Сам Огинский едва спасся, вскочив на коня и ускакав в поле. Он пытался собрать расстроенное войско, блуждавшее в темноте, потерявшее командира и оружие, но не смог выстроить даже роты. Двести его телохранителей-янычар остались в местечке и были переколоты суздальскими гренадерами, которыми командовали поручики Борисов и Маслов.
В хаосе, среди беготни и криков было уже трудно отличить своих от чужих. Прибыв в Столовичи на заре, Суворов окликнул солдата, пробирающегося в дом, приняв его за грабителя. Тот ответил по-польски, выстрелил в генерала из ружья, но промахнулся. Это был один из гвардейцев Огинского.
К утру Столовичи были во власти русских. Однако сражение на этом не закончилось: часть войск Огинского размещалась на ночлег вне местечка, на окрестных высотах. Теперь три сотни пехотинцев выстроились в поле; к ним присоединилось до пятисот кавалеристов, бежавших из Столовичей. Стало уже светло — «белый день». Важно было не дать противнику опомниться, и Суворов бросил в атаку после недолгого обстрела поляков оставшиеся у него под рукой семь десятков кирасир и карабинеров под командованием храброго Рылеева. Тот кинулся на конных конфедератов с такой энергией и решительностью, что обратил их в бегство. Одновременно майор Киселев сломил и опрокинул литовскую пехоту.
Казалось, одержана окончательная победа, но неожиданно отряд Рылеева, преследуя противника, наскочил на подоспевшие два полка улан численностью до тысячи сабель под командованием воинственного конфедератского генерала Беляка. Три эскадрона Рылеева вмиг были отрезаны и окружены. Только ценой величайших усилий с помощью казаков Рылееву удалось прорубиться через строй неприятеля.
К одиннадцати пополудни все было кончено. Огинский бежал в Кролевец-Кенигсберг; его казна, имущество и гетманская булава — все досталось русским. Поляки потеряли более четырехсот убитыми и трехсот пленными. У русских погибло лишь восемь нижних чинов, ранено три офицера и тридцать пять солдат. Победа была неправдоподобной: восемьсот суворовских воинов разгромили трехтысячное войско. Под впечатлением случившегося Суворов писал Кречетникову: «Простительно, если вы, по первому слуху сему, сомневаться будете, ибо я и сам сомневаюсь; только правда». Сомневался поначалу и Веймарн, глубоко уязвленный самовольством Суворова. Огинский жаловался, что его разбили «не по правилам». Историкам же действия русского полководца кажутся безупречными. Объясняя свою уверенность в исходе столь дерзкого предприятия, он говорил: «Я имел храбрых офицеров, привыкших часто сражаться вблизи». Как и во многих других боях с конфедератами, на главных участках здесь стояли суздальцы, приученные к штыковому бою.
Столовичская битва сделала Суворова известным в Европе. Сам Фридрих II обратил на него внимание и рекомендовал полякам его остерегаться. Конфедератское движение шло на убыль. Веймарн пытался лишить лавров Суворова: мелочно выговаривал ему в письмах, старался очернить перед Военной коллегией. Но замолчать победу не представлялось возможным. Всего несколько месяцев назад, 19 августа 1771 года, генерал-майор был награжден орденом Георгия 3-й степени. 20 декабря последовал новый указ. За «совершенное разбитие литовского гетмана графа Огинского» Суворов получил орден Святого Александра Невского.
Не менее важными для него были и перемены, происшедшие в руководстве русскими войсками в Польше: на место Веймарна заступил участник Семилетней войны и автор «Инструкции полковничьей пехотного полку» Алексей Ильич Бибиков. Между ними сразу же установилась стойкая приязнь. Бибиков полагался на богатый опыт Суворова и, давая указание, как распределить войска, писал: «Оставляя, впрочем, вашему превосходительству на волю, как располагать и разделять войска, как за благо вы по известному мне вашему искусству и знанию земли и наконец усердию к службе рассудить изволите».
Конец 1771 года в Люблинском районе выдался спокойный; только под Краковом происходили время от времени вспышки. По приказанию Бибикова туда были направлены суздальцы во главе со Штакельбергом, ничего общего не имевшим с Суворовым, кроме личной храбрости. Служба в Краковском замке отправлялась крайне небрежно, и за несением ее Штакельберг не установил никакого надзора. Этим воспользовались конфедераты, еще в сентябре 1771 года получившие взамен Дюмурье французского генерала барона де Виомениля.
Памятуя о судьбе своего предшественника, Виомениль не задавался какими-то грандиозными планами и лишь стремился возможно долее поддержать агонизировавшее уже конфедератское движение. «В отчаянном положении, в котором находится конфедерация, — считал он, — потребен блистательный подвиг для того, чтобы снова поддержать ее и вдохнуть в нее мужество». В конце 1771 года такую попытку по поручению Казимира Пулавского предприняли несколько дерзких шляхтичей, выкравших из Варшавы польского короля. Однако один из заговорщиков в последний момент переметнулся на сторону монарха и помог Понятовскому вернуться в столицу.
Де Виомениль решился на другую отчаянную демонстрацию — захват Краковского замка. Конфедераты, осведомленные о беспечности коменданта и плохой караульной службе, воспользовались к тому же помощью красавицы польки, которой был очарован Штакельберг. Утверждают, будто он велел снять часового с важного поста, когда эта дама пожаловалась ему, что ночной оклик солдата мешает ей спать. В ночь на 22 января 1772 года из конфедератской крепости Тынец вышло шестьсот человек под началом французского бригадира Шуази. В это время в Кракове шел костюмированный бал.
Конфедераты сели в лодки и с помощью шестов переправились через Вислу. Перед этим выпал глубокий снег, и поляки, надевшие поверх мундиров белые одежды ксендзов, смогли беспрепятственно отыскать отверстия под стенами, где местные жители заблаговременно выломали решетки. Сам Шуази, разделивши отряд на три части, не смог пробраться, как было условлено ранее, через трубу для стока нечистот: она оказалась заложенной камнем. Выбравшись из грязного прохода, бригадир отступил к Тынцу, оставив на произвол судьбы остальных людей. Удача, однако, сопутствовала племяннику генерала де Виомениля Антуану и французскому капитану Салиньяку. Им удалось проползти по скважинам внутрь замка, после чего конфедераты кинулись на часовых при воротах, а затем захватили и главный караул и завалили изнутри ворота замка, оставив свободной лишь фортку — низкую калитку.
Штакельберг был на балу, когда раздались выстрелы в крепости. Несколько поляков вбежали в залу и потребовали, чтобы полковник сдал шпагу. Он едва успел спастись, собрал находившиеся в городе отряды и ринулся к замку.
Суздальцы-гренадеры пытались ворваться в цитадель и взломать ворота, но, поражаемые с башен и из окон, откатились. Через полчаса, раздав необходимый инструмент, секунд-майор Сомов подступил вторично к воротам, а капитан Арцыбашев бросился на вал к фортке. Однако сам Сомов был вскорости тяжело ранен в левое плечо, а Арцыбашев — в руку. В эту злополучную ночь суздальцы потеряли ранеными и убитыми сорок одного человека и около шестидесяти пленными. Такова была расплата за формальное отношение к службе.
Утром 24 января в Краков прибыл Суворов, а с ним небольшой русский отряд и пять кавалерийских польских полков графа Ксаверия Браницкого. Уязвленный случившимся с его суздальцами, генерал выговорил им все, что передумал за время скорого перехода из Люблина в Краков.
— Нужное солдату полезно, а излишняя роскошь — мать своевольства! — Суворов подбежал к ожидавшим его на городской площади офицерам. Рядом с высоченным Штакельбергом он заметил капитана Шипулина. — Неужели и ты, Андрей, стал пить кофий на панских дворах да играть с поляками в таблеи?
Шипулин молчал, не поднимая глаз.
Колким взглядом Суворов зацепил в задних рядах офицера в польской шапке.
— Вот те на! — пропел он тонким голосом. — Уж вам и государева шляпа лоб жмет! Может, и кафтан под мышками тесен?
Суздальцы стояли, понурив головы. Суворов еще долго выставлял им на вид дурные их внутренние порядки — успокоение на обывательских квартирах и забвение службы.
— Есть кошелек? Кофий у пана готов? А боле вам ни до чего дела нет! — Он остывал медленно, отводя душу, внутренне чувствуя, что и сам повинен в случившемся. Ведь докладывал же ему Штакельберг о тревожном оживлении у Тынца, на австрийской границе? И разве не о том же говорил ему в Люблине польский подрядчик? — Господа офицеры могут итить, — сказал Суворов тише.
— А вы, ваше высокоблагородие, останьтесь.
Некоторое время он молчал, глядя снизу на рослого белобрысого Штакельберга.
— Избаловал вас, ваше высокоблагородие, господин Веймарн, — с усилием проговорил Суворов, — а ксендзы и бабы, — он возвысил голос, — повредили вам голову. Сделали чересчур добрым! — Генерал указал на толпившихся неподалеку офицеров: — Чего же мне с них спрашивать? Каков поп, таков и приход! Нет, ваше высокоблагородие, исправляйте провинность вашу, а потом — под суд!
Штакельберг налился краской.
— А сейчас извольте следовать за мною. Осмотрим замок, захваченный благодаря беспечности вашей.
Краковский замок был расположен на высоте, господствующей над городом. У подошвы холма текла Висла. За крепкою, в тридцать футов вышины и семь футов толщины, стеною виднелись шпили кафедрального собора и гребень полуразрушенного королевского дворца. Штурмовать замок без осадных орудий не представлялось возможным. Суворов приказал втащить несколько полевых пушек на верхние этажи наиболее высоких в городе домов и оттуда вести стрельбу. Военный инженер начал подводить к крепости две минные галереи.
Гарнизону осталось надеяться на помощь извне да на удачные вылазки. 2 февраля осажденные внезапно напали на два поста. Первый с успехом отразил вылазку. Зато командовавший вторым капитан Суздальского полка Лихарев, занимавший с шестью десятками мушкетеров каменный дом в форштадте Рыбаки, еще до приближения неприятеля пришел в позорную и предосудительную робость. Сделав несколько выстрелов по конфедератам, он сказал солдатам, чтобы всякий спасал свою жизнь сам, и оставил пост. Рота, оказавшись без командира, в беспорядке бежала. К тому же полякам удалось зажечь предместье.
Это было около полудня, когда Суворов проснулся, разбуженный перестрелками и криками. Он вскочил на лошадь и помчался на выстрелы. Встретив бегущих, генерал остановил их и повел в штыки. Подоспела и мушкетерская рота суздальцев под командованием капитана Мячкова и поручика Парфентьева. Неприятель ретировался.
По словам перебежчиков, положение конфедератов в замке все ухудшалось и порядок поддерживался лишь французами. Однако, осаждая крепость, Суворов сам находился в осаде: вокруг бродили повстанцы; ожидалось, что Пулавский выставит полуторатысячный отряд, а де Виомениль подойдет из Тынца с тысячью солдат. Все это побудило Суворова немедленно захватить крепость.
Для предстоящего штурма он разделил войска на четыре колонны. Главная, под командованием подполковника Гейсмана, должна была взорвать петардами ворота, проникнуть на колокольню и завладеть пушками. Колонны подполковников Елагина и Эбшельвица были вспомогательными: первой надлежало идти на приступ со стороны Зверинца, к малой фортке, а второй — с городской стены по штурмовым лестницам. В резерве оставался секунд-майор Гагрин.
В три пополуночи 18 февраля, поддерживаемые сильным артиллерийским и ружейным огнем, русские двинулись на приступ. Вскоре колонна Гейсмана появилась перед главными воротами, заложенными изнутри бревнами и засыпанными землей. Подложенная под ворота петарда взорвалась, но образовавшееся отверстие было недостаточно для прохода. Расширить же его не давали осажденные. Капитан Шипулин с частью суздальцев пытался ворваться в среднюю башню. Подполковник Елагин столь храбро штурмовал фортку, что пробил две двери, и несколько суздальских гренадер уже вошли в замок. Однако поляки отстояли прорубки, поражая огнем и штыком каждого, кто показывался в них.
Суворов приказал принести штурмовые лестницы. С чрезвычайной неустрашимостью колонна Эбшельвица двинулась на приступ. Солдаты лезли прямо в амбразуры, где стояли пушки. Одним из первых по лестнице, приставленной к валу, взобрался поручик Николай Суворов. Однако пули, камни и сабельные удары спешенных кавалеристов Шуази не давали возможности русским утвердиться на стене. После двухчасового штурма были выведены из строя многие офицеры, начиная с подполковников Эбшельвица и Гейсмана, получившего смертельную рану. Шипулина вынесли с простреленной ногой. Потери достигли ста пятидесяти человек.
В шестом часу утра Суворов приказал бить отбой. Ландскрона и Краков выявили малоподготовленность русской армии к осадным работам. Как писал генерал-майор Бибикову, «неудачное наше штурмование доказало, правда, весьма храбрость, но купно в тех работах и неискусство наше». Теперь оставалось усилить блокаду замка и ожидать прибытия орудий большого калибра. Осажденные терпели уже настоящий голод, ели ворон, конину и помышляли о сдаче. Все попытки Казимира Пулавского и подлясского маршалка Симона Коссаковского помочь им потерпели неудачу. Понимая значение капитуляции Краковского замка, а с нею — гибель последних надежд конфедератов, Суворов сам предложил гарнизону сдаться на чрезвычайно почетных условиях.
8 апреля в лагерь был приведен парламентер с завязанными глазами. Суворов принял французского бригадира Галиберта ласково, посадил рядом с собой и продиктовал главные пункты капитуляции. Назавтра Галиберт явился снова, был угощен хорошим завтраком, но, когда разговор перешел на капитуляцию, стал выдвигать свои условия. В ответ Суворов тут же объявил требования более суровые, чем прежде. Он предупредил, что, если француз явится на другой день снова без полномочий на сдачу, условия будут еще строже.
Поняв свою ошибку, Шуази поспешил со всем согласиться. По двенадцати пунктам подписанного им соглашения осажденные сохраняли свое личное имущество, французы объявлялись не военнопленными, но просто пленными, а лицам гражданским предоставлялась свобода. Больные и раненые получали немедленную медицинскую помощь.
Ночь перед сдачей русские провели под ружьем. Рано утром 15 апреля польский гарнизон стал выступать из замка по частям в сто человек. Суворов ожидал капитуляции на площади, в окружении своих офицеров. Когда Шуази в изысканном поклоне подал ему шпагу, генерал вернул ее, прибавив, что не может лишать шпаги столь храброго человека.
— Вы служите французскому королю. А он состоит в союзе с моей монархиней, — сказал Суворов, обнял и поцеловал бригадира.
Шпаги были возвращены и остальным офицерам-французам. Всех их генерал-майор пригласил на дружеский завтрак. Пленных конфедератов велено было содержать «весьма ласково».
Затем Суворов потребовал к себе провинившегося капитана Лихарева.
— Следовало бы тебя, братец, отдать под суд, — встретил он офицера. — Но так как дурного умысла у тебя не было, ты молод, в делах редко бывал, на первый случай считай, что прощен!
Гневливый, но отходчивый русский полководец не мог долго помнить зло, особенно если дело касалось боевых офицеров. Он помиловал Лихарева и теперь просил за Штакельберга. Вечером в день сдачи Краковского замка он писал в Варшаву Бибикову: «С сим происшествием ваше превосходительство нижайше поздравляю с радостными моими слезами. Простите, батюшка, бедного старика Штакельберга».
С падением замка в Кракове русским войскам оставалось занять лишь последние опорные пункты конфедератов — Тынец, Ландскрону и Ченстохов, но и этого не пришлось делать, так как Австрия и Пруссия, страшившиеся полного подчинения Россией Речи Посполитой, осуществили вооруженное вмешательство в польские дела. Вена и Берлин воспользовались тем, что Россия вела войну с турками. От нее требовали мира и отказа от Молдавии и Валахии, освобожденных русским оружием, а в вознаграждение предлагали взять часть польских земель. В то же время Австрия двинула войска в пределы Краковского воеводства. Невзирая на протесты, австрийцы прорвали русские кордоны и захватили Тынец. В северную часть Польши вошли двадцать тысяч пруссаков.
Суворов страдал от возложенной на него Бибиковым миссии — не допускать в глубь Польши австрийцев и соблюдать при этом по отношению к ним полное дружелюбие. Ему приходилось ловчить, лавировать, отстаивая русские интересы. С горьким простодушием жаловался он Бибикову: «Я человек добрый, отпору дать не умею… Простите мне, пора бы мне на покой в Люблин. Честный человек — со Стретеньева дня не разувался: что у тебя, батюшка, стал за политик? Пожалуй, пришли другого; черт с ними сговорит».
В сентябре 1772 года Австрия, Пруссия и Россия договорились о разделе Польши. По договору Екатерина ввела в восточные польские области два новых русских корпуса. Один из них, под командованием И. К. Эльмпта, расположился в Литве. В этот корпус и был переведен Суворов, получивший наконец после непрерывных трехлетних походов месячный отдых в Вильно. Здесь Суворов посещал вечера и балы.
Он чувствовал себя всякий раз неловко, когда, отдав у входа плащ и шляпу, оказывался среди нарядных кавалеров и дам. Зеркало в бронзовой круглой раме отразило маленькую сутуловатую фигурку, обветренное лицо с резко обозначенной продольной морщиной между глаз.
— Красив! Красив! Воистину Нарцисс! — пробормотал Суворов, подняв брови и сердито поблескивая выцветшими голубыми глазами.
Отвернувшись, он пробежал мимо зеркала в залу. Генерал не любил собственной внешности и потому терпеть не мог зеркал.
Почти равнодушный к женщинам, он не чуждался их общества вовсе, зачастую бывал с ними говорлив, остроумен, даже блестящ. Он увлекся беседою с маленькой, курносой и шустрой паненкой, которой было приятно внимание самого Суворова. Смеясь его быстрой французской речи, она делала вид, будто не верит в русское происхождение знаменитого генерала.
— Запевне пан генерал есть поляк? — улыбаясь, допытывалась она.
— Нет, нет, — поддерживал игру Суворов.
— Конечно, курляндчик! — не унималась бойкая пани.
— Я не курляндец.
— Так пршинаймный малороссиаюнчик? То една кровь.
— Опять не угадали. Я москаль, русской, — говорил Суворов.
После бала, вернувшись под утро к себе, он писал своему бывшему начальнику и по-прежнему другу Бибикову о польских женщинах: «Это оне управляют здешним государством, как всюду и везде. Я не чувствовал себя достаточно твердым, чтобы защищаться от их прелестей…»
В Литве Суворов оставался недолго. «Вот теперь я совершенно спокоен, — сообщал он Бибикову из Вильны, получив в октябре приказ направиться к шведской границе. — Следую судьбе моей, которая приближает меня к моему отечеству и выводит из страны, где я желал делать только добро, по крайней мере всегда о том старался. Сердце мое не затруднялось в том, и долг мой никогда не делал тому преград».
Именно те годы довершили формирование полководца и сделали его тем Суворовым, каким он остался в памяти. Сложился его облик, неповторимый и оригинальный; откристаллизовалась речь, исполненная грубоватого юмора, простонародной сочности и меткой афористичности; определился стиль жизни, строгой до аскетизма и близкой солдату. Его победы под Ореховом, Ландскроной и Столовичами являют образцы новаторской тактики, сформулированной позднее в «Науке побеждать» по-суворовски лапидарно, тремя словами — «глазомер быстрота, натиск».
В 1772 году Суворов писал: «Никогда самолюбие, чаще всего производимое мгновенным порывом, не управляло моими действиями, и я забывал о себе, где дело шло об общей пользе. Суровое воспитание в светском обхождении, но нравы невинные от природы и обычное великодушие облегчали мои труды; чувства мои были свободны, и я не изнемогал».
Кончался 1772 год. Некоторое время Суворов находился на шведской границе, проверяя русские укрепления и готовность войск. Вернувшись в Петербург, он получил наконец долгожданное назначение — в Первую армию к П. А. Румянцеву.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ТУРТУКАЙ И КОЗЛУДЖИ
Слава богу, слава вам;
Туртукай взят. Суворов там.
А. В. Суворов1
Военные действия, которые Турция начала против России весною 1769 года, обернулись скоро для Оттоманской Порты рядом тяжких поражений. 17 июня 1770 года тридцатипятитысячная армия Румянцева разгромила семидесятитысячное татарско-турецкое войско на берегу Прута, близ урочища Рябая Могила. 7 июля русский генерал-фельдмаршал в восьмичасовом бою вторично разбил турок и татар у реки Ларга, километрах в семидесяти от Рябой Могилы. Наконец 21 июля Румянцев нанес сокрушительное поражение на реке Кагуле, у деревни Вулканешти, стопятидесятитысячной армии великого визиря Халила-паши. После этой победы русские овладели всеми территориями вдоль Черного моря и по левому берегу Дуная, между реками Днестром и Серетом, крепостями Измаил, Килия, Аккерман, Браилов.
Грому викторий на суше вторили победы на море. В ночь на 26 июля 1770 года турецкий флот был истреблен в Чесменской бухте. «Среди губительных пучин громада кораблей всплывала», — писал о бое Пушкин. Турки потеряли пятнадцать кораблей, шесть фрегатов, пятьдесят мелких судов и десять тысяч человек. В Петербурге выбили медаль с изображением горящего турецкого флота и лаконичной надписью: «БЫЛ».
Турки приступили к переговорам, однако из-за затянувшихся прений они в конце февраля 1773 года были прерваны. Румянцев получил предписание Екатерины перенести военные действия за Дунай. Решение это поставило командующего первой армией в сложное положение. Сорока пяти тысячная русская армия была разбросана на огромном пространстве. Пришлось стянуть войска в крупные группы, всегда готовые к взаимодействию. Правое крыло, в Валахии, состояло из 2-го корпуса генерал-поручика И. П. Салтыкова, сына знаменитого фельдмаршала; левое, в Бессарабии, — из 3-го корпуса барона К. К. Унгерна-Штернберга и отряда популярного в войсках генерала Вейсмана на Нижнем Дунае; в районе Яломицы, с центром в городке Слободзея, находился резервный корпус Г. А. Потемкина. Сам Румянцев с основными силами — кордарме — расположился в Яссах. В начале мая 1773 года к нему явился Суворов, тут же получивший назначение в корпус Салтыкова.
Шестого числа Суворов уже отправился в местечко Негоешти, расположенное против сильной турецкой крепости Туртукай, в сорока километрах от Бухареста. Он вез приказ Салтыкова произвести поиск на Туртукай, дабы отвлечь внимание противника от Нижнего Дуная и тем самым облегчить наступательные действия Вейсману и Потемкину. Участок ему был вверен незначительный, задача поставлена второстепенная, подчиненный отряд не насчитывал и двух тысяч человек. Ядро отряда составил хорошо знакомый Суворову по Петербургу Астраханский полк — семьсот шестьдесят солдат.
Дунай в сем месте имел не менее тысячи шагов в ширину и весьма крутые берега. По правую руку от Негоештского монастыря, главной квартиры Суворова, в Дунай впадала речушка Аржиж, или Аргис, заросшая камышом. На ней уже строились нужные для переправы суда, однако доставить их к лагерю было мудрено, так как турки держали устье Аржижа под прицелом сильной батареи и пушек специально снаряженного судна. Пришлось скрытно перевозить лодки на обывательских подводах.
В ночь на 9 мая Суворов едва не погиб из-за небрежно поставленной сторожевой службы. Был Иванов день, и донцы, полтысячи которых входило в суворовский отряд, сильно подвыпили. Утомленный генерал-майор спал в палатке на земле, завернувшись в плащ, когда его разбудил во тьме боевой клич: «Алла! Алла!» То были турецкие конные ополченцы, выскочившие из засады, — четыреста спагов с ятаганами наголо. Часть всадников бросилась на русский лагерь, а тридцать спагов поскакали прямо на выбежавшего из палатки Суворова. Один из них уже занес над генералом ятаган, но тот отразил удар. В это мгновение подоспели казаки есаула Захария Сенюткина, который в 1771 году отправился в дунайскую армию добровольцем и выказал замечательное мужество. В ту ночь есаул вернулся из соседнего отряда Потемкина и спал на копне сена возле суворовской палатки. Остановленные его казаками турки были атакованы с фронта и флангов карабинерами полковника Мещерского и отогнаны за Дунай. После схватки Суворов обнял Сенюткина в присутствии всего отряда:
— Спасибо, чудо-богатырь! Ты спас меня от верной гибели!
Восемьдесят пять турецких трупов осталось на поле боя. Из показаний немногочисленных пленных Суворов узнал, что в Туртукае сосредоточено четыре тысячи турок. Что делать? Под командою генерала находились не испытанные суздальцы, а солдаты, не прошедшие его воинской школы. К тому же главная роль в поиске отводилась пехоте, а ее-то набиралось всего пятьсот человек. Риск был значительный, так как неуспех операции ставил под угрозу репутацию Суворова на новом месте. Поразмыслив, полководец принял решение атаковать турок сразу же после отражения их нападения. Для верности он попросил Потемкина произвести диверсию в тылу Туртукайского гарнизона.
Турецкий отряд расположился в трех укрепленных лагерях. Первый лагерь, окруженный земляным валом, примыкал к северной окраине небольшого городка Туртукай; здесь же находились две батареи. На хребте горы был устроен второй лагерь, также с батареей. Наконец, справа от городка, вверх по Дунаю разместился третий лагерь с пушками для прикрытия лодочной пристани. Суворов составил подробную диспозицию о порядке переправы через Дунай, производстве нападения последовательно на все три лагеря и возвращении на свой, левый берег. Центральный ее раздел начинался словами: «Атака будет ночью с храбростью и фуриею российских солдат…»
Это уже была чеканная военная проза Суворова, энергичная, с мускулистыми фразами: «ядры бьют дале, а гранаты жгут», «благопоспешнее ударить горою один каре выше, другой в полгоры, резерв по обычаю», «весьма щадить жен, детей, обывателей, хотя бы то и турки были, но невооруженные», «подробности зависят от обстоятельств, разума и искусства, храбрости в твердости господ командиров».
Перед вечером 9 мая Суворов с полковником Мещерским, которого он оставил для командования на левой стороне, объехал берег Дуная, сам расположил батарею и указал места для трех каре — полковника Батурина, подполковника Мауринова и резерва майора Ребока. Расчет на внезапность нападения оказался верным. Турки, считавшие, что ночь после их набега на русский лагерь будет спокойной, даже убрали дозорное судно. Это позволило вывести лодки, скрытые в камышах Аржижа, в Дунай. Турки поздно заметили их и открыли огонь из пушек, не причинивший в темноте никакого вреда. Ступив на вражеский берег, пехота быстро построилась в две колонны и двинулась вверх по реке.
Отряд Батурина, при котором находился Суворов, атаковал средний турецкий лагерь. Главная батарея сильно мешала развить наступление. Колонна на штыках ворвалась в нее. Суворов, оказавшийся возле турецкой заряженной пушки, которую вдруг разорвало на мелкие части, был контужен. Он упал, но, так как времени пережидать боль не имелось, тут же заставил себя подняться и прежде всех вскочил в неприятельский редут. Бородатый янычар бросился на него с поднятою саблей. Суворов приставил к его груди ружье, передал пленника солдатам и поспешил далее. Подполковник Мауринов уже овладел другой батареей этого лагеря.
Оставался еще один, третий лагерь по другую сторону Туртукая и сам город, где засели бежавшие турки. Генерал бросил на лагерь резерв Ребока, а в Туртукай вошла пехота Батурина. Возбужденные боем солдаты дрались отважно. Турки повсюду начали показывать тыл, и подоспевшие карабинеры с казаками довершили их поражение.
Трофеями первой победы были шесть знамен, девятнадцать крупных судов, из коих многие с товарами, и шестнадцать пушек. Четыре легких турецких орудия переправили на лодках в Негоешти, двенадцать тяжелых бросили в Дунай. Неприятеля легло много, хотя показанная Суворовым цифра — тысяча пятьсот — была выше действительной. Пока русское войско отдыхало, был отдан приказ сжечь Туртукай. В центре города горел огромный дом паши, затем огонь добрался до порохового магазина в крепости, и страшный взрыв был слышен на шестьдесят верст окрест.
Сидя на барабане, Суворов набросал карандашом два лаконичных послания. Командиру корпуса Салтыкову: «Ваше сиятельство! Мы победили. Слава Богу, слава вам». И командующему дунайской армией Румянцеву: «Слава Богу, слава вам; Туртукай взят, Суворов там». Затем он приказал войскам покинуть мертвое, выжженное место. С собою, на левый берег Дуная, он перевез всех живших в городе болгар — сто восемьдесят семь семей.
Успех Суворова резко выделялся на фоне общей бездеятельности румянцевской армии и принес ему Георгия 2-го класса. Однако Салтыков не ударил палец о палец для того, чтобы воспользоваться победою. В результате менее чем через неделю в урочище Туртукая появился небольшой турецкий лагерь, а затем ежедневно из Рущука стала прибывать пехота и конница. К 20 мая на правой стороне Дуная снова было несколько тысяч турок. Суворов просил подкреплений, но Салтыков отказал ему в пехоте, прислав лишь артиллерийскую команду с двумя единорогами.
Отношения между Суворовым и его начальником мало-помалу портились. В Салтыкове, своем ровеснике, генерал-майор видел бездарного полководца, баловня судьбы, выскочку, нахватавшегося чинов и наград благодаря родственным связям. Сколь высоко он ставил славного победителя при Кунерсдорфе, столь насмешливо и уничтожающе отзывался о его сыне, именуя его за глаза не иначе как Ивашкой, не знающим «ни практики, ни тактики». Остроты эти доходили до Салтыкова, человека злого и мстительного. Все это отражалось на делах служебных, Суворов, бессильно наблюдая, как турки вновь укрепляли Туртукай, писал Салтыкову о необходимости закрепиться на правом берегу Дуная. Неожиданно жестокая лихорадка свалила Александра Васильевича. Его организм, ослабленный бездействием, скукой и томлением, не мог ей сопротивляться. Суворов просился для лечения в Бухарест, но 5 июня получил приказ Румянцева произвести вторичный поиск на Туртукай.
В пароксизме лихорадки Суворов продиктовал Мещерскому диспозицию. Вечером 7 июня отряд, усиленный батальоном Апшеронского полка и гренадерской ротой, направился к переправе. Однако, усмотрев, что на противоположном берегу турки готовы к отпору, князь Мещерский и полковник Батурин не решились начать операцию. Их отказ был воспринят Суворовым как личное оскорбление. Обессилевший, едва державшийся на ногах, он уехал в Бухарест, откуда писал Салтыкову: «Какой позор! Все оробели, лица не те». В отчаянии он даже просил прислать вместо себя командира потверже и «пару на сие время мужественных стаб-офицеров пехотных», горько восклицая: «Боже мой, когда подумаю, какая это подлость, жилы рвутца».
К тому времени нерешительность Румянцева, страшившегося углубляться за Дунай, стала все более раздражать Екатерину. При имевшемся неравенстве сил приходилось рассчитывать на превосходство в военном искусстве, но под рукою фельдмаршала служили генералы заурядные — все эти Салтыковы, Олицы, Эссены, Ступишины, Унгерны. Исключением был лишь Отто-Адольф (по-русски Оттон Иванович) Вейсман фон Вейсенштейн. Участник сражений при Гросс-Егерсдорфе и Цорндорфе, где он был дважды ранен, и войны с конфедератами, Вейсман отличился в боях при Кагуле и Ларге, при взятии крепости Исакчи и в нескольких успешных поисках за Дунай. В 1773 году главные успехи русской армии были связаны с его именем.
С шести тысячным отрядом Вейсман, этот «Ахилл армии», как его именовали за быстроту и внезапность появления, перешел Дунай и наголову разбил вдвое превосходивший его силы татарско-турецкий корпус. Затем он напал на двухбунчужного Османа-пашу, десятитысячный отряд которого охранял удобную переправу у Гуробала, и истребил его войско.
Теперь путь за Дунай Румянцеву был открыт. Впереди лежала Болгария, население которой изнывало под турецким игом. 23 мая фельдмаршал обратился со специальным манифестом к народам Оттоманской Порты, торжественно заверяя, что «лютость и грабление никогда не были и не будут свойством российских войск, что меч казни и отмщения простираем мы только на одних противящихся неприятелей и благотворим, напротив, всякому прибегающему под защиту российского оружия и оному повинующемуся». Болгары и валахи восторженно встречали русских братьев. В дунайской армии были учреждены специальные легкие войска — арнауты, набираемые из жителей Молдавии и Валахии.
Перейдя Дунай у Гуробала, Румянцев двинул свой авангард навстречу туркам, расположившимся в лагере близ сильной крепости Силистрия. Здесь Вейсман 13 июня отразил атаку турецкой конницы и, преследуя ее, возможно, захватил бы Силистрию, если бы его вовремя поддержали. Как бы то ни было, главная армия смогла теперь беспрепятственно подойти к крепости и обложить ее. Еще не зная об успехах основных сил, Суворов в эти же дни предпринял новый поиск на Туртукай.
Четырехтысячным турецким отрядом, противостоявшим Суворову, командовал известный в Оттоманской Порте Фейзулла-Магомет, бей Мекки. Черкес по национальности, он в шестнадцать лет был продан властелину Египта мамелюку Али, который полюбил его, осыпал милостями и затем усыновил. Али-бей порвал отношения с Портою, чеканил собственную монету, а после начала войны с Россией выступил против турок и завоевал Аравию и Сирию. Тогда же он вошел в сношения с Алексеем Орловым, находившимся в Ливорно. В разгар военных действий подкупленный турками приемыш Али-бея Магомет склонил на свою сторону армию и двинулся на Египет. Али бежал в Сирию, собрал новые войска, весною 1772 года участвовал вместе с русскими во взятии Бейрута, а летом — в разгроме тридцатитысячного корпуса дамасского паши Гассана. Завоевав Триполи, Антиохию, Иерусалим и Яффу, пылавший мщением бей повернул свои силы на Каир, против Магомета. Но здесь его солдаты изменнически предались неприятелю и выдали своего господина. Али-бей был отравлен в плену своим приемным сыном.
Энергичный Фейзулла-Магомет приказал выстроить в нескольких верстах от сожженного Туртукая три лагеря: первый, обширный, был укреплен высоким валом и рвом; правее его, на горе за двумя глубокими оврагами, находилась хорошо защищенная ставка бея; у реки, в сторону Рушука, учрежден самый крупный лагерь, правда не имевший сильных укреплений.
К началу поиска у Суворова было две тысячи пятьсот солдат, в том числе тысяча триста пехоты и семьсот конницы, не считая казаков и арнаутов. Он хорошо помнил, как трудно пришлось в первом поиске батальонам, когда, построенные после переправы в каре, они взбирались по крутизне горы, через рытвины и овраги. Суворову уже приходилось при штурме гористой Ландскроны использовать преимущество походной колонны. При этом пехотные батальоны превращались как бы в узкий таран со значительной пробивной силой. Впереди, выполняя роль наконечника, должны были идти гренадерские роты, а по сторонам — егеря. Понятно, это не было еще отказом от линейной тактики как таковой: достигнув гребня горы, пехота разворачивалась в каре. Однако нововведение значительно видоизменило привычные боевые порядки.
В составленной с присущим Суворову темпераментом диспозиции определялась задача каждой колонны и давалась общая установка: «Идти на прорыв, выигрывая прежней хребет горы, нимало не останавливаясь, голова хвоста не ожидает, оной всегда в свое время поспеет, как прежней благополучной опыт показал. Командиры частей колонн или разделениев ни о чем не докладывают, но действуют сами собою с поспешностью и благоразумием».
Он выбрал для поиска бурную ночь 17 июня. Шестипушечная батарея защищала переправу русских. Прикрываемый ее выстрелами, первый отряд достиг правого берега и, построившись в шестирядную колонну, выбил турок из ближнего лагеря. Героем дня оказался храбрый и распорядительный майор Астраханского пехотного полка Борис Ребок. Он двинулся на второй лагерь, под выстрелами перешел два глубоких рва и, бросясь через вал, был встречен белым ружьем, то есть холодным оружием. Четыре часа длился неравный бой, во время которого были ранены почти все русские офицеры. Между тем два каре под командованием Батурина, стоявшие на горе, не поддержали Ребока и тем едва не погубили все дело.
Суворов был так слаб от мучившей его лихорадки, что едва мог двигаться и говорить. Два солдата водили его под руки, и адъютант передавал отдаваемые им приказы. Когда он прибыл на правый берег, Ребок уже опрокинул неприятеля, вчетверо превосходившего его силы. Генерал подкрепил Ребока и перестроил отряд, составив внутри захваченного ретраншемента большое каре. Чрезвычайным усилием воли он почти совладал с недугом и теперь передвигался без посторонней помощи.
Был час дня, когда из нижнего, последнего лагеря турки бросились в отчаянную контратаку. Ими предводительствовал сам Фейзулла-Магомет, тридцатилетний красавец и удалец, выделявшийся богатой одеждой и сбруей борзого коня. Из-за Дуная подоспели карабинеры подполковника Шемякина, пробившиеся на гору, и казаки Сенюткина, помчавшиеся к нижнему лагерю турок. Напрасно Фейзулла пытался спасти положение. Сдвинув толпу отборных всадников, он подскакал к ретраншементу, был ранен и добит ординарцем Суворова сержантом Горшковым.
Сам генерал уже настолько победил свою болезнь, что смог сесть на коня. Он двинул из укреплений пехоту, и поле мгновенно покрылось бегущими турками. Они потеряли в сражении до восьмисот человек, не считая порубленных и поколотых при преследовании. Русским досталось четырнадцать медных пушек, множество судов и лагерь с большими запасами. Потери Суворова: убитых шесть, раненых около ста, в том числе десять офицеров. После того как турки бежали к Рущуку, генерал известил о победе Салтыкова и послал с храбрым Ребоком такое же донесение Румянцеву.
Фельдмаршал был обрадован этой викторией вдвойне, так как дела его шли не блестяще. Осадив Силистрию, он решил овладеть ее внешним укреплением. 18 июня неутомимый Вейсман занял наиболее значительное из них — Нагорный редут. Румянцев рассчитывал развить успех, овладеть Силистрией и идти далее, на Шумлу. Но на другой день пришла весть, что верховный визирь отрядил на выручку Силистрии двадцатипятитысячный корпус Нумана-паши, уже спешивший к местечку Кучук-Кайнарджи. Румянцев приказал Вейсману оставить Нагорный редут и стал стягивать войска, намереваясь вернуться за Дунай. Когда Вейсман прибыл в ставку, командующий поручил ему прикрыть отход главной армии и атаковать турецкий корпус.
— Но, ваше сиятельство, — возразил Вейсман, — у неприятеля двадцать тысяч солдат, а у меня только пять…
— Вы сами стоите пятнадцать тысяч! — ответил Румянцев.
22 июня Вейсман напал на лагерь Нумана-паши под Кучук-Кайнарджи. Русские успешно отражали атаки турок, нанося им огромный урон огнем и холодным оружием. Вейсман находился перед строем одного из каре, когда на русских бросились янычары. Генерал спокойно отдал приказ изготовиться к штыковой контратаке. В этот момент прорвавшийся турок выстрелил в него из пистолета. Пуля пробила левую руку, грудь и задела сердце Вейсмана. Падая, он успел прошептать: «Не говорите людям…» Труп прикрыли плащом, но о гибели Вейсмана стало известно. Разъяренные солдаты не давали пощады туркам, стремясь отомстить за любимого генерала. Корпус Нумана-паши был наголову разгромлен.
Блестящие военные дарования Вейсмана вместе с железною волей и верностью военного взгляда делали его очень похожим на Суворова. Беззаветная храбрость соединялась в нем с хладнокровием и благородством, проявлявшимися в постоянных заботах о подчиненных. В кармане его мундира нашли список отличившихся в прежних сражениях. Вейсман был подлинным кумиром солдат. Ни один генерал в румянцевской армии не пользовался столь громкой славою, как он. Суворов глубоко почитал Вейсмана. Получив известие о его смерти, он сказал: «Вейсмана не стало, я остался один…»
Поражение корпуса Нумана-паши позволило дунайской армии спокойно вернуться на левый берег. Теперь на правой стороне Дуная у русских оставался лишь единственный пункт — Гирсово, на который турки, естественно, должны были оказать сильное давление. Заменить Вейсмана мог только Суворов, которому Румянцев вскоре и решил поручить «горячий» Гирсовский пост. «Я же, ведав образ ваших мыслей и сведений, — уважительно писал фельдмаршал Суворову, — предоставляю собственному вашему искусству все, что вы по усмотрению своему к пристройке нужным найдете прибавить там на вящую пользу. Делами вы себя довольно в том прославили, сколько побудительное усердие к пользе службы открывает вам путь к успехам».
Суворов оставлял негоештский лагерь в образцовом порядке. Даже генерал-поручик Каменский, не любивший Суворова и укорявший за него Салтыкова, был удивлен состоянием флотилии и укреплений, не говоря уже об обучении войск. Тотчас же отправиться к Румянцеву Суворову, однако, не пришлось. Спускаясь по наружной лестнице Негоештского монастыря, скользкой после дождя, он упал на спину и сильно расшибся. Только после двухнедельного излечения в Бухаресте генерал-майор смог отправиться в главную армию.
Прибыв в Гирсово, он приказал достроить несколько новых шанцев, кое-где вырыть волчьи ямы, а также укрепить старый каменный замок на берегу Дуная. К концу августа в отряд его входило около трех тысяч человек, включая Выборгский и 1-й Московский пехотные полки, бригаду генерал-майора А. С. Милорадовича, а также венгерских гусар. Суворов предлагал соединиться с соседним отрядом Унгерна и, не дожидаясь турок, самим напасть на их лагерь в Карасу, но осторожный Румянцев не одобрил его планов.
Момент был упущен, неприятель день ото дня усиливался. К утру 3 сентября турецкая конница потеснила казачьи пикеты. Суворов не спал всю ночь. Он оставил в резерве бригаду Милорадовича и венгерцев, в двух редутах расположил выборжцев, а в ретраншементе поместил 1-й Московский полк. Здесь же находился и он сам.
К полудню до шести тысяч кавалеристов и четыре тысячи пехоты подошли на пушечный выстрел к передовому редуту. Пехота была построена по-европейски, в три линии, с конницей на флангах и в арьергарде. С улыбкою смотрел Суворов, вышедший за деревянные рогатки, на правильные порядки турок, которых выучили французские инструкторы.
— Смотрите, — сказал он сопровождающим офицерам, — басурмане хотят сражаться в порядке. Дорого же они поплатятся за это!
Суворов, желая выманить противника, приказал «делать разные притворные виды нашей слабости», но в крепости не выдержали и открыли огонь, отчего турки попятились. Тогда Суворов выслал казаков, завязавших перестрелку, а затем изобразивших бегство. Турки надвинулись, развернулись против ретраншемента, оставив в стороне оба редута и замок, и поместили на пригорке девятипушечную батарею, тотчас же открывшую стрельбу. Из ретраншемента, имевшего замаскированные амбразуры, не отвечали. Далкиличи, отборная легкая пехота, рассыпавшись, взбежала на гору под командованием своих офицеров — байрактаров. Нападение было столь стремительным, что сам Суворов едва успел вскочить в укрепление. В грудь туркам грянули картечные и ружейные залпы.
Первая фаза боя закончилась. Оборона, искусно организованная Суворовым, сделала свое дело: неприятель был ошеломлен. Как только пехота подалась назад, к своей батарее, резерв под командованием полковника Мачабелова двумя каре ударил по центру и правому крылу турок, а 1-й Московский полк вышел из ретраншемента на вражеский левый фланг. Сбитые в овраги и лощины, турки старались задержаться. Лишь после атаки Севского полка и гусар они бросили батарею и пустились наутек. Гусары с казаками гнали их тридцать верст, нанеся особенно жестокий урон в этом преследовании. Общие потери неприятеля превышали тысячу сто человек.
Румянцев приказал отслужить по всей армии благодарственный молебен и обратился к Суворову с письмом: «За победу, в которой признаю искусство и храбрость предводителя и мужественный подвиг вверенных вам полков, воздайте похвалу и благодарение именем моим всем чинам, трудившимся в сем деле». Победа у Гирсова оказалась последним крупным успехом русского оружия в 1773 году. Глубокой осенью Румянцев пытался предпринять дальний рейд за Дунай: Потемкин начал было осаду Силистрии, Салтыков подошел к Рушуку, а Унгерн направился к Варне. Однако несогласованность и вялость их действий понудили в конце концов фельдмаршала отвести войска на зимние квартиры в Валахию, Молдавию и Бессарабию.
К тому времени Суворова уже не было в действующей армии. Он отпросился в кратковременный отпуск в Москву, где его с нетерпением ожидал престарелый и больной отец, не видавший первенца четыре года.
Василий Иванович Суворов, давно уже выдавший обеих дочек замуж, опасался, как бы его род не угас по мужской линии. Сам он женился рано и теперь беспокоился за сына, которому исполнилось ни много ни мало сорок четыре года. Воспитавший своего первенца в строгих понятиях христианской морали, Суворов-старший сам подыскал для него невесту — дочь отставного генерал-аншефа князя Ивана Андреевича Прозоровского — и, употребляя родительскую власть, звал теперь сына к себе.
2
Красавица русского типа, полная, статная, румяная, но с умом ограниченным, получившая старинное воспитание, которое исключало для девиц всякие знания, кроме умения читать и писать, она была молода, избалованна, к тому же принадлежала к высшей московской знати. Мать ее происходила из рода Голицыных, родня — Куракины, Татищевы, Панины. Одну ее тетку выдали замуж за графа П. А. Румянцева, а другая вышла за князя Н. В. Репнина. Она была дочерью ветреного екатерининского века, не чуждалась, как утверждал впоследствии Суворов, противного полу и в девках, тем более что к моменту женитьбы ей шел уже двадцать четвертый год. Трудно представить себе пару более неподходящую, чем княжна Варвара Ивановна и Суворов.
Ей, способной оценить будущего мужа лишь по его наружности, Суворов никак не мог понравиться — сутуловатый, прихрамывающий, маленького роста, с подвижным, но морщинистым лицом, высоко поднятыми бровями и неправильным носом, с редкими, ставшими скоро седыми волосами. Ни с внешней, ни с внутренней стороны между ними не было ничего общего. Он — человек глубокого ума, один из образованнейших русских людей своего времени, поразительно начитанный; она — обучавшаяся по часослову. Он — бережливый, иногда до скупости, заклятый враг роскоши; она — не знающая цены деньгам, склонная к мотовству, унаследованному от отца, не привыкшая себе ни в чем отказывать. Он — человек набожный, строго и серьезно относящийся к своим брачным обязанностям; она — по своей легкомысленности кокетливая в мужском обществе, впоследствии будет давать повод к ссорам. Вдобавок оба горячи и вспыльчивы.
Противоречие заложено изначала. Суворов этого не понимал, а его невеста над этим не задумывалась. Что могло побудить княжну Прозоровскую ответить согласием на предложение сорокачетырехлетнего генерала? Прежде всего одно обстоятельство: Варвара Ивановна была небогата. Отец ее, Иван Андреевич Прозоровский, любил жить на широкую ногу, беззаботно, хлебосольно и в результате совершенно промотался. Невеста получила в приданое каких-нибудь пять-шесть тысяч рублей, да еще вопрос, дали ли эти деньги обедневшие Прозоровские или богатые Голицыны. Между тем отец Суворова имел уже около двух тысяч крепостных «мужска полу», не считая денег и прочей собственности. Кроме того, за сыном было весьма недурное «приданое» — Орехово, Ландскрона, Столовичи, Туртукай, Гирсово. Дворянская знать, высоко чтившая военную службу, не могла не оценить заслуг боевого генерала.
До Петра I вступающим в брак не дозволялось видеться раньше свадьбы. Петр издал указ, которым, к великой радости молодых, повелевалось, дабы венчание совершалось не ранее шести недель после первого свидания жениха с невестою и притом не иначе как после гласно заявленного согласия на брак. Впрочем, Суворов-младший до самой кончины отца оставался примерным сыном и не прекословил его выбору, как и Варвара Ивановна своему отцу.
Суворов женился с той же стремительностью, какая характеризовала все его поступки: 18 декабря 1773 года состоялась помолвка, 22-го — обручение, а 16 января 1774 года — свадьба. Брак этот вызвал толки и пересуды у родственников Варвары Ивановны. Чванные московские баре, собираясь у княгини Александры Ивановны Куракиной, сестры известных графов Никиты и Петра Паниных, в ее роскошном доме на Мясницкой, близ церкви Архангела Гавриила (на месте теперешнего почтамта на улице Кирова), и в огромном особняке Петра Алексеевича Татищева у Красных ворот, ругали Суворова выскочкой, севшим не в свои сани, вороною, залетевшей в высокие хоромы, вспоминали о его чудачествах и заранее жалели Варвару Ивановну. С неодобрением встретили известие и другие родичи княжны; особенно недовольны были желчный Репнин и граф Петр Панин.
На брачный союз Суворов смотрел как на обязанность каждого: «Меня родил отец, и я должен родить, чтобы отблагодарить отца за рождение». «Богу неугодно, — говорил он, — что не множатся люди». Полководец не терпел не только распутства, но даже словесной скабрезности, позволяя себе соленое слово только в условиях боя, чтобы приободрить солдат. Чистота его граничила с целомудрием и сама по себе казалась чудачеством распущенным екатерининским вельможам.
Характерный пример. При генерал-майоре состоял штабным офицером юный Долгово-Сабуров, поступивший на службу сержантом еще в Суздальский полк. Отъезжая в Москву, Суворов взял в Россию своего адъютанта, на которого были возложены обязанности сопровождать обоз. Из Киева Долгово-Сабуров рапортовал в Москву своему начальнику о благополучном движении обоза и вложил в конверт письмо к находящемуся при Суворове офицеру Григорию Александровичу — история не сохранила даже его фамилии. В письме было много шутливого и непристойного. А так как генерал уже примечал за юным Сабуровым опасные наклонности к легкомыслию, то изволил письмо его прочитать.
Суворов заботился о нравственности своих офицеров не менее, чем об их воинской выучке, и горячо, по-отцовски отчитал молодого адъютанта: «Бог тебя простит! У кого ты этому учишься? Буде перенимаешь у Гр[игория] Ал[ександровича], то и он своим непостоянством благоденствие свое портит! А будь благочестив, добродетелен, тверд, великодушен и правдодушен, чистосердечен, терпелив, непоколебим — время все очищает — с вертопрахами не знайся. Наш Спаситель тебя будет миловать». Письмо это писалось, когда Суворов с головою занят был своим жениховством, но и тогда не покидали его заботы о «детях» — подчиненных. Военный человек до мозга костей, он видел главное содержание жизни в многочисленных своих обязанностях.
«Долг императорской службы, — писал генерал в 1776 году, — столь обширен, что всякий долг собственности в нем исчезает: присяга, честность и благонравие то с собою приносит». Для любимого дела брак представлялся ему разве что помехой, тем более — до сих пор женщины занимали совершенно ничтожное место в его жизни. Простосердечный, как дитя, огрубевший под влиянием войн, походов, солдатского быта, вспыльчивый, неуступчивый, памятливый на причиненное ему зло, Суворов чувствовал себя одиноким. Его нравственные устои, характер, самый облик мешали заведению интрижек. Варвара Ивановна была первою и последнею женщиной, которая понравилась ему. Он привязался к ней и по-своему даже полюбил ее. Не случайна фраза, вырвавшаяся через несколько лет в интимном письме другу и заступнику перед Потемкиным Петру Ивановичу Турчанинову: «Сжальтесь над бедною Варварою Ивановною, которая мне дороже жизни моей…»
Венчание состоялось в церкви Федора Студита, той самой, где некогда крестили Суворова. На другой день после свадьбы, в браутскамере, или брачной комнате, молодые сели писать письма знатным родственникам в Петербург и действующую армию о состоявшемся торжестве.
Суворов быстро набросал размашистым своим почерком извещение фельдмаршалу князю Александру Михайловичу Голицыну: «Изволением Божиим брак мой совершился благополучно. Имею честь при сем случае паки себя препоручить в высокую милость вашего сиятельства…»
Варвара Ивановна сделала приписку. Склонив головку набок и закусив от напряжения язычок, она медленно вывела лебяжьим пером: «и Я, миластиваи Гасударь дядюшка, принашу майе нижайшее патъчтение и притом имею честь рекаманьдовать въ вашу миласть алекъсандра Васильевича и себя такъжа, и такъ астаюсь, миластиваи гасударь дядюшка, пакоръная и веръная куслугамь племяница варъвара Суворова».
До половины февраля 1774 года Суворов прожил в Москве, в отцовском доме на Большой Никитской, наслаждаясь медовым месяцем, а затем выехал на турецкий театр военных действий. Молодая осталась в Москве. Первое время они жили в согласии, и, по-видимому, оба были довольны друг другом. «Неожидаемым благополучием» назвал Суворов свой брак в письме к Румянцеву. Он не мог предвидеть, что будет так же несчастлив со своей женой, как Румянцев был несчастлив с ее теткой.
3
В начале 1774 года, последнего года войны с Оттоманской Портой, умер султан Мустафа, противник России, не желавший и слышать о независимости крымских татар. Наследовавший ему брат Абдул-Гамид передал управление страной верховному визирю Мусун-Заде, старому и разумному политику, поддерживавшему переписку с Румянцевым. Мир был необходим Турции. Но в нем крайне нуждалась и Россия, истощенная длительною войной, событиями в Польше, страшной чумой, которая опустошила Москву, наконец, все разгоравшимся и охватившим обширные пространства крестьянским восстанием на востоке. Екатерина предоставила Румянцеву широкие полномочия — полную свободу наступательных операций, право ведения переговоров и заключения мира. Самым весомым аргументом в пользу мира была бы новая, убедительная победа над турками.
На место Потемкина, отозванного императрицею в Петербург, командиром резервного корпуса был назначен Суворов, получивший 17 марта 1774 года чин генерал-поручика. Рядом располагался корпус тридцатишестилетнего Михаила Федоровича Каменского, который весьма неодобрительно относился к Суворову и его «партизанским» методам войны.
Низенького роста, худощавый, отличавшийся крепким телосложением и большой живостью, Каменский был наделен природным умом, остроумием, соединенным с блестящим образованием. Он изучил высшую математику, владел несколькими языками, любил литературу — издал впоследствии «Душеньку» Богдановича, «знал тактику», по отзыву Суворова, и выделялся личной храбростью и отвагой. Отличился он во взятии Хотина и штурме Бендер, хотя скорее как прекрасный исполнитель, нежели талантливый полководец. Идеалом Каменского всю его жизнь оставался Фридрих II, к которому он ездил на выучку в 1765 году.
Смелый в бою, он был тираном в жизни. Совсем не умел сдерживаться, отличался раздражительностью, вспыльчивостью, желчностью, непомерным самолюбием и разнузданной похотливостью. С дворовыми и солдатами он вел себя хуже зверя — на маневрах кусал провинившихся — и отличался бешеной яростью в семье, дав однажды своему сыну Сергею, бывшему уже в чинах, двадцать ударов арапником. Каменский кончил жизнь в 1809 году под топором пятнадцатилетнего крепостного, родного брата его любовницы. Таков был человек, бок о бок с которым Суворову предстояло сражаться против турок.
По генеральному плану Румянцева в 1774 году предусматривалось перенесение военных действий за Дунай, наступление до самых Балкан, чтобы сломить сопротивление Порты. Для этого корпус Салтыкова должен был обложить крепость Рущук, сам Румянцев с двенадцатитысячным отрядом осадить Силистрию, а Репнин — обеспечивать их действия, оставаясь на левом берегу Дуная. Каменскому и Суворову предписывалось наступать на Базарджик и Шумлу, отвлекая на себя до падения Рущука и Силистрии войска верховного визиря, причем в спорных вопросах первенство отдавалось Каменскому. Он стал генерал-поручиком на год раньше Суворова и потому имел преимущество по «отвесу списочного старшинства». Зависимость от Каменского была неполной, двусмысленной, отношения двух генералов — натянутыми. Проявляя строптивость, даже неизвинительное самовольство, Суворов не желал подчиняться Каменскому. В свою очередь, умный и проницательный Каменский втайне признавал достоинства Суворова и, возможно, даже завидовал ему. Ясно, что две эти горячие головы не могли ужиться вместе.
В последних числах мая отряды Каменского и Суворова разными дорогами направились к Базарджику, причем Суворов выступил двумя днями позже условленного. Антипатия здесь взяла верх над долгом. По всему видно, он вообще не хотел соединяться с Каменским и даже двинулся совсем другой дорогой, чем было обговорено. В результате Каменский потерял с ним связь, пожаловался Румянцеву и получил от него подтверждение своего старшинства: «Власть ваша ознаменена изражением, чтобы вы предписывали исполнять г. генерал-порутчику Суворову». Но Суворов хорошо знал себе цену и мог за себя постоять. Когда он сталкивался с несправедливостью, то позволял себе не подчиняться приказу. Так было, например, перед разгромом Огинского в Столовичах.
2 июня после удачного дела Каменский занял Базарджик, откуда перешел в деревню Юшенлы. Здесь в час пополудни 9-го числа с ним наконец соединился Суворов. Выяснять, кто прав, а кто виноват, не было времени. Суворов тотчас вызвал своего любимца майора Василия Арцыбашева, сменившего в те поры зеленый пехотный мундир суздальцев на голубой гусарский доломан Сербского полка, и послал его, на рекогносцировку, совершенную, по словам очевидца, против воли Каменского. К западу от Юшенлы на девять верст тянулся густой Делиорманский лес. Было раннее июньское утро. Арцыбашев с желтыми гусарами и казаками ехал дурною, узкою дорогой. В это время навстречу ему двигался ничего не подозревавший турецкий разъезд с генерал-квартирмейстером во главе. За разъездом следовал сильный отряд спагов и пеших албанцев. В день, когда Каменский занял Юшенлы, к городку Козлуджи подошел и стал лагерем сорокатысячный корпус Хаджи-Абдур-Резака. Таким образом, только лес разделял русских и турок.
Абдур-Резак был известным дипломатом — впоследствии он станет министром иностранных дел Порты. На бухарестском конгрессе 1772 года он представлял Турцию и сделал все от него зависящее для прекращения войны. Русский посланник Обрезков сильно хвалил его, сообщая в Петербург, что хотя весь свой век прожил с турками, но «такого добропорядочного и добродетельного человека не нашел». Последнее, впрочем, не мешало Абдур-Резаку состоять на жалованье русского правительства. Заподозренный в измене, он променял перо дипломата на шпагу и был отправлен совершить поиск к Гирсову. Двадцатипятитысячным отрядом его пехоты командовал свирепый Янычар-ага, конницей — пять двухбунчужных пашей.
В короткой стычке русские пленили генерал-квартирмейстера и нескольких офицеров, но затем турецкий авангард оттеснил горстку людей Арцыбашева. Суворов немедля подкрепил его. Дорога была столь узка, что кавалеристы могли следовать лишь по четыре в ряд. Турки, имея громадное превосходство в численности, опрокинули русскую конницу. Сам Суворов оказался отрезанным от своих. За спиною у себя он слышал, как возбужденно перекликались нагонявшие его спаги.
Он уже настолько хорошо знал по-турецки, что мог понять смысл их реплик. Они уговаривались не стрелять в генерала, а захватить его живым. Спаги то и дело настигали его и пытались уже ухватить за куртку, но каждый раз казачья лошадка Суворова делала отчаянный рывок, и турки снова отставали на несколько саженей. Их остановили выдвинутые на прогалину три каре — подполковника Ивана Ферзена, Ивана Река, старого боевого товарища Суворова, и Христофора фон Трейдена. Но и пехота не могла долго противостоять бешеным атакам албанцев. В солнечном лесу замелькали красные фески и чалмы. Албанцы, захватывая пленных, тут же отрезали им головы и шли далее. Русские уже были почти вытеснены из леса.
В эту критическую минуту со стороны опушки ударила картечь и грянул ружейный огонь. Подошли Суздальский и Севский пехотные полки бригадира Мачабелова, а вслед за ними и высланная Каменским кавалерия под командою генерал-майора фон Девиза. Когда пороховой дым рассеялся, Суворов увидел, что восьмитысячный отряд албанцев отступает в глубь леса. Кирасиры и карабинеры Девиза двинулись им вслед. Узкая дорога была забита брошенными турецкими обозами, волами, телами павших. Наступила страшная жара, усилившая страдания солдат, с ночи ничего не евших и не пивших. Турки не раз переходили в контратаки. Особенно яростно бросались на русских ялын-калыджи — «сабли наголо». Так назывались войска, вооруженные только кинжалами и ятаганами.
Солдаты шли с боем девять верст, многие пали в пути от жары и истощения сил. Наконец полил сильный дождь, освеживший измученных русских. Туркам же с их длинной и широкою одеждой он стал помехой. Приободрившись, русские вышли на обширную, неровную и заросшую кустарником поляну, за которой на высотах стояли главные силы турок, а еще дальше поднимались минареты Козлуджи.
Загремели вражеские батареи. Суворов под огнем развернул свои войска в боевой порядок. В первой линии стали егеря и гренадеры; бригадир Мачабелов с суздальцами и севцами образовал резерв; кавалерия расположилась на флангах. Всего у русских было около восьми тысяч человек.
Гусары и казаки, преследуя албанцев, поднялись на высоты, но были сбиты турецкой кавалерией, стремительно атаковавшей главные силы Суворова. Кавалерию поддерживали янычары, засевшие в кустах. С ятаганом в одной руке и ружьем в другой они врывались как бешеные в левофланговые каре Ферзена и Трейдена и гибли на штыках. Переставив каре Река с правого фланга между расстроенными батальонами Ферзена и Трейдена, Суворов послал на левое крыло почти всю кавалерию, резерв Мачабелова и поручил особой команде суздальцев очистить заросли от вражеских стрелков.
Отразив турок, первым двинулось вперед каре Мачабелова, а за ним и остальные силы. Суворов появлялся в разных местах боя, увлекая солдат, которые постепенно поднимались на холм, верстах в трех от которого находился турецкий лагерь у Козлуджи. Перед самым лагерем русские были остановлены довольно глубоким оврагом. Только теперь подоспела артиллерия. Приказав открыть пальбу по турецкому лагерю, сам Суворов повел гусар на занятую противником высоту. Пехотные каре направились в обход.
Войска Абдур-Резака охватила паника. Турки обрубали постромки у артиллерийских лошадей, чтобы воспользоваться ими для бегства, менее удачливые стреляли во всадников. Один янычар даже выстрелил в своего командующего. В разгар этой суматохи в лагере начали ложиться русские ядра, довершившие хаос. Сражение уже клонилось к совершенной победе, когда турецкая батарея открыла сильный огонь по высоте, которую захватил Суворов. В гуще боя генерал заметил неподалеку знакомое лицо — бывшего своего адъютанта по Суздальскому полку майора Парфентьева.
— Ильюша! — крикнул он, свесившись с седла. — Возьми, голубчик, три суздальские роты и не мешкая ударь на батарею!
Тем временем русская пехота уже ворвалась в лагерь, уничтожая все на своем пути. При Козлуджи турки потеряли двадцать девять орудий, отлитых под руководством французского барона Тотта, сто семь знамен и около тысячи человек. Суворовские войска расположились на захваченных высотах. В наступавших сумерках генерал увидел вышедшую из лесу колонну. То была запоздалая помощь Каменского — черниговцы под командою бригадира И. А. Заборовского.
Разгром турок при Козлуджи лишил верховного визиря Мусун-Заде, остававшегося под Шумлою всего с тысячью янычар, последней опоры. Когда на другой день после боя, 10 июня, Каменский собрал военный совет, Суворов горячо настаивал на немедленном наступлении. Напротив, осторожный генерал-поручик Александр Александрович Прозоровский, троюродный брат его жены, предлагал не торопиться:
— Сиречь, в войсках провиянту мало, дороги, сиречь, скверны, да и пребывание басурман, сиречь, неизвестно…
— Сиречь, треклятая, — пробормотал Суворов сквозь зубы.
Прозоровского поддержали, к явному удовольствию Каменского, генерал-майоры Райзер и Озеров.
— Вчерашняя наша виктория, — сказал Каменский с кислою улыбкой, — где толь отличился генерал-порутчик Суворов, дает нам возможность стать на отдых в ожидании подвоза провиянту, а потом отойти на позицию между Шумлой и Силистрией. Мы отрежем последнюю от сообщений с внутренностью страны и будем содействовать переправившемуся через Дунай главнокомандующему нашему.
После огромного напряжения в бою Суворов чувствовал себя разбитым и больным. Он не находил сил для одержания словесной победы над генералами. Встретив бригадира Заборовского, Суворов горько жаловался на Каменского:
— Ай да тактик! Помешал мне перенесть театр через Шумлу за Балканы!
Ивану Александровичу Заборовскому удалось вскоре осуществить мечту Суворова. Он был единственным русским военачальником, проникшим далеко за Балканы. После подписания Кучук-Кайнарджийского мира Заборовский получил чин генерал-майора, орден святого Георгия 3-го класса и золотое оружие с алмазами и надписью: «За знаменитое удачное предприятие за Балканами». Но, конечно, не эта изолированная операция переломила ход всей кампании, а победа Суворова над Абдур-Резаком, вызвавшая ужас у турок и приведшая наконец к стремительному заключению мира.
Поссорившись с Каменским, Суворов под предлогом болезни самовольно уехал в Бухарест. Румянцев встретил его холодно и потребовал объяснить неожиданный отъезд из действующей армии. Недовольный его самоуправством фельдмаршал еще более досадовал на нерешительного Каменского, которому писал 13 июня: «Радуюсь с одной стороны победою, одержанной над неприятелем… при Козлуджи, с другой — не без сожаления встречаю купно с сим присланные уведомления, что вы, совершенно разбив неприятеля, отложили общим советом… пользоваться таковою своею победою… не дни, да часы и моменты в таком положении дороги и потеряние невозвратно».
Суворов выпросил у Румянцева отпуск в Россию, но еще долго (почти полтора месяца) оставался в Молдавии. Здесь получил он повеление Екатерины выехать в Москву. Императрица страшилась бушевавшей на востоке крестьянской войны и уже вторично запрашивала туда популярного генерала.
Сам этот факт, что против Пугачева понадобился именно Суворов, боевой генерал, отлично зарекомендовавший себя в последних войнах, показывает, какое серьезное значение придавали Екатерина II и ее правительство событиям на Яике и Волге. Крестьянское движение против помещиков до основания потрясло здание дворянско-крепостнической монархии. Суворов, сын своего времени, был воистину «слуга царю, отец солдатам», для которого чувство национальной гордости и преклонение перед венценосными правителями государства были слиты воедино. Армия в его глазах являлась не только силой, охранявшей независимость России, но и поддерживавшей существующий государственный строй. И еще одно обстоятельство. Нельзя забывать и того, что Суворов принадлежал к дворянской верхушке России и уже поэтому не мог понять характера народно-крестьянской войны, направленной против бесчеловечности крепостнической системы. В этом ярко сказалась классовая ограниченность его мировоззрения. Он воспринимал движение под руководством Пугачева, принявшего имя Петра III, как «злодейский бунт».
4
Прибыв в Москву 23 августа 1774 года, Суворов нашел ее в великом страхе. Из Симбирска, Саратова, Казани, Тамбова и иных мест в Первопрестольную съехались помещики с семьями, и тут, однако, трепетавшие «за свои животы».
Обняв жену, не медля ни часа, Суворов отправился к московскому генерал-губернатору князю М. Н Волконскому. Казалось, Москва готовится к осаде. Площадь перед дворцом была уставлена пушками. В передней князя толпились беженцы, пугавшие друг друга слухами. Худо одетый дворянин из Шацка убеждал:
— Злодей вновь добился невероятных успехов. Он со своим скопищем не только разбил посланные для усмирения его военные отряды, но собрал превеликую армию из бессмысленных и ослепленных к себе приверженцев. И теперь грабит и разоряет все, повсюду вешает и злодейскими казнями умерщвляет всех дворян и господ, ограбил и разорил самую Казань и оттуда идет к Москве…
При виде боевого генерала, мундир которого украшали Георгиевские кресты 2-го и 3-го класса, ордена Святого Александра Невского и Анны, разговоры смолкли, помещики почтительно расступились.
Михаил Никитич Волконский ознакомил Суворова с определением Военной коллегии: состоять «в команде генерал-аншефа П. И. Панина». В тот же день Суворов поспешил к Панину. Он нашел генерал-аншефа больным 24 августа в селе Ухолове, на полдороге между Переяславлем-Рязанским и Шацком, изумив его скоростию прибытия. Суворов получил «открытый лист», подчинявший ему все военные и гражданские власти в охваченных восстанием губерниях, и тотчас же отправился для принятия начальства над самыми передовыми отрядами.
Назначенный Екатериною А. И. Бибиков, казалось, совершенно разгромил пугачевцев. Однако после его кончины Пугачев собрал новую армию на Урале. Он совершил стремительный рейд по Зауралью, Уралу, Предуралью и к середине июля вышел к Волге, овладел Казанью, не сумев войти лишь в крепость. Здесь его настиг подполковник И. И. Михельсон и нанес поражение основным силам восставших. Отойдя от города, Пугачев собрал остатки своих войск и атаковал Михельсона, но был разбит наголову.
18 июля в сопровождении сподвижников Пугачев бросился на запад, к Волге, и переправился на ее правый берег, немного выше Казани. 20-го числа, снова усилившись, он занял город Курмыш и двинулся на юг, к Пензе. Переход Пугачева на правый берег, в направлении центральных губерний, житниц России, произвел гнетущее впечатление не только в Москве, но и в Петербурге. Генерал-майор Павел Потемкин, двоюродный брат фаворита, растерянно доносил императрице 11 августа 1774 года: «…Злодей, будучи разбит, бежал… и мог вновь сделаться сильным. В Кокшайске он перебрался через Волгу с 50-ю человек, в Цывильске он был только в 150; в Алатыре в 500; в Саранске около 1200, где достал пушки и порох, а в Пензе и Саратове набрал более 1000 человек и умножил артиллерию и припасы. Таким образом, из беглеца делается сильным и ужасает народ».
Началась последняя, может быть, самая драматическая стадия восстания. Крепостные крестьяне поголовно переходили на сторону Пугачева, жгли поместья, убивали дворян, купцов, чиновников. На просторах России шла гражданская война.
В открытой почтовой тележке, завернувшись в солдатский плащ, Суворов спешил с малым конвоем к войскам. За Саратовом его тележку окружила толпа крестьян, среди которых были и заволжские киргиз-кайсаки.
— Что за люди? — спросил предводитель в картузе, наведя на генерала пистолет.
— Люди государя императора Петра Федоровича… — поспешно ответил Суворов.
Картуз недоверчиво перевел взгляд на сопровождавших Суворова солдат, заметил и штыки, которых у восставших обычно не было.
— Едем по делу особой государственной важности, — твердо сказал Суворов.
Много позднее, в автобиографии, он сокрушенно признавался: «…И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя».
Как ни спешил генерал-поручик, решающие события, однако, произошли без его участия. 25 августа Иван Иванович Михельсон разгромил главные силы Пугачева под Черным Яром, в ста верстах ниже Царицына. Это был уже последний, смертельный удар для восстания. Теперь оставалось захватить обессилевшего Пугачева, с которым находилось лишь до полутораста яицких казаков.
В Дмитриевском, что на Волге, Суворов нашел малочисленную команду и узнал, что, по слухам, Пугачев находится неподалеку, в одной заволжской слободе. Суворов хотел сперва переправиться на другой берег и ударить с имеющимися малыми силами, но в Дмитриевском не нашлось лошадей. Тогда генерал погрузил свою команду на судно и отправился в Царицын, где не ранее 3 сентября соединился наконец с Михельсоном.
9 сентября генерал-поручик был уже на речке Ерусланке, а на следующий день, пройдя за сутки восемьдесят верст, достиг притока Еруслана Таргуни. Здесь было тихо, и Суворов, забрав для провианта полсотни волов, повернул в степь. Огромная территория между Волгою и Яиком, безлюдная и безлесная, простиралась на несколько сот верст. Запасы хлеба иссякли, и генерал вспомнил опыт Семилетней войны: приказал насушить на огне мяса. Днем шли, ориентируясь по солнцу, ночью — по звездам, изредка натыкаясь на уходивших от них конных киргиз-кайсаков. По пути Суворов нагнал и присоединил к себе несколько мелких, отрядов, вышедших ранее из Царицына.
11 сентября Суворов достиг реки Малый Узень, где жили раскольники в скитах. По всему чувствовалось, что Пугачев совсем близко. Разделив команду на четыре части, генерал-поручик, сообщил в рапорте Панину: «Но буде бы он и там не отыскался, так по следам его настигать постараюсь, превозмогая во всем усталость, даже до самого города Яика…»
Делая форсированные переходы в степи, Суворов у Большого Узденя все-таки почти настиг Пугачева. Но в это время казачий сотник Харчев уже пленил Пугачева. Услышав об этом от раскольников, генерал-поручик отобрал «доброконных» людей и с ними 16 сентября прискакал в Яицкий городок. За девять дней он проделал шестьсот верст. Однако Пугачев к тому времени был выдан коменданту Яицкого городка полковнику Симонову.
С крестьянского царя сняли его пунсовый тафтяной полушубок, зеленую шелковую рубаху, синие порты и шашку с серебряным эфесом, заковали ноги и руки в железа, а для обогрения дали замасленную, скверную овчинную шубу. Гвардии капитан Маврин в присутствии Суворова, Симонова, майора Бородина, донского полковника Тавинского и сотника Харчева, щеголявшего теперь в пугачевском платье, учинил пленному первый допрос.
По словам очевидца, лицом Пугачев был кругловат, волосы черные, «склокоченные» и борода окомелком; росту среднего, глаза «большие, черные на соловом глазуре, как на бельмах». И теперь, в оковах, вид он имел самоуверенный, говорил быстро и даже насмешливо. Зато его любимец, рябой Перфильев, мрачно сказал:
— Пусть лучше зарыли бы меня живого в землю, чем отдали в руки государыни…
Примерно в это же время Суворов познакомился с гвардии поручиком Г. Р. Державиным, который с небольшим отрядом нес службу в Приволжье. После дерзкого рейда Державина он отнесся к нему со специальным ордером, где, в частности, говорилось: «О усердии к службе ея императорского величества вашего благородия я уже много известен… по возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений». Таково было начало дружеских отношений между великим полководцем и славным русским поэтом, воспевшим подвиги Суворова.
1 октября утром Пугачев был доставлен в Симбирск и передан генерал-аншефу Петру Ивановичу Панину. «Покоритель Бендер» встретил Суворова в приемной галерее, где уже находились генералы — князь Голицын, Павел Потемкин, Огарев, Чорба, штаб- и обер-офицеры. Панин был в сероватом атласном широком шлафроке, во французском большом колпаке, перевязанном розовыми лентами. Полное надменное лицо его лучилось радостью.
Привели Пугачева. На вопрос Панина, как смел он поднять против него оружие, Пугачев безбоязненно отвечал:
— Что делать, ваше сиятельство, когда уж воевал против государыни…
Разъяренный такой дерзостью, Панин бросился на него с кулаками.
10 января 1775 года Пугачев был казнен в Москве. С гибелью его, однако, восстание не прекратилось. Огромный край от Казани до Оренбурга лежал разоренным, жители страдали от безначалия, голода и болезней. Суворову были переданы в подчинение все войска в Оренбурге, Пензе, Казани и других местах, числом до восьмидесяти тысяч. Теперь не было ни Яицкого городка, ни даже реки Яик. Стремясь вытравить самую память о пугачевщине, Екатерина повелела переименовать городок в Уральск, а реку — в Урал.
Суворов отпросился ненадолго к жене в Москву. По возвращении генерал-поручик окунулся в административные заботы в подведомственных ему губерниях. Между тем здесь еще помнили кровавый карательный поход графа Панина, повелевшего во всех непокорных селениях поставить и впредь до указа не снимать «по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания за ребро».
В противоположность жестокому своему начальнику Суворов стремился действовать прежде всего увещеваниями. Еще во время следования через мятежные губернии он, по собственным словам, «сам не чинил, ниже чинить повелевал, ни малейшей казни, разве гражданскую, и то одним безнравственным зачинщикам, но усмирял человеколюбивою ласковостию…». И теперь, сделавшись, по сути, полновластным хозяином нескольких губерний, генерал-поручик в короткое время прекратил «без кровопролития» волнения в Башкирии, весною 1775 года объехал расположения своих войск в Самаре, Оренбурге, Уфе.
Лето принесло ему сразу большую радость и тяжелое горе: 1 августа у Варвары Ивановны родилась дочь, названная в честь родной тетки Наталии Ивановны Сафоновой Наташей; 15 июля скончался Василий Иванович Суворов, который жил последнее время в купленном у Барятинских подмосковном селе Рождественно.
Против могилы отца, снаружи церкви Рождества Богородицы, Суворов поставил памятник: большая каменная глыба без надписи, и только один родовой герб наверху: «щит разделен в длину надвое; в белом поле — грудные латы, а в красном поле — шпага и стрела, накрест сложенные с дворянскою короною, а над оною — обращенная направо рука с плечом в латах, держащая саблю».
Летом 1775 года дворянская Москва готовилась праздновать установление мира после окончания войн с Турцией и Польшею. Не только бранные победы над Блистательною Портой и конфедератами, но и разгром крестьянского восстания, поколебавшего самые основы империи, радовали дворянскую Россию. Со времен Елизаветы, кажется, древняя столица не видела столь пышного торжества. Екатерина появилась в Москве в сопровождении двора, послов, полководцев, гвардии. Суворов присутствовал на торжественном богослужении в Успенском соборе, а затем был приглашен и на обед в Грановитую палату. Простому народу на площадях даны были зажаренные быки и виноградное «зелено вино».
Екатерина щедро награждала славных русских военачальников. Главнокомандующий флотом в Средиземном море Алексей Григорьевич Орлов, разгромивший в Чесменской бухте турок и получивший орден Святого Георгия 1-й степени, стал именоваться Чесменским. Командующий Второй армией, действовавшей против Крымского ханства, князь Василий Михайлович Долгоруков, который разбил турецко-татарские войска и занял Крымский полуостров, помимо золотого Георгия, прибавил к своему имени титул Крымский.
Особо был награжден командующий Первой армией граф Петр Александрович Румянцев. Правда, в конце войны он действовал как полководец вяло. Зато огромны были его заслуги в победах над турками под Рябой Могилой, при Ларге и Кагуле, а также в заключении выгодного для России Кучук-Кайнарджийского мира. Еще в 1770 году Екатерина произвела его в генерал-фельдмаршалы и кавалеры Святого Георгия 1-й степени. Указом Сената от 10 июля 1775 года Румянцеву было пожаловано: «…Похвальная грамота с прописанием службы его в прошедшую войну и при заключении мира, со внесением различных его побед и с прибавлением к его названию проименования Задунайского; за разумное полководство алмазами украшенный повелительный жезл или булава; за храбрые предприятия — шпага, алмазами обложенная; за победы — лавровый венок; за заключение мира — масляная ветвь; в знак монаршьего за то благоволения — крест и звезда Святого апостола Андрея, осыпанные алмазами; в честь ему, фельдмаршалу, и его примером в поощрение потомству — медаль с его изображением; для увеселения его — деревня в пять тысяч душ в Белоруссии; на построение дома — сто тысяч рублев из Кабинета; для стола его — сервиз серебряный; на убранство дома — картины…»
Суворову была вручена золотая шпага, осыпанная бриллиантами. На празднествах он был представлен императрице.
Екатерина, в малой короне и императорской мантии, сильно располневшая, но все еще моложавая и в свои сорок шесть лет, стояла в окружении обширной свиты, в которой находились и чужестранные министры. Суворов увидел рядом с нею цесаревича Павла, очень курносого, кареглазого, в пышном наряде генерал-адмирала, его хорошенькую молодую жену, братьев Чернышевых — Захара Григорьевича, президента Военной коллегии, и Ивана Григорьевича, президента Адмиралтейс-Коллегии, двух Паниных — влиятельного Никиту Ивановича, «министра иностранных дел», как его стали называть с недавних пор, и Петра Ивановича, своего начальника.
— Поздравляю победителя Пугачева, — пророкотал низким голосом тридцатипятилетний великан Григорий Потемкин, облаченный в сверкающий отечественными и иностранными орденами мундир генерал-аншефа.
Екатерина знала, что Суворов начал вызывать зависть среди придворных, считавших его счастливчиком, баловнем успеха. Двоюродный племянник фаворита Павел Потемкин специально писал ей: «Всего горше, что при самом первом свидании генерал-поручика Суворова и моего его сиятельство граф Панин удостоил пред целым народом изъяснить благодарность священным именем вашего величества и всей империи, якобы Суворов поймал злодея Пугачева…»
Царица уже понимала значение Суворова, и толки эти начинали беспокоить ее. Когда Суворов отошел, она, улыбнувшись, проговорила достаточно громко:
— Григорий Александрович! Твой племянник прав. Суворов тут участия не имел и приехал по окончании драки. Своею поимкою Пугачев обязан Суворову столько же, сколько моей комнатной собачке Томасу.
Над Россией всходила новая звезда — Потемкин. Она то тускнела, то вспыхивала с ослепляющей яркостью, но уже не закатывалась до 1791 года — года смерти временщика.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ НА ЮГЕ РОССИИ
Благомудрое великодушие иногда более полезно, нежели стремглавной военной меч…
А. В. Суворов1
Кучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года «о вечном мире» между Турцией и Россией явился первым шагом к присоединению Крыма, мысль о необходимости которого для страны также была высказана Петром Великим. По договору Порта возвратила прежние завоевания Петра. Кроме того, все татары к северу от Черного моря, включая Крымское ханство, становились независимыми от Турции, хотя у султана, «яко верховного калифа», и оставалась религиозная власть: он утверждал вновь избираемых правителей Крыма; его профиль чеканился на монетах, за него возносились молитвы в мечетях.
России передавались «ключи от Крыма» — Керчь и крепость Ениколе, обеспечивавшие свободный выход из Азовского моря, а на Черном — крепость Кинбурн, близ устья Днепра. Граница на юго-западе проходила теперь по Южному Бугу, на востоке же передвигалась на берег Кубани, и Россия получила право укреплять Азов. Русским торговым судам отныне разрешалось плавать по Черному морю на равных правах с французскими и английскими. Турция выплачивала России четыре с половиной миллиона рублей контрибуции.
В Крыму, однако, мелкие военные действия не прекращались даже после ратификации султаном Кучук-Кайнарджийского трактата. Впрочем, это можно было предвидеть. Двусмысленность нового статуса Крымского ханства только разжигала борьбу в правящей феодальной верхушке между приверженцами Турции и сторонниками сближения с Россией. Стамбульским эмиссарам без особого труда удалось восстановить влиятельных мурз против правящего хана, недалекого Сагиб-Гирея, слепо подражавшего всему европейскому. В начале 1775 года он был объявлен низложенным.
В июле близ Алушты высадился турецкий десант, с которым прибыл утвержденный Турцией новый крымский хан Девлет-Гирей. Попытки турок продвинуться были пресечены действиями русских войск. Фельдмаршал Румянцев вызвал из Абхазии брата Сагиба и Девлета — Шагин-Гирея, калгу, то есть командующего войсками ногайской орды. Русское правительство побуждало его объединить под своею властью всех татар в Крыму и на Кубани.
К октябрю 1776 года к пределам Крыма и Кубани были стянуты крупные соединения: в Александровской ожидал приказа корпус генерал-поручика А.А.Прозоровского, в крепости Святого Дмитрия (нынешний Ростов-на-Дону) и окрестностях Азова располагался корпус бригадира И. Ф. Бринка, а в самом Крыму, в Ениколе, находился отряд генерал-майора Н. В. Борзова. 1 ноября войска начали медленное продвижение в Крым и на Кубань. Однако ощущалась надобность в опытном военачальнике, который, не допуская дела до прямой войны с Турцией, утвердил бы права России в Крыму. Потемкин назвал Суворова, командовавшего сперва Петербургской, а затем Московской дивизией, расквартированной в Коломне. 17 декабря 1776 года Суворов вслед за полками Московской дивизии прибыл в Крым, под начало Александра Александровича Прозоровского, известного под прозвищем «генерала Сиречь».
В запутанной обстановке необъявленной войны нерешительный, недавно перенесший операцию Прозоровский был рад переложить ответственность на Суворова. 17 января 1777 года тот вступил во временное командование двадцатитысячным корпусом, получив от Прозоровского подробные указания, где, в частности, говорилось:
«Об искусстве ж и храбрости вашей всякому уже известно, в чем и я удостоверен, только извольте поступать по выше предписанному: прогнав неприятеля, далеко за ним не преследовать…» Очевидно, возможное проявление Суворовым инициативы беспокоило осторожного генерал-поручика.
События меж тем развивались в благоприятном для России направлении. Шагин-Гирей, опираясь на корпус Бринка, был избран ханом татарами обеих сторон Кубани. Он занял город Ачуев на берегу Азовского моря, 30 января овладел крепостью Темрюк и двинулся далее к Тамани. Подкупленный Бринком турецкий комендант очистил Тамань без сопротивления и должен был по договоренности отойти в Очаков, через Крым, конвоируемый русскими войсками. Таким образом, к началу февраля 1777 года весь Таманский полуостров оказался в руках Шагин-Гирея, и ничто уже не мешало ему войти в Крым через Ениколе, где его ожидал генерал-майор Борзов.
Прослышав, что Шагин-Гирей признан на Кубани ханом, его брат собрал в Бахчисарае своих приверженцев и спросил, желают ли крымские татары перейти под власть Шагин-Гирея. Получив заверения в преданности ему, Девлет приказал мурзам начать военные действия против русских. Однако Суворов одними маневрами рассеял толпы татар и 10 марта мог рапортовать Прозоровскому о том, что находившиеся в Бахчисарае враждебные войска распущены. В тот же день Шагин-Гирей появился в Ениколе, и вскоре мурзы признали его крымским ханом. Девлет 3 апреля отплыл на купеческом корабле в Константинополь.
В Крыму наступило затишье, а вместе с тем и вынужденное бездействие, очень тягостное для Суворова. Досаждали и мелочные придирки Прозоровского, неуклонно ухудшались их взаимоотношения. К тому же Румянцев поручил «генералу Сиречь» расследовать одно весьма щекотливое дело, касавшееся Суворова.
Из глухих откликов мемуаристов известно, что в декабре 1776 года в Полтаве Суворов имел резкую стычку с генералом Воином Ивановичем Нащокиным, одним из самых эксцентричных людей екатерининской эпохи, оправдывавшим свое имя если не отвагою на поле брани, то дерзостью в быту. С той ссоры, как рассказывает со слов сына Нащокина А. С. Пушкин, встречая в свете вспыльчивого генерала, Суворов убегал от него, показывая пальцем и приговаривая: «Боюсь, боюсь, он дерется, сердитый!..»
Понятно, расследование этого случая Прозоровским ранило самолюбивого генерал-поручика.
Суворов скучал, страдал вдобавок от лихорадки и наконец в июне 1777 года отпросился в непродолжительный отпуск к семье в Полтаву. В нем все сильнее пробуждается отцовское чувство к маленькой Наташе, Суворочке, как нежно именовал он ее. В письме генерал-аншефу В. И. Храповицкому 3 октября 1777 года полководец с гордостью сообщает из Полтавы: «…дочь моя в меня, — бегает в холод по грязи, еще говорит по-своему». Он не хотел возвращаться на постылую службу и, когда срок отпуска истек, отписал Прозоровскому, что болен и переезжает «для перемены воздуха в Опошню», местечко под Полтавой. Одновременно Суворов обратился к всесильному Потемкину с просьбой о новом назначении: «В службе благополучие мое зависит от вас!» Генерал-губернатор новороссийский, азовский и астраханский откликнулся на нее, дав указание Румянцеву о переводе генерал-поручика. 29 ноября Румянцев сообщил Суворову: «Ваше превосходительство имеете с получением сего ехать для принятия команды над корпусом на Кубане…»
Пока Суворов хворал и отнекивался от службы в Крыму, обстановка там резко осложнилась. Шагин-Гирей в своей политике оказался столь же крутым, как и его брат. Огражденный русскими штыками, он вел себя крайне надменно, не считаясь с национальными обычаями и традициями, проводил реформы на европейский лад, к которым народ не был подготовлен. Хан стал ездить в карете, обедать за столом, сидя в мягких креслах, завел себе повара-француза. Все его затеи требовали больших денег, между тем кошелек его был пуст. Повышение налогов вызвало ропот, а отдача части доходов на откуп русским купцам — возмущение. Для простого народа он был вероотступником, в глазах вельмож — изменником. Не брезгуя ничем, противники Шагин-Гирея даже распустили слухи о том, что он принял христианство под имением Ивана Павловича. Вспыхнувшее восстание, во главе которого встал его брат Селим, заставило хана бежать в русский лагерь. Разъяренные мятежники разграбили все сокровища дворца Шагина и изнасиловали женщин его гарема. Нерешительность Прозоровского привела к тому, что восстание стало бурно развиваться, угрожая находившимся в Крыму русским отрядам. И хотя в решающем сражении в октябре 1777 года татары были наголову разбиты, потеряв убитыми и ранеными до двух тысяч человек, волнения не унимались и даже перекинулись из Крыма на Кубань.
5 января 1778 года Суворов принял Кубанский корпус.
Прежде всего он позаботился о независимости от Прозоровского, которому подчинялся его предшественник генерал-майор Бринк. Обратившись с рапортом к главнокомандующему армиями в Крыму и на Кубани Румянцеву, Суворов объяснил свое ходатайство как «немалой от Крымского полуострова от здешнего места отдаленности», так и тем, что Прозоровский «в знании здешнего края не весьма достаточен». Отсутствие ответа Суворов воспринял как молчаливое согласие фельдмаршала и в дальнейшем не посылал в Крым никаких донесений. Развязав таким способом себе руки, генерал-поручик энергично принялся за укрепление русских позиций на Кубани, добившись за короткий срок — всего три месяца — поразительных результатов.
Когда разнесся слух, что новый начальник инспектирует Кубанскую линию, коменданты крепостей и станций стали деятельно готовиться к встрече. Суворов, не терпевший парадности, являлся, однако, в неурочный час. К тому же в полевых, близких к боевым условиях он одевался просто, не носил орденов и знаков отличия.
Ночью сел он в сани и поехал на первую по пути станцию. Комендант ее, старый служака, капитан, никогда не видел Суворова и на вопрос: «Кто такой?» — услышал: «От генерал-порутчика послан заготовлять ему лошадей». Несмотря на позднее время, капитан принял гостя как товарища, провел в свою комнату, накормил ужином и угостил водкой.
В разговоре капитан шутил, судил обо всех генералах — Прозоровском, Борзове, Бринке, хвалил Суворова за заботливость и внимание к солдату. Наконец генерал-поручик, приятельски простившись с ним, отправился дальше. Поутру получил капитан записку: «Суворов проехал, благодарит за ужин и просит о продолжении дружбы».
Поставив себе «за первый долг», как сообщал он Румянцеву, «самолично обозреть положение сей земли, всех в ней учрежденных постов», генерал объехал по берегу моря южную часть края от Темрюка до Тамани, а затем поднялся по Кубани до места своей ставки — Копыла, изучая незнакомую страну. В результате появилось подробное топографическое описание края с этнографическими добавлениями и цифрами.
Не ускользнули от внимания Суворова и так называемые некрасовцы — потомки казаков, что бежали на Кубань с Игнатием Некрасой после подавления в 1708 году Булавинского восстания. Иные из них, принятые крымским ханом, поступили затем в его гвардию или даже сделались телохранителями турецкого султана. Большинство «мирных» некрасовцев было переселено турками на Нижний Дунай, но «мужска полу не меньше тысяч трех», по словам Суворова, покинув свои жилища при приближении русских войск, бродило за Кубанью в горах. Неутомимый генерал-поручик встретился с ними, побеседовал и нашел, что «они между протчим оказывали желание к спокойствию и возвращению на нашу сторону».
Его заботила также большая смертность в войсках от болезней, и он рассредоточил полки и эвакуировал ряд госпиталей. Кубанские ногайцы страдали от разорительных и кровавых вылазок черкесов, которые уводили в плен мирных жителей, забирали имущество, скот и имели привычку «дратца в смерть». Вникая в мелочи, Суворов приказал «на берегу сей стороны Кубани камыши все истребить, коим горцы, перелазя Кубань, обыкновенно скрытно прокрадываютца». Он желал улучшить отношения с ногайской верхушкой, бывал в ордах, ходатайствовал за ханов и мурз перед начальством, искусно применял подкуп, испросив у Румянцева специальные денежные суммы на подарки «привыкшим к пакостям» ханским чиновникам. Но главным, понятно, было укрепление новых рубежей России.
Кубанская кордонная линия, возникшая после Кучук-Кайнарджийского трактата, по сути, и явилась границей с Турцией. Помимо усиления существующих военных постов, Суворов предложил протянуть цепь укреплений вверх по Кубани, чтобы сомкнуть ее с уже существующей Моздокской линией, учрежденной еще в 1763 году и предназначавшейся для защиты русских поселений от набегов кавказских горцев из Кабарды и Чечни.
С начала января, несмотря на злые морозы, Суворов принялся строить крепости и мелкие фельдшанцы, предварительно лично осматривая местность, намечая контуры каждой постройки и участвуя в инженерных работах. Сооружения эти превосходили обычные полевые укрепления того времени: они состояли из банкет и амбразур, обеспечивавших хороший обстрел расчищенной вокруг местности, фашин и мешков с землей, представлявших надежное укрытие для стрелков и орудийных расчетов, а кроме того, перед каждой крепостью были возведены искусственные препятствия. Как считал сам Суворов, «при обыкновенном российском мужестве мудрый комендант низвергнет важностью его укрепления противные предприятия регулярнейших войск, коль паче варварские рассевные набеги». По расчетам генерал-поручика, вся оборонительная система должна была быть завершена в мае.
Строительные работы велись в тяжелых условиях. Вспоминая это время, Суворов писал правителю канцелярии Потемкина П. И. Турчанинову в своем обычном, образном и афористичном стиле: «Я рыл Кубань от Черного моря в смежность Каспийского, под небесною кровлею, преуспел в один Великий пост утвердить сеть множественных крепостей, подобных мостдокским, не с худшим вкусом. Из двух моих в 700-х человеках работных армиев, строящих оные на носу вооруженных многолюдных варваров, среди непостоянной погоды и несказанных трудов, не было умершего и погиб один — невооруженный». Уже 19 марта Суворов мог донести Румянцеву, что «крепости и фельдшанцы по Кубани построились… с неожидаемым успехом. Они столько неодолимы черкесским поколениям по их вооружению, что становятся им совершенно уздою».
К апрелю 1778 года весь край неутомимостью Суворова был подробно обследован, огражден надежной линией укреплений и приведен в совершенное успокоение: набеги черкесов прекратились, ногайцы вернулись к своим мирным занятиям. В то же время в Крыму дела шли из рук вон плохо, виною чему была нераспорядительность Прозоровского, которого в конце концов уволили в двухгодичный отпуск. У Румянцева имелась одна кандидатура на это место: 23 марта фельдмаршал послал Суворову ордер о назначении его командующим Крымским корпусом, при этом кубанские войска оставались в его ведении.
По всему видно, что характер у великого полководца был не из легких: невзлюбив кого-либо, он не только сохранял свою неприязнь до конца, но и выказывал ее, невзирая на приличия, каждым своим шагом. Самолюбивый и не прощавший причиненного ему зла, он решил проучить бывшего своего начальника.
27 апреля Суворов появился в Бахчисарае, даже не оповестив об этом Прозоровского, у которого должен был принять корпус. Поджидавший его при реке Каче в своем лагере «генерал Сиречь» несколько раз уже осведомлялся, не приехал ли Суворов. Посланный Прозоровским в Бахчисарай дежурный генерал-майор Леонтьев встретил по дороге суворовского нарочного капитана Коробьина, который объявил, что его начальник болен и принять никого не может. Приехав с Леонтьевым в лагерь, Коробьин еще раз повторил данное ему приказание. Тогда Прозоровский поручил капитану узнать, в какой час Суворов примет его на другой день, но ответа не дождался. Все-таки он откомандировал в Бахчисарай своего адъютанта, который вернулся с совершенно неутешительными известиями: «больной» Суворов ужинает у русского резидента при бахчисарайском дворе Андрея Дмитриевича Константинова, а на следующий день собирается к Шагин-Гирею. Теперь только «генерал Сиречь» понял, что новый командующий намеренно уклоняется от свидания с ним. Он послал к Суворову с генералом Леонтьевым «необходимые для сдачи командования письма», а сам ночью выехал из Крыма, напоследок пожаловавшись Румянцеву.
Приняв корпус, Суворов, как и на Кубани, объехал и осмотрел построенные при Прозоровском полевые укрепления и, найдя их «изрядными», все же решил, что «не худо им быть посильнее». В самом Крыму было спокойно, зато на Ахтиарском, будущем Севастопольском, рейде все еще стояли турецкие суда. Для удобства наблюдения за турками и лучшего взаимодействия отрядов Суворов разделил весь Крымский полуостров на четыре территориальных района, выделив крупный внешний резерв — бригаду генерал-майора Ивана Вахтушевича Багратиона, расположившуюся к северу от Перекопа. Он с успехом применил и в Крыму опыт войны с конфедератами. Предупреждая возможность десанта, Суворов протянул по берегу линию постов, ввел сигнализацию между сухопутными войсками и флотилией, приказал обучить солдат распознаванию своих судов и турецких.
Надо было улучшить отношения с татарским населением и самим крымским ханом. Немалую помощь оказал Суворову Константинов. Он был давним знакомым генерал-поручика, крестил его дочь Наташу. Константинов хорошо знал обычаи и традиции татар, умел с ними ладить и втайне участвовал в откупах. Через него Суворов сблизился с ханом Крыма.
Дворец Шагин-Гирея в Бахчисарае охраняли верные ему бешлеи — постоянная гвардия, организованная на европейский манер. Проследовав во внутренние покои в сопровождении Константинова, генерал-поручик увидел тридцатилетнего хана, высокого, сухопарого, с приятными чертами лица. Он был одет в суконный костюм муфтия, но не запускал бороды, как того требовал обычай от ханов и духовных особ, а подстригал ее. В черных живых глазах его светился ум, речь была непринужденна и изящна.
Потомок Чингисхана, Шагин-Гирей был личностью незаурядной, получил образование в Венеции, хорошо знал итальянский, греческий, арабский и русский языки, писал стихи по-татарски и по-арабски. Посетив в 1771 году Петербург, он сумел очаровать Екатерину приветливостью и европейским лоском. Из Петербурга Шагин вернулся сторонником немедленных реформ по европейским образцам. Он уравнял проживающих в Крыму греков и армян с мусульманами, приказал выдать русских пленных и стал чеканить собственную серебряную и медную монету.
Шагин-Гирей пригласил Суворова выпить кофе; гости разместились по-европейски, в креслах за столом, только француз-камердинер подавал хану кофе, стоя перед ним на коленях. Глядя на Шагина и его свиту, Суворов думал о том времени, когда эти куртки, шаровары и шапки нагоняли ужас на его предков.
После кофе хану была подана турецкая глиняная, с предлинным чубуком трубка, почти тотчас же замененная другою и третьей: Шагин-Гирей выкуривал каждую в несколько затяжек. За шахматной доской Суворов договорился с ханом о первоочередных шагах для улучшения отношений между татарами и русскими. Оба расстались довольные друг другом.
Опытный администратор, Суворов 16 мая обратился к войскам со специальной инструкцией, в которой потребовал «соблюдать полную дружбу и утверждать обоюдное согласие между россиян и разных званиев обывателей». Главная мысль генерал-поручика: «С покорившимися наблюдать полное человеколюбие».
В тот же день Суворов отдал знаменитый приказ войскам Кубанского корпуса, повторенный в июне для крымских войск и охватывающий все стороны военной жизни, учебы, хозяйства, быта. С мелочной дотошностью перечисляет командующий меры, которые необходимо принять для сбережения здоровья солдат, вникая во все и строго требуя от лекарей и их команд «иметь ежевремянное попечение о соблюдении паче здоровья здоровых, всегдашними обзорами и касающемся до них содержания каждого вообще, до их пищи и питья. Последнему принадлежит, где не лучшая вода, таковая отварная и отстоянная, а слабым сухарная или с уксусом; к пище ж выпеченный хлеб, исправные сухари, теплое варево и крепко пролуженные котлы.
Застоянную олуделую пищу отнюдь не употреблять, но надлежаще варить, а по употреблении вымывать и вытирать котлы сухо. Обуви и мундирам быть не весьма тесным, дабы и в обуви постилка употреблятца могла.
Наблюдать весьма чистоту в белье, неленостным вымыванием оного. Строго остерегатца вредного изнурения, но тем паче к трудолюбию приучать, убегая крайне праздностей…»
Популярность Суворова, не один год тянувшего солдатскую лямку, изнутри, въявь проникнувшегося заботами рядового русской армии, зиждилась уже на неколебимой уверенности его подчиненных в том, что их генерал заботится о них не как о себе, но больше, чем о себе.
В приказе от 16 мая Суворов наибольшее внимание уделяет боевому обучению войск. Учитывая местные условия — растянутую на пятьсот сорок верст Кубанскую укрепленную линию и особенности противника, совершающего летучие набеги, «генерал Вперед» требует жесткой пассивной обороны. Это еще раз опровергает односторонний взгляд на суворовское военное искусство. О том же говорят и другие разделы приказа, например, посвященные огневой подготовке. Критики Суворова, к месту и не к месту вспоминавшие его крылатую фразу — «Пуля — дура, штык — молодец», не хотели брать в расчет скверных боевых качеств тогдашних фузей, их малой скорострельности, слабости убойного огня. Но, главное, они не замечали, закрывали глаза на то, сколь важную роль отводил он на деле прицельному огню, прямо утверждая: «Пехотные огни открывают победу…» Развивая нововведения Румянцева, генерал-поручик уделял особое внимание боевым действиям егерей — наиболее метких стрелков, или, как сказали бы мы теперь, снайперов. Благодаря «вернейшему застреливанию противных, а особливо старших и наездников», они получили важные привилегии: «Сии имеют волю стрелять, когда хотят, без приказу».
Сами воинские подразделения предстают под пером Суворова вопреки закосневшей линейной тактике как гибкий, подвижный и живой организм: «Густые каре были обременительны, гибче всех полковой карей, но и батальонные способные; они для крестных огней бьют противника во все стороны насквозь, вперед мужественно, жестоко и быстро; непомещенная тяжелая артиллерия идет своею дорогою батарейно с ее закрытием; конница рубит и колет разбитых и рассеянных в тыл или для лутчего поражения стесняет на карей… Пехотные огни открывают победу, штык скалывает буйно пролезших в карей, сабля и дротик победу и погоню до конца совершают… Бить смертельно вперед, маршируя без ночлегов. Ночное поражение противника доказывает искусство вождя пользоваться победою не для блистания, но постоянства. Плодовитостью реляциев можно упражняца после».
В этих строках, которые так и дышат энергией, порывом, наступательным духом, Суворов словно бы уже выходит за тесные пределы крымского или кубанского театра военных действий. Не возможный десант или тем паче партизан-горцев, но крупные силы регулярной армии противника видит он перед собою.
Отношения с Оттоманскою Портою тем временем портились из-за ее нежелания примириться с территориальными утратами и окончательно утвердить Кучук-Кайнарджийский трактат. Не объясняя своих действий, Турция начала стягивать к Южному Бугу войска и послала в Черное море три военные эскадры. Румянцев предписал Суворову не допускать высадки десанта, действовать при этом исключительно мирными средствами, оставив оружие для последней крайности. Фельдмаршал опасался, справится ли Суворов с такой задачей, где отважная дерзость должна была уступить место осторожной гибкости. Излагая свои сомнения Потемкину, он пояснял: «Как господин Суворов не говорлив и не податлив, то не поссорились бы они, а после и не подрались». Проверить дипломатические способности Суворова, его выдержку и находчивость пришлось скоро.
В Ахтиарской бухте на якоре давно уже стояли турецкие суда. 7 июня два донских казака после смены постов возвращались к своим кошам, когда их окликнули три турка, будто бы искавших толмача. Ответив, что переводчика среди них нет, казаки поворотили было с дороги, но увидели, что турки целятся вслед им из ружей. Они припустили лошадей, да поздно: грянули выстрелы, и один казак замертво свалился с лошади. Турки бросились его грабить, а второй казак поскакал к своим. Потребовав от начальника турецких судов Гаджи-Мегмета найти и наказать убийц, Суворов тут же пригласил Шагин-Гирея для маленькой демонстрации и в виду турок объехал с ним часть берега. Сравнительно узкая горловина Ахтиарской бухты подсказала ему искомый план. Надо было только повременить до получения ответа.
Как и следовало ожидать, Гаджи-Мегмет прислал письмо с уверениями в дружбе, но наказывать виновных не собирался. Тогда генерал-поручик, загодя заметивший места для возведения насыпей, приказал шести батальонам «с приличною артиллериею и конницей и при резервах» в ночь на 15 июня начать скрытно земляные работы по обе стороны бухты. С рассветом они были прекращены.
Вызванный утром вахтенным на палубу, Гаджи-Мегмет увидел позади флотилии, у выхода в море, знатные земляные насыпи, начатки артиллерийских батарей и ни единой живой души. Обеспокоенный, он запросил о причинах постройки укреплений. В ожидании ответа он мрачно ходил по палубе, глядя то на обвисшие паруса своей флотилии, то на выросшие насыпи, грозившие его запереть. Принесли письмо Суворова:
«Дружески получа ваше письмо, удивляюсь нечаянному вопросу, не разрушили ли мы обосторонней дружбы… К нарушению взаимного мира никаких намерений у нас нет, а напротив, все наше старание к тому одному устремлено, чтобы отвратить всякие на то неприязненные поползновения и чтоб запечатленное торжественными великих в свете государей обещаниями содружество сохранить свято. Итак, мой приятель, из сего ясно можете видеть мою искреннюю откровенность и что сумнение ваше выходит из действий вашей внутренности…»
Побледнев от гнева, Гаджи-Мегмет порвал бумагу:
— Выходить в море!
— Но, ага, нет ветра…
— Передать по флотилии сигнал: «Выходить на веслах». Лодки медленно потянули фрегаты из гавани. Но и в море флотилию встретил полный штиль. Распорядившись не пускать турок за пресною водой, Суворов поставил Гаджи-Мегмета в безвыходное положение. Простояв две недели в виду крымского берега, флотилия вынуждена была уйти в Синоп. Так бесславно закончилась попытка турок обосноваться в Ахтиарской бухте. Екатерина отметила успешные действия генерал-поручика: «за вытеснение турецкого флота из Ахтиарской гавани…» ему была пожалована золотая табакерка, украшенная бриллиантами. Потомству же открылась еще одна заслуга Суворова. Он был первым, кто оценил значение Ахтиарской бухты и положил начало будущей Севастопольской крепости.
Как ни успешны были действия Суворова, Екатерина еще сомневалась в окончательности присоединения Крыма. Чтобы приблизить желанную цель и извлечь что можно на случай неудачи, Потемкин решил переселить с полуострова в Россию христиан, преимущественно армян и греков. В большинстве своем это были торговцы, ремесленники, садоводы и земледельцы — люди трудолюбивые и зажиточные, платившие хану и мурзам изрядную дань. Какие выгоды приобретались этой мерой? Прежде всего, подчинение ненадежного крымского правителя. Лишившись значительной доли доходов, Шагин-Гирей становился более зависимым от России. Кроме того, достигалась и другая, побочная, но не менее важная цель.
Получив неограниченную власть над южными землями России — от Астрахани до польских кордонов, — Потемкин видел насущную задачу в освоении вновь приобретенных Новороссийской, Азовской и Таганрогской губерний, представлявших в то время незаселенную пустыню. В памяти людской остались «потемкинские деревни», роскошные декорации, установленные генерал-губернатором Новороссии по пути следования Екатерины в 1787 году. Однако помимо фальшивых он строил — и в изобилии — «непотемкинские», всамделишные города и поселения.
Энергия Потемкина-администратора была неисчерпаемой. Он заложил на юге новые крепости, и среди них пристань для русского флота в устье Днепра — Херсон; выстроил в Предкавказье цепь укреплений — Ставрополь, Александров, Георгиевск. Необходимы были люди — огромное количество переселенцев для обживания новых пространств.
Потемкин стремился изыскать любые возможности, чтобы пополнить нехватку в новоселах. Он велел Суворову войти в сношения с некрасовцами; переселил часть запорожцев в низовья Кубани, где они образовали Черноморское казачье войско; наконец, обратил внимание на крымских армян и греков. Чрезвычайно трудную операцию по выводу их из ханства Потемкин целиком поручил Суворову.
Татары и сам Шагин, сколь дружественны ни были его отношения с генерал-поручиком, не могли равнодушно согласиться на это. Требовалось маскировать жесткие действия изощренными софизмами и дипломатическими увертками. С мая 1778 года Суворов успел за полтора месяца проделать немалую работу и, что очень важно, заручился поддержкой крымских князей церкви во главе с митрополитом греческим Игнатием. Подготовка к переселению велась в такой тайне, что сам Румянцев узнал обо всем лишь 17 июня из рапорта Суворова: «Уповательно, христиане через месяц к выходу изготовиться могут…»
Таким образом, прямой начальник Суворова все это время находился в полном неведении и был поставлен перед свершившимся фактом! Столь же честолюбивый, сколь и талантливый, прекрасно знавший себе цену Румянцев давно уже с неприязнью и раздражением относился к Потемкину, не без основания почитая себя несправедливо обойденным. И теперь, понимая все политическое значение для России эвакуации крымских христиан, генерал-фельдмаршал не мог сдержать обиды. Потемкин был недосягаем, зато оставался Суворов, который и ранее вызывал неудовольствие Румянцева, не раз обращался через его голову прямо к фавориту. Как и сам Румянцев страдал от вышестоящих генералов, мешавших ему в Семилетней войне, так теперь он начал препятствовать Суворову.
Узнал о переселении и Шагин-Гирей, пришедший в состояние, близкое к ярости: обнаруживалось полное бессилие его власти, отнимался важный источник дохода. Не желая даже ничего слышать о вознаграждении, хан немедля прервал отношения с Суворовым и Константиновым, покинул свою столицу Бахчисарай, грозился отправиться в Петербург с жалобой, распространял слухи, будто русские войска готовятся к избиению татар. Суворов отражал письменные колкости «изнуряемого гневливостью» Шагин-Гирея, держал наготове войска, охранявшие переселенцев, и был погружен в сложные интендантские расчеты. Для эвакуации потребовалось шесть тысяч воловьих подвод, надо было выкупить у армян и греков их «недвижимое родовое» имущество и выбрать им удобные земли на новых местах, а кроме того, учесть все непредвиденные сложности, вплоть до взятки в пять тысяч рублей таможенным откупщикам за беспрепятственный провоз имущества.
С середины июля Суворов начал регулярно извещать Румянцева о ходе эвакуации. Написанные в спокойном тоне, его рапорты не отражают того душевного смятения, в каком пребывал генерал-поручик, испытывая враждебность Румянцева, нехватку денег, противодействие хана. Н. А. Полевой так охарактеризовал роль Румянцева в событиях, связанных с переселением христиан из Крыма: «Мы не поверили бы, если бы не имели бесспорных доказательств, что герой Кагула унизился тогда до мелкой, ничтожной интриги против Суворова. Не зная тайных повелений, данных ему, он противился своевольным, как он думал, распоряжениям Суворова, писал к хану, останавливал переселение крымских христиан, требовал строгого отчета — даже поощрял низких клеветников, уверявших, что Суворов грабит Крым, допускает своевольство солдат, берет подарки от хана».
Мнительный до болезненности, Суворов в своем воображении еще увеличивал размеры этой неприязни. Каждое несправедливое замечание Румянцева повергало генерал-поручика в глубокое уныние, понуждало писать если не самому Потемкину, то его правителю канцелярии, «проворному» Петру Ивановичу Турчанинову, многословные оправдательные послания. Они дышат страхом и отчаянием. «Боюсь особливо Пе[тра] Ал[ександровича] за христиан — хан к нему послал с письмами своего наперстника. Чтоб он меня в С[анкт] Петербурге чем не обнес. Истинно, ни Богу, ни императрице не виновен». «Ф[ельдмаршала] непрестанно боюсь… Боже сохрани, в прицепке по мнимым неудачам выбьет вон из вишенок[1] костьми и мозг и глаза…» Письма переполнены просьбами о переводе: «Перемените мне воздух, увидите во мне пользу…» «Вывихрите меня в иной климат, дайте работу, иначе будет скуплю, или будет тошно» и т. д.
Ко всем напастям прибавилась еще одна — горячечная лихорадка, свалившая самого Суворова, его трехлетнюю дочку Наташу и беременную жену. Кажется, никогда еще не приходилось ему так солоно.
Наконец переселение христиан из Крыма было завершено. 18 сентября Суворов рапортовал Румянцеву о выезде в Азовскую губернию 31098 душ «обоего пола». Русское правительство отвело переселенцам земли в Приазовье: греки большею частью осели между реками Бердой и Калмиусом, где были основаны города Мариуполь и Мелитополь; армяне — на Дону, у крепости Святого Дмитрия, с центром в Нахичевани, нынешнем пригороде Ростова-на-Дону. Тяжесть с души свалилась, хотя и позднее судьба этих людей продолжала тревожить Суворова, напоминавшего Турчанинову в 1779 году: «положение уже переселенных в Азовскую губернию бывших в Крыму христиан не наилучшее» — и просившего «упрочить благосостояние немалого числа сограждан России, в сих народах замыкающегося, человеколюбивым и снисходительным об них призрением».
Еще не завершился вывод армян и греков из Крыма, как вновь возникла угроза извне: в начале сентября 1778 года огромный турецкий флот, насчитывающий сто семьдесят «флагов», появился на Черном море и оцепил часть полуострова, держась ближе к Кафе, то есть Феодосии. Суворов приказал князю Багратиону ввести резервный корпус в Крым и стал маневрировать с войсками по берегу соответственно движению турецких судов.
Так как в Порте наблюдались в эту пору вспышки «смертоносной язвы» — чумы, имелся повод не выпускать с судов ни одного человека. Турки требовали разрешения сойти на берег для прогулки — им было отказано ввиду карантина; несколько чиновников просили «посидеть на кефинской бирже» — отказано; набрать на суда пресной воды — «с полной ласковостию отказано». Ничего не добившись, турки передали по флоту сигналы пушечными выстрелами и, подняв паруса, отплыли в Константинополь. Неудачное предприятие стоило им семи тысяч матросов и семи судов; восьмидесятипушечный флагманский корабль пришлось сжечь в пути.
Мало-помалу волнения в Крыму улеглись, но начались неприятности на Кубани. Назначенный туда Суворовым генерал-майор В. В. Райзер оказался управителем малоспособным и недалеким. Вопреки строгим указаниям командующего, запретившего всякие наступательные действия, Райзер снарядил экспедицию за Кубань, сжег селение и тем озлобил горцев. Потребовав расследовать происшествие и предать виновных суду, Суворов указал Райзеру на его ошибки, но тот снова допустил оплошность, нанеся оскорбление сераскиру кубанских ногайцев Арслан-Гирею, а через месяц проворонил набег горцев на фельдшанец.
Суворов вызвал Райзера в Крым для объяснений, но объясняться ему не дал, сразу набросившись на него:
— Стыд, ваше превосходительство, Викентий Викентьевич! Стыд императорского оружия! Не грозных неприятелей, но малолюдных заречных разбойников унять не могли. — Он забегал по комнате, взмахивая руками и отрывисто говоря: — В бытность мою на Кубани заречные в покорность входили. Благовидно я их к тому наклонял, сиятельный сераскир обоюдно в том спомоществовал. Ускромлять их разорениями с российской стороны неприлично!
Райзер пытался возражать:
— Выходит страх из их мыслей, потому и делают начало своих шалостей.
Суворов резко остановился перед Райзером и стал водить перед его лицом указательным пальцем, произнося медленно, с расстановкой, словно вдалбливая неудачливому генералу:
— Бла-го-му-дро-е ве-ли-ко-ду-ши-е и-но-гда бо-ле-е по-лез-но, не-же-ли стрем-глав-ной во-ен-ной меч!
— Но, ваше превосходительство! Суворов затопал ногой в такт словам:
— Не счесть с прибытия вашего к командованию Кубанским корпусом вредных приключениев. Что за причина? Упущения ваши! Чрез них войска, пришед в расслабление, расхищаемы стали — стыд сказать — от варваров, об устройстве военном ниже понятия имеющих!
— Ночью за всем не усмотришь…
Генерал-поручик опять взорвался:
— Старшему от генералитета надлежит бдеть, когда все спят! В роскошное обленение не впадать! Сами вы всюду все своими очами обозревать должны, повсеместно поправлять, учреждать и предопределять!
В соседней комнате зашедший для докладу генерал-майор М. И. Кутузов осведомился у суворовского ординарца Горшкова о причине происходящего шума.
— Никого не приказано пускать! — громким шепотом ответил сержант. — Их превосходительство Лександра Василич немца песочут…
Конец 1778 года прошел в непрерывных организационных хлопотах в Крыму и на Кубани. В январе 1779 года Румянцев поручил Суворову осмотреть астрахань-кизлярмоздокскую границу. Заехав ненадолго к семье в Полтаву, генерал-поручик менее чем в полтора месяца по зимнему бездорожью, в простой повозке обследовал громадную кордонную линию, протяженностью 1200 верст, а затем и Кубанские укрепления. На место Райзера его усилиями был назначен бригадир К. X. Гинцель.
Погруженный в административные заботы, Суворов не знал о происходящих переменах в большой политике.
2
Не без влияния Потемкина Екатерина пошла на сближение с Австрией. К весне 1779 года закончилась война между Австрией и Пруссией за баварское наследство, известная в истории под названием «картофельной»: на протяжении двух лет не случилось ни одного сражения, оба войска только маневрировали и портили поля. Екатерина выступила посредницей между воюющими сторонами и побудила их заключить мир, что было крупнейшим дипломатическим успехом России. Австрия, развязав себе руки, была заинтересована в ослаблении Оттоманской Порты и нуждалась в надежном союзнике. Вот почему предложение о совместных действиях против Турции, сделанное Екатериной в начале 1779 года, нашло горячий отклик при дворе императора Иосифа II.
В Турции, исчерпавшей все возможности военных демонстраций на Черном море и Дунае, истощенной бесславной для нее недавней кампанией, на время взяли верх сторонники мира с Россией. 10 марта 1779 года в Константинополе был наконец подписан документ, подтверждающий все условия Кучук-Кайнарджийского договора. В ответ на признание Портою Шагин-Гирея законным и независимым крымским ханом правительство Екатерины обязывалось вывести русские войска с полуострова и упразднить вовсе Кубанскую укрепленную линию.
Для Суворова и Румянцева это было полной неожиданностью. Почти все, что с таким трудом удалось создать, — крепости, фельдшанцы, посты — надо было разрушить. В Крыму оставался лишь шеститысячный отряд пехоты в качестве гарнизона Керчи и Ениколе.
Суворов воспользовался эвакуацией войск для очередной экзерциции и провел ее с обычным блеском. Последние части Крымского корпуса перешли Перекопскую линию 10 июня, не оставив на полуострове ни одного больного и не реквизировав ни одной обывательской подводы.
Просьбы о новом назначении, которыми генерал-поручик давно уже бомбардировал через Турчанинова Потемкина, увенчались успехом лишь в начале июля 1779 года.
Генерал-губернатор на сей раз самолично извещает генерал-поручика о назначении его командующим пограничной Новороссийской дивизией, подчинявшейся непосредственно Потемкину. Суворов в своих письмах не устает превозносить фаворита, просит у него за многочисленных отличившихся подчиненных и, кажется, чувствует себя вполне довольным судьбой. Однако, говоря его же словами, под «стоическою кожуриною» бушевала ревность самолюбивого обманутого мужа.
Брак Суворовых дал трещину. Справедливости ради скажем, что Варваре Ивановне приходилось все эти годы нелегко. Она то живала в Опошне под Полтавою, то следовала за своим беспокойным генерал-поручиком. Бесконечные путешествия, очевидно, не прошли ей даром: из-за тряски по ужасным дорогам в 1776–1777 годах она дважды выкинула. В Крыму, в нездоровом климате, восемь месяцев не вставала с постели из-за лихорадки. Заваленный по горло делами, Суворов по полгода не видел жену. Молодая, красивая женщина, не имевшая к тому же твердых нравственных понятий, поддалась искушению. Летом 1777 года у нее начался роман с секунд-майором Санкт-Петербургского драгунского полка Николаем Суворовым.
Внук Ивана Ивановича Суворова, сводного брата Василия Ивановича, он приходился великому полководцу внучатым племянником и пользовался долгое время его расположением. Под началом А. В. Суворова он служил в Суздальском полку и выказал недюжинную храбрость при Ландскроне и осаде Кракова. В 1778 году Николай Суворов находился в Крыму в качестве пристава при Шагин-Гирее. Услужливые люди поспешили во всех подробностях расписать потаенные отношения Варвары Ивановны и Николая Суворова.
Чистый и прямодушный, сказавший о себе: «кроме брачного, ничего не разумею», А. В. Суворов был потрясен открывшимся вероломством сразу двух близких людей. Казалось, он исхудал и осунулся за несколько часов этого июньского дня 1779 года.
— Толь мною облагодетельствованный оказался гнусным соблазнителем, а она — блудницей! — Суворов избегал теперь даже упоминать имя жены. — Правило Ионафана Великого — отлагать мщение до удобного времени. — Он вспомнил роман Филдинга «История Ионафана Вильда Великого», недавно, в 1772 году, переведенный Иваном Сытенским. — Но что тогда остается? Испустить бессильный глас и возвратиться в стоическую кожурину? Нет, здесь мщение не терпит отлагательств!
После короткого и бурного объяснения Суворовы разъехались: Варвара Ивановна с Наташей отправилась в Москву, в дом на Большой Никитской. Опережая ее, в Первопрестольную летели письма Суворова его присным, вроде отставного капитана Ивана Дмитриевича Канищева. Растравляя себя, генерал-поручик сообщал подробности измены, бывшей для него именно изменой, равноценной предательству в бою. В ослеплении он даже готов наговорить на Варюту лишку, возможно, желая очернить ее не только в глазах какого-то Канищева или московских тетушек Варвавры Ивановны, сколько в своих собственных. Он хочет окончательно убедить себя в вероломстве и испорченности ее натуры.
«Не думай на одного Н[иколая] С[уворов]а: ей иногда всякой ровен. Она очень лукава, однако видали Н[иколая] С[уворов]а, как к ней по ночам в плаще белом гуливал. Его ко мне на двор не пускать, а других таких, — сколько можно. Только и то мудрено: она будет видаться с ним по церквам, на гульбищах, в чужих домах, как бы хотя и мои служители то ни присматривали. А всего лучше, как скоро она в Москве, в мой дом въедет, то бы и разделка по приданому».
Давая Канищеву разные деликатные поручения, он требует:
«Бывшей моей… весьма мне хочется ведать похождение в девках… И какие известия заставляй мне писать, хоть незнакомой рукой, — как хочешь, все равно».
«Хотя для писем, что к ней будет писать Н[иколай] С[уворов], между ими все предосторожности и в штиле их примутся, однако стараться доставать их наивозможнейше…»
Ревность точит и грызет его. Суворов готовится к разводу. Но, исповедуясь Канищеву, он не может сам рассказать о случившемся другим поверенным и родственникам: деверю И.Р.Горчакову, секретарю консистории Дееву, главноуправляющему своими имениями Терентию Ивановичу Черкасову:
«Терентию Ивановичу во всем подробно откройся, а мне еще, право, стыдно».
В сентябре 1779 года Суворов подал прошение о разводе в Славянскую духовную консисторию. Он обвинил жену в том, что она, «презрев закон христианский и страх Божий, предалась неистовым беззакониям явно с двоюродным племянником моим… В [1]778-м [году], в небытность мою на квартире, тайно, от нее был пускаем в спальню, а потом и сего года, по приезде ея в Полтаву, оной же племянник жил при ней до двадцати четырех дней непозволительно, о каковых ея поступках доказать и уличить свидетельми могу».
Обычная его решительность проявляется и в семейном конфликте. Он подкрепляет свое прошение в консисторию письмом всесильному Потемкину с просьбою ходатайствовать перед императрицею «к освобождению меня в вечность от уз бывшего… союза, коего и память имеет уже быть во мне истреблена». Одновременно он хочет определить свою дочь в Смольный институт благородных девиц, отобрав ее у Варвары Ивановны. Желание Суворова было исполнено, и приехавший 31 декабря 1779 года в Москву капитан Суздальского полка Петр Корицкий по высочайшему повелению взял маленькую Наташу у матери и увез в Петербург. Страстно любивший ее Суворов не решился выдать начальнице Смольного института де Лафон необходимых обязательств в том, что он не возьмет Наташу домой до окончания ею курса. Поэтому в институте ее поместили отдельно от остальных воспитанниц.
В конце 1779 года не без помощи Потемкина Суворов вызван был в Петербург. 24 декабря его пригласила на прием Екатерина, которая была в малой короне и цветном кавалерском платье ордена Александра Невского. Царица, в жизни которой мир интимного играл огромную роль, любила «устраивать» частную жизнь своих подданных и была уже хорошо осведомлена о желании Суворова расторгнуть брак.
Осторожный, даже подозрительный, генерал-поручик в разговорах, письмах к вельможам, в том числе и Потемкину, часто отделывался шутливыми эскападами и ловким юродствованием. Вот отчего на вопрос Екатерины о Суворове Потемкин как-то сказал, что это хороший воин и партизан, но странный чудак. Беседуя с полководцем, императрица дивилась его обширным сведениям и глубоким доводам. Он более знал и провидел в политике, нежели целый век упражнявшийся в ней дипломат, говорил о европейском военном театре, судьбах Польши и Блистательной Порты. Екатерина долго разговаривала с Суворовым, а под конец аудиенции пожаловала ему, отколов со своего платья, бриллиантовую звезду Святого Александра Невского.
Нет сомнения в том, что сама императрица вмешалась в ссору Суворова с женою и склонила его к примирению. Их встреча в Москве с Варварою Ивановною произошла в январе 1780 года. Здесь, в Первопрестольной, генерал-поручик получил секретный ордер Потемкина, предписывающий ему немедленно отправиться в Астрахань для подготовки военной экспедиции за Каспий.
Как ближайшая цель похода Потемкиным указывался персидский город и порт на Каспии Рящ — Решт, благодаря занятию которого можно было бы достигнуть и более отдаленную — направить через Россию богатую ост-индскую торговлю, нарушавшуюся из-за невозможности обеспечить безопасность купеческих судов, так как в то время разгорелась война между Англией и Францией. Обе эти крупнейшие державы Европы заняты были, кроме того, внутренними делами: Франция переживала предреволюционное брожение; Англия боролась с отколовшимися Североамериканскими провинциями. В этих условиях Потемкину, а за ним и Екатерине казалось возможным не только вернуть земли, завоеванные Петром I на южных окраинах Каспийского моря и отданные Надир-Шаху при Анне Иоанновне, но и воспользоваться выгодами ост-индской торговли.
Вместе с женою Суворов приехал в Астрахань в первой половине февраля 1780 года. Он сразу же занялся выяснением пути от Кизляра к Рящу и состояния подчиненной ему Каспийской флотилии. Суворов жил как в самом городе, в Спасском монастыре, так и в богатом имении села Началова «Черепахе», принадлежавшем одному из «случайных» людей, столь многочисленных в восемнадцатом веке, Никите Афанасьевичу Бекетову.
Родной дядя известного поэта И. И. Дмитриева, Бекетов сам писал стихи и, по авторитетному свидетельству великого Федора Волкова, был замечательным актером. Когда он играл в сумароковской трагедии «Синав и Трувор», исполняя одну из женских ролей, в сухопутный кадетский корпус приехала Елизавета, пленившаяся его молодостью, красотой и нежностью. Возвышение Бекетова было недолгим, а карьера неудачной. Командуя в Семилетнюю войну 4-м гренадерским полком, он загубил его в сражении при Цорндорфе, а сам попал в плен. С 1763 по 1773 год Бекетов исправлял должность астраханского губернатора. В его селе Качалове, находившемся в двенадцати верстах от Астрахани, выделялись прекрасный господский дом и деревянная Георгиевская церковь, окруженные виноградниками. Черепаховский виноград подавался даже к императорскому столу. Здесь Суворов гулял по деревне, одаривая крестьянских детишек пряниками и орехами.
Однако судьба готовила новый удар. В начале марта Варюта открылась ему в том, что некий «ризомаратель» напал на нее и, угрожая двумя пистолетами, овладел ею. Суворов обращается к своему покровителю Турчанинову, горячо требуя наказать виновника, оставшегося потомкам неизвестным. На сей раз генерал ни в чем не обвиняет Варвару Ивановну, а старается оправдать ее — чрезвычайностью обстоятельств, угрозой и насилием. Тут прорывается его чувство к жене; тут проявляется трогательная человечность Суворова.
«Сжальтесь над бедною Варварою Ивановною, которая мне дороже жизни моей, иначе вас накажет Господь Бог! Зря на ее положение, я слез не отираю. Обороните ее честь. Сатирик сказал бы, что то могло быть романичество; но гордость, мать самодеяния, притворство, покров недостатков — части ее безумного воспитания. Оставляли ее без малейшего просвещения в добродетелях и пороках, и тут вышесказанное разумела ли она различить от истины? Нет, есть то истинное насилие, достойное наказания и по воинским артикулам! Оппонировать: что она „после уже последовала сама…“ Примечу: страх открытия, поношение, опасность убийства, — далеко отстоящие от женских слабостей. Накажите сего изверга по примерной строгости духовных и светских законов, отвратите народные соблазны, спасите честь вернейшаго раба нашей Матери, в отечественной службе едва не сорокалетнего».
Он убеждает петербургского своего друга в том, что Варвара Ивановна упражняется в благочестии, посте и молитвах под руководством «достойного пастыря». Но кто избран этим пастырем? Такой развращенный мастер флирта, как хозяин «Черепахи» Бекетов! Поистине никакие превратности судьбы не могли отучить Суворова, этого взрослого ребенка, бесконтрольно доверять людям и полагаться на них, как на самого себя. Ему достаточно чисто «внешнего» раскаяния Варюты, как он уже верит в возможность обновления их союза.
На страстной неделе, между 11 и 18 апреля, перед праздником Пасхи, Суворов послал ночью из «Черепахи» за кафедральным протоиереем отцом Василием Панфиловым и игуменьей Благовещенского монастыря Маргаритой. Приехавших поутру встретил сам генерал-поручик с женою. Он был в простом солдатском мундире, она — в сарафане. Все тотчас отправились в Георгиевскую церковь. Отец Василий в полном облачении отворил царские врата. Все бывшие в церкви встали на колени, обливаясь слезами. После этого Суворов поднялся, вошел в алтарь и, сделав три земных поклона, приложился к престолу, а затем упал протоиерею в ноги:
— Прости меня с моею женою, разреши от томительства моей совести!
Протоиерей вывел его из алтаря и поставил на колени, а Варвару Ивановну поднял с колен и повел прикладываться к драгоценной иконе Рудневской Божьей Матери, подаренной Бекетову Екатериною II. Затем супруги поклонились друг другу в ноги, и отец Василий прочел разрешительную молитву, отслужил литургию и причастил каявшихся:
— И ненавидящим нас простим вся Воскресением…
Восстанавливая в семье мир, Суворов ни на час не забывает доверенной ему миссии. Он энергично готовится к походу за Каспий, велит ремонтировать корабли, ожидает прибытия артиллерии и подкреплений, просит прислать хорошего толмача, владеющего азиатскими языками. В мае под его начало переходит Казанская дивизия, правда, укомплектованная всего двумя полками. Генерал-поручик устанавливает связи с владетелем Ряща и Гилянской провинции Гедает-ханом, склоняя его принять русское подданство. Успешный почин положен. Однако в душу Суворова постепенно закрадываются сомнения. Он чувствует, как все более слабеет поддержка Потемкина, охладевшего к Каспийской экспедиции. К тому времени английские дела в Индии вновь улучшились, так что о планах, связанных с подчинением ост-индской торговли, приходилось забыть.
В итоге Суворов остался у разбитого корыта — с призрачной властью, перессорившийся с местным начальством, погребенный на два с лишим года в астраханском захолустье. Потемкин, кажется, охладел не только к персидским планам, но на время и к самому Суворову, не отвечая на его слезные просьбы о переводе. В июне 1781 года он назначил начальником Каспийской флотилии тридцатилетнего выходца из Далмации капитана 2-го ранга М. И. Войновича. Однако тот счел себя подчиненным не Суворову, а учрежденному в Херсоне Адмиралтейству и самому Потемкину, доверенностью которого пользовался.
29 июня, ничего не сообщив генерал-поручику, Войнович вышел со своей флотилией в море и направился к берегам Персии. Вначале дерзкая экспедиция протекала успешно: Войнович договорился даже с астрабадским ханом Ага-Магометом о строительстве на юго-западе Каспия укрепленной русской фактории. Но затем его схватили вместе с другими офицерами, а укрепления были срыты. Неподготовленная, носившая характер авантюры попытка Войновича закрепиться на персидском берегу окончательно погубила в глазах Потемкина самую идею Каспийского похода.
Положение Суворова стало невыносимым. В подчинении у него не было, по сути, ни флота, ни сухопутных войск, потому что оба полка Казанской дивизии так и не прибыли в Астрахань. Он считал себя сосланным и, лишенный любимого дела, был ввергнут в состояние желчной раздражительности. В Астрахани носились досужие сплетни о чудачествах генерал-поручика, а ставший известным эпизод церковного примирения Суворова с супругой еще более подлил масла в огонь. Чуткому до мнительности полководцу всюду мерещились враги, стремившиеся очернить и унизить его. Свои подозрения и обиды он вверял бумаге, забрасывая жалобными письмами Турчанинова: «Ныне чувствуя себя здесь забытым, умаление отдаленной команды, которая и вам в начале подозрительною казалась, не должен ли я давно сумневатца о колебленной милости ко мне моего покровителя? Одного его имея и невинно пишась, что мне уже тогда делать?., как стремитца к уединению, сему тихому пристанищу и в нем остатки дней моих препроводить?»
Отложив гусиное перо, Суворов перечитал написанное. А вдруг Потемкин и впрямь от него отступился? Тогда дело плохо. Затрут его придворные — розовые каблуки — и выскочки, нахватавшиеся чинов. Генерал забегал по комнате, гневно бормоча:
— Сей поднялся за привоз знамен, тот — за привоз кукол, сей по квартирмейстерскому перелету, тот — по выходу от отца, будучи у сиськи…
Внизу хлопнула дверь. Послышался раздраженный голос жены. Суворов сбежал по лестнице.
— Варюта? Что так рано из церкви?
Румяная, сероглазая, она готова была расплакаться от обиды. Мало того, что губернаторша Жукова не отдала ей ни одного визита, так еще и еле здоровалась.
Суворов замахал рукой.
— И совсем ей не кланяйся! Это вицере в меня метит!
Он не сомневался, что исполнявший обязанности губернатора Жуков, или, как он именовал его, «вице-ре», подстроил новую обиду. Хотя и не считаться с ним нельзя было: Жуков был женат на родной племяннице Потемкина Анне Васильевне Энгельгард.
— У него только куртаги на уме. Предаваться полнозлобно пляске да в карточный вист играть… Вице-ре и шут его Пиери — вот супостаты мои.
— Завтра Михайлов день, — напомнила Варвара Ивановна. — Мы к Пиери приглашены на обед.
Командир Астраханского полка Пиери не был подчинен генерал-поручику и откровенно пресмыкался перед Жуковым. Посещения по праздникам именитых горожан превращались для Суворова в подлинную пытку, но и отказаться нельзя — до ушей светлейшего дойдет…
Привыкши обедать очень рано, в восемь-девять часов, Суворов долго сидел с Варютой в гостиной у Пиери, ожидая приглашения к столу. Голландские часы в дубовом футляре били два, били три раза, а приглашения все не было. Но вот Пиери дал знак и сам бросился к дверям. Тотчас грянул скрытый ширмою военный оркестр, не удостоивший того Суворова по его приезде.
— Не двуклассной ли кто? — тревожно сказал Суворов жене.
— Полно, откуда здесь быть генерал-аншефу…
Суворов подскочил к окну:
— Ба! Вицереева карета! Тайного принимают как аншефа! — Он повернулся к слугам и сказал сдавленным от обиды голосом: — Чего ждете? Сейчас носите обед!
Когда Жуков в сопровождении Пиери показался в покоях, Суворов уже сидел за столом, пробуя блюда и отодвигая их одно за другим. Увидев вошедших, он схватился за живот:
— Кушанье застылое, переспелое, подправное. Мочи нет, велите доктора позвать! Пары воздвигло из моего желудка в мозг.
Он дал доктору пощупать пульс, поклонился Жукову и, притворно охая, отправился домой. Садясь в возок, грустно сказал жене:
— Благоразумно мне в собрания не ездить. Но, бывши среди десяти-пятнадцати тысяч солдат, могу ли я стать Тимоном-мизантропом?
Неуживчивый, самоуглубленный, склонный к неожиданным, озорным выходкам, генерал казался астраханским обывателям вздорным и смешным чудаком, к тому же оставшимся не у дел. О нем плели небылицы, припоминали и то, что передавалось недоброжелателями в Крыму. По городу из рук в руки стал ходить пасквиль, где Суворов выведен был под именем Фехт-Али-хана. Как считал полководец, сочинили пасквиль завсегдатаи куртагов у Жукова — бывший губернатор Астрахани генерал-майор И. В. Якоби, действительный статский советник М. С. Степанов и местный житель, негоциант Навруз-Али-Имангулов. До глубины души оскорбленный, Суворов метался по комнатам, изливая горечь перед близкими — Варютой и Митюшей, поручиком Горихвостовым, своим крестником и казначеем канцелярии:
— Тот я генерал, что идет завоевать Персию? Я только хвастаю, что близко сорока лет служу непорочно. Требовал у ханов красавиц? Стыдно сказать! Кроме брачного, я не разумею, чего ради посему столько вступаюсь за мою честь. Требовал лучших персидских аргамаков? Я езжу на подъемных. Лучших уборов? Ящика для них нет. Драгоценностей? У меня множество бриллиантов из высочайших в свете ручек! Индийских парчей? Я, право, не знал, есть ли там оне…
Мнительный генерал-поручик все более утверждался в мысли, что горестное его положение в Астрахани — следствие мести Потемкина «Приказал к[нязь] Г[ригорий] А[лександрович] губ[ернатору] вводить меня в ничтожество, — жалуется он Турчанинову и заканчивает свою очередную исповедь криком отчаяния: — Боже мой! Долго ли меня в таком тиранстве томить?» Надо ли говорить, как обрадован был Суворов, когда получил указ Военной коллегии «отправиться к Казанской дивизии». Впрочем, и в Казани генерал-поручик пробыл недолго. Уже в августе дивизии было приказано двинуться к Моздоку, а самому Суворову принять в урочище Кизикирмю, что у Днепра, войска от генерал-майора де Бальмена.
Суворов снова был нужен Потемкину в Крыму и на Кубани, там, где недавно он блестяще зарекомендовал себя.
Генерал-поручик уже давно следил за тем, как развивались события в Причерноморье. Несмотря на конвенцию 1779 года и официальное признание Шагин-Гирея, Турция не переставала тайно возбуждать против него крымских татар, а также горцев и ногайцев Закубанья. Осенью 1781 года проживавший в Тамани старший брат крымского хана Батырь-Гирей, ярый приверженец старинных обычаев и ревностный мусульманин, начал агитацию против Шагина среди ногайских мурз и своих сторонников в Крыму. В начале 1782 года к числу недовольных примкнул крымский муфтий, принявшийся в публичных проповедях обличать Шагина в отступничестве от Корана и подражании неверным.
Как и предполагал Суворов, знавший крутой характер Шагин-Гирея, ответные меры хана были столь жестокими, что лишь озлобили татар. Хан приказал повесить муфтия и двух знатных мурз и объявить с минаретов, что такая же участь постигнет каждого смутьяна. В ответ его родственник Махмут-Гирей поднял восстание, в котором приняли участие многие бывшие сторонники Девлет-Гирея, ранее ушедшие за Кубань и в Турцию. Восставшие захватили столицу Крымского ханства Бахчисарай. Вместе с верной ему гвардией — бишлеями Шагин бежал под защиту русских войск в Керчь. Батырь-Гирей переехал морем в Кафу и при согласии турецкого султана был провозглашен правителем всех татарских орд. Русские войска сосредоточились в Никополе, в двадцати пяти километрах от Перекопа, занятого отрядом татар.
3
Из Казани Суворов направился в Херсон к Потемкину. Он ехал по обыкновению в простой, открытой тележке вместе с поручиком Горихвостовым. Вокруг простирались недавно еще пустовавшие плодородные степи, теперь размежевывавшиеся и заселявшиеся переселенцами из внутренних областей России, казенными и помещичьими крестьянами, которых привлекало сюда десятилетнее освобождение от податей. Генерал-поручик проезжал через поселения крымских армян и греков, запорожцев, сербов, немцев-колонистов. По обилию курьерских повозок, военных пикетов и команд чувствовалось: близок Херсон.
Среди двухсот сорока городов, основанных именным указом Екатерины II, Херсон был едва ли не важнейшим. Если справедливо, что многие из них на деле представляли собою жалкие деревни, а иные оказались выморочными и погибли, едва родившись на свет, то другие пошли в рост, окрепли и определили вскорости самый облик новых губерний России. Город и порт на Днепре, получивший имя греческого божества и заложенный в непосредственной близости от турецкой крепости Очаков, угрожал Оттоманской Порте, утверждая морское могущество России. Здесь находилась Адмиралтейс-коллегия, управлявшая флотами Черного, Азовского и Каспийского морей, и строились крупнейшие в стране корабельные верфи. Херсону Потемкин отвел роль столицы Тавриды.
Правда, в 1782 году само слово «столица» было малоприменимо к поселению, большинство жителей которого ютились в землянках, вырытых в горе и покрытых камышом и землею. Проезжая улицами Херсона, Суворов видел вокруг однообразные ряды хижин, где окнами служили деревянные рамы, затянутые промасленной бумагой. На Днепровском лимане, в гавани виднелись мачты линейных кораблей и фрегатов, еще дальше — эллинги для постройки судов. Верфи прикрывала примыкавшая к Днепру крепость, на севере от которой строился форштадт для офицеров и солдат. В центре города, у церкви, располагался деревянный дворец губернатора — резиденция Потемкина.
В обширном дворе скучали и слонялись, потеряв надежду, что о них вспомнят, курьеры и вестовые; у подъезда дежурил запряженный шестеркою лошадей парадный экипаж. Генерал-поручик послал Горихвостова позаботиться о пристанище. Войдя в переднюю, Суворов с трудом пробился сквозь толпу вельмож, генералов и чиновников, не решавшихся даже приблизиться к дверям потемкинского кабинета и терпеливо ожидавших выхода всесильного временщика.
Дежурный офицер поспешил доложить о прибытии Суворова. Велено было просить.
Суворов заглянул в огромные покои и увидел в глубине их Потемкина — за столиком, уставленным бутылями с квасом. Одноглазый гигант, запустив пятерню в длинные черные волосы, сидел, облаченный в свой знаменитый, старый и засаленный халат. Смуглое лицо его было по обыкновению задумчиво. Время от времени он брал с огромного блюда на столе очередной пирожок с зеленым луком и, по-видимому, совершенно машинально отправлял его в рот. Единственный глаз был обращен к бумаге, поданной ему скуластым лысеющим человеком — чиновником особых поручений Поповым, впоследствии секретарем при Екатерине.
Потемкин раздраженно поднял голову, словно забыв, что пригласил Суворова, но тут же, просветлев, помахал бумагою:
— Генерал-порутчик! Кстати. Заходи.
— Батюшка, светлейший князь, никак, помешал? Кланяясь, Суворов быстро пересек залу.
— Садись и изволь послушать. На досуге сочинил я записку касательно одежды и вооружения армии нашей. Думаю, возражать не будешь.
— Помилуй, благодетель наш, Григорий Александрович! — наклонив голову набок, скороговоркой сказал Суворов. — Мыслимое ли дело возражать великодушному моему начальнику!
Суворов сел на сафьяновую банкетку напротив Потемкина.
— Читай, Василий! — Князь передал бумагу Попову.
Тот начал высоким, напряженным голосом:
— «В прежние времена в Европе, как всяк, кто мог, должен был ходить на войну и, по образу тогдашнего бою, сражаться белым оружием, каждый, по мере достатка своего, тяготил себя железными бронями…»
— Раздельное, раздельнее читай, — скосил на него глаз Потемкин.
— «Потом, предпринимая дальние походы и строясь в эскадроны, начали себя облегчать: полные латы переменялись на половинные, а наконец и те уменьшились так, что в конце осталось от сего готического снаряду только передняя часть и каскет на шляпе, а в пехоте знак и то у офицеров…»
Потемкин снова нахмурился.
— Да что ты как дьячок гонишь… Давай мне.
Он выпил залпом кружку квасу, отставил далеко бумагу и хрипло, но громко продолжил чтение:
— «В Россию, когда вводилось регулярство, вошли офицеры иностранные с педанством тогдашнего времени. А наши, не зная прямой цены вещам военного снаряда, почли все священным и как будто таинственным…»
На лице Суворова отразилось неподдельное любопытство.
— «…Им казалось, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, ружейных приемах. Занимая себя таковой дрянью, и до сего времени не знают хорошо самых важных вещей и оборотов, а что касается до исправности ружья, тут полирование и лощение предпочтено доброте, а стрелять почти не умеют. Словом, одежда войск наших и амуниция такова, что придумать почти нельзя лучше к угнетению солдатов, тем паче, что он, взят будучи из крестьян в тридцать почти лет возраста, узнает узкие сапоги, множество подвязок, тесное нижнее платье и пропасть вещей, век сокращающих…»
— Воистину так! — не выдержал Суворов и вскочил с банкетки. — Ай да князь, ай да Потемкин! Виват Потемкину!
— Ваше превосходительство, — Потемкин явил в голосе торжество, хотя лицо его оставалось бесстрастным, — не перебивай уж, сделай милость.
Он отложил бумагу, поднялся, оказавшись еще больше и выше вблизи щуплого Суворова, и зашагал по зале, отрывисто произнося отдельные фразы из «Записки», очевидно любимые:
— Завивать, пудриться, плести косы — солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли?.. Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами… — Он остановился перед Суворовым и взял его за плечи. — Туалет солдатский должен быть таков: что встал, то готов.
— Верно! — подхватил генерал-поручик. — Быстрота — вот главная заповедь воина. Здоровье! Бодрость! Храбрость! Экзерциция!
Воображаемым ружьем он четко принялся делать штыковые выпады. Попов, поблескивая хитрыми татарскими глазками, с некоторым страхом глядел то на него, то на светлейшего князя. Но тот с видимым удовольствием следил за впечатлением, произведенным его «Запиской» на славного генерала. Никто не заметил, как в залу проскользнул франт в завитом парике и роскошно расшитом камзоле, рукава которого были оторочены нежнейшими кружевами. Вкрадчиво он вдруг заговорил по-французски, склонившись в изысканном поклоне:
— Стол накрыт, ваша светлость…
И еще вкрадчивей:
— Светлейший князь, что здесь происходит? Может, привести караульных солдат для проделывания ружейной экзерциции?
Потемкин, казалось, ожидал именно этого предложения.
— Зови, Массо, и немедля. Да скажи еще, чтобы подали мыло и таз с горячею водою.
Пожав плечами, Массо, хирург и шут Потемкина, исчез за дверью. Князь подмигнул Суворову:
— Заставим-ка француза поработать над солдатскою прической!..
Таз был установлен на банкетке. Два молодца — носы луковицей, узкие лакированные сапоги, короткие лосиновые штаны в обтяжку, красные камзолы и треуголки — застыли перед Потемкиным.
— Ну, ребятушки, — обратился к ним князь, — скидывайте шляпы, сейчас хирург вам головы мыть будет.
— Я? — Массо брезгливо всплеснул кружевными манжетами.
На лбу Потемкина надулась жила, лицо еще больше потемнело.
— Ты что за птица такая… Лекаришко! Русским солдатом гнушаешься?
Но Массо уже бормотал, отступая, кланяясь всесильному фавориту:
— Простите, ваша светлость… Конечно, ваша светлость… Сейчас, ваша светлость.
Солдаты сняли треуголки, обнажив белые напудренные волосы с косицами. Массо мигом закатал рукава и, нагнув к самому тазу, с удивительным проворством намылил голову первому солдату. Через десять минут все было закончено. Светловолосые, раскрасневшиеся, неузнаваемые, русские парни смущенно переминались перед Потемкиным. Князь обернулся к Попову:
— А теперь неси сюда образцы одежды, какие я приказал подготовить…
Короткая куртка из зеленого сукна с красным отложным воротником, лацканами и обшлагами, «шировары» из красного сукна, обшитые желтою выкладкою, каска с черной поярковой тульей, широким козырем и желтым шерстяным плюмажем и белая епанча довершили новую экипировку. На лето полагался китель из фламского полотна и такие же штаны.
Суворов, чуть прихрамывая, обошел солдат, даже потрогал полотно кителя.
— Нравится, Александр Васильевич? — прищурился Потемкин.
— Помилуй Бог, хорошо! Теперь бы так-то вот переодеть и всю армию…
— Будем просить всемилостивейшую монархиню. — Потемкин перекрестился, крепко ставя щепоть, и круто повернулся на своих кривых мускулистых ногах.
— А теперь поспешаем на обед.
В передней Потемкина окружил, задвигался, зажужжал хор льстецов. Зная щедрость светлейшего, каждый норовил улучить счастливое мгновение для просьбы. Мужья хорошеньких женщин подталкивали их к князю, точно решающий довод, и те склонялись низко, открывая в вырезах платья груди, желая запомниться и приглянуться ему. Суворов, слегка подпрыгивая, следовал за князем и, сторонясь окружающих, словно страшась запачкаться, бормотал себе под нос:
— Грех, грех… Седьмую заповедь нарушают…
Стол был невиданно обилен. Волжский осетр, средиземноморские устрицы, маслины из Прованса, сыр из Голландии, плоды и овощи — разных сортов сливы, яблоки, груши… Скромный генерал-поручик даже не знал имени многим яствам. В тяжелых зеленых штофах, пузатых бутылях, серебряных кувшинах были французские, анисные, фенхельные, полынные, ирные, померанцевые водки; мальвазиры, пивы и меды, среди коих и знаменитые своей отменной крепостью польские липецы; виноградные, ягодные, травные, изюмные, мозельские, лимонные вина. Размещались согласно чинам только в центре. Потемкин велел сесть генералу в рогатом перуке, с оливковым лицом, на котором резко выделялись белки глаз.
— Ты здесь хозяин, Иван Абрамович, а я гость…
Суворов хорошо знал Ивана Абрамовича Ганнибала, отличившегося в 1770 году при Наварине. Отец его, генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, был близким приятелем покойного Василия Ивановича Суворова, а два брата — Исаак и Яков — храбро воевали под началом Суворова-младшего в Польше.
Сам светлейший ушел за боковые столы, сев меж двух молоденьких женщин с одинаковыми кукольными лицами. За его огромной спиной уже вертелся Массо, с мушкою на щеке и томными глазами, и еще один, в шелковой рубахе, которого Потемкин называл Сенька-бандурист.
Генерал-поручик ерзал на Стуле, чувствуя себя в западне. Сосед справа, пухлолицый, с мокрым ртом, наливая Суворову анисовой водки, доверительно задышал ему в щеку:
— Эвон князь-от до племянниц собственных добрался…
Суворов отодвинулся от него, зато сидевший по другую сторону пухлолицего простодушно ахнул:
— Как? За двоимя племянницами сразу?
— У него еще третья такая же в Питербурхе есть! — радуясь своей осведомленности, громко прошептал пухлолицый.
Суворов в негодовании отвернулся.
Тучный старик, утирая париком лысину, объяснял:
— …Возьми на шестиведерную бочку белого инбирю двенадцать золотников, долгаго перцу, мушкату, мастики, корня иру, скроши все мелко, положь в мешочек и налей хорошею французскою водкою, так чтобы мешочек покрыло…
Генерал-поручик совсем затосковал. Принесли меж тем зажаренных целиком кабанов, розовые ломти медвежатины, зайцев, нашпигованных свиным салом. Потемкин неумеренно ел, а еще больше пил, долго не хмелея, только распахнул на волосатой груди халат. Когда Суворов, подумав, положил себе немного осетрины, Потемкин через стол зычно спросил его:
— Александр Васильевич, ты чего мяса не ешь?
— Чревобесие в Петровский пост, — твердо ответил Суворов, — мясоед не наступил!
Шум за столами сразу утих. Потемкин, нахмурившись, рассматривал кабанье гузно на своей тарелке. Потом, через силу улыбнувшись, он сказал:
— Видно, ваше превосходительство, хотите вы в рай верхом на осетре въехать.
Взрыв восторга ответствовал сиятельной шутке. Хохотал пухлолицый сосед Суворова, заливался тенорком Массо, утирал париком слезы-смешинки тучный старик.
Колкий ответ повис на языке, но Суворов вовремя удержал себя. Да, тут тебе не ратное поле, ешь да помалкивай.
Довольный собою, Потемкин хохотал вместе со всеми, но потом снова нахмурился. Отодвинув блюдо с жарким, он проревел своим страшным басом:
— Подать моего любимого!
Тотчас принесли черного хлеба и чеснока. Больше Потемкин не притрагивался к мясному и скоро удалился совсем, окруженный дамами. Разговор за столами возобновился. Массо, показывая влажными наглыми глазами на Суворова, что-то шептал Сеньке-бандуристу. Тот согласно кивнул головою и подошел к генерал-поручику:
— Так правда, ваше превосходительство, что вы хотите на осетре в рай въехать?
Суворов медленно поднялся со стула.
— Знайте, — сказал он с брезгливой холодностью, — что Суворов иногда делает вопросы, но никогда не отвечает.
Он тут же покинул залу. Митюша давно уже ожидал своего генерал-поручика во дворе. Когда они шли по темным улицам на ночлег в форштадт, их нагнала вереница карет и возков. Верховые факелами освещали путь. Из карет высовывались хорошенькие завитые головки, слышались нежный смех, французская речь. Потемкин ехал с гостями в свой любимый вокал на окраине Херсона. Там до утра гремела музыка, вспыхивали фейерверки, горели вензеля государыни императрицы и наследника цесаревича.
Суворов встал, как обычно, в пятом часу, когда придворные видели свой первый сон. Митюша окатил генерал-поручика ведром ледяной воды, и после тощего завтрака тот сел за турецкий словарь. Однако уже в девять адъютант передал ему приглашение явиться к Потемкину.
Суворов подивился перемене, происшедшей с князем. Теперь перед ним снова был совершенно другой человек — собранный, деловой, энергичный.
— Ее императорское величество соизволила заключить военный трактат с австрийцами. Так что, ежели султан вероломство какое проявит, быть ему с двух сторон биту. Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турком по Бугу или со стороны кубанской — во всех случаях Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен — не допустит он их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положи теперь, что Крым наш, что нет уж сей бородавки на носу, — вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами сами, а не под именем других. Всяк их шаг тут виден. Со стороны кубанской сверх частых крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда не сумнительна, мореплавание по Черному морю свободное. Всемилостивейшая государыня наша презирает зависть, которая препятствовать ей не в силах!
Потемкин подошел к большой карте империи.
— В Крыму будет действовать граф де Бальмен. На западе мы выставляем два корпуса — Салтыкова против Хотина и Репнина в Умани. На Тереке — генерал-порутчик Павел Потемкин. Вы, ваше превосходительство, как знающий обстановку, отправляетесь в Прикубанье. Держите свой корпус на готовой ноге, как для ограждения собственных границ и установления между ногайскими ордами нового подданства, так и для произведения сильного удара на них, если б противиться стали. А для сведения нашего пришлите данные о кубанских татарах и зарубежных черкесах.
4
Суворов приехал на Кубань к самому началу октября 1782 года и вскоре собрал для Потемкина необходимые данные: сказалось знание края, приобретенное четыре года назад. По его донесению от 7 октября, до восьми тысяч казанов «развратников», как называли сторонников Батырь-Гирея, входили в состав едисанской и джамбулуцкой орд, в третьей же, едичкульской, царило спокойствие.
Успех турецких агитаторов объяснялся и внутренними причинами. Зима 1781/82 года на Кубани выдалась исключительно суровой. Бескормица побудила ногайцев двинуться к Дону и Манычу, но там их остановил атаман Иловайский — казаки сами бедствовали. А закубанские черкесы, по словам Суворова, «с ногайцами никаких союзов не имеют, но ездят непрестанно на грабеж и достигают нередко российских границ». 8 октября генерал-поручик переехал в крепость Святого Дмитрия, где находился с женою и взятою из Смольного института Наташею всю осень и зиму 1782/83 года.
Наблюдая за действиями в Крыму, он мог убедиться, что основные события на сей раз минуют его. Племянник Потемкина граф А. Н. Самойлов встретился с изгнанным из Крыма Шагин-Гиреем и по наущению генерал-губернатора убедил хана добровольно уступить Крым России. Утвердившись на полуострове, Батырь-Гирей попытался было войти в сношения с русскими, но, узнав о сборе в Никополе корпуса де Бальмена, стал формировать отряды из своих приверженцев. В сентябре в Никополь прибыл Шагин-Гирей, которого надобно было сперва вновь возвести в ханское достоинство, дабы придать его отречению законный вид.
Де Бальмен отправил графа Самойлова с отрядом для овладения Перекопской линией. Два батальона егерей и 3-й гренадерский полк захватили Op-Капу и тем самым открыли Шагину ворота в Крым. Русские войска начали продвижение к Карасу-Базару. Им пытался преградить путь крупный, в несколько тысяч отряд Алим-Гирея, но при первом же ударе Самойлова татары рассеялись. Вскоре сводный гренадерский батальон захватил вождя мятежников Батырь-Гирея, пытавшегося скрыться на Кубань. Шагин-Гирей был восстановлен в звании крымского хана.
Прошло всего три месяца, как Шагин водворился в Бахчисарае, но он уже успел возбудить против себя население крайними и неоправданными жестокостями. В специальном повелении Потемкину Екатерина II указывала «объявить хану в самых сильных выражениях», чтобы он прекратил казни и отдал «на руки нашего военного начальства родных своих братьев и племянника, так же и прочих, под стражею содержащихся». Вмешательство императрицы спасло жизнь Батырь-, Арслан- и Алим-Гиреям, но Махмут-Гирей был побит каменьями и многие другие повстанцы замучены.
Шагин-Гирей объявил, что не желает быть ханом такого коварного народа, каковы крымцы.
Весною 1783 года Суворов по вызову Потемкина снова ездил в Херсон, где было проведено военное совещание. Собравшихся ознакомили с манифестом Екатерины от 8 апреля, где царица признавала себя свободною от принятых прежде обязательств о независимости Крыма ввиду беспокойных действий татар, неоднократно доводивших Россию до опасности войны с Портою, и провозглашала присоединение Крыма, Тамани и Кубанского края к империи. Тем же 8 апреля был помечен рескрипт Екатерины II о мерах для ограждения новых областей и «отражения силы силою» в случае враждебности турок.
Порта и впрямь начала военные приготовления: в Очакове чинились крепостные сооружения, прибывали войска. В ответ Потемкин приказал укрепить Кинбурн. Однако демонстрации турок не способны были уже отменить свершившееся: Крымский полуостров, переименованный императрицей в Тавриду, принадлежал России. Так была дописана еще одна страница истории, начатая Петром Великим. Россия утвердилась в Крыму, который, по словам Ф. Энгельса, был ей «жизненно необходим».
Укрепив войсками пограничные редуты и крепости от Тамани до Азова, Суворов разработал план торжественного приведения к присяге местных ногайских орд. В Тамани за церемонию отвечал генерал-майор В. И. Елагин, в Копыле — генерал-майор Ф. П. Филисов, в Ейском городке — сам Суворов. В ордере начальника отрядов генерал-поручик требовал «ежевременно вводить в войсках обычай с татарами обращаться как с истинными собратьями их». Он уже подарками и ласкою добился расположения нескольких знатных ногайцев, в том числе султана джамбулуцкой орды Мусы-бея и одного из начальников едичкульской орды Джана-Мамбета-мурзы. Присяга была приурочена к 28 июня, дню восшествия Екатерины II на престол.
К назначенному сроку степь под Ейским городком покрылась кибитками шести тысяч кочевников. Русские войска выстроились парадно в батальон-каре с развернутыми знаменами. Суворов при всех орденах встретил татарских старшин и преклонного годами Мусу-бея. После обедни в полковой церкви в кругу ногайских предводителей зачитан был манифест о присоединении к России Крымского ханства, Тамани и Кубанского края. По мусульманскому обычаю старшины принесли присягу на Коране, причем многим из них тут же были присвоены чины штаб- и обер-офицеров русской армии. После этого старшины разъехались по своим ордам и привели к присяге прибывших с ними ногайцев.
Начался пир. Гостей ожидали сто зажаренных быков, восемьсот баранов и пятьсот ведер водки. Старшины обедали вместе с Суворовым и его штабом, по кругу ходил большой кубок, здравицы следовали одна за другой, при криках «ура» и «алла», грохоте орудий и пальбе из фузей.
Вскоре русские совершенно перемешались с ногайцами, появились музыкальные инструменты — татарская флейта кура, турецкая скрипка, зазвучали прерывные, жалостные восточные песни. По окончании пира открылись скачки, где в добывании призов казаки соперничали с ногайцами. Вечером — новый пир, затянувшийся далеко за полночь. Как замечает биограф Суворова, «ели и пили до бесчувствия; многие ногайцы поплатились за излишество жизнью». На другой день, в именины наследника престола, празднество возобновилось. Лишь утром 30 июня гости, дружески простившись, откочевали в степи. «За присоединение разных кубанских народов к Всероссийской империи» Суворов был награжден 28 июля 1783 года учрежденным перед тем за год орденом Святого князя Владимира 1-й степени.
Воцарившееся на Кубани спокойствие не могло, однако, обмануть Суворова. «Взирая на легкомыслие сих ногайских народов», генерал-поручик предвидел новые волнения и смуты. К тому же находившийся в Тамани Шагин-Гирей вопреки своему обещанию выехать в Россию вел себя двусмысленно и сеял «разные плевелы в ордах». Потемкин не переставал напоминать Суворову о необходимости осторожной политики в отношении кубанских татар. Он требовал оказывать уважение их религии и подвергать обидчиков жестокому наказанию, «как церковных мятежников», обещал избавить вовсе ногайцев от рекрутчины и снизить поборы.
Для того чтобы оградить ногайцев от турецкого влияния, Потемкин и Суворов решили добиваться их переселения за Волгу или «на их старину», в Уральские степи. Время, казалось, было для этого самое подходящее. В рапорте Потемкину от 6 июля генерал-поручик наметил сроки — вторую половину августа, чтобы, расположившись на новых землях, кочевники успели за осень накосить себе сена. Почему он начал переселять ногайцев уже в июле, сказать теперь трудно. Причем случилось так, что приказ был отдан в тот самый момент, когда Потемкин прислал предписание повременить с переселением. Предписание опоздало.
В конце июля ногайцы собрались к Ейскому укреплению толпою в три-четыре тысячи казанов, то есть семей, и двинулись оттуда к Дону. Однако, отойдя от Ейска всего лишь на сто верст, сразу в нескольких местах возмутились ногайцы из джамбулуцкой орды. Одна часть их повернула на юг и неожиданно напала на пост Бутырского полка. Произошел бой, подоспели русские подкрепления; разбитые ногайцы кинулись к реке Ее и далее к Кубани, преследуемые драгунами и казаками. Многие из них погибли в камышах или утонули в реке. Другие ногайцы джамбулуцкой орды напали на сопровождавшую их воинскую команду у реки Кагальник. Они уничтожили немало соплеменников, верных России; ранен был и Муса-бей. Около семи тысяч казанов бежало за Кубань.
30 июля ногайцы освободили враждебного России султана джамбулуков Тава, который стал душою восстания. Собрав большие толпы вооруженных татар, к которым присоединились и черкесы, Тав-султан 23 августа внезапно осадил Ейское укрепление. Степь, где два месяца назад мирно пировали русские и ногайцы, стала местом ожесточенного сражения. В крепости находились жена Суворова и маленькая Наташа, сам же генерал-поручик был около Копыла. Три дня малочисленный гарнизон отражал яростный приступ. 25 августа, опасаясь появления русских войск, плохо вооруженные толпы Тав-султана ушли за Кубань.
Потемкин был сильно раздражен неожиданным оборотом дела и готов был винить во всем Суворова, указывая ему, что «тамошние народы, видя поступки с ними не соответствующие торжественным обнадеживаниям, потеряли всю к нашей стороне доверенность». Пользуясь тем, что укрепления вдоль Кубани были разрушены в 1779 году, на русские посты и мирных ногайцев нападали черкесы. За Кубанью скопились мятежные силы Тав-султана. В этих условиях, как считал Потемкин, оставалась только одна мера — поход на левый берег Кубани, чтобы раз и навсегда «пресечь такую дерзость».
Скрытый ночной марш по правой стороне Кубани, без дорог, местностью заболоченной, а отчасти лесистой, начался из урочища Ески-Копыл. В десять суток прошли едва сто тридцать верст, зато полная тайна передвижения была соблюдена. Ничего не заметили ни пикеты горцев, расставленные по другую сторону Кубани, ни сами ногайцы. 30 сентября Суворов отдал по отряду приказ, в котором указывал порядок форсирования реки и перечислял все дальнейшие действия. Труднейшая переправа закончилась к двум часам ночи, но в ногайских становищах так ничего и не узнали о близкой беде. Завершение операции не требовало большого военного искусства.
После жесточайшей сечи по обоим берегам реки Лабы было захвачено множество пленных. Ногайские мурзы в знак покорности прислали Суворову белые знамена. Надо заметить, что Потемкин далеко не был удовлетворен экспедицией и требовал репрессий. Генерал-поручик понимал лучше фаворита, насколько опасна такая политика, и уклонялся от карательных акций. В ответ на повеления о наказании неспокойных ногайцев он доносил Потемкину 27 ноября, что «долгая на них операция в глубокую осень войскам вредна», и просил отсрочки до начала будущего лета или даже до окончания жаркого времени.
Считая, что успокоение взволнованных происшедшим мирных орд гораздо важнее новых походов, Суворов по возвращении с Кубани посетил ближайшие от Ейского укрепления аулы, обласкал начальников и старшин, особенно приятельски общаясь с Мусой-беем. Этот чуть ли не столетний, но еще крепкий мурза, бывший враг русских, ставший их союзником, по словам военного историка, обладал добрым сердцем, «постоянно помогал бедным, отличался верностью своим приятелям и постоянством, ненавидел роскошь, наблюдал в своем быту замечательную чистоту и опрятность, был лихой наездник и веселый собеседник, любил хорошо покушать и порядочно выпить; вдобавок ко всему оказывал Суворову расположение, похожее на отеческую любовь». Генерал-поручик платил ему взаимностью и не упускал случая подтвердить свою дружбу. Узнав, что Муса-бей ищет себе новую жену, Суворов помог ему обзавестись молодой красивой черкешенкой. Постепенно в Кубанском крае воцарился мир. Суворов использовал каждую возможность для воспитания в своих подчиненных неприхотливости, готовности к тяготам войны. Непритязательный, скромный, он не любил и в других несогласного с порядком воинского убранства франтовства. Не терпел он также одобрительных и препоручительных писем. Однажды, собираясь осматривать посты, готовился он выехать, как явился к нему в палатку молодой придворный из Петербурга с письмами в руках. Он был в щегольском атласном кафтане, в шелковом камзоле, шелковых чулках, в башмаках с красными каблуками и золотыми пряжками. Голова его была напудрена, волосы убраны фризурами, с кошельком на затылке. Щеголь, благоухающий духами, расшаркался и с ужимками танцующего менуэт подал генералу письма от родных. Старики Быковы просили, чтобы Суворов принял под свое покровительство прибывшего из Парижа молодого человека и потрудился выгнать из него французскую дурь, сделав полезным отечеству.
— Так это ты, Мишенька?… — сказал генерал-поручик, прочитав письма. — И не узнаешь? А я знавал тебя еще крошечным, носил на руках и батюшку твоего крепко любил. Помилуй Бог, какой же ты стал молодец! Поцелуемся, Миша. — Суворов облобызал его, тут же отскочил, оглядев еще раз с головы до ног.
— Знаешь ли ты, Миша, что тут в письмах написано?
— Знаю, мой генерал, — отвечал парижанин, — мне велено быть при вас несколько недель и научиться чему-нибудь.
Суворов казался совершенно довольным.
— Хорошо! Помилуй Бог, хорошо! Мы с тобою сделаем bon voyage — хорошее путешествие. Хочешь? И сейчас же. Только смотри, сможешь ли ты?
Юноша горячо просил взять его с собою.
— Ну хорошо, тогда пойди переоденься.
— Нет, мой генерал! Я и так, как есть, готов ехать. Суворов обернулся к адъютанту:
— Велите сейчас приготовить для рекрута побойчее лошадь!
Быстрый переезд, все по горам и ярам, длился сорок верст без роздыха. Молодой человек, изнемогавший от усталости и жажды, принужден был слушать в пути рассказы генерал-поручика об истории этих мест и красотах природы.
— Мишенька! Посмотри: здесь в древности было укрепление венециян, а тут крепость, построенная татарами… Гляди-ка, Миша, жаворонок взвился к небу и как сладко поет! Вот туча перепелок, вот другая туча — скворцов! А гуси, лебеди, как их в кубанских плавнях много! И как хорошо, как мирно все… Воистину, Миша, рай!
Мише было не до древностей и земного рая. От худого казачьего седла у него уже не только не осталось чулок на икрах, но все ноги были ободраны в кровь. По возвращении Суворов спросил у растрепанного и грязного парижанина:
— А знаешь ли ты, Миша, инженерную науку? Умеешь ли чертить планы?
Тот только смотрел на генерала, но от усталости не мог вымолвить слова.
— Подай-ка мой кожаный сундучок!
Суворов вынул математический инструмент, лист бумаги и дощечки и велел Быкову чертить план полевого укрепления:
— Передний фас пятьдесят аршин, выходящие углы в пять аршин и сорок градусов…
Михаил не понимал.
— Помилуй Бог, Мишенька, да чему же ты учился в Париже? Этак ты и дома и огорода не обгородишь! Нехорошо! Однако мы с тобою поучимся чему-да-нибудь!
Разобравшись в устройстве укрепления, поотдохнувши, поели солдатской кашицы со свиным салом да сухариками. Суворов велел подать бутылку старого рейнвейна, налил крошечный стаканчик и, протянув его Михаилу, сказал:
— Мишенька, выкушай! Это здорово, когда только пьется в меру и по делу, а лишнее, помилуй Бог, вредно!
Расставаясь с молодым человеком, генерал посоветовал:
— Ты молодец, ты русский богатырь! И отец твой, храбрый воин, был богатырь! Скинь с себя, Миша, эту дрянь тленную. Ты солдат. Одень-ка на себя родимое, а французское тряпье отдай на стирки.
С лишком шестьсот верст объездил Суворов. Михаил, отдохнувший от небывалого с ним прежде путешествия, явился к генерал-поручику в военном кавалерийском мундире. Он остриг по-русски, в скобку, волосы и стал молодцом-витязем. Суворов взглянул на него, прослезился и поцеловал:
— Миша, ты герой! Точнехонько, как когда-то отец твой!
Полководец прекрасно понимал, что, помимо пользы для самого Михаила Быкова, сделавшегося вскорости образцовым воином, случай этот послужит в поучение всем придворным белоручкам и доморощенным парижанам.
Конец 1783 и начало 1784 года Суворов провел на юге Донской области, в Усть-Аксайском стане, а в феврале переехал в крепость Святого Дмитрия. Еще раньше он получил распоряжение Потемкина возобновить переговоры с Шагин-Гиреем о выезде его в Россию. Судьба последнего крымского хана решилась, однако, только в последние месяцы 1784 года, уже после отъезда Суворова из края. Генерал-поручик Ингельстром, применив хитрость, ввел в Тамань батальон пехоты и большой конвой кавалерии. Шагин-Гирею пришлось дать согласие на переезд в Воронеж. Затем он жил в Калуге, тосковал, просил разрешить ему удалиться в Турцию. Принятый там с внешним почетом, он был отвезен на остров Родос и по приказанию султана вероломно убит.
В Стамбуле русские дипломаты одержали новую победу. Посланнику в Турции Я. И. Булгакову 28 декабря 1783 года удалось добиться подписания торжественного акта, по которому Порта признавала Кубань, Таманский полуостров подданством русской императрицы и отказывалась от всяких притязаний на Крым. Трудный вопрос в его окончательной стадии был решен, таким образом, без военных действий. Новая обстановка не требовала специальных войск на Кубани. С марта 1784 года вся граница от Каспийского до Азовского моря переходила в ведение командира Кавказского корпуса П. Потемкина.
Сдав свои войска генерал-поручику П. С. Леонтьеву, Суворов выехал в Москву для нового назначения и получил в командование Владимирскую дивизию. Однако, прежде чем отправиться к ней, он неожиданно появляется в Петербурге. К этому времени происходит уже окончательный разрыв Суворова с Варварою Ивановною. Новые подозрения понуждают его обратиться в Синод с челобитной. На этот раз Суворов обвиняет жену в связи с секунд-майором И. Е. Сырохневым. Генерал расстается с неверною Варварой Ивановной, назначает ей сперва тысячу двести рублей содержания, затем увеличивает эту цифру до трех тысяч и ревниво следит, чтобы кто-нибудь из родных не выразил бывшей жене сочувствия.
Она поселяется в Москве, где у нее 4 августа 1784 года родится сын Аркадий. Все попытки примирения с ее стороны остаются без результата. На свои письма Варвара Ивановна не получает ответа, даже дочери ее Наташе, возвращенной в Смольный институт, запрещено переписываться с матерью.
Надобно сказать, что чистота и строгость взглядов Суворова на брак и семейные отношения резко отличались от вольных нравов, господствовавших при дворе. Это был воистину «развратный век», и первая женщина империи — Екатерина II подавала тому дурной пример. Многие мужья, ходившие в рогоносцах, предпочитали смотреть сквозь пальцы на проказы своих жен, лишь бы не вызвать гнев царицы и ее фаворитов. Суворов проявил и характер, и силу воли, пойдя на резкий и открытый разрыв с женой, несмотря на то, что сама Екатерина II выступала не раз примирительницей. Поступок его был и косвенным осуждением поведения самой императрицы.
Прежняя Варюта умерла для Суворова, но злоба к ней постепенно сменилась полным и прочным забвением. Чтобы ничто не напоминало ему о ней, генерал даже дает ей новую, неприличную кличку, а в других случаях преднамеренно не называет ее имени. Он не думал возвращаться к семейному очагу, желая умереть одиноким, и остался верен себе: скончался, не примирившись с виновною в его глазах женою. Суворов слишком строго смотрел на брачные обязательства и относился без пощады к тем, кто нарушал их святость. Лично его нельзя было упрекнуть ни в чем; пока жена носила его имя, он оставался верен ей.
В Петербурге генерал-поручик навестил в Смольном свою горячо любимую дочь, побывал в Зимнем и передал в согласии с существовавшими порядками через знаменитого камердинера Захара Константиновича Зотова просьбу об аудиенции у государыни по случаю недавнего получения ордена Святого Владимира. Екатерина II приняла его, как обычно, ранним утром и по окончании разговора сказала:
— Вы сегодня у меня обедайте.
Он не упускал случая выказать свою антипатию всему придворному миру и, встретив в дворцовых покоях истопника, вдруг начал почтительно ему кланяться.
— Ваше превосходительство, — осторожно заметил дежурный офицер, — это служитель самого низшего разряда.
— Помилуй, батюшка, — скороговоркой возразил Суворов, — я новичок при дворе! Надо же мне приобрести на случай благоприятелей. — Он остановился и зажмурил один глаз. — Сегодня истопник, завтра антишамбрист, послезавтра — Бог знает кто!..
Было ясно, что новое назначение вскоре разочарует Суворова. Руководя дивизией из своего поместья Ундол, расположенного неподалеку от Владимира и купленного в 1776 году, очевидно, на доставшиеся в наследство от отца деньги, генерал-поручик заскучал. Он жаждал живого дела. Канцелярщина, хозяйственно-подрядческие заботы претили ему. В Ундоле он казался более помещиком, чем командиром, но помещиком необычным, странным.
День Суворова начинался затемно: он вскакивал, окатывался водою, бегал по комнатам в длинной нижней рубахе, упражняясь в языках, громко повторяя турецкие, польские или итальянские слова и фразы. Затем, надев полотняную куртку или — в мороз — легкий суконный плащ, самолично подымал крестьян на работы. После завтрака занимался разбором корреспонденции и писанием «приказов» управляющим и старостам.
К тому времени его верный Ефим Иванов выстарился и получил почетную отставку, отправившись старостой в одно из имений. Новый камердинер Суворова Прошка Дубасов, разбитной, сообразительный, плутоватый, принес обширную почту. Прежде всего генерал-поручик набросился на периодику и книги: «Московские ведомости с Экономическим Магазейном», «Петербургские немецкие ведомости», «Journal encyclopedigue, par une societe des gens de lettres, a Liege» — «Энциклопедическая, газета, издаваемая обществом литераторов в Льеже». Последнюю газету, выходившую с 1756 по 1793 год, Суворов особенно любил. Но более всего обрадовала его книга Фонтенеля «О множестве миров». Переведенная с французского Кантемиром, она была сочтена Синодом вредною; еще в 1756 году последовал доклад императрице об отобрании ее от тех, у кого она имеется. Генерал давно разыскивал ее.
— Угодил, Матвеич! Угодил! Добыл мне Фонтенеля! — Суворов, сухощавый, сутуловатый, с впалыми щеками, редкими седыми волосами, собранными спереди локоном, с юношеской горячностью запрыгал по горнице. Матвеич, младший адъютант Суворова, был определен управлять московским домом у Никитских ворот. Он снабжал своего начальника всем необходимым — от одеколона до музыкальных инструментов и книг. В одном только 1785 году командир Владимирской дивизии потратил на выписку книг и газет около шестидесяти рублей — сумму для того времени почтенную.
Убранство суворовской горницы являло смесь нарядности со скромностью: на двери были богатые занавеси с подзорами, висели картины в золоченых рамах и иконы в дорогих окладах; но тут же стояли простые некрашеные стулья и такой же стол.
Наступил черед письмам, поданным Прошкою на подносе. Читая донесения управляющих и старост, Суворов время от времени бормотал, как бы отвечая далекому адресату:
— Пиши, Матвеич, кратко, да подробно и ясно, да и без излишних комплиментов… Яснее и своею рукою пиши. Чтобы на почту много денег не тратил! За пронос писем денег не давать, а самим на почте быть! — Он поманил Прошку: — Где от Матвеича табак?
С видом знатока славный генерал взял две щепотки, попеременно зажимая пальцем левую и правую ноздрю, вдохнул табачок, закрыл глаза, аппетитно чихнул, но тут же, сморщившись, взорвался гневом:
— От эдакого нюхательного табаку у меня голова болит! Через знатоков купи табак! Глядеть надобно исправно внутрь, а не на обертку. Чтобы не была позолоченная ослиная голова!
Он швырнул прочь пачку, которую Прошка с поспешностью унес, не согнав, однако, ухмылки с плутоватого лица. Своего господина он уже достаточно изучил и гневливости его не страшился. Подошедший канцелярист записывал суворовские приказы.
Старосте села Рождественна:
— В неурожае крестьянину пособлять всем миром заимообразно, без всяких заработок, чиня раскладку на прочие семьи, совестливо при священнике и с поспешностию.
У крестьянина Михаила Иванова одна корова!!! Следовало бы старосту и весь мир оштрафовать за то, что допустили они Михаилу Иванову дожить до одной коровы, но на сей раз впервые и в последние прощается. Купить Иванову другую корову из оброчных моих денег.
Денежных поборов с рождественских крестьян отнюдь не брать, а недоимки, навсегда оставя, виновным простить…
Малолетних ребят, не имеющих 13 лет, никогда вместо их матерей на работу не принимать.
Старосте Ундола:
— Крепко смотреть за нерадивыми о детях отцами и не дозволять младенцев, особенно в оспе, носить по избам, от чего чинится напрасная смерть.
Многодетным выдавать пособие… Кухмистеру Сидору с его супругою производить выдачу провианта обычную, а на детей их до 5 лет половинный провиант; с 5 лет — полный, как взрослым; на новорожденного всегда выдавать рубль.
Управляющему новгородской вотчиной Балку:
— Многие дворовые ребята у меня так подросли, что их женить пора. Девок здесь нет, и купить их гораздо дороже, нежели в вашей стороне. Чего ради прошу вас для них купить четыре девицы, от 14 до 18 лет, и как случится из крестьянок или из дворовых. На это употребите оброчные мои деньги от 150 и хотя до 200 рублей. Лица не очень разбирая, лишь бы были здоровы.
Прошка доложил о приходе крестьян с челобитной. Два бородатых мужика, самых справных на селе, поклонившись до полу, подали генералу бумагу. Община просила отменить распоряжение о покупке на стороне рекрута. Суворов, как правило, своих крестьян в солдаты не сдавал, а приказывал искать охотников на стороне. Половину цены он платил сам, другую же должны были вносить крестьяне. Так как цена за рекрута достигала до 200 рублей ассигнациями, они считали сделку для себя невыгодною и предлагали взамен сдать в рекруты бобыля.
Суворов с твердостию отказал:
— Рекрута ныне купить и впредь тако же всегда покупать. Бобыля же отнюдь в рекруты не сдавать. — Он на мгновение задумался, но тут же добавил: — Не надлежало дозволять бродить ему по сторонам. В сей же мясоед этого бобыля женить и завести ему миром хозяйство! Покончив с делами, он перешел в специальную «птичью горницу». Здесь, в самой большой комнате ундольского дома, было устроено некое подобие зимнего сада. С осени высаживались в кадки сосенки, ели и березки, налавливались синицы, снегири, щеглята и выпускались в эту рощицу. Весною, на святой неделе, сам Суворов возвращал им свободу. «Птичья горница» содержалась в большой чистоте: тут хозяин прогуливался, сиживал и обедал. Семь пополуночи — время обеда. К столу раньше всего полагалась рюмка тминной водки, которую генерал закусывал редькой. В обед — стакан кипрского вина и любимое английское пиво. Суворов, неприхотливый в отношении вина, которое он потреблял в небольшом количестве, был очень требователен, даже привередлив тогда, когда ж речь заходила о пиве и в особенности о чае, убеждая своего Матвеича не экономить на этих статьях расхода. Он свято соблюдал все постные дни и ел в это время кислую сырую капусту с кваском, редьку с солью да с конопляным маслицем, фаршированную щуку по-еврейски, белые грибы, приготовленные различным способом, пироги с грибами. В прочие же — любил духовую говядину в горшочке, щи, калмыцкую похлебку, бешбармак, пельмени, разварную щуку под названием «щука с голубым пером» и различные каши. Овсяной и гречневой он порою кушивал помногу, и тогда Прошка говорил:
— Александр Васильевич! Позвольте! — И протягивал за тарелкою руку.
— Я есть хочу, Прошка!
— Не приказано!
— Кто не приказал, Прошка?
— Его превосходительство генерал Суворов.
— Генерала надобно слушаться! Помилуй Бог, надобно! — И Суворов переставал есть.
Зимою после обеда бегал на коньках и катался на санках со специально устроенной ледяной горки перед домом. Соседей посещал не часто, а больше принимал у себя. Любил пообедать в компании и позабавиться, особенно потанцевать, или, как он выражался, «попрыгать». К праздникам готовился загодя, выписывая из Москвы анчоусы, цветную капусту, кагор и другие сладкие вина «для дам». Той же цели служили камера-обскура, ящик рокамбольной игры, канарейный орган, ломберный стол, шашки, домино, гадательные карты. Все это присылал из Москвы Матвеич.
Много заботился Суворов о музыке. В Ундоле он завел хор и оркестр, отсылал в Петербург инструменты для исправления, израсходовав на это однажды разом двести рублей. Певчих обучал состоявший на жалованье знаток итальянской манеры из Преображенского полка. Приобретались различные ноты — симфонии Плейеля, квинтеты, квартеты, серенады Вангали, трио Крамера, новые контрдансы, полонезы, менуэты, церковные концерты. Церковная музыка оставалась у Суворова всю его жизнь самою любимой.
Он устроил подобие драматического театра, сам занимаясь с дворовыми, наставляя их:
— Театральное нужно для упражнения и невинного веселья.
— Васька комиком хорош, а трагиком лучше будет Никита. Только должно ему поучиться выражению, что легко по запятым, точкам, двоеточиям, вопросительным и восклицательным знакам. В рифмах выйдет легко.
— Держаться надобно каданса в стихах, подобно инструментальному такту, без чего ясности и сладости в речах не будет, ни восхищения.
Летом генерал бегал по селу в холщовой куртке, вступал в беседы с крестьянами, пел и читал в церкви и самолично звонил в колокола. Он занимался благоустройством своего поместья, сам размечал колышками линии березовых и липовых аллей, деревья которых сохранились и по сию пору. Следил он за порядком и в других своих вотчинах, пресекая злоупотребления управляющих и старост. Назначенный им оброк был по тем временам невысоким: три рубля ассигнациями с души, причем крестьяне пользовались всеми угодьями: лесами, озерами, реками, лугами, кроме заказных лесов. Он был человеколюбив к бедствующим и неимущим, если не праздность привела их к несчастью. С особым, трогательным вниманием относился он к крестьянским детям.
Жители Ундола долго вспоминали, как их генерал-помещик раздавал ребятишкам конфеты и пряники, требовал от родителей соблюдать во всем заботу о детях:
— Особливо берегите дворовых ребяточек, одевайте их тепло и удобно, давайте им здоровую и довольную пишу и надзирайте их воспитание в благочестии, благонравии в науках…
Во время Отечественной войны 1812 года ундольцы, опасаясь нападения передовых французских отрядов, ушли всем селом в лес. «Мы все вспоминали нашего Суворова, — говорил тогда один из стариков, — он не дожил до француза».
Никакие хозяйственные заботы не могли отвлечь генерал-поручика от любимого дела. Боясь, что его забудут в деревне, он твердил: «Смерть на постели — не солдатская смерть». Суворов все более тяготился «приятной праздностью» и тревожил просьбами Потемкина:
«Истекающий год прожил я в деревне при некоторых войсках, в ожидании от вашей светлости особой мне команды… В стороне первой я имею деревни, но все равно, светлейший князь, где бы я высокой милости вашей светлости особую команду ни получил, хотя бы в Камчатке…
Служу я, милостивый государь! больше 40 лет и почти 60-ти летней, одно мое желание, чтоб кончить высочайшую службу с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей; препроводя мою жизнь в поле, поздно мне к ним привыкать.
Наука просветила меня в добродетели: я лгу как Эпаминонд, бегаю как Цезарь, постоянен как Тюрен и праводушен как Аристид. Не разумея изгибов лести и ласкательств к моим сверстникам, часто негоден. Не изменял я моего слова ни одному из неприятелей, был щастлив потому, что повелевал щастьем.
Успокойте дух невинного перед вами, в чем я на страшном Божием Суде отвечаю, и пожалуйте мне особую команду… Исторгните меня из праздности, но не мните притом, чтоб я чем, хотя малым… недоволен был, токмо что в роскоши жить не могу».
Замечательное письмо это, помимо других качеств, вновь напоминает нам о цельности суворовской личности: то, что у других звучало бы как хвастовство, здесь выглядит, быть может, не очень скромно, но вполне справедливо. Суворов не только обладал величайшим военным талантом, но он еще знал это.
В автобиографии о своей деятельности этой поры он пишет очень кратко: «В 1784 году определен я к Владимирской дивизии, и в 1785 году повелено мне быть при Санкт-Петербургской дивизии. 1786 года сентября 22 дня, в произвождение по старшинству, всемилостивейше пожалован я генерал-аншефом и отправлен в Екатеринославскую армию». Новое назначение соответствовало пожеланиям Суворова и свидетельствовало о внимании к нему Потемкина.
В конце 1786 года генерал-аншеф состоял при 3-й дивизии Екатеринославской армии; в марте следующего года ему дополнительно была «препоручена в команду» Потемкиным часть войск, к границе «польской назначенная»; тогда же он был и «при корпусе херсонском». Таким образом, президент Военной коллегии и генерал-фельдмаршал Потемкин назначил Суворова начальником всех войск в пределах обширного района, раскинувшегося по обеим сторонам Днепра, от польской границы на юго-западе и до рубежей Тавриды на юго-востоке.
Замышлялось путешествие Екатерины II и австрийского императора Иосифа II в южные области России. Царица желала ознакомиться с Екатеринославским наместничеством и Крымом, с созданным Черноморским флотом, южной армией, защитницей новых причерноморских владений, и продемонстрировать союзнику мощь империи. Надо было развеять и наветы придворных против Потемкина, говоривших о невыгодности последних земельных приобретений, о непроизводительных затратах на их заселение и устройство, о фиктивности южного флота и легкой конницы, существующей-де только на бумаге, в донесениях генерал-губернатора, о вздорности проведенных реформ одежды и снаряжения армии и т. д. Здесь уже Суворов был необходим Потемкину. По мысли президента Военной коллегии, никто из екатерининских генералов не мог лучше Суворова в короткий срок подготовить, а затем продемонстрировать Екатерине II и Иосифу заново обмундированные, хорошо снаряженные и обученные войска.
В отношении к солдату и характере необходимых экзерциций у Суворова с Потемкиным было полное единодушие. Наставления, данные Потемкиным, как бы повторяли любимые суворовские мысли:
«В заключение сего я требую, дабы обучать людей с терпением и ясно толковать способы к лучшему исполнению. Унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять наказывать побоями, а понуждать ленивых палкою, наиболее отличать прилежных и доброго поведения солдат, отчего родится похвальное честолюбие, а с ними и храбрость. Всякое принуждение, как-то: вытяжки в стоянии, крепкие удары в приемах ружейных должны быть истреблены, но вводить добрый вид при свободном держании корпуса. Наблюдать опрятность, столь нужную к сохранению здоровья, содержание в чистоте амуниции, платья и обуви. Доставлять добрую пищу и лудить почасту котлы. Таковыми попечениями полковой командир может отличаться, ибо я на сие буду взирать, а не на вредное щегольство, удручающее тело».
3-я дивизия Суворова и несколько легкоконных полков были размещены в лагерях у самого Кременчуга, в то время столицы Новороссийского края, где Екатерина II по пути из Киева собиралась провести несколько дней. Предполагалось, что она сделает продолжительную остановку и в Херсоне.
5
В начале января 1787 года царица выехала из Петербурга с огромною свитою в четырнадцати каретах и ста двадцати санях. Ночью вдоль дороги через каждую сотню шагов пылали огромные костры, навстречу поезду выходили многочисленные толпы. Городские обыватели обязаны были красить крыши, стены домов и заборы. В разных местах устраивались триумфальные ворота. Нужно было, чтобы все носило признаки удовольствия, обилия, роскоши. Дурно одетых, нищих и голодных — а их на Руси в то время было довольно по причине неурожая — гоняли прочь, чтобы они своим видом не нарушали общей картины.
29 января Екатерина II прибыла в Киев, где ее уже ожидал Потемкин. С нею были ее тогдашний фаворит Мамонов, вице-президент Адмиралтейс-коллегии Чернышев, канцлер Безбородко, обер-камергер Шувалов, известный весельчак и остряк обер-шталмейстер Нарышкин и иностранные посланники — австрийский граф Кобленц, английский Фриц-Герберт и французский граф Сегюр. Помимо императора Австрии, в Киев съехалось много знатных иностранцев, искавших расположения Екатерины II и службы у нее, — принц де Линь, принц Нассау-Зиген, Ламет, испанец Миранда. Тихий город вдруг всколыхнулся от балов, фейерверков, всевозможных светских увеселений. Суворов посещал их, танцевал контрдансы и алеманды, шутил среди придворных.
О странностях его уже ходили легенды, уже копились анекдоты, свидетельства современников, быть может, преувеличивавших чудачества Суворова, но улавливавших оригинальность его натуры и характер отношений с Екатериной II, Потемкиным, Румянцевым. Сам полководец не опровергал слухов о себе. В Киеве, встретив незнакомого иностранца, он остановился, вперил в него взгляд и отрывисто спросил:
— Откуда вы родом?
— Француз, — отвечал тот, изумленный неожиданностью и тоном, которым был задан вопрос.
— Ваше звание? — продолжал Суворов.
— Военный.
— Чин?
— Полковник.
— Имя?
— Александр Ламет.
— Хорошо! — кивнул головою Суворов и повернулся, чтобы уйти. Ламета покоробила такая бесцеремонность. Он заступил дорогу русскому полководцу и, глядя на него в упор, начал так же требовательно спрашивать:
— А вы откуда родом?
— Русский, — нисколько не сконфузясь, отвечал Суворов.
— Ваше звание?
— Военный.
— Чин?
— Генерал.
— Имя?
— Суворов.
— Хорошо! — заключил Ламет.
Суворов захохотал, обнял будущего деятеля Французской революции и предложил ему дружбу.
Наблюдавший за его проказами граф Сегюр отозвался о русском полководце как о гении по достоинствам и философе по странностям.
— Вот человек, который хочет всех уверить, что он глуп, и никто не верит ему, — мрачно улыбаясь, говорил отодвинутый в тень Румянцев…
По вскрытии Днепра путешествие Екатерины II продолжалось на большой, роскошно убранной галере «Десна». Более восьмидесяти раззолоченных, украшенных флагами судов сопровождали ее. Суворов выехал из Киева в Кременчуг раньше: надо было готовиться к смотру. Генерал-аншеф уже успел в какие-нибудь два месяца обучить дивизию — не для парада, а для показа военных действий. Как пишет А. Петрушевский, «Екатерина была царствующей государыней, на своем веку видала войск много, глаз ее в известной степени был наметан, и понятия ее о воинском образовании не были дамскими».
30 апреля императорская флотилия прибыла в Кременчуг. Екатерину ожидал специально построенный дворец, окруженный садом. Когда она отдохнула, Потемкин предложил посмотреть войска. Екатерину II и ее свиту поразил уже вид солдат — подтянутых, даже щеголеватых в новом обмундировании. Букли и косы были упразднены, солдаты стриглись коротко, в скобку; вместо шляп введены легкие каски с плюмажем; долгополые красные кафтаны заменены короткими куртками; суконные шаровары не стесняли движений. У кавалерии амуниция стала вдвое легче; пехота получила новые, удобные и облегченные ранцы. Была сложена солдатская песня, приветствовавшая нововведения:
Солдат очень доволен, что волосы остригли; Виват, виват, что волосы остригли; Дай Бог тому здоровье, кто выдумал сие; Виват, виват, кто выдумал сие. Избавились от пудры, булавок, шпилек, сала, Виват, виват, избавились всего; Поди прочь, дерзка пудра, погано, скверно сало, А мы теперь воскликнем: «Виват, виват!»Начались показательные учения. Войска с удивительной точностью производили эволюции, требуемые уставом, — марш, контрмарш, обходные движения, развертывали фронт, свертывали колонны, выстраивали каре.
Близилась главная цель учений — сквозная атака. По приказу Суворова войска разделились на две походные колонны, развернулись друг против друга в линии и начали сближение. Артиллерийские батареи с обеих сторон открыли огонь, затрещали ружейные выстрелы. Сблизившись на сотню шагов, пехотинцы взяли ружье на руку и бросились бегом, а конница перешла на галоп.
Солдаты продолжали ускоренное, безостановочное движение до самой встречи с противной стороной. Суворов, как и прежде — в Суздальском полку, не дозволял уклоняться или вздваивать ряды для прохождения атакующих, что было принято европейскими уставами. Только в последний момент каждый пехотинец поднимал ружье и делал полуоборот направо, чтобы протиснуться. Заминки при столкновении, таким образом, не создавалось. Опытный глаз мог заметить разве что легкое волнообразное движение.
Огромные массы людей, конных и пеших, с громовым «ура» сшиблись в клубах черного, порохового дыма. Учебная атака, исполненная с отменной живостью, была столь правдоподобна, что зрители, не исключая самой Екатерины, почувствовали себя озадаченными. Но удивление сменилось восторгом, когда в рассеявшемся дыму обнаружились те же стройные порядки войск, только теперь удалявшиеся друг от друга.
— Я никогда не видал на своем веку лучших солдат! — воскликнул один из иностранных генералов.
К Екатерине II, окруженной многолюдною свитой, подъехал Суворов, запыленный, в легкой каске и солдатской куртке, но при орденах. Он быстро соскочил с коня и двукратно поклонился.
— Чем мне наградить вас? — спросила довольная императрица.
Суворов скорчил смешную гримасу. Никакой заслуги, достойной вознаграждения, он за собою не ведал.
— Ничего не надобно, матушка, — сказал он наконец, — давай тем, кто просит. Ведь у тебя и так попрошаек, чай, много? Вон какой хоровод трутней!
— Но я хочу вас наградить, генерал, — повторила Екатерина.
Суворов приблизился к ней.
— Если так, матушка, — сказал он громким шепотом, — спаси и помилуй — прикажи отдать за квартиру моему хозяину. Покою не дает, а заплатить нечем!
— А разве много? — улыбнулась она.
— Много, матушка, три рубля с полтиною! — важно произнес генерал-аншеф.
Екатерина потребовала кошелек и выдала просимую сумму. Пряча деньги и кланяясь, Суворов бормотал:
— Промотался!.. Хорошо, матушка за меня платит, а то беда бы… Хоть в петлю полезай…
Из Кременчуга пышная флотилия направилась в Херсон. Потемкин позаботился о том, чтобы все вокруг развлекало и радовало Екатерину: он знал ее слабости, обладал богатым воображением и почти неистощимыми денежными возможностями. На берегах, словно по щучьему велению, возникли декоративные дворцы и дачи, триумфальные арки, цветочные гирлянды, нарядные декорации. Для оживления пейзажа согнаны были огромные стада. По реке в лодках сновал народ, празднично одетый и распевавший песни. Украинцы, греки, татары, армяне, сербы с депутациями являлись на остановках. По ночам горели роскошнейшие иллюминации, взрывались фейерверки из сотен тысяч ракет. Потемкин превзошел себя, но достиг цели — Екатерина II была довольна.
Суворов сопровождал императрицу до Херсона. Здесь подошел к нему австрийский офицер без знаков отличия и заговорил с ним о делах военных и политических. Генерал-аншеф живо отвечал, винил Англию, Францию и Пруссию, чьи интриги довели турецкого султана — слабоумного Абдул-Гамида — до неприязненных отношений с Россией. Расставаясь, офицер спросил Суворова:
— Знаете ли вы меня?
Тот, притворившись, что не узнал Иосифа II Австрийского, улыбнулся:
— Не смею сказать, что знаю. — И шепотом: — Говорят, будто вы император Римский!
— Я доверчивее вас, — отвечал Иосиф, — и верю, что говорю с русским фельдмаршалом.
Суворов много размышлял в эту пору о неизбежной, по его мысли, войне с Турцией. В 1787 году ему исполнилось уже пятьдесят восемь лет. Он казался хилым — с седою, покрытою редкими волосами головой и морщинистым лицом, сгорбленный при маленьком росте. Но он был здоров, крепок, проворен, неутомим, ловко ездил верхом, легко переносил труды, бессонницу, голод, жажду, боль. Голубые глаза его сверкали умом. Завистники распустили слух, будто Суворову по возрасту и слабости здоровья дадут отставку. В одну из прогулок с Екатериной II, когда лодка только подходила к берегу, он ловко спрыгнул с нее.
— Ах, Александр Васильевич, какой вы молодец! — воскликнула царица.
— Какой молодец, матушка, — притворно возразил он. — Ведь говорят, будто я инвалид.
— Едва ли тот инвалид, кто делает такие сальто-мортале, — засмеялась царица.
— Погоди, матушка, — ответил Суворов. — Мы еще не так прыгнем в Турции!
Вскоре Екатерина II и Иосиф Австрийский покидали Херсон. Миновав торжественные врата с надписью: «Путь в Византию», они отправились на юг. Через Перекоп царский поезд проехал в Бахчисарай, а оттуда в Севастополь, где Потемкин показывал новый Черноморский флот. Суворов остался в Херсоне и занялся формированием лагеря при Блакитной. Здесь были расположены войска для встречи Екатерины II. По ее возвращении из Крыма он сопровождал царицу и Потемкина до Полтавы, где состоялись большие маневры. С высокого холма, называемого Шведскою могилой, Екатерина наблюдала, как легкоконные полки и егерский корпус генерал-майора М. И. Голенищева-Кутузова изобразили некоторые эпизоды Полтавской битвы.
Императрица осталась вполне довольна положением дела на юге России и пожаловала Потемкину титул Таврического, а Суворову на прощанье подарила богатую табакерку со своим вензелем. Генерал-аншеф писал своему управляющему в деревню: «А я за гулянье получил табакерку в 7000 рублей». В июле Потемкин увез Суворова в одно из своих украинских имений.
Читая переписку Суворова со светлейшим князем, встречаешь всюду высокопарные хвалы, превосходящие даже нормы комплиментарного XVIII века: «Вашей светлости дело — сооружать людям благодействие; возводить и восставлять нища и убога и соделывать благополучие ищущему вашей милости, в чем опыты великих щедрот, сияющих повсеместно к неувядаемой славе, истину сию доказывают»; «Милости ваши превосходят всячески мои силы, позвольте посвятить остатки моей жизни к прославлению толь беспредельных благодеяний…» и т. д. Но вправе ли мы строго судить за это великого полководца? В те поры без могущественного покровителя высокопоставленные завистники и недоброжелатели легко могли расправиться с талантом прежде, чем он успел бы добиться достаточно независимого положения. Впрочем, и Потемкин в своих честолюбивых планах отводил Суворову далеко не последнюю роль, полагая не без оснований в недалеком будущем использовать его «стремглавной меч». Время это пришло, и очень скоро.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ КИНБУРН И ОЧАКОВ
Наша Кипбурнска коса
Открыла первы чудеса…
Солдатская песня1
Кинбурн — искаженное турецкое слово «кыл-бурун», что означает: «острый нос». Кривая, тонкая и длинная Кинбурнская коса далеко врезается в море, запирая Днепровский лиман. Отсюда, с косы, в ясную погоду хорошо видны минареты Очакова, расположенного в трех милях насупротив, на крутом берегу, и мачты турецких фрегатов и фелюг.
Крепость на Кинбурнской косе была незначительная — тонкие стены, мелкие рвы (при рытье песчаной почвы скоро выступала вода). Но она имела чрезвычайно важное, ключевое положение, так как мешала неприятельским судам войти в Днепр, защищала недавно основанные Николаев и Херсон, преграждала путь к Крыму и противостояла Очакову, этому, по словам Екатерины II, «южному естественному Кронштадту». Понятно, почему свой первый удар турки стремились нанести именно здесь.
12 августа 1787 года Оттоманская Порта, подстрекаемая Англией и Пруссией, официально объявила войну России. К тому времени для противодействия туркам были учреждены две армии. Украинской, под началом Румянцева, вверялась роль второстепенная: следить за безопасностью границы с Польшею и осуществлять связь с австрийскими союзниками, которые еще медлили, не открывая военных действий. Екатеринославская, во главе с фельдмаршалом Потемкиным, должна была решать главные задачи кампании: овладеть Очаковом, перейти Днестр, очистить весь район до Прута и, соединившись с австрийцами, выйти к Дунаю. В свой черед, направившись с основными силами к Бугу, Потемкин выдвинул на свой крайний левый фланг отряд Суворова, препоручив ему «бдение о Кинбурне и Херсоне».
С начала августа генерал-аншеф беспрестанно разъезжал из Херсона в гавань Глубокую, из Глубокой в Кинбурн, строил укрепления и наблюдал за маневрами турецкого флота. Он первым оценил опасность нападения на Херсон и со спокойной уверенностью готовился встретить вражеский десант.
Не то Потемкин. Блестящий администратор и государственный деятель в дни мира, он был беспомощен в пору войны, переходил от бодрости к унынию, пока наконец не решился открыть активные действия. Беспокоясь за Крым, он выслал навстречу туркам Севастопольскую эскадру Войновича. Поход ее, однако, оказался неудачным. 8 сентября жестокий шторм разметал суда у мыса Каликрия: один фрегат пропал без вести, а другой, оставшись без мачт и руля, в полузатонувшем состоянии был занесен в Константинополь и взят в плен. Остальные суда, основательно потрепанные, вернулись в Севастополь.
Надежды на флот пришлось до времени оставить. Потемкин впал в отчаяние. Он предлагал Екатерине II покинуть Крым, просил дозволения сдать команду Румянцеву, униженно писал старому фельдмаршалу: «Ведь моя карьера кончена… Я почти с ума сошел… Ей-богу, я не знаю, что делать, болезни угнетают, ума нет». Нужна была убедительная победа над турками для того, чтобы переломить ход событий. И эту победу принес Суворов.
В стычках близ Кинбурна неприятель понес уже немалый урон. Обороной крепости ведал боевой сподвижник Суворова, один из героев Козлуджи, генерал-майор Иван Рек. Ровно через месяц после объявления войны, 13 сентября, пять турецких канонерок и несколько линейных судов, выйдя из Очакова, открыли жестокий огонь по кинбурнским укреплениям. Русская артиллерия отвечала настолько удачно, что линейный пятидесятичетырехпушечный неприятельский корабль взлетел на воздух вместе со своим экипажем в пятьсот человек. В письме Попову Суворов, извиняясь за жестокую шутку, сообщал: «Как взорвало турецкий корабль, вдруг из него сказался в облаках прегордой паша, поклонился Кинбурну и упал стремглав назад». Ночью турки пытались высадить десант, но были отогнаны казаками и подоспевшею пехотою Река. Однако и эта неудача не охладила врага. Утром 14 сентября два неприятельских фрегата и четыре галеры открыли второе бомбардирование Кинбурна. Генерал-аншеф, незадолго перед тем прибывший в крепость, лично руководил отражением нападения.
Близ Кинбурна находилось в бездействии несколько судов из второй, Херсонской эскадры безынициативного вице-адмирала Мордвинова. Воодушевленные присутствием Суворова, команды судов рвались в бой. Одною из галер, той самой «Десной», на которой недавно совершила путешествие по Днепру Екатерина II, командовал двадцатипятилетний мальтиец Джулиано де Ломбард. Зная страх турок перед брандерами — специальными судами, предназначенными для поджигания вражеских кораблей, он придал своей галере вид брандера, спрятав в трюме сто пятьдесят гренадер. «Десна» отважно пустилась на турецкие корабли и после боя, продолжавшегося два с половиною часа, заставила их отступить. На галере пострадал единственный человек — сам отважный Ломбард. Пулею ему оторвало часть уха.
«Шевалье Ломбард… — сообщал Потемкину Суворов, — атаковал весь турецкий флот до линейных кораблей; бился со всеми судами из пушек и ружей… и, по учинении варварскому флоту знатного вреда, сей герой стоит ныне благополучно под кинбурнскими стенами». Расценив поступок Ломбарда как пример ослушания и недисциплинированности, Мордвинов велел арестовать его и отдать под суд. Вмешательство генерал-аншефа не только спасло отважного мичмана от несправедливой расправы, но и принесло ему чин лейтенанта. А разъяренные турки оценили голову Ломбарда в крупную сумму.
В течение двух последующих недель в Очакове лихорадочно велась подготовка к десанту. Отборными отрядами янычар руководили французские инструкторы. С полудня 30 сентября противник начал третье бомбардирование Кинбурна, продолжавшееся до глубокой ночи и причинившее значительные повреждения крепости. Утром 1 октября в двенадцати верстах от крепости, в лимане, показались пять турецких судов с десантом из запорожцев-изменников. Но то был лишь отвлекающий маневр, основная же масса неприятельских войск намеревалась высадиться на самой Кинбурнской косе.
Суворов по случаю праздника Покрова находился в походной церкви на обедне, когда одно за другим стали поступать донесения о десанте. Посмеиваясь, он отвечал гонцам:
— Пусть все вылезут!
Поспешно покидая корабли, янычары сразу же окапывались. Их неглубокие из-за близости подпочвенных вод ложементы шли поперек косы, от Черного моря к Очаковскому лиману. Воздвигались брустверы из мешков с песком, в морское дно вбивались сваи для защиты судов, ставились между укреплениями переносные рогатки.
Между тем литургия в церкви продолжалась как ни в чем не бывало. Иные офицеры в недоумении перешептывались: «Уж не помутился ли разум у нашего славного командира? Давать столь сильному неприятелю свободно устроиться и изготовиться к атаке!» Но полководец имел свои, далеко идущие виды: не отбить вражеский десант, а поголовно истребить его. Правда, в распоряжении генерал-аншефа находилось лишь три неполных пехотных полка — Орловский, Шлиссельбургский и Козловский, два легкоконных эскадрона и три Донских казачьих полка. Русский отряд — примерно в тысячу семьсот штыков и сабель — противостоял пяти с лишим тысячам турок. Сознавая слабость своих сил, Суворов загодя послал за подкреплениями: батальоном Муромского полка и двумя легкоконными полками, находившимися в двенадцати верстах от крепости. В тридцати шести верстах стоял Санкт-Петербургский драгунский полк, которому также было велено двигаться к Кинбурну.
Обедня кончилась. Был отслужен молебен «на победу врагов и одоление». В полдень и турки совершили обычное омовение и намаз на виду у русских. Около трех дня подошли передовые неприятельские отряды, неся с собою лестницы, чтобы эскаладировать Кинбурн. Десантом командовал храбрый Эюб-ага.
По знаку Суворова все орудия, обращенные к западной стороне косы, дали внезапный залп. Два полка казаков и два легкоконных эскадрона, обогнув крепость, вылетели навстречу вражескому авангарду и врубились в него. В числе первых пал Эюб-ага. Одновременно пехота Река взяла вправо и погнала янычар к их ложементам. Десять было взято с ходу, но дальше, где коса суживалась и становилось тесно, продвижение резко замедлилось. Бомбы, ядра, картечь и брандкугели, изрыгаемые шестьюстами орудиями неприятельского флота, вырывали целые ряды в плотных боевых порядках русских. Уже был тяжело ранен и вынесен за фронт генерал-майор Рек, уже погиб командир передового батальона Орловского полка секунд-майор Булгаков, уже оказались переранены все офицеры, кроме суворовского адъютанта Тищенко. А с неприятельских судов высаживались все новые и новые войска. Русские дрогнули.
Генерал-аншеф бросил в атаку легкоконные эскадроны. Но турки встретили кавалерию белым оружием и в жестокой схватке — «Алла! Алла!» — опрокинули ее. Вдобавок у русских кончились каркасы — артиллерийские заряды. Несколько пушек пришлось кинуть, и Суворов видел, как турки с торжествующими криками увозили их. Пятьдесят дервишей осатанело сновали по рядам мусульман, воодушевляя янычар и показывая пример личного мужества. Ни один из этих фанатиков не пережил рокового 1 октября.
Огонь турецкой артиллерии не ослабевал. Ядром оторвало морду у лошади Суворова.
Заметив, что шлиссельбуржцы отступают, генерал-аншеф выхватил свою шпагу, увлекая солдат:
— Ребята, за мной!
Неподалеку оказались два турка, державшие в поводу по добычной лошади — своей кавалерии в десанте не было.
Приняв янычар за казаков, русский полководец окликнул их. Тотчас же три десятка турок бросились на него.
— Братцы! Спасайте генерала! — Солдаты поспешили к нему на помощь.
Раньше всех рядом с Суворовым оказался гренадер Шлиссельбургского полка Степан Новиков. Он заколол одного янычара и застрелил другого. Сержант Рыловников повел авангард, понудив турок вторично очистить ложементы. Было уже около шести вечера. Галера «Десна», вновь самовольно отделившись от безучастно стоявших кораблей Мордвинова, действовала молодецки. Чтобы хоть как-нибудь отвлечь огонь турецкой эскадры от русского отряда, отважный Ломбард потеснил семнадцать турецких судов. В то же время кинбурнские орудия потопили две неприятельские канонерки и сожгли две большие шебеки — трехмачтовых судна.
Остальные турецкие корабли продолжали яростную стрельбу. Картечь настигла Суворова, шедшего впереди солдат. Его ранило в левый бок, пониже сердца, и засыпало песком. Он лишился чувств, был унесен, но, придя в себя, вернулся в строй. Теснимые янычарами, русские отступали в крепость, бросив в воду еще одно трехфунтовое орудие со сбитым лафетом и колесами. Казалось, сражение окончательно проиграно. Однако сам генерал-аншеф рассматривал две неудачные атаки всего лишь как фазисы продолжавшегося боя.
Он отдал приказание собрать всех, кто был в крепости и вагенбурге. Набралось три пехотные роты, одновременно подоспел батальон муромцев и легкоконная бригада, состоящая из Мариупольского и Павлоградского полков, — всего четыреста штыков «наихрабрейшей пехоты» и девятьсот двенадцать сабель. Солнце уже садилось, когда Суворов в третий раз возобновил наступление.
Мариупольцы и павлоградцы ударили в центр неприятеля, пехота в правый, а казаки в левый фланг, со стороны Черного моря. На узкой и длинной косе уже совершенно перемешались турки и русские, так что неприятельская эскадра прекратила огонь. Чтобы лишить янычар даже помыслов об отступлении, очаковский комендант Юсуф-паша приказал к вечеру флоту покинуть берега Кинбурна. Он трепетал, памятуя повеление султана: или Кинбурн будет взят, или Юсуф-паша лишится головы. Оттесненные к морю, турки дрались с ожесточением смертников.
Суворов, видя их героизм, воскликнул:
— Какие же молодцы! С такими я еще не дрался: летят больше на холодное ружье. Какое прекрасное войско!
Теперь уже русская картечь без промаха косила густые толпы врага, а кавалерия рвалась вперед по кучам трупов. В течение часа турки покинули все пятнадцать ложементов. Часть неприятельского десанта стояла по пояс в воде. Слышались уже жалобные крики: «Аман! Пощада!» В это время пуля пробила генерал-аншефу левое предплечье, и он стал истекать кровью. Врача поблизости не нашлось. Есаул Донского полка Дмитрий Кутейников и гренадер Огнев под руки отвели Суворова к морю. Здесь они промыли ему рану морской водой, и Огнев перевязал ее своим платком. Затем Суворов вывернул наизнанку рубашку, чтобы правый чистый рукав пришелся на раненую руку, и вскричал:
— Помилуй Бог, благодарю! Помогло, тотчас помогло! Я всех турков прогоню в море!..
Он сел на лошадь и поскакал к сражавшимся войскам. Огнев сопровождал его, так как генерал-аншеф поминутно впадал в полуобморочное состояние. Русские, утомленные непрерывным девятичасовым сражением, окончательно победили. Из пятитысячного отборного турецкого отряда в Очаков вернулось всего семьсот человек. Вся Кинбурнская коса и прилегающая к ней отмель были забиты трупами. В Константинополе весть о поражении произвела потрясающее впечатление. Одиннадцати турецким военачальникам были отсечены головы и выставлены в серале, в назидание живым.
2 октября Суворов отпраздновал победу на глазах очаковских турок парадом на косе, обедней и благодарственным молебном. Участники боя поднесли своему командующему купленное в складчину роскошное Евангелие, весившее тридцать восемь фунтов, и огромный серебряный крест. Солдаты сложили в память славного дня Кинбурна бесхитростную и трогательную песню:
Ныне времячко военно, От покоя удаленно: Наша Кинбурнска коса Открыла первы чудеса. Флот турецкий подступает, Турок на косу сажает, И в день первый октября Выходила тут их тьма. Но Суворов генерал Тогда не спал — не дремал. Свое войско учреждал, Турков больше поджидал. Турки бросились на саблях, Презирая свою смерть. Их Суворов видя дерзость, Оказал свою тут ревность, — Поминутно повторял: «Ступай наши на штыках!» Приказ только получили, Турков били и топили, И которых полонили, А оставших порубили. С предводителем таким Воевать всегда хотим. За его храбры дела Закричим ему «ура».В Петербурге кинбурнская виктория вызвала взрыв неподдельного восторга.
2
В шесть пополуночи Екатерина II имела обыкновение выслушивать состоявших «при собственных ее делах и у приятия подаваемых ея величеству челобитных» А. В. Храповицкого и А. А. Безбородко.
Пока Храповицкий докладывал императрице о литературных мелочах — переписывании набело четвертого акта ее собственной пьесы «Расстроенная семья» и переводе с английского на немецкий занятной комедии господина Шеридана «Школа злословия», Екатерина думала о своем. Почти шестидесятилетняя царица не могла уже, как прежде, всему находить время — очередной страсти и государственным делам. В домашнем чепце, обрамляющем ее круглое, в тугих морщинах лицо, она выглядела доброю «гроссмутер» — бабушкой почтенного бюргерского семейства.
При всех своих известных слабостях Екатерина II все же умела отличать и ценить людей за их способности и деловые качества, подтверждением чему могли служить имена братьев Волковых, Румянцева, Суворова, Безбородко, Державина, самого Храповицкого. Она не теряла головы даже в оценке своих фаворитов. Однако последний роман с молодым Мамоновым показывал, что стареющая государыня жила уже во власти иллюзий. С несвойственной ей ранее наивностью она верила в искренность чувств человека, который был младше ее более чем на тридцать лет.
— Вы изволили осведомиться, ваше величество, о степенях пространства России… — Тучный здоровяк Храповицкий зачитал подготовленную записку: — «Всего Россия имеет 165 степеней долготы, считая от острова Езель и Даго от 40 северной долготы до Чукотского носа по 205 северной долготы, тако ж 32 степени широты, от Терека до Северного океана…»
Екатерина постепенно освобождалась от мучивших ее мыслей.
— Что ж это, Александр Васильевич, выходит, приобретение Белоруссии и Тавриды к пространствам нашей империи ничего не прибавило? — удивилась она.
— Толь велики размеры России, — осторожно подтвердил Храповицкий, — что новые земли теряются в ее громадности.
— А какие реки составляют ныне границу нашу с Турцией?
— Буг и Синюха, ваше величество.
— Что пишут о турецких делах?
Храповицкий зачитал отклики свежих берлинских газет.
Грандиозные прожекты, намеченные Екатериною II с Орловыми и Потемкиным, так и остались неосуществленными. Царица еще мечтала об Эллинском королевстве для внука Константина, однако по ее же указанию русские войска в Турции решали скромные задачи. Да и те казались недостижимыми впавшему в уныние Потемкину. В угрожающей близости от Петербурга совершал военные приготовления шведский флот — надменный сосед не отказался от намерения вернуть утраченные балтийские берега. В Речи Посполитой не прекращалось опасное брожение. Казна империи была истощена непрерывными войнами.
Вздохнув, Екатерина попросила Храповицкого продолжать доклад. Она нагнулась к небольшому камину, начав, как всегда, сама растапливать его для варки утреннего кофе.
— Позвольте перейти к корреспонденции?
— Да, батюшка Александр Васильевич. Начнем с нашего письма светлейшему князю Григорию Александровичу. Ты переписал его?
Храповицкий обладал проницательным умом и совершенно феноменальной памятью. Только эти исключительные качества позволяли ему удерживаться на трудном поприще. Питая печальную слабость к Бахусу, он принужден был утрами окатываться ледяною водою или пускать себе по два стакана крови, дабы предстать перед императрицею готовым к докладу.
Он начал читать письмо по памяти, еще до того, как нашел самый текст:
— «Григорий Александрович! Не унывай и береги свои силы. Бог тебе поможет, а царь тебе друг и покровитель. Мне ведомо, как ты пишешь и по твоим словам, проклятое оборонительное состояние. И я его не люблю; старайся оборотить его в наступательное, тогда тебе да и всем легче будет… Оставь унылую мысль, ободри свой дух, подкрепи ум и душу. Это настоящая слабость, чтобы, как пишешь ко мне, снисложить свои достоинства и скрыться… Хорошо бы для Крыма и Херсона, если бы можно было спасти Кинбурн. Но империя останется империею и без Кинбурна. То ли мы брали, то потеряли. Не знаю почему, мне кажется, что Суворов в обмен возьмет у них Очаков…»
Екатерина согласно кивала головою, подкладывая под кофейник щепки. Кофий был уже вполне готов, когда без стука в кабинет вошел один из довереннейших людей царицы — ее личный камердинер Захар Зотов.
— Курьер с репортом от князя Григория Александровича.
Императрица нетерпеливо поднялась с кресел:
— Немедля проси.
Почти тотчас же в дверях показался рослый офицер, румяный, с пышными пшеничными усами, в каске с узкою позолоченною бляхою и с плюмажем из белых гусиных перьев, в синей суконной куртке с красным воротником, лацканами и обшлагами, поверх которой была надета белая лосиная портупея, в белых же «широварах» и огромных, с раструбами сапогах.
— Капитан легкоконного полка армии его светлости. Николай Казаринов с реляцией!
«Ах, Потемкин, золото! Каких молодцов отыскивает он для поручениев!» — залюбовалась офицером Екатерина II.
— Давайте же, капитан!
Она отошла к налою, вскрыв на ходу пакет:
— Слава Богу! С тридцатого сентября на первое октября отбиты турки от Кинбурна!
Пока она читала, Храповицкий и Зотов следили за выражением ее лица.
— Суворов два раза ранен и не хотел покинуть сражение. Похвальная храбрость! — Екатерина отложила реляцию и внимательно оглядела офицера. — Как ваше имя? Казаринов? Мы позаботимся о награде для вас. — И подала для целования руку.
За туалетным столом царица сказала Храповицкому:
— Твой тезка — Александр Васильевич поставил нас перед собой на колени. Но жаль, что его, старика, ранили!
На сей раз Суворов был награжден щедро. По настоянию Потемкина Екатерина послала ему знаки и ленту высшего русского ордена Святого Андрея Первозванного, которого не имели несколько генералов, имевших преимущество по старшинству. Поздравляя его как андреевского кавалера, светлейший писал: «Я все сделал, что от меня зависело…» Многочисленные награды ожидали кинбурнских воинов — Георгиевские кресты, золотые и серебряные медали, повышения, денежные суммы. Одним из шести георгиевских кавалеров 4-го класса стал Ломбард, произведенный, кроме того, в капитан-лейтенанты. Спасителю Суворова Степану Новикову вручили одну из девятнадцати специально вычеканенных серебряных медалей. Позднее, в день стодвадцатипятилетия Кинбурнской битвы, он был занесен в список 1-й роты бывшего Шлиссельбургского полка. Генерал-майору Ивану Реку, награжденному Георгием 3-й степени, Екатерина собственноручно уложила ленту и крест в коробку.
На очередном куртаге, однако, кинбурнская история была уже заслонена более крупным в глазах двора событием: пошатнувшимся было положением фаворита. Красивый, изящный Мамонов и стыдился своей роли при старой царице, и пуще того страшился быть отставленным. Он только что приобрел за триста пятьдесят тысяч подаренных ему рублей очередное имение, когда услышал от петербургского генерал-губернатора Брюса о продаже им по случаю богатого поместья. Разговор шел за вистом, на который кроме, Брюса и самого Мамонова, был приглашен Екатериною переведенный в гвардию Казаринов.
— Так вы не хотите купить? — повторил Брюс.
Мамонов сделал умоляющие глаза и поглядел на Екатерину. Императрица притворилась, что не поняла его немой просьбы. Теперь, с появлением Казаринова, она решила проучить своего Сашу.
— Если вы отказываетесь, я найду другого покупателя, — с деревянной улыбкой сказал Брюс.
— Пожалуйста, — вздохнул Мамонов. — Кто же такой ваш другой покупатель?
Брюс значительно поджал рот:
— Казаринов.
Бледный как смерть Мамонов переводил взгляд с Екатерины на невозмутимого капитана, силясь понять, розыгрыш это или правда.
— Но ведь Казаринов беден, — пролепетал он наконец. — Где же он возьмет столько денег?
Перемешивая атласную колоду, императрица медленно, но внятно произнесла:
— Разве только один Казаринов на свете? — Она глядела прямо в глаза фавориту и растягивала слова. — Купит, может быть, он, может, другой…
Мамонов приподнялся с кресел, но тут же бессильно откинулся к спинке: он потерял сознание. Придворные врачи Роджерсон и Мессинг привели его в чувство, и фаворит, поддерживаемый ими, поспешил покинуть залу.
— Господа, — владея собой, предложила императрица, — Софья Ивановна де Лафон, известная начальница воспитательного дома благородных девиц, передала мне письмо кинбурнского нашего героя Суворова к его дочери Наташе. Я попрошу лейб-гвардии капитана Казаринова зачитать его.
В притихшей зале Эрмитажа зазвучали простодушные и трогательные слова:
— «Любезная Наташа! Ты меня порадовала письмом… Больше порадуешь, как на тебя наденут белое платье, и того больше, как будем жить вместе. Будь благочестива, благонравна, почитай матушку Софью Ивановну, или она тебя выдерет за уши да посадит за сухарик с водицей. Желаю тебе благополучно препроводить святки… У нас все были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы; а как вправду потанцевали, то я с балету вышел: в бок пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили; насилу часов через восемь отпустили с театру в камеру. Я теперь только что поворотился, ездил близ пятисот верст верхом в шесть дней, а не ночью. Как же весело на Черном море, на лимане! Везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерлядки, осетры, пропасть! Прости, мой друг Наташа; я чаю, ты знаешь, что моя матушка государыня пожаловала Андреевскую ленту за веру и верность…»
3
«Суворочка, душа моя, здравствуй!.. У нас стрепеты поют, зайцы летят, скворцы прыгают на воздух по возрастам: я одного поймал из гнезда, кормили из роту, а он и ушел домой. Поспели в лесу грецкие да волоцкие орехи. Пиши ко мне изредка. Хоть мне недосуг, да я буду твои письмы читать. Молись Богу, чтоб мы с тобой увиделись. Я пишу тебе орлиным пером; у меня один живет, ест из рук. Помнишь, после того уж я ни разу не танцевал. Прыгаем на коньках, играем такими большими кеглями железными, насилу подымешь, да свинцовым горохом: коли в глаз попадет, так и лоб прошибет. Послал бы к тебе полевых цветков, очень хороши, да дорогой высохнут. Прости, голубушка сестрица, Христос Спаситель с тобою. Отец твой Александр Суворов».
Он отложил перо. Тихо спал русский лагерь под Кинбурном; тишина стояла и над невидимым в ночной мгле Очаковом. Не просто было генерал-аншефу выкроить время для послания любимой Суворочке. Но думал он о ней ежечасно. Бранные победы, щедрые награды, всероссийская слава, непрестанное воинское бдение — ничто не могло отвлечь его от Наташи, единственно близкого ему человека. Сына Аркадия он долго не признавал своим. После разрыва с женою все внимание сосредоточилось на дочери. В разлуке с нею Александр Васильевич жестоко страдал, считая месяцы и дни до встречи: «Мне очень тошно; я уж от тебя и не помню когда писем не видал… Знаешь, что ты мне мила: полетел бы в Смольный на тебя посмотреть, да крыльев нет. Куда, право какая, еще тебя ждать 16 месяцев…» Ровно через месяц он пишет:
«Бог даст, как пройдет 15 месяцев, то ты пойдешь домой, а мне будет очень весело. Через год я эти дни буду по арифметике считать».
Письма Суворова к дочери и сегодня нельзя читать без волнения. Они писались у стен Очакова, прямо на Рымникском поле, на финляндской границе, в Польше, Кобрине — вплоть до самой смерти. Какие же нерастраченные запасы нежности и целомудренного чувства таились в душе старого солдата!
Конец 1787 и начало 1788 года Суворов провел в Кинбурне. Здоровье его поправлялось медленно: еще через четыре месяца бок болел так, что нельзя было в правой руке держать поводья. Несмотря на это, он лично объездил вверенный ему район. Не забывал и экзерциций — обучал пехоту скорому заряжению и прицельной стрельбе, по-прежнему отводя главную роль атаке белым оружием. Расположение духа у него было отличное: генерал жаждал развития достигнутого после Кинбурна успеха.
В январе 1788 года Австрия наконец объявила войну Турции. Однако, желая прикрыть свою восточную границу, огромная армия Иосифа II раздробилась на мелкие части от Днестра до Адриатического моря. Левый ее фланг под командованием Фридриха-Иосии Кобурга, принца Саксонского, старался овладеть крепостью Хотином. Потемкин стягивал главные силы к Очакову. Турки порешили в ответ сперва обратиться противу австрийцев, а затем направиться на русских, укрепив предварительно гарнизон Очакова. Из Кинбурна Суворов с неудовольствием наблюдал за вялым ходом кампании и бранил про себя Потемкина.
Зимою 1788 года прибыл к генерал-аншефу Алексей Горчаков, восемнадцатилетний сержант лейб-гвардии Преображенского полка, старший сын его сестры Анны.
Небритый, в грубой солдатской куртке, Суворов обнял племянника, расцеловал его крепко и отстранил от себя, вглядываясь в юношеское лицо. Прищурив глаза, он быстро сказал:
— Ай-ай! Поколол щетиною, Алеша! Ну да ничего. Как поживает сестрица Анна? Она, я чаю, по-прежнему красавица? Только кожа ее, — тут он провел ладонью по загрубевшей, покрытой седою щетиною щеке, — не так нежна, как моя…
— Благодарю, дядюшка, — смущенно отвечал Горчаков.
— Ты беспременно будешь у меня генералом. Но генералом первой категории. Ведь ты знаешь, мальчик, что генералы бывают двух категорий?
— Как так?
— Одни отличаются на полях сражений. Другие заметны на паркете, перед кабинетом, в качестве полотеров. — Он одернул свою куртку. — А мундир-то одинаковый!
— Я трудностей не страшусь, — с легкой обидой в голосе отозвался молодой человек.
— Вот-вот! Буду учить тебя сперва казаком, потом уж солдатом, капралом, сержантом. А там — офицером в пехотном и кавалерийском полку и в егерском батальоне.
— Нас довольно экзерцировали в Преображенском полку, — пробовал возразить Горчаков.
Генерал-аншеф словно ждал этого:
— Надо хорошо экзерцировать! Экзерцировать во всякое время, также и зимой. Кавалерия в грязи, болотах, оврагах, рвах, возвышенностях, в низинах и даже на откосах, и конец — рубить! Пехоте — в штыки! — Он указал на проходивших мимо пехотных капралов и сержантов — Самые порядочные становятся ныне младшими командирами, а не пользуются указом о вольности дворянства. Россия необъятна! В ней служит немало иностранцев. Их нужно заменить своими, русскими.
— Дядюшка, у нас в Преображенском иностранцев почти не было!
Суворов махнул рукою:
— Гвардия не в счет! Я сам, будучи зачислен в гвардию, нес долгую и честную службу и ничего не стоил. Полковники гвардейские плохи. Три года они раздражают офицеров своими придворными манерами, изнеживают, показывают, как втираться к высшим с помощью речей сладких и двусмысленных. Сибариты, а не спартанцы, они внушают презирать славу. Притворство заменяет скромность, вежливость — опытность. Переводясь в армию, становятся паркетными генералами. Им бы руководить московскими клубами!
По истечении испытательного срока Суворов, довольный своим племянником, вызвал его к себе.
— Гляди, Алеша! Светлейший прислал мне свою шинель. Просил носить вместо шлафора. Халат как раз для моего росту. — Он повернулся на одной ноге, показывая племяннику длинную, до пят, шинель, надетую поверх белой исподней рубахи. — Довольно ты у меня экзерцировал. Пора понюхать пороху! Поедешь в главную армию. Явишься к правителю канцелярии.
Генерал-аншеф уже быстро писал орлиным пером: «Посылаю моего мальчика; сделайте милость, представьте его светлейшему князю; повелите ему, чтобы он его светлости поклонился пониже и, ежели может быть удостоен, поцеловал бы его руку. Доколе мы Жан-Жаком Руссо опрокинуты не были, цаловали у стариков только полу».
Отсылая Горчакова, Суворов был убежден, что здесь, у Кинбурна, турки не предпримут в ближайшее время активных действий. И верно, конец зимы и почти вся весна 1788 года прошли относительно спокойно. Только 20 мая вновь стало тревожно на Кинбурнской косе. К Очакову подошел сильный турецкий флот под началом храброго капудан-паши Гассана, который вознамерился было истребить русские суда на лимане. Однако попытка окончилась 7 июня полной неудачей. К тому времени по приказу Потемкина безынициативный Мордвинов был заменен адмиралом Нассау-Зигеном, выходцем из Франции, а в помощники ему назначили героя войны за независимость Соединенных Штатов Америки Поля Джонса.
Морской бой 7 июня навел Суворова на мысль воспользоваться положением Кинбурнской косы, и он приказал воздвигнуть ближе к окончанию ее, в трех-четырех верстах от своей крепости, две замаскированные двадцатичетырехпушечные батареи и ядрокалительную печь. Прошло лишь десять дней, и Гассан-паша вторично атаковал наш флот.
Однако на усиление русским прибыли из Кременчуга двадцать два новых гребных судна. Адмиралы Нассау и Поль Джонс сами двинулись навстречу туркам. Упорный бой завершился гибелью линейного вражеского корабля. Остальные, за исключением замешкавшегося флагмана, бросились под защиту крепостных батарей. Русские гребные суда окружили отставший флагманский корабль, захватили его и сожгли. Успел спастись лишь капудан-паша.
Потерпев неудачу, Гассан-паша решил ночью увести потрепанную эскадру из-под Очакова. Тут и сказали свое слово замаскированные батареи. Лишь только эскадра поравнялась с ними, русские открыли меткий прицельный огонь. Гассан-паша стал даже опасаться, не сбился ли он с курса и не попал ли под пушки самого Кинбурна. Взошла полная луна. Проходившие мимо турецкие суда были так близко, что почти каждый снаряд не знал промаха. За короткое время семь турецких кораблей оказались разбиты. Вдобавок многие суда сели на мель, превратившись в мишень неподвижную. Вскоре их окружила русская флотилия и после четырехчасового боя довершила разгром. Турки потеряли убитыми около шести тысяч человек, а тысяча семьсот шестьдесят три было взято в плен.
Склонный к преувеличениям Потемкин пришел в неописуемый восторг. Теперь он ждал ключей от Очакова, который даже не был еще обложен. Надежды его, понятно, не оправдались — Очаков и не помышлял о сдаче. Минул июнь 1788 года. Потемкин подошел наконец с основными силами к крепости, истребил оставшиеся в лимане турецкие суда и начал медленную блокаду. Правым крылом русских войск командовал генерал-аншеф Иван Иванович Меллер, центром — князь Репнин, а левым — призванный из Кинбурна Суворов.
4
Потемкин и под Очаковом не собирался менять своих привычек. Окруженный оравою льстецов, куртуазных женщин, блестящих кавалеров-иностранцев, он закатывал роскошные пиры. Отправляясь в поход, светлейший послал два огромных обоза с серебряною посудою, кухонной утварью, разнообразною снедью — первый через Москву, а другой через Могилев, чтобы быть уверенным в своевременном прибытии хотя бы одного из них. До утра в его ставке гремела музыка…
Принц де Линь, принц Нассау-Зиген, португалец де Помпелон поочередно поднимались из-за стола, чтобы провозгласить здравицу в честь князя, сидевшего за тавлейною доской. Партнером Потемкина был его племянник Энгельгард. Неизменный Массо, следивший за партией, изощрялся в остроумии, зло издеваясь над покинутою им Францией.
— После того как вы сказали так много слов о своем старом отечестве, хотелось бы услышать от вас что-нибудь о новой родине, — не скрывая насмешки, заметил потемкинский племянник.
Массо нисколько не смутился.
— Удивительная страна! Ее непрестанно вовлекают в разорительные предприятия честолюбивые умы. Вы спросите: «Для чего?» Для чего хотят разориться, потерять столько крови и, быть может, вооружить против себя всю Европу? Чтобы позабавить сидящего здесь князя, который скучает, и дать ему возможность нацепить на себя еще одну георгиевскую ленту в придачу к тем тридцати или сорока, которыми он уже изукрашен и которых все ему мало!
Шахматы полетели на пол. Зарычав, Потемкин схватил тяжелую, окованную бронзою тавлейную доску и запустил ею в убегавшего хирурга. За столами все утихли. Нагнув всклокоченную черноволосую голову, светлейший князь долго молчал. Затем он начал тихо говорить Энгельгарду:
— Можно ли найти человека счастливее меня? Все мои желания, все мои прихоти исполняются. Я хотел получить высокие служебные посты — моя мечта осуществилась. Я стремился к чинам — они у меня все теперь. Я любил игру в карты — могу теперь проигрывать несчетные деньги. Обожал празднества — способен устраивать их с царским блеском. Любил земли — их у меня столько, сколько я хочу. Любил строить дома — понастроил себе дворцов. Любил драгоценности — ни у одного частного человека нет столько красивых и редких камней, как у меня. Одним словом, я осыпан… — С этими словами Потемкин схватил с соседнего стола огромную фаянсовую вазу с фруктами и с силою разбил ее.
— Ваша светлость! — сказал де Линь. — У вас еще остается блестящее воинское поприще!
Потемкин вперил в австрийца мрачный взгляд. В словах принца ему почудилась насмешка. Только вчера на виду у свиты Потемкин запрятался в погреб, испугавшись грохота пушечных выстрелов.
— Вы сомневаетесь в моей храбрости? — громко прошептал он. — Так проверим ее, и сейчас же! Отправимся в траншеи! Все! Кто останется — пожалеет! — И выбежал из шатра в июльское утро.
Беспорядочною толпою, толкая друг друга, последовали за ним генералы и придворные, шуты и адъютанты. Было уже совсем светло. За очаковскими стенами заунывно перекликались муэдзины. Потемкин огромными шагами приближался к левому крылу русских позиций, и его свита в живописных, блестящих нарядах едва поспевала за ним. В траншее при виде князя стали вскакивать и вытягиваться гренадеры-фанагорийцы.
— Не нужно вставать передо мною! — говорил им Потемкин. — Старайтесь только не ложиться от турецких пуль.
Он быстро шел дальше. Из крепости уже заметили странное движение в русском лагере, пеструю группу людей. Турки открыли по ней огонь из нескольких пушек.
Потемкин не нагибал головы. Он шутил с солдатами, спрашивал их о снабжении провизией и амуницией, осведомлялся, у всех ли есть сапоги. Одна бомба с великим треском разорвалась рядом, но осколки ее, по счастию, никого не задели; зато после разрыва второй послышались стоны: несколько человек в свите были ранены. К Потемкину уже бежал в сопровождении рослого полковника Золотухина извещенный солдатами Суворов.
— Ахти, батюшки, сам светлейший князь к нам пожаловал!
Он заставил уйти Потемкина в более безопасное место, откуда открывался вид на крепость, представлявшую собой неправильный четырехугольник с низким бастионом и сухим рвом. Подходы к Очакову были покрыты густыми садами, где засели турецкие стрелки.
— Проклятая крепость… — буркнул светлейший князь.
— Но и не неприступная твердыня, позволю себе заметить, — скороговоркой ответил генерал-аншеф. — Траншеи! Контрмины! Бить бреши с флота в береговую стену. Успех! Штурм!
Потемкин покачал головою:
— Я на всякую пользу руки тебе развязываю, но касательно Очакова попытка неудачная может быть вредна… Я все употреблю, чтобы он достался нам дешево. Потом, — он обнял маленького Суворова, — мой Александр Васильевич с отборным отрядом пустится передо мною к Измаилу!
Проводив Потемкина, Суворов, не стесняясь присутствия нескольких приближенных светлейшего, сказал своим офицерам:
— Одним глядением крепости не возьмешь. Послушались бы меня, давно Очаков был бы в наших руках.
Как ни дорожил он благосклонностью всесильного временщика, раздражение от бездарного ведения осады было сильнее чувства самосохранения. Потемкину передавались все выходки и остроты Суворова, но князь грыз ногти и молчал. Вскоре случилось событие, сильно изменившее их отношения.
Было два часа пополудни 27 июля, когда генерал-аншеф, только что отобедавший и слегка разгоряченный двумя рюмками простого хлебного вина, получил известие о вылазке турок из крепости. Полсотни всадников и до двух тысяч пехотинцев, прикрываясь лощинами, пробрались вдоль Очаковского лимана и сбили пикет бугских казаков, который и поднял тревогу.
— Выстроить четыре каре из двух гренадерских батальонов! — приказал Суворов и самолично повел один из них в атаку.
Она была столь успешной, что турки откатились до самого гласиса крепости — пологой земляной насыпи перед наружным рвом. Укрываясь во рву, противник стойко держался, пока полковник Золотухин не скомандовал 2-му батальону ударить в штыки. Турки побежали. Преследуя их, русские ворвались в прилегавшие к Очакову сады. Суворов штурмовал одно из укреплений, когда ему передали, что его разыскивает гонец Потемкина с ордером о немедленном отступлении. Турки усилили натиск. Вдобавок они выгнали из крепости огромную свору собак, натравив ее на солдат.
Генерал-аншеф получил второй ордер Потемкина и снова оставил его без ответа, а на третий послал решительный отказ.
Накануне боя из русского лагеря бежал к неприятелю молодой крещеный турок, долгое время служивший денщиком у офицера. Зная Суворова в лицо, он указал его стрелкам. Сперва под генерал-аншефом была убита лошадь, а затем пулею его ранило в шею. В этот момент солдаты, теснимые турками, стали отступать. Преодолевая страшную боль, Суворов бросился на землю с криком:
— Чудо-богатыри! Вас не отбили, а меня убили… Задавите! Стойте!
Фанагорийцы тотчас остановились, перестроились и двинулись снова на врага. Ближайшие хотели поднять своего командующего, но он сам вскочил на ноги со словами:
— Оживили! Оживили!..
Он чувствовал, однако, что рана опасна, сдал командование генерал-поручику Бибикову и, захватив рану рукою, поскакал в лагерь.
Наблюдавший издали за боем Потемкин был в ярости. Де Линь предлагал немедля штурмовать оставшиеся почти без защиты укрепления. Австрийский принц ясно видел, как большинство значков турецких отрядов — лошадиных и буйволовых хвостов на золоченых древках — уже переместилось к своему правому флангу и обнажило левый. Фельдмаршал был непреклонен. Бледный, плачущий Потемкин шептал:
— Суворов хочет все себе заграбить!
В лагере разнесся слух, что генерал-аншеф умирает от раны. Однако примчавшийся в палатку Суворова Массо застал его хоть и всего в крови, но играющим в шахматы со своим адъютантом Курисом.
— Дайте же перевязать себя! — воскликнул Массо.
Суворов продолжал партию, повторяя одно и то же имя любимого полководца:
— Тюренн! Тюренн!
— Что же, генерал, — отвечал раздосадованный Массо, — когда Тюренн бывал ранен, он давал перевязывать себя!
Суворов взглянул на хирурга и, не сказав ни слова, бросился на кровать. Массо сделал ему перевязку. В этот момент появился дежурный генерал Рахманов с резким письмом Потемкина. Князь, видимо, писал его в таком волнении, что с трудом можно было разобрать слова. «Солдаты не так дешевы, чтобы их терять по-пустому. К тому же странно мне, что Вы, в моем присутствии, делаете движения, без моего приказания… Не за что потеряно бесценных людей столько, чтобы довольно было и для всего Очакова…»
— Что прикажете передать светлейшему?
Суворов, морщась от боли, ответил:
— Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу.
Он знал, что Рахманов, его недоброжелатель, не упустит случая и в точности сообщит ответ. Начав предприятие, которое могло бы быть успешным только при поддержке со стороны всех остальных сил, генерал-аншеф хотел тем самым вынудить Потемкина на решительный шаг и просчитался. Русские заплатили за неуспех дорогою ценой — потерей четырехсот человек. По другим источникам урон был вдвое большим. Только вмешательство Репнина, отвлекшего на себя часть турок, позволило русским отойти.
На третий или четвертый день после ранения Суворов в тяжелом состоянии был отвезен в Кинбурн. Обморок следовал за обмороком, нарушилось дыхание, ко всему прочему прибавилась желтуха. Во время консилиума было установлено, что перевязку Массо сделал плохо, второпях. В ране нашли несколько кусочков сукна, отчего она начала гноиться.
Полководец находился в своей комнатке, в небольшом деревянном доме, когда новое несчастье едва не погубило его. Кинбурнская крепость внезапно сотряслась от страшного взрыва. Превозмогая слабость, Суворов добрался до двери. В этот момент с ужасающим громом через потолок упала бомба, лопнула, своротив часть стены и изломав кровать. Кусками оторванной щепы генерал был ранен в лицо, грудь, руку и ногу; кровь хлынула у него изо рта. Он выбежал в сени. Лестница была тоже разбита. Ясный день превратился в ночь. Над Кинбурном нависла густая туча порохового дыма.
В крепости царило смятение. Взорвало артиллерийскую мастерскую, где начинялись бомбы и гранаты. Убитых насчитали до восьмидесяти человек. По счастию, бочки с порохом, находившиеся в лаборатории, остались целы, иначе пострадала бы вся крепость. Суворова вынесли в поле, сделали ему перевязку. Зажившая рана открылась.
Телесные страдания усугублялись душевными — немилостью Потемкина. В отчаянии Суворов писал светлейшему: «Не думал я, чтоб гнев вашей милости толь далеко простирался; во всякое время я его старался моим простодушием утолять… невинность не терпит оправданиев. Знаете прочих, всякий имеет свою систему, так и по службе, я имею и мою, мне не переродиться, и поздно. Светлейший князь! Успокойте остатки моих дней, шея моя не оцараплена, чувствую сквозную рану и она не пряма, корпус изломан, так не длинные те дни. Я христианин, имейте человеколюбие. Коли вы не можете победить вашу немилость, удалите меня от себя, на что вам сносить от меня малейшее беспокойство. Есть мне служба в других местах по моей практике, по моей степени; но милости ваши, где бы я ни был, везде помнить буду. В неисправности моей готов стать пред престол Божий».
Прошло лето, наступила осень, начались холода. Солдаты коченели в землянках. Болезни сотнями выкашивали людей. Армия роптала. Румянцев язвительно называл потемкинское сидение под Очаковом «осадою Трои». Крепость пала только 6 декабря 1788 года, после кровавого и беспощадного штурма, продолжавшегося всего час с четвертью и превратившего Очаков в огромную могилу. Великим триумфатором ехал Потемкин в Петербург.
Екатерина выслала ему Георгия 1-й степени, присовокупив стихи собственного сочинения:
О, пали, пали с звуком, с треском, Пешец и всадник, конь и флот, И сам, со громким верных плеском, Очаков, силы их оплот!Похвальная грамота, медаль в память потомству, жезл, осыпанный бриллиантами, орден Святого Александра Невского, прикрепленный к алмазу в сотню тысяч рублей ценою, шпага с бриллиантами, сто тысяч на достройку Таврического дворца были наградою светлейшему князю. Благосклонность императрицы играла гораздо большую роль, чем заслуги Потемкина, истинную цену которым она знала. Недаром, прочитав в перлюстрированном письме Нассау к Сегюру о том, что «Очаков можно было взять в апреле… но все упущено», Екатерина II сказала: «Это правда».
Отставленному и даже не внесенному Потемкиным в список генералов его армии Суворову грозило бездействие. Между тем вне военного дела, которое было его бытием, он даже не мог себя мыслить.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ФОКШАНЫ И РЫМНИК
Сегодня — счастье, завтра — счастье, помилуй бог, надо же когда-нибудь и уменье.
А. В. СуворовВ начале 1789 года, приехав в Петербург, Суворов явился на прием к императрице.
— Матушка, — с жалобным видом заявил он, — я прописной!
— Как это? — спросила Екатерина II.
— Меня нигде не поместили с прочими генералами и ни одного капральства не дали в команду.
Понимая значение Суворова и не желая в то же время задевать самолюбие Потемкина, царица назначила «прописного генерала» в румянцевскую армию. 25 апреля Суворов получил повеление ехать в Молдавию и уже в тот же день поскакал из Петербурга. Судьбе было угодно, чтобы генерал-аншеф снова попал под начало Потемкина.
Императрица решила сосредоточить в одних руках командование обеими армиями, «дабы согласно дело шло». К тому же, по ее мнению, Румянцев был уже не тот, что в первую войну с турками. Потемкин поручил князю Н. В. Репнину силами 2-й армии прикрывать его на левом берегу Прута, а сам, с бывшею Екатеринославскою, решил двигаться через Ольвиополь к Бендерам. Так как маневр сей производился чрезвычайно медленно, турки постарались воспользоваться этим. Тридцатитысячный корпус под начальством Османа-паши предпринял наступление к Фокшанам, чтобы сначала разбить австрийцев, а затем нанести удар русским. Командовавший левым флангом союзников Фридрих-Иосия Кобург обратился за помощью к Суворову.
Десятитысячная дивизия его занимала удобную позицию у Бырлата, между Прутом и Серетом. Извещенный австрийцами, Суворов приказал тотчас же выступить в шесть пополудни 16 июля. Дивизия шла, делая короткие передышки, вечер, ночь и следующий день. Принц Кобург поверил столь быстрому прибытию русских, лишь когда увидел их собственными глазами в Аджуде. Наутро он просил русского полководца о личном свидании для выработки плана. Тот ответил уклончиво. Второго гонца не приняли, сказав, что генерал молится. Третий получил ответ, что Суворов спит. Недоумение Кобурга возрастало, он терялся в догадках. Так прошел целый день. За это время были наведены три моста через реку Тротуш и русские войска основательно отдохнули. Поздним вечером 18 июля Кобург получил написанную в форме приказа записку:
«Войска выступают в 2 часа ночи тремя колоннами; среднюю составляют русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими поисками, вправо и влево, чтобы на заре прибыть к реке Путна, которую и перейти, продолжая атаку. Говорят, что турок перед нами тысяч пятьдесят, а другие пятьдесят дальше; жаль, что они не все вместе, — лучше бы было покончить с ними разом».
Позже Суворов объяснял, что был принужден избегать объяснений с Кобургом. Иначе, говорил он, «мы бы все время провели в прениях дипломатических, тактических, энигматических; меня бы загоняли, а неприятель решил бы наш спор, разбив тактиков». Прямодушный и храбрый, но отнюдь не великий полководец Фридрих-Иосия Кобург, принц Саксонский, оказался поставлен перед свершившимся фактом. Ему не оставалось ничего другого, как подчиниться, хотя он был старше Суворова по чину и поэтому имел более прав на общее руководство.
В три пополуночи войска перешли Тротуш и двинулись к Фокшанам двумя колоннами: правую образовали восемнадцать тысяч австрийцев, левую — семь тысяч русских с авангардом, состоявшим из австрийской конницы, которою предводительствовал смелый венгерец барон Андрей Карачай. Двое суток продолжался поход до Мертинесчи. Суворов все время находился впереди. Производя рекогносцировку, он так увлекся наблюдением, что едва не попал в руки турок.
У реки Путны союзников встретил трехтысячный отряд отборной конницы во главе с самим Османом-пашой. За турецким командиром везли знаки его власти — два бунчука с золочеными наконечниками и конскими хвостами. По числу этих знаков в турецкой армии различались двухбунчужные и трехбунчужные паши.
Завязалась упорная схватка. Турки трижды пытались атаковать, но были опрокинуты в Путну. Наступила ночь, река вздулась от шедшего дождя, вдобавок возведению понтонного моста мешали нападения турецкой кавалерии. Карачай отогнал неприятеля, и поутру 21 июля войска, переправившись, построились для боя. Австрийцы стали направо девятью каре в шахматном порядке; русские налево шестью каре; конница находилась позади. Лишь Карачай со своими гусарами выдвинулся между австрийцами и русскими. Сохраняя дистанцию, «подобно исправной экзерциции», союзники направились к Фокшанам, до которых оставалось двенадцать верст.
Начались и стали постепенно усиливаться турецкие конные атаки, сперва на фронт союзных сил, а затем, все ожесточеннее, на фланги. Русские батальоны под командованием опытного генерала В. X. Дерфельдена хладнокровно встречали массы накатывающейся конницы огнем в упор. Лишь отдельные всадники врывались в каре и тут же гибли на штыках. «В таком препровождении, — замечает Суворов, — шли мы по телам турецким на 2-х верстах более часу». На пути встретился довольно густой бор. Решено было его обойти: австрийцы взяли вправо, русские — влево. Тотчас засевшие там турки повалили под защиту фокшанских окопов.
Обогнув лес, русские оказались на местности, покрытой зарослями цепкого кустарника. Идти стало трудно: лошади и люди оказались перецарапаны; зато наскоки турок заметно ослабли. Версты за три до Фокшан Суворов выпустил вперед легкую кавалерию, завязавшую с противником шармицели — перестрелку на полном скаку. Однако вскоре турки открыли сильную пушечную пальбу. Союзная артиллерия ответным огнем подавила турецкие батареи. Конница уступила место пехоте. Гренадеры и егеря Дерфельдена бросились в атаку и, приблизившись к окопам, дали залп. Пехота на штыках ворвалась в турецкие порядки и заняла весь ретраншемент.
Неподалеку находился укрепленный монастырь Святого Самуила. В нем засело несколько сот янычар, решивших защищаться до последней крайности. Монастырь обложили с двух сторон, и артиллерия начала жестокий обстрел. Ворота и фортка через час были пробиты и расширены. Атакующие кинулись в проломы. Вдруг раздались два сильных взрыва — взлетел на воздух большой турецкий пороховой погреб. Пострадали обе стороны: у союзников щебенкой были ранены шесть штаб-офицеров и три обер-офицера. Принца Кобурга едва не придавило обвалившейся стеною. Разъяренные солдаты не давали туркам пощады.
Неприятель, бросая обозы, бежал на Рымник и Бузео. Легкие войска союзников преследовали турок и тем удвоили их потери. Победителям достался весь Фокшанский лагерь, двенадцать пушек и шестнадцать знамен. Турки потеряли более полутора тысяч человек. «Неможно довольно превознесть похвалами от вышнего до нижнего мужество, храбрость и расторопность всего союзнического войска», — сообщал Суворов. В самом деле, австрийцы, с их склонностью к выжидательной тактике, под началом великого полководца проявили себя отменно.
Десятичасовой бой отнял много сил, но возбужденные победою солдаты, казалось, не чувствовали усталости. Высокий красавец в белом австрийском мундире и треуголке кинулся обнимать маленького Суворова. Кобург понимал, кому он обязан столь блестящим успехом… Карачай не сводил восхищенного взгляда с русского полководца, который на всю жизнь сделался его кумиром. В четыре пополудни прямо в поле близ Фокшан, перед монастырем Святого Иоанна, солдаты расстелили плащи и сели за праздничный обед…
И раньше турки знали Суворова. Но теперь, страшась его, придумали кличку. Незадолго перед Фокшанами наступил он на иголку, которая вонзилась ему в ступню и там сломалась. Суворов захромал. Турки так и прозвали его: «Топал-паша» — хромой генерал.
Воротившись с дивизией в Бырлат, генерал-аншеф почти тотчас же направил письмо князю Репнину, горячо убеждая его воспользоваться плодами фокшанской победы и двинуться против армии великого визиря, стоявшей на Нижнем Дунае, между Исакчи и Измаилом.
«Пользоваться победою! итти на Табак! — время есть учредиться… Вот мое мнение, милостивый государь! и отвечаю за успех, ежели меры будут наступательные. Оборонительные же? Визирь придет! На что колоть тупым концом вместо острого?»
Высокомерный Репнин, воспринимавший победу в войне лишь как сумму искусно примененных кабинетных приемов, отказывался видеть в Суворове полководческое дарование, называл его систему «натурализмом», приличествующим лишь первобытным людям или дикарям. Узнав о фокшанской виктории, он поторопился послать поздравление принцу Кобургу, всецело приписывая ему честь победы, чем вызвал справедливое неудовольство Потемкина. «Разве так было? — корил Репнина светлейший. — А иначе не нужно их так подымать, и без того они довольно горды».
— Этот натуралист — баловень счастья! — упрямо повторял распространенное уже о Суворове мнение Репнин.
— Фагот гугнивый! Ослиная в армии голова говорила мне: слепое счастье, — сердился Суворов, отвечая не только Репнину, но и многочисленным своим завистникам. — Делая меня баловнем, его слепым орудием, с задней целью хотят унизить мое дарование.
За фокшанскую викторию полководец был награжден бриллиантовым крестом и звездою к ордену Андрея Первозванного (полученному за Кинбурн), а Иосиф прислал ему богатую табакерку с алмазами. Кобургу австрийский император пожаловал орден Марии-Терезии. Однако результат победоносного боя оказался незначительным. Успех не был развит, и турки скоро оправились от поражения.
Потемкин продолжал медленно двигаться со своим войском от Ольвиополя к Днестру. Он получил ложные вести, будто великий визирь идет на Молдавию, и повелел Репнину открыть наступательные действия. 7 сентября 1789 года русские встретили на реке Сальче корпус сераскира Гассана-паши. Завладев неприятельским лагерем, Репнин запер турок в Измаиле. В результате удачного артиллерийского обстрела загорелось сперва предместье, затем город, наконец была пробита брешь в крепостной стене. Ожидавшие штурма войска стояли под ружьем с утра до вечера, но приказа так и не последовало. Убоясь больших потерь, Репнин смалодушничал и приказал бить отбой. Русские отступили с тяжелым чувством.
Маневр Гассана-паши оказался отвлекающим. Сбылось предсказание Суворова. В ответ на робкие попытки «колоть тупым концом вместо острого» явился сам великий визирь со стотысячным войском. Он устремился к Фокшанам для того, чтобы раздавить по пути слабый корпус австрийцев и выйти во фланг и в тыл главной русской армии.
Из Бырлата Суворов внимательно следил за перемещениями турок. Получая противоречивые сообщения, он еще не знал, куда пойдет визирь — на Фокшаны или Галац, и для начала выдвинул семитысячный отряд в местечко Пупесени. Сюда ночью 6 сентября примчался к нему первый гонец от принца Кобурга. Русский полководец решил выждать. Почти через сутки прибыл к нему второй австрийский курьер — граф Траутсмандорф.
Когда граф попросил, чтобы его немедленно приняли, генерал-аншеф молился в церкви. Дежурный майор Курис объяснил австрийцу, что придется дождаться окончания службы.
Прочитав письмо Кобурга, Суворов ответил графу по-русски:
— Хорошо. Вечером поход.
В ночь на 8 сентября генерал выступил в путь, послав донесение Потемкину. Тот сразу же сообщил об этом Екатерине II, пояснив, что едва ли Суворов поспеет вовремя к Кобургу, который «почти караул кричит». В самом деле, узрев перед собою всю армию визиря, принц страшно обеспокоился, беспрестанно посылал русскому полководцу гонцов. Дорога час от часу становилась все хуже, мост через реку Серет, возведенный австрийскими инженерами, повредило вздувшейся рекой. Суворов страдал от лихорадки, вдобавок волновался, не опередят ли его турки. Мало-помалу записки Кобурга его успокоили: великий визирь не торопился.
Ранним утром 10 сентября русская легкая кавалерия появилась у Фокшан, где ее встретили австрийцы:
— Славу Богу! Русские! Мы спасены!
Отряд Суворова примкнул к левому флангу австрийцев, которые стояли на реке Мильке. Численность соединенных союзных войск едва достигала двадцати пяти тысяч. Для генерал-аншефа разбили шатер, навалили сена, и он принялся обдумывать дальнейшие действия.
Вскоре приехал принц Кобург. Суворов выбежал ему навстречу, обнял и расцеловал. А когда принц стал благодарить его за своевременное прибытие и называть «спасителем», русский полководец бесцеремонно перебил австрийца, увел в шатер и, разлегшись на сене, объяснил свой план. Он требовал безотлагательно начать атаку.
— Но ведь силы слишком неравны! — заметил в смятении Кобург. — Турок вчетверо больше! Атака будет очень рискованной!
— При таком неравенстве сил только быстрая атака обещает успех, — с усмешкою возразил генерал-аншеф. — Множество их умножит и беспорядок. Все же их не столько, чтобы заслонить нам солнце.
Кобург продолжал упорствовать, приводить новые и новые доводы, говоря, что-де русские изнурены трудным переходом, а у неприятеля сильная позиция. Суворов оспаривал, наконец раздражился, заявив, что атакует турок только своими силами и разобьет их. Эта угроза была последним средством. Как верно замечает А. Петрушевский, «перед ним находился представитель тогдашнего, низко упавшего военного искусства, совершенно расходившегося с суворовскими принципами. Дело, которое Суворов строил на духовной натуре человека и обставлял целою воспитательной системой, понималось другими в виде какого-то графического искусства, требовавшего кучи механических подробностей, то есть дрессировки». Задетый за живое, Кобург уступил.
Добившись своего, русский полководец принялся разрабатывать детальный план боя. В сопровождении дежурного полковника Золотухина, майора Куриса и нескольких казаков он отправился на рекогносцировку к реке Рымне и, чтобы лучше обозреть местность, взобрался на высокое дерево. Отсюда ему открылся вид на огромную турецкую армию, расположенную между речками Рымна и Рымник. Ближайший к русским войскам лагерь занимал у местечка Тыргу-Кукулуй двенадцатитысячный турецкий авангард; второй лагерь находился у Крынгу-Мейлорского леса, близ деревни Богсы; третий — у селения Мертинесчи. Сам великий визирь оставался еще южнее, в деревне Одоя.
Суворов решил в ночь на 11 сентября 1789 года скрытно подойти к туркам и утром атаковать их одновременно с обоих флангов. Русские должны были занять лагерь близ Тыргу-Кукулуя, австрийцы двигаться к Крынгу-Мейлорскому лесу. Затем генерал-аншеф поехал к Кобургу, сообщил виденное и только после этого позволил себе немного отдохнуть: с момента выхода из Пупесени он не смыкал глаз.
Ночь была безлунная, но звездная. При выступлении из Фокшан солдаты увидели бесчисленные огни в турецком лагере. Войска двумя колоннами — русские справа, австрийцы слева — перешли вброд речку Мильку, затем, через двенадцать верст, — мелководную Рымну. Шли в полной тишине; не давалось никаких сигналов; строго воспрещено было высекать огонь. На рассвете союзники построились в том же боевом порядке, что и при Фокшанах. Первой линией русской пехоты командовал генерал-майор Позняков, второй — бригадир Вестфален, кавалерией — бригадир Бурнашов. Для связи русских с австрийцами снова уговорились выделить отряд гусар генерал-майора Карачая.
Солнце уже взошло. Густым бурьяном и кукурузными полями русские приближались к местечку Тыргу-Кукулуй. Когда турки наконец заметили каре солдат в черных касках с ярко горящими на солнце бляхами, в зеленых куртках и штанах из фламского полотна, в лагере началась паника. Одни поспешно принялись свертывать палатки и отходить по Бухарестской дороге, другие, сев на лошадей, густыми толпами атаковали пехоту с флангов.
К одному из каре подскакал турок с белым флагом и крикнул:
— Кто вы такие? Переодетые австрийцы?
— Русские! — ответили из рядов.
— Русские тут не могут быть. Они еще в Бырлате!
— А ты подойди поближе!
Но турок ускакал, чтобы доложить об увиденном.
Великий визирь пил кофий в Одое. Чашка выпала у него из рук при известии, что Суворов здесь и уже сражается. Накануне он поверил своему шпиону, будто русские по-прежнему в Пупесени. Приказав повесить несчастного шпиона, сведения которого оказались устарелыми благодаря быстроте суворовского марша, визирь выслал к Тыргу-Кукулую пятитысячный отряд под командованием разбитого под Фокшанами Османа-паши. Для скорости каждый спаг — конный ополченец — вез по одному янычару.
А. В. Суворов и принц Кобург после Фокшанской битвы.
Продолжая наступать, каре наткнулись перед Тыргу-Кукулуем на глубокую лощину. Первая линия замешкалась, приостановилась под сильным артиллерийским огнем. В рядах появился Суворов. В ответ на какую-то шутку полководца гренадеры-фанагорийцы вдруг громко расхохотались. Бывший неподалеку австрийский офицер был поражен их бесстрашием: «Они стоят, как стена, и все должно пасть перед ними».
Наконец пехота преодолела лощину, а кавалерия атаковала турок справа, обогнув овраг. Казаки и арнауты ворвались в лагерь. Турки, конные и пешие, еще пытались сбить правый фланг русских. Но каре дало крепкий отпор, а другое, под командованием самого генерал-аншефа, взяло атакующих во фланг, поражая их артиллерийским и ружейным огнем. Легкие войска, завладевшие лагерем, подкрепили удар. Турки отступили за Тыргу-Кукулуйский лес. Суворов их не преследовал: у него впереди были дела поважнее.
Подоспела подмога из главного лагеря — спаги с янычарами и «арапами» — маврами, которые спешились и тут же с бешенством кинулись на гренадер второй линии. Русский полководец немедля перестроил смоленское и ростовское каре для встречи турок «крестным» огнем и выдвинул из третьей линии часть кавалерии. Более часа длились непрерывные атаки. Турки, случалось, даже прорывались с ятаганами и кинжалами в каре, но гибли от штыков.
Австрийцы двинулись чуть позже русских и подошли к другому турецкому лагерю, который был расположен перед лесом Крынгу-Мейлор. Союзники образовали как бы прямой угол. В вершине угла находились лишь гусары Андрея Карачая. Подметив это, визирь решил оторвать русских от австрийцев. Он бросил от деревни Богсы двадцать тысяч конницы, устремившейся двумя потоками на смежные фланги Суворова и Кобурга. Страшный удар поколебал правое крыло австрийцев. Карачай семь раз устремлялся в атаку и семь раз был отбит. Русский полководец подкрепил его двумя батальонами. Лишь к полудню, обессилев, турки отхлынули к Крынгу-Мейлорскому лесу, где находилось уже пятнадцать тысяч янычар. Словно по согласию, бой на время прекратился. Пользуясь близостью колодцев, Суворов дал своим измученным войскам полчаса отдыха.
Он осмотрел местность. Теперь все укрепления между Тыргу-Кукулуем и Крынгу-Мейлорским лесом сделались уже бесполезными для неприятеля. Главные силы турок располагались по западной опушке Крынгу-Мейлорского леса, напротив австрийцев. Длинный неоконченный неприятельский ретраншемент был прикрыт с обоих флангов глубокими топкими оврагами, по которым протекали речки. Правда, между левым флангом и оврагом имелась удобная для движения полоса, но ее защищали сильные батареи, выдвинутые турками на пологую возвышенность деревни Богсы.
Суворов положил овладеть сперва Богсой, а затем атаковать крынгу-мейлорские позиции. В час дня войска двинулись: русские на левый турецкий фланг, австрийцы — на центр и правый фланг. Великий визирь, опасаясь полного поражения, собрал тысяч сорок конницы и, хоть сам и был болен, выехал впереди в коляске. Огромная масса турок обрушилась на австрийцев, окружив их левое крыло. Следуя совету Суворова, Кобург отбивался картечью в отражал атаки на штыках. Однако все новые полчища всадников теснили белые австрийские каре. Кобург посылал генерал-аншефу адъютанта за адъютантом, прося помощи.
— Скажи, чтобы держались, — отвечал Суворов, — а бояться нечего, я все вижу!
Русский полководец еще ничем не мог помочь своему союзнику. Под сильным артиллерийским огнем он вел свои каре на Богсу, отражая наскоки конницы. Русская артиллерия действовала столь успешно, что заставляла турок два раза свозить орудия с позиций и наконец вовсе убрать их. Богса пала. Не останавливаясь, на полном марше Суворов перестроил своя порядки. Он развернул каре первой линии, в промежутки поместил кавалерию, а казаков и арнаутов расположил по флангам, присоединив слева и австрийских гусар. Не прекращая энергичного артиллерийского огня, он начал сближаться с австрийским корпусом, пока русский отряд не составил с ним одну, несколько вогнутую линию.
Суворов послал дежурного полковника Золотухина к Кобургу с предложением начать одновременную атаку. Принц на все согласился. «С крыл кавалерии, от пеших каре, как от прилежащих цесарских, учинили из орудиев в лес и ретраншемент жестокие залпы, и турецкие пушки умолкли… Я велел атаковать, — сообщал в реляции о решающем моменте сражения Суворов. — Сия пространная страшная линия, мещущая непрерывно с ее крыл из кареев смертоносные перуны, приблизившись к их пунктам сажен до 400, пустилась быстро в атаку. Не можно довольно описать сего приятного зрелища, как наша кавалерия перескочила их невозвышенный ретраншемент…»
Конница с ходу врубилась в оторопевших янычар. Придя в себя, турки с яростью отчаяния бросились с ятаганами и кинжалами на кавалеристов, но в это время загремело раскатистое «ура». Подоспела и ударила в штыки русская пехота. Суворов, весь день находившийся в гуще боя, кричал солдатам:
— Ребята! Смотрите неприятелю не в глаза, а на грудь. Туда придется всадить ваши штыки!
К четырем пополудни победа над стотысячной турецкой армией была обеспечена. Напрасно визирь, забыв об изнуряющей его лихорадке, пересел на лошадь и с Кораном в руках пытался остановить бегущих. Он даже приказал стрелять в них из пушек. Ничто не помогло: турки устремились к Мертинесчи, где находился самый большой лагерь. Когда Суворов с Карачаем обогнули Крынгу-Мейлорский лес справа, а Кобург — слева, им открылась долина, простиравшаяся на семь верст до реки Рымника. Она являла зрелище бегства, беспорядка и гибели. Пехота не поспевала за отступавшими, и турок беспощадно преследовала кавалерия союзников. Армия великого визиря потеряла здесь гораздо больше солдат, чем во время сражения.
Река Рымник у Мертинесчи прикрывалась земляными окопами, но никто не помышлял защищать их. Единственный мост был загроможден обозами. Турки в панике бросались в воду и во множестве тонули. Только сумерки спасли беглецов от полного истребления. Сам визирь успел переправиться через Рымннк, но, не перенеся позора, скончался вскоре в какой-то румельской деревне. Весь его обоз, сто знамен, восемьдесят пушек и даже шатер, богато вышитый золотом, достались союзникам.
Измученные длительным походом и тяжелым сражением, союзники расположились биваком перед Мертинесчи, в полуверсте друг от друга. Во главе огромной свиты к Суворову явился принц Кобург.
— Позвольте, мой великий учитель, засвидетельствовать всю мою благодарность за славное участие, которому одолжены мы победою и обильными следствиями, от нее происшедшими, — сказал прямодушный принц. «Генерал Вперед» — так стали называть австрийцы Суворова после Рымника.
В свой черед русский полководец высоко отозвался о мужестве австрийцев, снова отличив перед всеми Карачая. Он назвал венгерца истинным героем и заявил, что тот больше других содействовал одержанию победы. Этим признанием заслуг Суворов окончательно полонил сердце отважного кавалерийского генерала. Своего третьего сына, родившегося 7 августа 1790 года в Пеште, Карачай назвал в честь Суворова Александром и просил великого полководца быть крестным отцом ребенка.
На другой день после победы прямо на Рымникском поле был отслужен благодарственный молебен. Русские солдаты, выстроившиеся в одно большое каре, украсили себя зелеными ветками. Затем генерал-аншеф обратился к войску с речью. Гром рымникской виктории отозвался в Петербурге салютом, колокольным звоном, поздравительными речами, восторженными признаниями заслуг Суворова со стороны Екатерины II и ее приближенных. Австрийский император пожаловал русскому полководцу титул графа Священной Римской империи. По-царски наградила Суворова Екатерина. Графское достоинство с названием Рымникский, бриллиантовые знаки Андреевского ордена, шпага, осыпанная бриллиантами, с надписью «Победителю визиря», бриллиантовый эполет, драгоценный перстень — весь этот алмазный дождь, осыпавший полководца, не мог так порадовать его, как долгожданный орден Святого Георгия 1-й степени. И снова надобно отметить роль Потемкина, которому императрица писала после Рымника: «Хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако кавалерии Егорья большого креста посылаю по твоей просьбе, он того достоин…»
«Графиня и имперская графиня, — обратился Суворов к дочери, — …у меня горячка в мозгу… Слышала, сестрица, душа моя, еще от великодушной матушки рескрипт на полулисте, будто Александру Македонскому, знаки Св. Андрея, тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, первой класс Св. Георгия. Вот каков твой папенька за доброе сердце! Чуть, право, от радости не умер!»
Рымникское сражение — одна из вершин суворовского военного искусства. В этом сражении наиболее полно проявились черты мастерства Суворова: всесторонняя оценка обстановки, решительность, быстрота действий, внезапность и неограниченное влияние полководца на войска. Действия Суворова изумляли: в то время как две огромные союзные армии — Потемкина и Лаудона — занимались второстепенными задачами, двадцатипятитысячный отряд нанес решительное поражение главным силам Турции. Война могла бы, вероятно, окончиться в том же году, если бы после Рымника последовали энергичные наступательные операции за Дунаем.
Впрочем, «обильные следствия» рымникской победы, о которых упоминал Кобург, не замедлили сказаться на ходе кампании. Русские войска очистили все пространство до Дуная, заняли Кишинев, Каушаны, Паланку, Аккерман. 14 сентября пал приморский замок Аджибей, на месте которого через несколько лет возникла Одесса. Армия Потемкина окружила Бендеры. Гарнизон из шестнадцати тысяч солдат и трехсот пушек сдался без всякого сопротивления. Ослабление турецких сил и ужас, вызванный разгромом на реке Рымнике, позволили Лаудону изгнать турок из Банната и в конце сентября овладеть Белградом. Принц Кобург занял Валахию и вступил в Бухарест.
Суворов вернулся в Бырлат. Ему предстояло проскучать в бездействии почти год.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ИЗМАИЛ
Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся,
Магометом ты потрёс.
Г. Р. Державин1
В феврале 1790 года не стало императора Иосифа II, энергичного союзника и сторонника продолжения войны с Турцией. Заступивший на его место кроткий Леопольд начал переговоры с Пруссией, которая составила вместе с Англией тайный союз против России. Много сил отнимала начавшаяся в июле 1789 года война со Швецией. На границах с Польшей приходилось держать два больших корпуса. Соответственно уменьшались и русские армии, предназначенные для действий на турецком фронте: они были сведены к двум дивизиям общею численностью двадцать пять тысяч человек.
Зимуя в Бырлате, Суворов вошел в тайные сношения с пашой, командовавшим гарнизоном в близком Браилове. Генерал-аншеф уже овладел турецким языком настолько, что мог читать Коран и свободно переписываться со своим соседом. Суворов убедил пашу сдать крепость после легкого для видимости сопротивления. Генерал-аншеф рассчитывал, что одновременно Кобург завладеет Оржовом и Журжей, а затем союзные войска вместе двинутся за Дунай. Однако Потемкин, дряхлый в свои пятьдесят лет от пресыщения всеми благами мира и от терзаний ненасытного властолюбия, колебался и, не зная к чему склониться, не отвечал на суворовские послания. В конце концов Кобург начал наступление один, взял Оржов, осадил было Журжу, однако одна удачная вылазка турок свела на нет все его усилия. Потемкин злорадствовал, сидючи в Яссах, мечтал о стремительном окончании войны и не предпринимал для этого ничего.
Суворов бездействовал в своем Бырлате. Он предпочитал не появляться у светлейшего, зато навестил несколько раз опального Румянцева, жившего в полном уединении под Яссами. Посылая донесения Потемкину, генерал-аншеф всякий раз приказывал отвезти дубликат Румянцеву, словно тот по-прежнему командовал армией. Александр Васильевич воздавал должное победоносному фельдмаршалу, хотя сам испытал немало в недавнем прошлом от его притеснений. В вынужденной праздности Суворов много экзерцировал, объезжал и осматривал войска. Быт его по-прежнему был чрезвычайно скромен, занятия и интересы — многосторонни.
В дни мира, в пору отдыха великий полководец испытывал нужду в ином — в глубокой и остроумной беседе, словесном фехтовании, разговорах на темы философские и литературные. Он просто боготворил поэтов, чрезвычайно дорожил отношениями с Державиным и Костровым, сам упражнялся в версификации. В его глазах умение писать стихи могло восполнить недостатки, в других случаях не извинительные.
Свое одиночество Суворов стремился преодолеть с помощью обширной переписки с людьми, мнение которых ценил, или обильного чтения книг древних и новых авторов. Еще в восьмидесятые годы познакомился он с искавшим в России счастья немецким студиозусом-богословом Вернетом и уговорил его поступить к нему на службу секретарем и чтецом:
— У меня ты ни в чем не будешь нуждаться, и я приведу тебя в состояние независимости и беспечности, нужное для философствования.
В Бырлате генерал-аншеф заставлял Вернета, которого прозвал по-своему — Филиппом Ивановичем, читать помногу и долго газеты, журналы, военные мемуары, статистику, путешествия. Суворов интересовался при этом всегда не столько фактической, сколько философской стороной дела.
Часто к чтению приглашались близкие офицеры, за обедом продолжалось обсуждение прочитанного, разговор мало-помалу принимал вид состязания или экзамена, причем офицеры должны были отвечать на поставленные вопросы из истории вообще и военной истории в особенности. Памятуя, что на «немогузнайство» наложен строгий запрет, честные и малообразованные воины страдали, воспринимали беседы эти как род тяжелой служебной повинности.
Однажды позван был к обеду выходец из Голландии военный инженер майор де Волан, человек способный и прямой, сведущий в науках. В молдавской хате на лавке сидел Суворов, одетый в куртку из грубого солдатского сукна. К ней был прикреплен только один Георгиевский крест на оранжево-черной ленте.
Так как у генерал-аншефа не имелось своей посуды, тарелки и приборы являли собою причудливый разнокалиберный набор. Приглашенные расселись в строгом соответствии с чинами. Лишь молодой офицер, недавно прибывший в действующую армию, теснился сесть выше старших. Суворов тотчас же закричал:
— Дисциплина! Субординация! Высока лестница военного чиноначалия! Ступени широки! Кто ступил выше, тот выше и садится!
— Ваше превосходительство, — перебил его находчивый Вернет, — сей молодой человек стихотворец. Он близорук и хотел поближе рассмотреть героя своей поэмы.
Генерал-аншеф мгновенно преобразился:
— Зачем же, батюшка Филипп Иванович, не предуведомил ты меня? Я думал, что это маменькин сынок. А теперь вижу, что это поэтическая вольность. Как не служить, когда барды и трубадуры сулят нам бессмертие!
Он попросил перепуганного юношу принести ему свою поэму, развеселился и с аппетитом принялся за нехитрые блюда, которые приготовил его повар Михаил.
За обедом разговор шел о римском императоре Марке Аврелии, книгу которого «Наедине с собою» только перед этим вслух читал по-французски Вернет.
— Филипп Иванович, — поворотясь к нему, внезапно спросил Суворов, — с какими государями ты бы желал быть вместе на том свете?
— Как это пришло вам в голову? — удивился тот. — Есть разница между царем и бедным учителем…
— Это так, Филипп Иванович! Но скажи чистосердечно.
Подумав немного, Вернет с немецкой обстоятельностью ответил:
— Я бы желал быть с Титом, с Антонином Кротким, Марком Аврелием, Траяном, Генрихом Четвертым, с Людовиком Двенадцатым и с лотарингским герцогом Леопольдом. Они, оказав кому-либо услугу, всегда благословляли тот день.
Суворов обнял своего чтеца:
— Браво, мой друг! Ты избрал для себя превосходное общество. Присоедини же к ним и Петра Первого. Учись скорее по-русски, чтоб познакомиться с сим новым Прометеем, с сим государем, вмещающим в себе многих наилучших государей! — Он оглядел своих офицеров. — Нуте, господа! Кто мне скажет о Генрихе Четвертом?
Храбрые воины сидели понурив головы.
— Сей государь, — несмело начал новичок, нарушивший перед обедом субординацию, — был вождем французских гугенотов, королем Наварры и отличался веселонравием и доступностию. Астролог Нострадамус предсказал ему по звездам великую будущность…
Генерал-аншеф просиял, выскочил из-за стола, подбежал к офицеру и принялся потчевать его редькою — знак особливой милости. Затем, продолжая экзамен, он обратился к невозмутимо сидевшему в продолжение всего обеда де Волану:
— Что есть глазомер?
— Не знаю, ваше сиятельство, — глядя на него в упор, спокойно ответствовал де Волан.
Суворов переменился в лице.
— Проклятая немогузнайка! — Он отбежал от стола и громко зачастил: — Намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, двуличка, вежливка, бестолковка, недомолвка, ускромейка. Стыдно сказать, от немогузнайки много беды! — Генерал-аншеф снова подступился к голландцу: — Что есть глазомер?
— Не знаю, ваше сиятельство!
В смятении Суворов велел растворить окошки и двери и принести ладану, чтобы очистить воздух от заразительного немогузнайства. Все было напрасно. Де Волан никак не хотел говорить «знаю» о таких вещах, которых не знал. Он уже встал из-за стола и в ответ на реплики генерала что-то кричал сам, раскрасневшись лицом и размахивая руками. Суворов бросил в сердцах:
— Не умеет песья нога на блюде лежать, валяйся под столом!
Голландец повернулся, несмотря на свою дородность, ловко вскочил на подоконник — и был таков. Никто еще не успел рта раскрыть, как за ним сиганул в окошко и Суворов.
Прошло несколько тягостных минут. Но вот офицеры заслышали голос своего генерал-аншефа:
— Глазомер! Сие быстрый обзор всех предметов для примерного определения числа и величины их. На войне влезай на дерево, как я при Рымнике. Увидел неприятельский лагерь, местоположение — и поздравил себя с победою!
Суворов появился в дверях, приятельски обнимая упрямого де Волана. Обращаясь к сидящим, сказал:
— Теперь я вижу, почему испанский, непобедимым названный флот Филиппа не мог устоять перед таким упорно грубым народом, каков голландский! И Петр Великий ощутил и оценил это!
2
Вторая половина 1790 года заметно улучшила международное и военное положение России. 3 августа был заключен мир со шведским королем Густавом. На Черном море командовать Севастопольской флотилией стал наконец Ф. Ф. Ушаков, а бесталанный Войнович вернулся на Каспий. В генеральном сражении между Аджибеем и Тендрою 28 августа Ушаков разгромил турецкую флотилию капудан-паши. Дистанция ружейного, даже пистолетного выстрела — и в картечь! — таков был тактический прием Ушакова, этого Суворова на море, приносивший неизменный успех. Победа при Тендре очищала море от неприятельского флота, мешавшего русским судам пройти к Дунаю для содействия армии в овладении крепостями Тульча, Галац, Браилов, Измаил. Потемкин вновь воспрянул духом. «Наши, благодаря Богу, такого перца задали туркам, что любо, — писал он. — Спасибо Федору Федоровичу. Коли б трус Войнович был, то бы он с…л у Тарханова Кута, либо в гавани».
Теперь действиям русских не мог даже помешать выход Австрии из войны. Трогательным было расставание Кобурга с Суворовым. Принц всецело поддался нравственному обаянию русского полководца. В своем прощальном письме Суворову он с полной искренностью написал:
«Ничто не опечаливает меня столько при моем отъезде, как мысль, что я должен удалиться от вас, достойный и драгоценный друг мой! Я познал всю возвышенность души вашей; узы дружества нашего образовались обстоятельствами величайшей важности, и при каждом случае удивлялся я вам, как достойному человеку. Судите сами, несравненный учитель мой! сколько сердцу моему стоит разлучиться с мужем, имеющим толики права на особенное мое уважение и привязанность. Вы одни можете усладить горесть судьбы моей, сохранив ко мне то же расположение, котораго по сей день меня удостаивали, и я уверяю вас со всею искренностью, что частые уверения в вашей ко мне дружбе необходимо нужны мне для моего благоденствия… Вы останетесь навсегда дражайшим другом, котораго ниспослало мне небо, и никто не будет иметь более вас прав на то высокое почитание, с коим я есмь…»
В свой черед, великий русский полководец нашел в Кобурге честного союзника, которому мог довериться вполне. Объясняя, как была достигнута победа под Рымником, Суворов заметил:
— Первая двигательная причина наших успехов была наша взаимная дружба, полная откровенности и искренности между мною и принцем Кобургским; до конца ценность этих отношений осталась неизменной; я не могу забыть этой нежной честности, столь редкой и, может быть, беспримерной, которую я неизменно чувствовал, без малейшей тени недоверия. Наша маленькая армия жила по-братски и делилась достоинством; двойственность, экивок, энигма были в ней серьезно запрещены…
С выходом австрийцев из войны в Систове начались переговоры турок с представителями европейских держав, враждебных России. Потемкину пришлось теперь действовать в узком коридоре турецкого Причерноморья: по соглашению с Портой Австрия обязалась не пускать русских в Валахию. Первые успехи были достигнуты быстро. Гребная флотилия под командованием де Рибаса очистила Дунай от турецких лодок. Генерал-поручик И. В. Гудович 18 октября взял Килию. Пока Рибас занимал Тульчу и Исакчу, Павел Потемкин еще 4 октября подошел к Измаилу. Но Измаил был не Килия, не Тульча и Исакча, а крепость «без слабых мест», как говорил Суворов.
Твердыня, укрепленная и перестроенная по проектам французских инженеров, представляла собою прямоугольный треугольник, вписанный в окружность длиною десять верст и гипотенузою обращенный к Дунаю. Катеты его образовывал шестиверстный главный вал вышиною от трех до четырех сажен, перед которым вдобавок шел глубокий и широкий ров. Измаил защищали около двухсот пятидесяти орудий разного калибра и тридцатипятитысячный гарнизон. Сераскир Мегмет Айдозле поклялся скорее умереть, чем сдать крепость.
Русские стягивали к Измаилу войска. В помощь Павлу Потемкину подоспел генерал-майор Самойлов. Отряды расположились полукружием в четырех верстах от города. Энергичный де Рибас, приведший флотилию, овладел большим дунайским островом Чатаил напротив крепости и начал возведение на нем батарей. С прибытием 24 ноября подразделений генерал-поручика Гудовича общая численность русских войск приблизилась к тридцати тысячам, однако половину их составляли слабо вооруженные казаки. Осадной артиллерии не было вовсе, а полевая имела лишь по одному комплекту боеприпасов. В продовольствии чувствовался острый недостаток. Солдаты обносились, устали. Сказывалось и отсутствие единоначалия в войсках. «Много там равночинных генералов, а из того выходит всегда род сейма нерешительного», — признавался позднее светлейший Суворову.
Время шло, уверенность в себе и без того сильного Измаильского гарнизона только возрастала. После слабой бомбардировки послано было в крепость предложение о сдаче — сераскир Мегмет отвечал насмешливо. Наступила поздняя осень, холодная и сырая. Она принесла болезни и, казалось, отняла последнюю надежду. Собравшийся военный совет решил отказаться от штурма и предложил воротиться на зимние квартиры.
С этим не мог согласиться даже нерешительный Г. А. Потемкин. Терпение главнокомандующего истощилось. Екатерина II требовала от него скорейшего и победоносного завершения войны. 25 ноября в Галац к Суворову полетел гонец с ордером: «Остается предпринять, с помощью Божию, на овладение города. Для сего, ваше сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в вашу команду… Сторону города к Дунаю я почитаю слабейшею. Если бы начать тем, что, взойдя тут, где ни есть ложироваться и уж оттоль вести штурмование, дабы и в случае чего, Боже сохрани, отражения было куда обратиться… Боже, подай вам свою помощь! Уведомляйте меня почасту».
Светлейшего обуревали сомнения. Сам он навряд ли верил в возможность взятия Измаила. Узнав, что войска уже начали отходить от крепости, он снова заколебался. Суворову полетела новая депеша: «Предоставляю вашему сиятельству поступать тут по лучшему вашему усмотрению, продолжением ли предприятия на Измаил, или оставлением оного».
Зато Суворов не сомневался ни мгновения. Сборы его были коротки. Назначив под Измаил свой любимый Фанагорийский полк под командованием испытанного Золотухина, тысячу арнаутов и полторы сотни охотников Апшеронского полка, он повелел изготовить и отправить к крепости тридцать лестниц и тысячу фашин.
Сперва генерал-аншеф выехал в сопровождении сорока казаков, но ему показалось, что конвой движется медленно. Оставив свой отряд, он поскакал к Измаилу. С дороги он послал приказ Павлу Потемкину вернуть войска.
Рано утром 2 декабря после почти стоверстного пути к русским аванпостам подъехали два всадника: то были Суворов и его казак Иван, везший в узелке весь багаж генерал-аншефа.
Одно волшебное имя Суворова переродило всех. Весть о его прибытии облетела армию и флот. «Вы один, дорогой герой, стоите ста тысяч человек!» — воскликнул Рибас. Теперь у всех на устах было одно слово: «штурм». С полным правом Суворов мог писать в рапорте из лагеря светлейшему: «Генералитет и войски к службе ревностию пылают».
Правда, великий полководец прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько труден предстоявший бой. Потемкин своей второй депешей, по сути, переложил на Суворова всю ответственность за исход сражения. Надо было разгромить целую армию, находившуюся в неприступной крепости! Генерал-аншеф бросил на чашу весов всю свою сорокалетнюю славу, более того — саму жизнь, ибо наверняка не перенес бы позора неудачи. Оставалось взять Измаил — взять во что бы то ни стало. Но даже Суворов не решался предсказать исход штурма. «Обещать нельзя, Божий гнев и милость зависит от его провидения», — писал он в Бендеры Потемкину.
Закипела работа. Рибас спешно возводил новые батареи и готовил войска к десанту. Он каждодневно сносился с командующим, сообщал сведения о турках, о результатах обстрелов. Были выстроены, кроме того, две сорокапушечные батареи на флангах русских сухопутных войск — для отвлечения неприятеля. Прежде чем вдохновить солдат на штурм и указать каждому его место, надо было позаботиться о них. Из-под Галаца вызваны были маркитанты с провизией.
В отдалении от Измаила тем временем Суворов построил подобие крепостного вала со рвом. Сюда приходили подразделения, обучаясь по ночам переходу через ров, эскаладированию вала и удару в штыки — фашины на валу представляли турок. Суворов лично проводил экзерциции, завершая их беседами. Он вспоминал прежние победы и не скрывал трудностей предстоявшего штурма.
— Валы Измаила высоки, рвы глубоки, а все-таки нам надо его взять! — Генерал-аншеф шел вдоль строя Екатеринославского полка, вглядываясь в лица солдат и офицеров. На правом фланге он остановился: — Леонтий Неклюдов?
— Так точно, ваше сиятельство! — тотчас отозвался секунд-майор.
— Ты же, братец, недавно еще в гусарах ходил?
— Надоели шармицели. Царица полей позвала.
— Помню тебя! При Козлуджи поразил ты четырех спагов!
— Так, ваше сиятельство! Зато пятый готовил мне смерть — приставил пистолет к груди моей. Батюшка, Александр Васильевич! Благословение и молитва матери, верно, охранили меня: пистолет дал осечку. Ну а моя сабля осечки не давала!
— Чудо-богатырь! Молодчество твое памятно мне и по Крыму. — Суворов уже говорил не с одним Неклюдовым, а со всем батальоном. — Помню, в Балаклавской гавани, на виду матросов-турков, бросился ты на коне в море и оплыл ихний большой корабль. — Он обнял офицера и громко закончил: — Русскому гусару не страшны ни глубина морская, ни высота стен крепостных!
Гул одобрения прокатился по темневшему строю екатеринославцев.
— Пусть офицер сей будет для вас примером! Равняйтесь на него! — Каждое слово Суворова западало в солдатские души.
Перед штурмом генерал-аншеф испробовал последнее средство и послал сераскиру 7 декабря письмо Потемкина, предлагавшего во избежание напрасного кровопролития сдать крепость. Суворов добавил свое послание, тоже официального содержания, и пояснительную записку: «Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — воля; первый мой выстрел — уже неволя; штурм — смерть. Что оставляю на ваше рассмотрение».
Один из пашей, принимая этот пакет, сказал русскому офицеру:
— Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил.
Сам сераскир ответил на другой день, ввечеру, прибегнув к обычной турецкой хитрости: он опросил сроку десять дней вместо двадцати четырех часов для того будто бы, чтобы отправить посыльного к визирю. Но перед турками был не Потемкин, не Гудович и не принц Кобург. Суворов велел передать, что, если на другой день не увидит белый флаг, последует штурм и никто не получит пощады.
В согласии с воинским уставом Петра Великого, в четырнадцатой главе которого сказано: «Генерал своею собственною волею ничего важного не начинает без имевшего наперед военного совета всего генералитета, в котором прочие генералы паче других советы подавать имеют», Суворов собрал 9 декабря утром в своей скромной палатке генерал-поручиков Потемкина и Самойлова, генерал-майоров Голенищева-Кутузова, Тищева, Мекноба, Безбородко, Ласси, Рибаса, Львова, Арсеньева, бригадиров Вестфалена, Орлова, Платова.
— Дважды стояли русские перед Измаилом, — тихо начал генерал-аншеф, — и дважды отступали от него; теперь, в третий раз, им ничего более не осталось, как взять крепость или умереть. Правда, трудности большие, крепость сильная, гарнизон ее — армия; но русской силе ничто не должно противостоять! И мы, русские, тоже сильны, исполнены решимости и — главное — до сих пор нее отступали ни перед чем. Турки в своем высокомерии, упрятавшись за стены, воображают, что могут пренебрегать нами. Поэтому-то и следует показать им, что русский воин сумеет всюду настигнуть их. Отступление произвело бы сильный упадок духа в войсках, отозвалось бы по всей Европе и придало бы еще более высокомерия туркам и их друзьям. Если же Измаил покорится, то кто впредь будет противиться русским!.. Я решил, — закончил так же тихо Суворов, — овладеть этой крепостью либо погибнуть под ее стенами.
Он указал на чистый лист, положенный для означения мнений:
— Пусть каждый подаст голос свой, не сносясь ни с кем, кроме Бога и совести. — И быстро вышел.
Первым поднялся и подошел к столу черноволосый казачий бригадир необыкновенно высокого роста, с добрым смуглым лицом. На правах младшего он раньше всех написал на листе: «штурмовать». Это был зарекомендовавший себя отчаянной храбростью во многих сражениях, в том числе и при взятии Очакова, Матвей Платов, находившийся в военной службе с тринадцати лет.
Военный совет решил единогласно: «приступить к штурму неотлагательно».
Суворов разработал подробную диспозицию. Войска должны были атаковать крепость одновременно тремя группами — с запада три колонны под общим началом Павла Потемкина, с востока две колонны Александра Самойлова, с юга десант флотилии Иосифа де Рибаса. Начальникам вменялось в обязанность взаимно согласовывать свои действия; начав атаку, не останавливаться; христиан, безоружных, женщин и детей не трогать. Впереди штурмовых колонн иметь рабочих с кирками, лопатами, топорами.
С восходом солнца 10 декабря шестьсот орудий флотилии, острова Чатал и батарей на флангах открыли сильнейшую канонаду. Турки поначалу отвечали горячо, но затем их выстрелы стали затихать и с темнотой пресеклись вовсе. В крепости слышался глухой шум: ночью бежало к туркам несколько казаков, предупредивших о близости штурма. В эту ночь мало кто спал и в русском лагере. Бодрствовал и Суворов, ходивший по бивакам и заговаривавший с солдатами и офицерами.
В три пополуночи 11 декабря взвилась сигнальная ракета — войска заняли исходные для атаки позиции. В половине шестого утра в густом, молочном тумане колонны двинулись к крепости, соблюдая полную тишину; тотчас же отплыли и десантные суда де Рибаса. Но вдруг при приближении групп Павла Потемкина и Александра Самойлова на триста шагов к крепости весь вал как будто бы загорелся: был открыт адский огонь.
Везувий пламень изрыгает, Столп огненный во тьме стоит, Багрово зарево зияет, Дым черный клубом вверх летит; Краснеет понт, ревет гром ярый, Ударам вслед звучат удары; Дрожит земля, дождь искр течет; Клокочут реки рдяной лавы: О Росс! Таков твой образ славы, Что зрел над Измаилом свет!Прежде других подошла с правого крыла вторая колонна под командованием генерал-майора Ласси. Под плотным огнем турок солдаты в замешательстве приникли к земле и кинули лестницы. Секунд-майор Неклюдов, назначенный впереди этой колонны со стрелками, бросился к Ласси:
— Ваше превосходительство! Позвольте мне начать!
— С Богом! — отвечал генерал.
— Ребята! — закричал Неклюдов. — Вперед за мною! Смотрите на меня: где буду я, там и вы будете. Вместе разделим славу и честь или положим головы!
Он бросился в глубокий ров и взобрался на вал без помощи лестницы. На бастионе с горстью солдат Неклюдов овладел вражеской батареей. Пуля пронизала его руку близ плеча навылет. Две пули вошли в левую ногу. Турок ударил его кинжалом в колено. Стрелки спешили к своему майору из девятисаженного рва, но немногие добрались наверх. Истекая кровью, Неклюдов продолжал бой на бастионе. Тут получил майор еще рану в грудь. Он упал, но уже вся колонна егерей взошла к отнятой батарее, и на стенах крепости гремело победоносное русское «ура». Полумертвого Неклюдова понесли на ружьях в лагерь. Он был первым, кто взошел на вал гордого Измаила. Соседняя, первая колонна генерал-майора Львова замешкалась перед сильно укрепленным каменным редутом Табии. Фанагорийцы и апшеронцы перелезли через палисад и захватили дунайские батареи. Из редута налетели на них турки и ударили в сабли. Фанагорийцы штыками отразили вылазку и, обойдя редут, двинулись к Бросским воротам.
Львов был ранен; его сменил полковник князь Лобанов-Ростовский и тоже получил ранение; команду принял полковник Золотухин.
Одновременно с первыми двумя достигла крепостного рва шестая колонна на левом крыле. Ею руководил «достойный и храбрый генерал-майор и кавалер» Голенищев-Кутузов, который, по отзыву Суворова, «мужеством своим был примером подчиненным». Отряд форсировал ров под страшным огнем, был убит бригадир Рибопьер. Солдаты взошли на вал по лестницам, но здесь их встретили превосходящие силы турок. Дважды оттеснял неприятеля Кутузов и дважды отступал к самому валу. Колонна остановилась.
Генерал-аншеф с кургана зорко следил за ходом сражения, рассылая с распоряжениями ординарцев. В предрассветной мгле лишь сменявшие друг друга крики «алла» и «ура» указывали, на чью сторону склоняется победа. Кутузов известил своего командующего о невозможности идти дальше.
— Скажите Кутузову, что я назначаю его комендантом Измаила и уже послал в Петербург известие о покорении крепости! — отвечал Суворов. «Мы друг друга знаем, — говорил он после боя, — ни он, ни я не пережили бы неудачи…»
Кутузов взял из резерва Херсонский полк, атаковал скопившихся турок, опрокинул их и окончательно овладел бастионом. В одном месте русские дрогнули — среди них появился священник Полоцкого полка и, держа крест, повел их вперед.
Наблюдавший за этим важнейшим участком Суворов одобрительно замечал в реляции: «Твердая в той стране нога поставлена, и войски простирали победу по куртине к другим бастионам». Известна его оценка действий Кутузова при Измаиле: «Кутузов находился на левом крыле, но был моей правой рукою».
Огромные трудности выпали на долю четвертой и пятой колонн, составленных из плохо вооруженных и слабо обученных казаков. Когда часть четвертой колонны во главе с бригадиром из донских казаков и георгиевским кавалером Василием Орловым взошла на вал, соседние Бендерские ворота вдруг отворились, и турки, спустившись в ров, ударили им во фланг. Пики оказались бесполезными — янычары перерубали их, и казаки гибли во множестве под саблями турок. Пятая колонна, в которой находился генерал-майор Безбородко, перейдя наполненный водой ров, стала взбираться на вал, но тут заколебалась и мгновенно была свергнута назад в ров. Безбородко получил тяжелое ранение в руку и сдал командование отважному Матвею Платову. Суворов, заметивший опасность, тотчас же подкрепил четвертую колонну резервом, подоспел и присланный Кутузовым пехотный батальон. С криком: «Братцы! За мною!» — Платов первым взлетел на вал. Обе колонны наконец-то утвердились на валу.
Самый сильный бастион, весь одетый камнем, достался третьей колонне генерал-майора Мекноба. Лестницы в полшести сажен приходилось связывать по две, ставить их одна на другую, и все это под жесточайшим огнем. Потери были громадны. Сам седой сераскир бился здесь с лучшими своими янычарами. Генерал Мекноб получил тяжелую рану в ногу, а в Лифляндском егерском корпусе выбыли из строя все батальонные командиры. Подоспевший резерв помог овладеть главным бастионом.
Удар с Дуная произвели легкие суда, так как крупными было трудно управлять из-за густого тумана. Успеху десанта способствовали действия первой колонны, уже захватившей придунайские батареи. Отряд под командованием генерал-майора Арсеньева мгновенно высадился с двадцати судов. Как и на всех других участках, офицеры были впереди и дрались, словно рядовые. Неустрашимо командовал казачьей флотилией полковник Антон Головатый, выходец из Запорожской сечи и атаман Черноморского войска. Турки были сбиты с речной стороны, и Рибас скоро вошел в связь с Кутузовым и Золотухиным.
К восьми утра русские заняли все внешние укрепления Измаила. «День бледно освещал уже все предметы», — вспоминал Суворов. Турки готовились к отчаянной обороне на улицах и в домах. Генерал-аншеф приказал наступать, не давая опомниться многочисленному врагу. Павел Потемкин отправил казаков открыть Бросские ворота, в которые тотчас же вошли три эскадрона карабинеров; Золотухин отворил Хотинские ворота, впустив гренадер с полевой артиллерией; в Бендерские ворота вошли воронежские гусары. Жестокий бой продолжался: из домов летели пули, каждый хан — постоялый двор — стал маленькой крепостью. Потери русских все возрастали. На иных участках превосходство турок оказывалось столь значительным, что они контратаковали и даже окружали редевшие русские боевые порядки. Собрав несколько тысяч турок и татар, Каплан-Гирей, победитель австрийцев под Журжей, смял черноморских казаков, отнял у них две пушки и уничтожил бы их совершенно, если бы не подоспели беглым шагом три батальона. Окруженный, Каплан-Гирей метался, на все предложения о сдаче отвечал сабельными ударами и погиб на штыках.
Через шесть с половиной часов над сильным неприятелем была уже одержана «совершенная поверхность»; лишь в редуте Табия, красной мечети да двух каменных ханах оставались последние защитники Измаила. Сам Мегмет Айдозле с двумя тысячами янычар засел в одном из каменных строений. С батальоном фанагорийцев полковник Золотухин несколько раз пытался штурмовать хана, но безуспешно. Наконец ворота были выбиты пушечными выстрелами, и гренадеры ворвались внутрь, переколов большую часть турок. Мегмет Айдозле умер от шестнадцати штыковых ран. Среди двадцати шести тысяч погибших турок и татар были четыре двухбунчужных паши и шесть татарских султанов — принцев крови. Потери русских были показаны Суворовым в четыре тысячи двести шестьдесят убитыми и ранеными, но скорее всего то были заниженные сведения. Позднейшие сведения говорят, что погибло четыре тысячи и получили ранения — шесть; из шестисотпятидесяти офицеров в строю оставалось двести пятьдесят.
Штурм Измаила явил чудеса храбрости и героизма. Поэты в звучных строках запечатлели подвиг суворовских воинов. Державин откликнулся своей «Песней лирической Россу по взятии Измаила»:
А слава тех не умирает, Кто за отечество умрет; Она так в вечности сияет, Как в море ночью лунный свет. Времен в глубоком отдаленьи Потомство тех увидит тени, Которых мужествен был дух. С гробов их в души огнь польется, Когда по рощам разнесется Бессмертной лирой дел их звук.«Невозможно превознесть довольно похвалою мужество, твердость и храбрость всех чинов и всех войск, в сем деле подвизавшихся, нигде более ознамениться не могло присутствие духа начальников, расторопность и твердость штаб- и обер-офицеров, послушание, устройство и храбрость солдат, — писал Суворов в рапорте. — Сие исполнить свойственно лишь храброму и непобедимому российскому войску». Русским досталась богатая добыча: двести шестьдесят пять пушек, триста сорок пять знамен, три тысячи пудов пороху, около десяти тысяч лошадей. Солдаты поделили между собой товаров на миллион рублей. Они сорвали с древков множество знамен и щеголяли, опоясанные ими.
Сам генерал-аншеф, по обыкновению, отказался от своей доли. Даже когда солдаты привели к нему великолепно убранного коня, он не принял его, сказав:
— Донской конь привез меня сюда, на нем же я отсюда уеду.
В крепости устроили больницу, куда из холодных палаток перенесли наконец раненых. В их числе был и Неклюдов, с утра истекавший кровью. Суворов посетил госпиталь, обнял израненного героя и вскричал, обращаясь к свите:
— Храбрый Неклюдов! Неустрашимый Неклюдов! Ура! Ура!
Сразу после взятия Измаила Суворов послал Потемкину короткий рапорт: «Нет крепчей крепости, ни отчаяннее обороны, как Измаил, падший пред высочайшим троном ее императорского величества кровопролитным штурмом!»
На Турцию и европейских недоброжелателей России падение Измаила произвело ошеломляющее впечатление. Систовская конференция была прервана, дипломаты поспешили разъехаться. Путь на Балканы был открыт. В Константинополе заговорили об укреплении столицы и создании всеобщего ополчения.
В историю военного искусства были вписаны новые страницы. Как отмечает советский военный историк Г. Мещеряков, «деятельность Суворова под Измаилом, продолжавшаяся всего несколько дней, имела весьма большое значение для развития военного искусства. Своим штурмом Измаила он совершил буквально переворот в приемах борьбы с крепостями, которыми до этого овладевали длительной осадой или инженерной атакой, требовавшей большого времени и огромного труда. Суворов подготавливает штурм артиллерией и берет крепость открытой атакой. Этот переворот в военном искусстве Суворову удалось совершить только потому, что он задолго до этого разработал теорию и практику нового метода штурма крупной современной крепости, в котором решающая роль отводилась артиллерии и пехоте».
Пробыв около десяти дней в Измаиле, Суворов на той же казацкой лошадке отправился в Галац. Победителя звал в Яссы Потемкин, суливший ему великие милости. В ответ генерал-аншеф не жалел комплиментов, уверяя, что солдаты готовы умереть за князя и что сам он «желал бы коснуться его мышцы и в душе своей обнимает его колени». Ничто не предвещало скорого и уже окончательного разрыва их отношений. Но Суворов ехал в Яссы с полным сознанием того, что сделали войска под его руководством, и по праву почитал себя достойным фельдмаршальского жезла. Засыпанный поздравительными письмами, прославляемый поэтами, привлекший всеобщее внимание, он уже не мог быть прежним исполнителем воли Потемкина и чувствовал, что перерос его в мнении российском.
3
Желая сделать измаильскому победителю почетную встречу, Потемкин повелел расставить на дорогах сигнальщиков. Когда дали знать о выезде Суворова с последней станции, адъютанту Бауру было приказано находиться в зале у окна и доложить князю, лишь только он завидит едущего полководца.
Но Суворов, любивший делать все по-своему, прибыл в Яссы тайно и остановился у знакомого ему молдаванского капитан-исправника, запретивши говорить о своем приезде. На другой день часу в десятом сел он в молдаванский берлин, похожий на архиерейскую повозку; на козлы поместился кучер-молдаванин в широком плаще и с длинным бичом; на запятки встал лакей капитан-исправника в жупане с широкими рукавами. Когда сей машкерадный экипаж подъехал к потемкинскому дворцу, никто из наблюдавших не мог даже подумать, что прибыл Суворов.
Но вот берлин завернул во двор. Баур приметил генерал-аншефа, бросился к князю, и тот быстро вышел из своих покоев. Не успел, однако, Потемкин спуститься по лестнице, как Суворов в несколько прыжков очутился подле него. Они обнялись и несколько раз поцеловались. Свита Потемкина почтительно стояла поодаль в дверях.
— Чем могу я наградить вас за ваши заслуги, граф Александр Васильевич? — спросил Потемкин, радуясь свиданию.
— Нет, ваша светлость, — раздражительно ответил, глядя на него снизу вверх, Суворов, — я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и всемилостивейшей государыни, никто не может!
Потемкин переменился в лице. Он повернулся и молча вошел в залу. Суворов — за ним. Генерал-аншеф подал строевой рапорт. Оба походили по зале, не в состоянии выжать из себя ни слова, раскланялись и разошлись. Суворов вернулся к своему молдаванину и более с Потемкиным не видался.
Великий полководец рассчитывал на справедливость Екатерины II. Тут проявились его наивность и простодушие, доверчивое отношение к «матушке-царице», которая «все видит». Его надеждам был нанесен жестокий удар. Нажив себе злого и все еще могущественного врага, Суворов снова впал в немилость. Награда была смехотворно ничтожной в сравнении с одержанной победой. По представлению Потемкина в честь генерал-аншефа выбита была медаль, и он возведен был в подполковники Преображенского полка. Назначение почетное, но едва ли не пенсионное: Суворов оказался одиннадцатым гвардейским подполковником в ряду других, старых и заслуженных генералов. Изображение Суворова на памятной медали свидетельствовало о двусмысленном к нему отношении императрицы, которая сама предложила эскиз этой награды. Проанализировавший изображение знаток суворовских портретов нашел в ней «сочетание атрибутов Геркулеса с натуралистической передачей старческого лица Суворова».
— У меня семь ран, — говорил великий полководец. — Две из них получены на войне и пять при дворе.
В январе 1791 года приехал он в Петербург. Войну с турками пришлось кончать другим.
В несправедливой мстительности Потемкина виделось раздражение не одним Суворовым. Светлейший болезненно ощущал, что влияние его падает, что новый фаворит, двадцатитрехлетний Платон Зубов, начинает забирать власть над старой императрицей. Потемкина не мог уже обмануть поток подарков.
Чувствуя, что почва уходит у него из-под ног, он еще храбрился и говорил приближенным, отправляясь в столицу:
— Я нездоров и еду в Петербург зубы дергать.
На 28 апреля 1791 года назначен был пышный бал в честь измаильской победы во вторично пожалованном Потемкину Таврическом дворце.
Победителя Измаила на пире не было. Желая отправить Суворова подалее с глаз, Екатерина вызвала его за два дня до торжества и велела осмотреть Финляндию до самой шведской границы. Это была опала, ссылка. Великий полководец уже третий месяц тосковал в Петербурге, чувствуя себя смертельно обиженным, теряющим последние жизненные силы: «Время кратко, сближается конец, изранен, 60 лет, и сок весь высохнет в лимоне».
История готовила ему впереди новые победы, но Измаил глубоким шрамом остался в душе генерал-аншефа. Свершив подвиг, не имевший себе равных и поныне восхищающий военных специалистов, Суворов до конца дней не мог спокойно думать и говорить об учиненной ему несправедливости: «Стыд измаильский из меня не исчез».
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ В ФИНЛЯНДИИ
Дело в движении. Сердце на месте.
Письмо Суворова Турчанинову из ФинляндииПосле получения рескрипта Екатерины II, отправившей Суворова в Финляндию, он на другой же день писал ей из Выборга: «Жду Ваших приказаний». Генерал-аншеф рьяно принялся за дело, хотя и не любезное его сердцу, но, по крайней мере, полезное для России и спасающее его от постылой праздности. В то время как Потемкин пожинал измаильские лавры, сидя в Петербурге и окруженный неправдоподобною роскошью, 61-летний полководец пребывал в диком захолустье и выносил лишения, которые едва ли знавал человек его чина и в военное время.
«Разнообразно бдем все 24 часа в сутки и верхом мне перемежить по худым здешним селам», — сообщал он статс-секретарю по военным делам Турчанинову. Суворов объехал крепости и отдаленные посты — Вильманстранд, Фридрихсгам, Выборг, Кюменегорд, Давыдов, осмотрел укрепления, казармы, артиллерию, склады, госпитали, составил подробный план инженерных мероприятий на случай войны со Швецией. Всего четыре недели понадобилось ему, чтобы выполнить поручение и явиться в Петербург с отчетом. 25 июня последовал другой рескрипт: «Вследствие учиненного Вами по воле нашей осмотра границы нашей с Шведскою Финляндией, повелеваем прилагаемые Вами укрепления построить под ведением Вашим…»
Это было новою, хотя и слегка замаскированною немилостью. Первого полководца России, говорившего о себе, что он «не инженер, а полевой солдат», «не Вобан, а Рымникский», отсылали в глухой северо-западный угол страны, на строительные работы! И это в то время, когда решалась судьба войны с Турцией, когда Англия, Пруссия и Польша вооружались и угрожали другой войной.
Суворов жадно набрасывался на газеты, просил доверенных лиц своевременно подписывать его на немецкие, австрийские, французские, польские периодические издания, писал из Вильманстранда подполковнику Сакен-Остену: «Барон Фабиан Вилимович! Я держал газеты немецкие — гамбургские, венские, берлинские, „Эрланген“; французские — „Барейн“, „Курье де Лондр“; варшавские — польские, санкт-петербургские или московские — русские; французской малой журнал „Анциклопедик де Бульон“; немецкой гамбургской политической журнал. Как год на исходе и надлежит заказать на будущий новые, то покорно прошу вашего высокоблагородия принять сей труд на себя, с тем, не изволите ли вы прибавить „Нувель экстраординер“».
После штурма Измаила и вплоть до 1794 года все бурные события проходят безо всякого участия великого полководца. Усердно вникая в политическую жизнь Европы, Суворов мог лишь размышлять о последствиях развертывавшейся исторической драмы. Он мучился тем, что стал «захребетным инженером», стремился «в поле», просился в Турцию, в Польшу…
Все его просьбы, даже «буйные требования», либо вовсе не удостаивались ответа, либо встречали твердый отказ. Парадокс; великий полководец, нелюбимый при дворе, не оцененный по заслугам правительством Екатерины II, знатную часть своей жизни проводит, занимая худые должности в Польше, в Крыму, на Кубани, в Астрахани, в Ундоле и теперь в Финляндии.
«Дело в движении. Сердце на месте», — жалуется он Турчанинову в письме от 12 июня 1792 года. Через девять дней: «Во всю мою жизнь я был всегда в употреблении, ныне, к постыдности моей, я захребетник!» В том же июне: «Ныне 50 лет практики обратили меня в класс захребетников. Клевреты из достоинства низринули меня в старшинство, ведая, что я всех старее службою и возрастом, но не предками и камердинерством у равных. Факционной и в титле отечественника заглушать, — я жгу известь и обжигаю кирпичи, — чем ярыги с стоглавною скотиною меня в Санкт-Петербурге освистывают. Изгибы двусмысленных предлогов здесь упадают. Далек от тебя смертной, о мать отечества! Повели вкусить приятной конец, хоть пред эскадроном».
Суворов чувствует, что и Турчанинов худой заступник. Сын турецкого офицера, плененного Минихом при штурме Очакова, этот лукавый царедворец умеет, по словам генерал-аншефа, «пускать плащ по всякому ветру», то есть служить и нашим и вашим. Старый полководец забрасывает письмами мужа своей племянницы Д. И. Хвостова, тридцатипятилетнего подполковника Черниговского пехотного полка и начинающего пиита. Искренне преклоняясь перед великим родственником, тот проявляет много усердия и немало бестолковости, сообщая обо всем без разбору, собирая самые нелепые и противоречащие друг другу слухи. Хвостовские сумбурные послания частенько вызывают у Суворова приливы желчной раздражительности.
Ко всему прочему прибавились страхи за судьбу единственной дочери. Еще 15 февраля 1791 года Наташа закончила курс обучения в Смольном институте и временно была помещена у Аграфены Ивановны Хвостовой, своей двоюродной сестры. Однако 3 марта императрица пожаловала Наталью Александровну во фрейлины с содержанием шестьсот рублей в год и поместила у себя. Ужас охватил полководца. Он обращается к Суворочке с наставлениями, разрабатывает для нее целый кодекс правил, стремясь уберечь от неверного шага: «Да охраняет тебя всегда богиня невинности. Положение твое переменяется. Помни, что дозволение свободно обращаться с собою порождает пренебрежение. Берегись этого. Приучайся к естественной вежливости, избегая людей, любящих блистать остроумием: по большей части это люди извращенных нравов. Будь сурова с мущинами и говори с ними немного; а когда они станут с тобой заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием. Надейся на Провидение! Оно не замедлит упрочить судьбу твою… Я за это отвечаю». Хорошо зная такого развратника, каким был Потемкин, он сильно боится за нравственность Наташи. Да только ли Потемкин! Не нравятся ему многие, в их числе и гофмейстерина при фрейлинах баронесса Мальтиц, стяжавшая себе худую славу.
В своих опасениях Суворов-отец был не одинок. Недаром один из умнейших людей России той поры, полномочный министр при великобританском дворе С. Р. Воронцов, сказал, что желал бы видеть свою дочь фрейлиной только при Павле I. «При прежнем царствовании, — пояснял он, — я бы не согласился на это и предпочел бы для моей дочери всякое другое место — пребыванию при дворе, где племянницы Потемкина по временам разрешались от бремени, не переставая называться „безупречными девушками“».
Непрестанно твердя в письмах Хвостову, воспитателю Наташи Корицкому, самой дочери о «тленной заразе сует, гиблющих нравы и благосостояние», Суворов совершенно ослеплен родительской любовью к своей «розе». Он не желает замечать того, что Наташина добродетель надежно ограждена от посягательств мужчин самой природой. Не отмеченная ни красотою, ни стройностью, ни ростом, Суворочка к тому же держалась на людях застенчиво, молчаливо, замкнуто. Екатерина II почти не разговаривала со своей новой фрейлиной из-за ее необщительности. Одна придворная дама сказала, что Наталья Александровна «очень доброго сердца и очень глупа». Во всяком случае, самые злые сплетники не могли найти в поведении Суворочки ничего предосудительного.
Появившись в столице в июле 1791 года, генерал-аншеф решил вытащить Наташу из дворца под тем предлогом, что желает ее видеть подле себя. Екатерина, хотя и с видимым неудовольствием, позволила ему забрать дочь — в этом поступке заметно было пренебрежительное отношение полководца к высшему свету. Затем Суворов вызвал из вологодской деревни сестру Марию Васильевну Олешеву и поместил с ней дочь в собственном доме на Итальянской улице. Он уже тогда задумал выдать Наташу замуж. К этому времени она была вполне богатой невестой: по духовной Суворов завещал ей все приобретенные имения, восемьсот тридцать четыре души крестьян мужского пола, «такоже все наличные деньги, сколько числом явится».
В женихах — и с громкими фамилиями — у Суворочки недостатка не было. Генерал-аншеф, разумеется, сам приступает к выбору будущего зятя, взвешивает все «за» и «против», прикидывает и отвергает. Первым кандидатом был сын президента Военной коллегии графа Н. И. Салтыкова — Дмитрий. Могло показаться, что союз этот для честолюбивого Суворова обещал выгоды, и немалые. Однако служебные дела генерал-аншеф не собирался брать тут в расчет и даже опасался, что родственные отношения с Салтыковым, напротив, свяжут его. К тому же жених казался ему слишком молодым, да и неказистым — «подслепым», «кривым». Таким образом, претендент на руку Натальи Александровны был быстро забракован.
Другого соискателя руки Наташи — грузинского царевича Мириана — вскоре заслонил молодой князь Сергей Николаевич Долгоруков, появившийся в Финляндии якобы «по склонности к военной науке». Суворову он сперва понравился: «не богат — не мот, молод — чиновен, ряб — благонравен». Однако Хвостов, с осторожной настойчивостью влиявший на своего великого родственника, отговаривает его от поспешного шага, упоминает о свойстве Долгорукова с графом Салтыковым. Последнее обстоятельство подействовало на впечатлительного Суворова, который заколебался и со временем исключил овсе Долгорукова из числа претендентов.
Пока дочь не пристроена, великий полководец страшится предпринимать что-либо рискованное, вроде отставки или заграничной службы: «Наташа правит моею судьбою, скоро ее замуж: дотоле левая моя сторона вскрыта».
Здесь, в далекой Финляндии, многие события видятся обиженному генерал-аншефу искаженно. 28 июня 1791 года князь Репнин разгромил семидесятитысячную турецкую армию при Мачине, вынудив противника просить перемирия. Однако победа Репнина представляется Суворову сомнительной. Он считает, что турок было всего пятнадцать тысяч, именуя остальных «привидениями». Хвостов получает его эпиграмму на Репнина, якобы «перевод с английского»:
Оставших гений всех предтекших пораженьев Пятнадцать тысяч вихрь под Мачин накопил. Герой ударил в них, в фагот свой возопил! Здесь сам визирь и с ним сто тысяч привиденьев.— Безумен Мачинский, как жаба против быка в сравнении Рымника, — горячился Суворов, вспоминая басню о быке и лягушке.
Его мучило то, что другим было предоставлено победоносно завершить войну с Турцией. 21 июня войска Гудовича штурмом взяли сильную крепость на Черноморском побережье Кавказа Анапу. 31 июля Ф. Ф. Ушаков наголову разбил турецкий флот под началом капудан-паши Саит-Али у мыса Калиакрии. Турки спешили договориться с Репниным о предварительных условиях мира. Потемкин опоздал к подписанию этого соглашения и бурно упрекал Репнина в излишней торопливости и уступчивости. Светлейший перенес дальнейшее обсуждение в Яссы, надеясь наверстать упущенное, но не довел дела до конца. Болезнь, которая давала о себе знать уже в Петербурге, усилилась. Предчувствуя близкую смерть и желая встретить ее «в своем Николаеве», Потемкин покинул 5 октября 1791 года Яссы, но, отъехав тридцать восемь верст, почувствовал, что не выдержит пути. Он велел вынести себя из кареты, ему расстелили плащ, и близ дороги, прямо в степи он скончался.
— Великий человек и человек великий: велик умом, велик и ростом, — отозвался на его смерть Суворов. — Не похож на того высокого французского посла в Лондоне, о котором канцлер Бакон сказал, что чердак обыкновенно худо меблируют.
Он метко передал противоречивость потемкинской натуры в эпиграмме — пародии на торжественные державинские «Хоры», написанные для праздника 1791 года в Петербурге:
Одной рукой он в шахматы играет. Другой рукою он народы покоряет. Одной ногой разит он друга и врага, Другою топчет он вселенны берега.С кончиной Потемкина врагов у Суворова не поубавилось. «Стоглавная скотина» — придворная клика не упускала случая ошельмовать старого полководца, распространяя против него небылицы. «Царь жалует, псарь не жалует», — повторял генерал-аншеф, ведя настоящую войну с придворными. «Для двора потребны три качества, — пишет он Хвостову, — смелость, гибкость и вероломство».
Петербург жалит, Финляндия торопит. Дело, порученное Екатериной II Суворову, оказалось на поверку весьма каверзным, требовало дотошности, вникания в сложные сметы, денежную отчетность, запутанную бухгалтерию. Финляндская дивизия была приведена в жалкое состояние нездоровым климатом, небрежением командиров, отсутствием необходимых бытовых условий. Кроме того, в эту дивизию отсылались за всякого брода провинности штрафники из гвардии и других частей. Надо ли удивляться тому, что в дивизии процветало дезертирство!
Суворов начал сначала: с оздоровления быта солдат.
Приказы его были недвусмысленно строги: «За нерадение в точном блюдении солдатского здоровья начальник строго наказан будет». Он составил и объявил в войсках правила, обязательные для каждого подчиненного и предусматривающие все мелочи армейской гигиены:
«— Потному не садиться за кашу; особливо не ложиться отдыхать, а прежде разгуляться и просохнуть.
— Как скоро варево поспело, ту же минуту в пищу; ленивого гнать.
— На лихорадку, понос и горячку — голод, на цингу — табак. Кто чистит желудок рвотным, слабительным, проносным, тому день — голод.
— Солдатское слабительное — ревень и корень коньевого щавелю тоже.
— Предосторожности по климату: капуста, хрен, табак, летние травы; ягоды же в свое время, спелые, в умеренности, кому здоровы.
— Медицинские чины, от вышнего до нижнего, имеют право каждый день мне доносить на неберегущих солдатское здоровье разного звания начальников, кои его наставлениям послушны не будут, а в таком случае тот за нерадение подвергнется моему взысканию».
Солдаты, уроженцы других губерний, попадая в болотистые и холодные края, хворали зимой скорбутом-цингою, весной и осенью — лихорадками, летом страдали от поносов. Госпитальная прислуга отличалась крайней невежественностью, квалифицированных врачей было очень мало. В год умирало в дивизии до тысячи человек, а при предшественнике Суворова в один день скончалось пятьсот. Начальники и подрядчики наживались на мертвецах, продолжая числить их в списках. Из сорока четырех тысяч подчиненных Суворову солдат одно время в строю оставалось только двадцать шесть тысяч. Великий полководец, однако, хорошо представлял себе все возможные злоупотребления еще со времен службы капралом в Семеновском полку.
В письме Хвостову он делится подробностями мрачной госпитальной хроники «Брошен в яму фланговый рядовой Алексеев, вдруг стучится у спальни нагой. „Ведь ты умер?“ — „Нет, жив“… Бывают и ошибки», — скорбно иронизирует Суворов. Иные командиры клали себе в карман деньги за двухмесячный провиант, предназначавшийся для солдат, в надежде, что те повымрут за это время. А если больные выздоравливали, их отправляли собирать милостыню.
«Гошпитали давно в злоупотреблении, я их не терпел», — поясняет генерал-аншеф вице-президенту Военной коллегии Н. И. Салтыкову. Суворов упразднил мелкие госпитали, вывел в отставку наиболее пострадавших от болезней, а остальных передал в полковые лазареты.
Более всего сил отнимали строительные работы. Суворов сам выбирал место для новых укреплений, заботился о тактической связки с соседними крепостями и о выгодных условиях для маневра резервами. Он организовывал поиски местного сырья, топлива и изобретал наиболее дешевые способы их транспортировки. В солдатской куртке, без знаков отличия, зимой в санках, летом на таратайке генерал-аншеф разъезжал из Выборга в Вильманстранд, из Вильманстранда — в Давыдов, из Давыдова — в Роченсальм. Раз, едучи на чухонской телеге, не успел Суворов из-за узости тамошних дорог свернуть в сторону, и летевший навстречу курьер ударил его пребольно плетью. Лежавший рядом с ним адъютант Курис вскочил и хотел было крикнуть, что это командующий, но Суворов зажал ему рот:
— Тише, тише! Курьер, помилуй Бог, дело великое!
По прибытии в Выборг Курис узнал, что то был повар генерал-майора И. И. Германа, начальника в Роченсальме, отправленный за провизией своему господину.
— Ну и что же? — с улыбкой ответил Курису Суворов. — Мы оба потеряли право на сатисфакцию, потому что оба ехали инкогнито.
Свой план, представленный в Петербург, Суворов выполнил в полтора года. Были исправлены и усилены укрепления Фридрихсгама, Вильманстранда, Давыдова, Нейшлота; сооружены новые форты Ликкола, Утти, Озерный; при Роченсальме на нескольких островах возведены сильные укрепления для русского шхерного флота, также переданного в подчинение Суворову. К августу 1792 года были досрочно окончены работы в Роченсальме. Радовал полководца и Нейшлот. Маскируя свое удовольствие, он говорил:
— Знатная крепость, помилуй Бог, хороша: рвы глубоки, валы высоки: лягушке не перепрыгнуть, с одним взводом штурмом не взять.
Он представлял отличившихся к наградам и вообще не забывал своего принципа — поощрять исполнительных подчиненных. Приехав ускорить работы в Давыдовском укреплении, Суворов приметил одного усердного офицера. Он прежде других приводил солдат к месту строительства; в урочное время в его команде дело кипело; все было в порядке, не допускалось ни одной ошибки. Подпоручик этот, отпустив своих служивых в казармы, ввечеру сам оставался на месте, присматривая сработанное, и получал от инженера уроки на следующий день. При свете полного месяца офицер долго рассматривал новостроящееся укрепление, снимал на бумагу чертеж. Затем, подняв голову к месяцу, он, казалось, погрузился в размышление. В это время Суворов незаметно подошел к нему и внезапно спросил:
— Господин офицер! А далеко ли до месяца?
Подпоручик не смешался и хладнокровно ответил:
— Я не считал, но, думаю, не более трех солдатских переходов. Но с одним условием, ваше сиятельство: только под вашею командой!
Суворов поворотился от него, припрыгнул и сказал:
— Господин поручик, правда ли это?
— Во-первых, я только подпоручик, а во-вторых, ваше сиятельство, ведь одиннадцатого декабря тысяча семьсот девяностого года луна уже была в ваших руках, — нашелся офицер.
Намек на то, что Суворов добился недостижимого — взял Измаил, про который турки говорили: скорее луна упадет на землю, чем он сдастся, — был особенно приятен старому генералу.
— Господин капитан, — кланяясь в пояс, молвил полководец, — милости прошу ко мне сегодня поужинать, а завтра и отобедать.
«Труды здоровее покоя», — говаривал Суворов и проводил с Финляндской дивизией двусторонние маневры, казавшиеся ранее невозможными в условиях столь резко пересеченной местности. Он приучал солдат к переходам, к атаке и обороне, а офицеров — к умелому размещению войск, военным хитростям и, главное, инициативе. Случилось в таких маневрах, что одна колонна неискусно была подведена под скрытую батарею и оказалась меж двух огней. Резервная же стояла спокойно и не шла к ней на помощь. Видя такую оплошность, Суворов прискакал к командовавшему ею подполковнику:
— Чего вы, сударь, ждете? Колонна ваша пропадает, а вы ее сикурсируете!
— Ваше сиятельство, — отвечал подполковник, — я давно бы исполнил долг мой, но ожидаю повеления от генерала Германа.
— Какого генерала? — быстро спросил Суворов.
— Да вот же он, в нескольких саженях!
— Этот? Да он убит, давно убит! — воскликнул Суворов и указал на Германа — Посмотри, вон и лошадь бегает! Поспешайте. — И ускакал прочь.
Свободное время Суворов проводит весело и не предается мизантропии. Он пишет Хвостову, что однажды в кружке знакомых «сряду 3 часа контртанц прыгал». Во Фридрихсгаме генерал-аншеф занимал верхний этаж лучшего в городе дома — вдовы врача Грин, умной и ловкой женщины, хорошо говорившей по-русски и умевшей угодить своему причудливому постояльцу. В свою очередь, Суворов оказывал ей разные знаки внимания, заговаривал с нею по-фински, называл маменькой и приходил побеседовать за чашкой чая. Подходил к концу 1792 год. И когда Турция стала вооружаться и усиливаться в пограничных с Россией областях, Екатерине II вновь понадобился Суворов. 10 ноября последовал ее рескрипт, по которому генерал-аншефу препоручались войска «в Екатеринославской губернии, Тавриде и во вновь приобретенной области».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ СНОВА НА ЮГЕ РОССИИ
Буря мыслей.
Был Мазепа в Малороссии, Тейтонический Гроссмейстер в Лифляпдии Король Прусской. Претензия Шведов на Лифляндию, Эстляндию, Финляндию и Ингерманландию. Рекламацию Турков на многие завоевания. Поляки потеряли их вольность.
Черновая запись Суворова1
«Один слух о бытии вашем на границах сделал и облегчение мне в делах и великое у Порты впечатление, — сообщал Суворову русский представитель в Константинополе. — Одно имя ваше есть сильное отражение всем внушениям, кои от стороны зломыслящих на преклонение Порты к враждованию нам делаются». Победоносный генерал знал и сам, какое сильное впечатление на турок должно было произвести его появление на юге России. Однако то, что он увидел уже в Херсоне, могло привести в отчаяние самого опытного командира. Некогда боеспособные и прекрасно обученные войска находились в ужасающем положении.
Погожим декабрьским днем въезжал он в разросшийся за эти годы Херсон и на базарной площади увидел картину в высшей степени странную. Вяленой чухонью и рыбцом, свежей осетриной, севрюгой, судаком торговали молодцы гренадеры, мушкетеры, егеря. Кто в форменном кафтане, кто в зипуне, подпоясанном портупеей, кто в сапогах, а более всего — в лаптях, они добродушно переругивались, отбивая один у другого покупателей — мещан, чиновников, купчих.
Суворов вылетел из кибитки.
— Какого полку? — крикнул он.
— Так что Ряжского, ваше благородие? — невозмутимо откликнулся крайний солдат.
— Кто командир?
— Его высокоблагородие полковник Марков! Суворов отбежал на середину площади:
— Строиться в каре!
Путаясь, солдаты начали выполнять команду. Прибежали, побросав свой товар, ряжцы из мелочного и других рядов.
— Я буду учить вас сам и по-своему! По-суворовски! — Генерал-аншеф, высоко подняв брови, вглядывался в лица солдат. — Буду учить каждый день, кроме воскресений и праздников. Субординация, экзерциция! Без этого нет жизни — нет ни взвода, ни армии, а вредоносная толпа! Ученье свет, а неученье тьма. Дело мастера боится! И крестьянин ленив — хлеб не родится. Нам за ученого дают трех неученых. Нам мало трех! Давай пять, десять! Всех побьем, повалим, в полон возьмем!
Запыхавшись, предстал перед Суворовым в полной полковничьей форме маленький и круглый Марков.
Генерал-аншеф тут же отправил его на гауптвахту, приказав отобрать шпагу:
— На что бабе меч — кого ей сечь!
Он повелел раздать солдатам свою воинскую памятку. Каждый должен был знать все написанное в ней, помнить и исполнять. Суворов требовал от ряжцев, сделавшись на время их полковым командиром, усердия к службе, бодрости, опрятности, заставлял строить по правилам военной науки земляные укрепления, ставил в них поочередно каждую роту, учил защищаться, собирал весь полк и учил эти укрепления штурмовать. В короткое время привел он ряжцев в высочайшее совершенство.
Однако под начальством Суворова находилось семьдесят семь тысяч человек, всюду царила разладица, и не было никакой физической возможности уделять каждому полку столько внимания, сколько генерал-аншеф посвятил одному Ряжскому. Процветало дезертирство; в казачьих полках, расквартированных в Крыму, происходили волнения; ожидалось появление в русском Причерноморье французских революционных агентов; немедленного вмешательства требовало ужасающее санитарное состояние армии.
В самом Херсоне госпиталь размещался в непригодном, сыром строении. Больные теснились в маленьких комнатушках; тут же содержались пятьсот инвалидов, не отправленных в отставку вопреки указу Военной коллегии. В Елисаветградском госпитале Суворов застал ту же картину: смертность была огромной «крайне по тонкоте стен, мокроте, сквозному ветру и тесноте». Как и в Финляндии, уход за больными повсюду был дурной, умершие долгое время показывались живыми, а солдаты, отправленные в госпиталь, числились не выбывшими из полка. Суворов приводит короткий разговор с одним из своих ординарцев:
— Зыбин, что вы бежите в роту? Разве у меня вам худо, скажите по совести?
— Мне там на прожиток в год тысяча рублей.
— Откуда?
— От мертвых солдат. Бывало и две тысячи.
Энергично принявшись за оздоровление солдатского быта, генерал-аншеф принужден был действовать с оглядкой на Петербург. Крутые меры, принятые им в Финляндии, не вызвали одобрения у членов Военной коллегии. Суворов приказал отделить больных от здоровых и подразделил их на четыре категории; велел обсушить сырые казармы, а на летнее время переместить солдат из палаток в шалаши и сараи; один полк перевел из нездоровой местности близ Карасубазара в Евпаторию; истребовал врачебные средства; запретил употребление рыбы из стоячей воды; дал указание подготовить в полках ротных фельдшеров и их помощников. Его приказы, написанные простым, понятным солдату языком, содержат основные требования, предупреждающие заболевания в войсках:
«Здоровье.
Драгоценность блюдения оного в естественных правилах. Питье — квас, для него двойная посуда, чтоб не было молодого и перекислого; коли ж вода, то здоровая или нечто приправленная. Еда: котлы вылуженные, припасы здоровые, хлеб выпеченный, пища доваренная, не переваренная, не отстоенная, не подогретая, горячая; и для того, кто к каше не поспел, — лишен ее на тот раз. Воздух — в теплое время отдыхать под тенью, без обленения; ночью в палатках укрыватца, в холодную ж — отнюдь бы в них сквозной ветер не был. Чрез ротных фельдшеров довольный запас в артелях ботанических средств. Сие подробнее и для лазаретов описано в примечаниях искусного штаб-лекаря Белопольского».
В Петербурге многочисленные недоброжелатели твердили, повторяя слова графа Безбородко, что Суворов-де всех изнурит и разгонит, как в Финляндии, а в рескрипте Екатерины II специально ограничивались действия нового командующего войсками на юге России в употреблении солдат на строительных работах. Вся трудовая воспитательная система Суворова, таким образом, не только не была понята, но и отвергалась как неприемлемая. К тому же оказалось чрезвычайно трудно искоренить зло: в полках продолжали процветать хищения, солдатам выдавался порченый провиант, в карасубазарском магазине хлеб оказался гнилым, с наступлением летней жары усилились эпидемии. У генерал-аншефа, по собственному признанию, опускались руки.
Однако вопреки всем и вся он начинает претворять в жизнь обширный план инженерных работ, предусматривающий ремонт обветшалых укреплений и строительство новых крепостей. Под его руководством полковник Князев и подполковник де Волан создают проекты Фанагорийской крепости, три проекта укрепления Кинбурнской косы, самого Кинбурна, форта Гаджидера на Днестровском лимане, Аджибея (Одессы) и Севастопольской крепости. Полковые и ротные командиры получают специальную инструкцию «Работы»:
«От инженеров уроки умеренные, утренней и вечерней; оба вместе соединять, — каждому запретить… наистрожайше воспрещается во время и малейшего жара отнюдь никого ни в какую работу не употреблять, под неупустительным взысканием, разве когда случитца прохладной день; а для успеху, коли необходимо, лучше начинать работать прежде рассвета и вечерней урок кончать хотя к ноче… Как скоро работа окончена, то на завтрак и ужин тотчас к горячим кашам, как то и после развода… нижним чинам соблюдать крайнюю чистоту и опрятность в чистом белье, платье и обуви; мыть лицо, руки и рот, ходить в баню и особливо купатца».
Генерал-аншеф разъезжает по вверенному ему обширному краю, следит за ходом инженерных работ, проверяет санитарное состояние войск, устраивает ученья и экзерциции.
2
В один из летних дней 1793 года в простой курьерской тележке Суворов примчался из Херсона в лагерь близ Днепра инспектировать кавалерийские полки: Переяславский конно-егерский, Стародубский и Черниговский карабинерные и Полтавский легкоконный. Последним командовал Василий Денисович Давыдов, отец будущего знаменитого партизана и поэта-гусара. Сам девятилетний Денис говорил и мечтал только о Суворове.
До рассвета войска выступили из лагеря. Спустя час поехали за ними в коляске два сына Василия Давыдова. Толпы любопытствующего народа высыпали в поле. Все жаждали увидеть великого полководца. Иногда между эскадронами в облаках пыли показывался кто-то скачущий в белой рубашке, и тогда слышались крики:
— Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!
Обучая кавалерию, Суворов спешивал половинное число конных войск и ставил их с ружьями, заряженными холостыми патронами. Каждый стрелок находился от другого на таком расстоянии, сколько нужно одной лошади для проскока между ними. Пешие открывали огонь в тот самый момент, когда всадники проносились сквозь стреляющий фронт. Лошади так приучились к выстрелам, пускаемым, можно сказать, в их морду, что при одном взгляде на построенных против них солдат с ружьями начинали ржать и рваться вперед.
Около десяти пополуночи маневры кончились, все зашумело вокруг палатки, куда возвратился Денис Давыдов с братом, раздались возгласы:
— Скачет, скачет!
Суворов ехал на саврасом калмыцком коне впереди четырех полковников, корпусного штаба, адъютантов и ординарцев. На нем было довольно узкое полотняное нижнее платье, сапоги вроде тоненьких ботфортов и легкая, маленькая солдатская каска. Любимый адъютант полководца Тищенко закричал:
— Граф! Что вы так торопитесь! Посмотрите, вот дети Василья Денисовича!
— Где они, где они? — спросил Суворов, подскакал к палатке и остановился. Поздоровавшись с мальчиками, благословил и протянул каждому руку, которую они поцеловали. Обратившись к Денису, генерал-аншеф сказал: — Любишь ли ты солдат, друг мой?
— Я люблю графа Суворова! В нем все — и солдаты, и победа, и слава! — пылко ответил ребенок.
— О, Бог помилуй, какой удалой! — восхитился полководец. — Это будет военной человек. Я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот, — он указал на брата, — пойдет по гражданской службе.
С этими словами генерал-аншеф поворотил лошадь, ударил ее нагайкой и поскакал к своей палатке. Вечером Давыдов отправил семью в свою деревню Грушевку. Суворов, по особой благосклонности к командиру Полтавского легкоконного полка, сам назвался назавтра к нему на обед.
К восьми пополуночи все было готово. В гостиной поставили большой круглый стол с разными постными закусками, с благородного размера рюмкой и графином водки. В столовой накрыли стол на двадцать два прибора, без малейшего украшения, которые генерал-аншеф ненавидел. Не было даже суповых чашек на столе, потому что кушанья должны были подаваться одно за другим, с самого кухонного огня. В отдельной горнице за столовой приготовили ванну, несколько ушатов с холодной водой, чистые простыни и переменное белье и одежду Суворова, привезенную из лагеря.
Маневры того дня кончились в семь утра. Денисов-старший, оставивши свой полк на походе, помчался в лагерь во всю прыть своего черкесского коня, чтобы там переменить его, скорее приехать в Грушевку и до прибытия Суворова самому убедиться, что все в порядке. Уже находился он на половине пути, как вдруг с одного возвышения увидел около двух верст впереди себя, но несколько сбоку, всадника с другим, отставшим довольно далеко. Оба они скакали во все поводья по направлению к Грушевке. Это был Суворов с одним из своих ординарцев.
Давыдов усилил прыть своей лошади, но не успел приехать к дому раньше сего шестидесятитрехлетнего старца-юноши. Уже спешившийся Суворов стоял на крыльце и расхваливал своего коня перед сбежавшейся дворней:
— Помилуй Бог, славная лошадь! Я на такой никогда не езжал. Это не двужильная, а, право, трехжильная!
Денисов пригласил генерал-аншефа в приготовленную ему комнату и сам занялся туалетом: оба они были так покрыты пылью, что нельзя было угадать черты их лиц.
Начали наезжать приглашенные на обед другие гости: дежурный генерал при Суворове Ф. И. Левашов, Тищенко, командиры участвовавших на маневрах полков, чиновники корпусного штаба. Все гости были в полном параде, полковники в шарфах, и все находились в гостиной, где их встретили Давыдов-старший, его жена и некая пожилая госпожа, приехавшая с нею из Москвы. Она с первого взгляду не понравилась Суворову и сделалась мишенью его насмешек.
Все ожидали выхода командующего в гостиную. Прошло около часа, вдруг растворились двери, и вышел Суворов в генерал-аншефском легкоконном мундире, темно-синем, с красным воротником и отворотами, богато шитом серебром, нараспашку, с тремя звездами. По белому летнему жилету лежала лента Георгия 1-го класса. Летнее, белое платье и сапоги, доходившие до половины колена, вроде легких ботфортов, довершали его наряд.
Сказав несколько любезных слов жене Давыдова и снова обласкав его детей, Суворов без малейшей улыбки заметил, обратясь к пожилой госпоже:
— А об этой и спрашивать нечего. Это, верно, какая-нибудь мадамка!
Не изменяя физиономии, генерал подошел к столу, уставленному закусками, налил рюмку водки, выпил ее одним глотком и принялся так плотно завтракать, что было любо глядеть. Спустя некоторое время его пригласили за обеденный стол. Подали щи кипящие, как Суворов обыкновенно кушивал: он часто любил их хлебать из самого горшка, стоявшего на огне. Почти до половины обеда он не занимался ничем, кроме утоления голода и жажды, среди глубокого молчания. Обе эти операции он производил ревностно и прилежно. Затем при самых интересных разговорах он, к полному восторгу детей Давыдова, не забывал ловить каждый взгляд пожилой дамы и, как скоро она обращалась в противную от него сторону, мгновенно бросал какую-нибудь шутку на ее счет. Когда же она, услышав его голос, оборачивалась на его остроту, он, подобно школьнику-повесе, потуплял глаза в тарелку, не то обращал их к бутылке или стакану, показывая, будто занимается питьем и едой.
После обеда Суворов толковал о маневрах того дня и делал некоторые замечания. Так как полковник Давыдов командовал в этом маневре второй линией, генерал-аншеф спросил у него:
— Отчего вы так тихо вели вторую линию во время атаки? Я посылал вам приказание прибавить скоку, а вы все продолжали тихо двигаться!
Василий Денисович, известный в обществе хладнокровием и самообладанием, не замешкавшись, сказал:
— Оттого, что я не видел в том нужды, ваше сиятельство!
— А почему так?
— Потому что успех первой линии этого не требовал: она гнала неприятеля. Вторая линия нужна была только для смены первой, когда та устанет от погони. Вот почему я берег силу лошадей, которым надлежало впоследствии заменить выбившихся из сил.
— А если бы неприятель ободрился и опрокинул бы первую линию?
— Этого не могло быть: ваше сиятельство находились с нею!
Суворов улыбнулся и замолчал. Известно, что он морщился и мигом поворачивался спиной в ответ на самую утонченную лесть и похвалу, исключая только ту, посредством которой разглашалась и укоренялась в общем мнении его непобедимость. Эту похвалу он любил, и любил страстно, не из тщеславия, а как нравственную подмогу и, так сказать, заблаговременную подготовку непобедимости.
Пробыв около часа после обеда весьма разговорчивым, веселым и уже без малейших странностей, генерал-аншеф отправился в коляске в лагерь и там отдал следующий приказ: «Первый полк отличный; второй полк хорош; про третий ничего не скажу; четвертый никуда не годится». Первый номер принадлежал Полтавскому легкоконному полку.
По отдании приказа Суворов немедленно сел на перекладную тележку и поскакал к себе в Херсон.
3
В Херсоне Суворов оставался верен своим привычкам. Жизнерадостный, простецкий и по-мальчишески озорной, он был на редкость цельной натурой. Все резкие выходки, проявления неудовольствия, зависти, неприязни были лишь узорами на поверхности его доброго и отзывчивого характера.
Вставал Суворов, как всегда, очень рано. Камердинеру Прохору приказано было тащить генерала за ногу, коли тот поленится. После этого бегал он по комнатам или по саду неодетый, заучивая по тетрадке финские, турецкие и татарские слова и фразы. Затем умывался, обливался водой, пил чай, после которого следовало пение духовных кантов по нотам. Воротившись с развода, он принимался за дела и чтение газет. Перед обедом непременно выпивал рюмку тминной водки и закусывал редькой. Не любил есть один. Фрукты и лакомства не уважал, вина пил немного, в торжественные дни угощал шампанским. В Великий пост в его комнате почти ежедневно отправлялась церковная служба, причем генерал-аншеф исполнял обязанности дьячка. Спал на сене, с двумя пуховыми подушками под головой, укрывался простыней, а когда холодно — синим форменным плащом. Не носил ни фуфаек, ни перчаток; в комнатах своих обожал почти банную теплынь; парился в страшном жару и окачивался ледяной водой. Любил животных, хотя дома их не держал. Иногда при встрече с собакой лаял, а с кошкой — мяукал.
Он питал пристрастие к стародавним обычаям.
На праздники велел он ставить близ своего дома разного рода качели, целовался со всеми в церкви, после чего офицеры и чиновники приглашались к нему разговеться. Вскоре гости разъезжались, а генерал-аншеф ложился соснуть. В десять утра в полном мундире являлся он под качели, где уже толпился народ. Тут были полковые музыканты и песенники. Суворов обходил качели и, покачавшись с чиновницами и купчихами, звал их с мужьями на чай к вечеру.
Близ самого Херсона, при протоке, называемой Кошевой, раскинулась большая и тенистая роща, куда в летнее время съезжались знать и простой люд. Суворов приказал исправить обветшавший вокал, построенный еще Потемкиным, наделать в роще аллей, дорожек и посыпать их песком. Каждое воскресенье и в праздничные дни собирались туда полковые и морские музыканты, жители стекались в рощу, и каждый с нетерпением ожидал приезда Суворова.
Лишь он являлся, крики «ура» оглашали воздух. Музыканты начинали играть. Обходя аллеи, генерал-аншеф со всеми здоровался. Вечером устраивались танцы и хороводы, которые Суворов водил не с девицами, а с офицерами. Зимой на дому у командующего затевались вечеринки с танцами, фантами и другими святочными играми, в которых он с живостью участвовал, отдавая особенное предпочтение игре, называемой «Жив-жив курилка». Он давно уже не терпел зеркал и лишь по настоянию дам разрешил повесить одно небольшое в отдаленной комнате.
Ему очень не нравилась мода на все французское. При нем никто не смел говорить без нужды между собой по-французски. Сам генерал-аншеф обращался к этому языку лишь в разговоре с иностранцами, не знавшими русского, и всегда советовал им поскорее его выучить.
Однажды на празднестве, отозвавши к себе комендантского сына, воспитанного и образованного на парижский манер, Суворов взял его за руку со словами:
— Молодой человек! Помилуй Бог! Мы с тобою будем танцевать. Музыканты! Казачка!
Франт русских танцев не знал и начал выделывать ногами удивительные штуки. Всякий раз, как он подплясывал к генералу, тот лишь притопывал правой ногою и поворачивался кругом. Когда же пришла очередь плясать Суворову, он пояснил:
— Я стар, не могу. А вот тебе пара! — И подвел молодца к некой щеголихе, известной пристрастием к заграничной моде и кокетливой ветреностью. Молодой человек понял мораль и перестал с той поры вести себя херсонским парижанином.
Роль наставника, по-видимому, очень нравилась Суворову, и он не раз письменно и устно поучал родственников, друзей, знакомых. В марте 1793 года получил он письмо от славного венгерца барона Карачая, сообщившего, что его маленький Александр учится прилежно, целует руки своего крестного отца и поручает себя его милости. Генерал-аншеф обратился к всесильному Платову Зубову с просьбой о зачислении крестника в один из полков и о пожаловании ему патента. Просьба его была уважена, и Александр Карачай получил чин поручика. Суворов отправил патент отцу и приложил при этом чрезвычайно интересное наставление маленькому Александру как будущему военному человеку:
«Любезный мой сын Александр!
По званию военного человека вникай прилежно в сочинения Вобана, Кугорна, Кюрасса, Гюбнера; учись отчасти Богословию, физике и нравственности. Внимательно читай Евгения, Тюреня, записки Юлия Кесаря, Фридриха Второго, первые части Роленовой истории и мечтания графа де Сакса; языки полезны для словесности, упражнения в верховой езде, в шпажном искусстве и фехтовании.
Военные добродетели суть: отважность для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала. Военачальник, руководствуясь порядком и устройством, владычествует с помощию неусыпности и предусмотрения.
Будь откровенен с друзьями, умерен в нужном и бескорыстен в поведении. Пламеней усердием к службе своего государя.
Люби истинную славу; отличай честолюбие от надменности и гордости.
Привыкай заранее прощать погрешности других и не прощай никогда себе своих погрешностей.
Обучай ревностно подчиненных и подавай им пример собою.
Непрестанное упражнение в том, как все обнять одним взглядом, учинит тебя великим полководцем. Умей пользоваться местоположением.
Будь терпелив в военных трудах; не унывай от неудач. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные; не предавайся безвременной запальчивости.
Храни в памяти своей имена великих людей и руководствуйся ими в походах и действиях своих с благоразумием, не презирай никогда неприятеля своего, каков бы он ни был; старайся узнать его оружие и способ, как оным действует и сражается; исследуй силы и слабость его.
Привыкай к деятельности неутомимой.
Управляй щастием; один миг доставляет победу. Покоряй себе щастие быстротою Кесаря, который умел уловлять неприятеля своего даже днем, окружать его и нападать на него в тех местах, где хотел, и в то время, когда желал; отрезывай у него всякого рода запасы и приобрети искусство, чтобы войско твое никогда не нуждалось в продовольствии.
Да возвысит тебя Бог до мужественных подвигов знаменитого Карачая».
Читая это письмо, лишний раз убеждаешься в справедливости старого бюффоновского изречения: «Стиль — это человек». Характер Суворова, с его быстронравием, горячностью, непостоянством и в то же время целеустремленностью, последовательностью и верностью своему призванию, оставил отпечаток на самой манере мыслить. Проживший несколько месяцев в херсонском доме генерал-аншефа его биограф Антинг сообщал: «Слог его короток и мужествен; в выборе выражений столь верен, что никогда написанного не поправляет».
Мечтая в Херсоне о боевом поприще, Суворов колебался, выбирая между возможностью «большой» войны с Оттоманской Портой и уже начавшейся «малою» войной с восставшей Польшей. В попытках поляков вернуть себе государственную независимость он видел в соответствии со своими монархическими воззрениями угрозу русскому престолу. Следя за развернувшимися в Речи Посполитой событиями, нерешительными действиями пруссаков и медлительностью возглавившего русские войска Репнина, генерал-аншеф сердито писал Хвостову: «Там бы я в сорок дней кончил». Как показало время, в словах его не было ни малейшего хвастовства.
4
Польша XVIII века, по словам Ф. Энгельса, это «основанная на грабеже и угнетении крестьян дворянская республика…». Правда, после первого раздела Речи Посполитой в 1772 году шляхта вынуждена была пойти на некоторые реформы. Сказывалась и внутренняя обстановка в стране, рост недовольства социальных низов, и обстановка внешняя, воздействие идей Французской буржуазной революции. Конституция 1791 года, а затем и конституция 1793 года дали горожанам представительство в сейме и установили принцип наследования престола, но даже в этих куцых реформах крупные магнаты видели посягательство на свои права. Как указывается в «Истории Польши», «только опираясь на революционный подъем народных масс, только призвав к оружию крепостное крестьянство и городские массы, можно было спасти в этот момент страну от иностранного порабощения. Борьба за национальную независимость при этом неизбежно должна была перерасти в аграрную революцию, в крестьянскую войну. В Речи Посполитой не оказалось такой политической силы, которая смогла бы возглавить революционное выступление народных масс. Господствующий класс Речи Посполитой на это пойти не мог. Он боялся своего народа больше, чем иноземных войск». Социальная база для восстания оставалась, таким образом, узкой.
Между тем Екатерина II и ее правительство, открыто распоряжавшиеся в Польше, как в собственной вотчине, опасаясь ослабления своего влияния, ввели туда войска. С этим, однако, не хотела примириться другая хищница — Пруссия. По договоренности между ними в 1793 году был произведен новый раздел Польши, по которому Пруссии отошли Торунь и Гданск, а Российской империи Киевская, Волынская и Минская губернии.
Униженная вторым разделом, Польша жила мечтою о восстании. Момент казался необычайно удачным: Пруссия и Австрия были прикованы своими армиями к Рейну, а Россия занята подготовкой к войне с турками. Движение возглавил великий сын польского народа Тадеуш Костюшко.
Польшу оккупировали прусские и русские войска. Чрезвычайный и полномочный посол Екатерины II в Варшаве И. А. Игельстром опирался на восьмитысячный русский гарнизон. Никто не ожидал внезапного революционного взрыва. Начало ему положил бригадир Мадалинский, совершивший боевой рейд к Кракову. Поспешно прибывший туда Костюшко 24 марта 1794 года встретил под Раплавицами слабый русский отряд генерал-майора А. П. Тормасова и разбил его. В сражении осрамилась «народовая конница», составленная исключительно из дворян; зато отличились вооруженные косами крестьяне — «косиньеры». Как ни незначителен сам по себе был этот успех, все же он имел важное нравственное влияние на весь ход дальнейшей борьбы.
6 апреля 1794 года, на страстной неделе, под набатный звон в костелах восстала Варшава. Беспечный генерал Игельстром был застигнут врасплох. Разобщенные русские подразделения гибли в узких улицах города. Всего из восьмитысячного гарнизона было убито две тысячи двести шестьдесят пять и взято в плен тысяча семьсот шестьдесят четыре человека. В ночь на 12 апреля, на Пасху, восстание перекинулось в Вильну, где был пленен начальствовавший русским отрядом генерал Арсеньев.
Восстание вызвало переполох и в смежных с Польшей областях. Здесь находилось около пятнадцати тысяч поляков, поступивших около года назад на русскую службу. Когда известия достигли их, они решили пробиваться на родину. Назначенный командующим всеми приграничными силами от Минской губернии до устья Днестра престарелый Румянцев поручил Суворову и его соседу по району генерал-аншефу И. П. Салтыкову закрыть наглухо границу и распустить бывшие польские войска. Пользуясь излюбленным своим оружием — внезапностью, Суворов быстро выполнил трудную операцию. 26 мая 1794 года он выступил в поход, а 12 июня в Белой Церкви были без боя обезоружены последние из восьми тысяч поляков.
Затем Суворов навестил славного фельдмаршала в его имении Вишенках. Румянцев принял его приветливо, оставил у себя обедать и долго беседовал с ним о событиях в Польше.
Как ни опасно было польское восстание для империи Екатерины II, дворянство — и русское, и польское — всего более страшилось крестьянской революции. Для подневольного народа интересы Речи Посполитой оказались в итоге чужды, и это послужило одной из главных причин поражения. Как замечает историк Костомаров, «если бы в то время враждебные Польше державы осмелились только пообещать холопам свободу, во всей Польше вспыхнула бы народная революция…»
Успешно действовавшие вначале поляки стали терпеть одно поражение за другим. Лишь тайные и явные противоречия мешали пруссакам и русским поступать согласованно: два месяца они нерешительно топтались у Варшавы, которая спешно укреплялась. Внезапно в тылу пруссаков взволновались Брест-Куявский, Серадзь, Калиш, ранее присоединенные к Пруссии. «Толстый король», как прозвали Фридриха Вильгельма II, поспешно отступил от Варшавы. Одновременно неудача постигла нерешительного Репнина. Пытаясь перейти в наступление к Неману, он был атакован польскими партизанами, остановился и готовился расположиться на зимние квартиры. Казалось, кампания 1794 года на этом закончится. Однако Румянцев решился на самостоятельный шаг: без сношения с Петербургом он послал в Польшу Суворова.
7 августа семидесятилетний фельдмаршал отправил Суворову письмо с курьером. В нем говорилось, что все новости из Турции «уверяют нас… о удержании покоя и мира с сей стороны» и, напротив, неприятель «из Польши и Литвы… становится час от часу дерзче и хитрее». С небольшим отрядом генерал-аншефу предписывалось «сделать сильный отворот» со стороны Бреста для облегчения действий другим корпусам.
14 августа с 4,5-тысячным отрядом Суворов форсированным маршем выступил из Немирова, решив начать снова кампанию и увлечь за собой в Варшаву все ближайшие силы русской армии.
С замечательной быстротой двигался корпус, присоединяя к себе все попутные отряды. 15 августа он был в Прилуках, 18-го — в Белецкове, 21-го — в Остроге, 28-го, уже с одиннадцатитысячным войском, Суворов подошел к Ковелю.
Почти все полки, собиравшиеся под начало генерал-аншефа, уже были с ним в деле — кто на Кинбурнской косе, кто при Фокшанах и Рымнике, кто при штурме Измаила. В рядах закаленных солдат нередко на рядовых ваканциях находились капралы и унтер-офицеры. Весть о прибытии любимого полководца разнеслась прямо на походе.
Азовцы шли в середине колонны, когда легкое волнение пронеслось по полкам. К ним долетал радостный крик солдат. Суворов пропускал мимо себя корпус, сидя на казачьей лошадке. Он был в каске, в белом летнем колете, в коротком исподнем холстринном платье и с коротким мечом, по поясу подвязанным портупеей. Поздоровавшись с Азовским полком, он затем вновь нагнал его и начал говорить со старым своим любимцем и ровесником, ротным командиром Ф. В. Харламовым.
Секунд-майор и георгиевский кавалер Харламов был истинный Богатырь — рост имел два аршина двенадцать с половиной вершков, плотен и, как тополь, строен. Несмотря на свои шестьдесят четыре года, он мог еще потягаться с любым молодым силачом.
— Помилуй Бог, Федор, — говорил Суворов, — твои солдаты — чудо-Богатыри! Но говорят, — поглядывая на гренадер, продолжал генерал-аншеф, — что у неприятеля много силы.
Тут два гренадера, Голубцов и Воронов, оба рослые, красивые, почти в один голос ответили:
— Э, ваше сиятельство, отец наш! Ведь штык-то у нас молодец! И пули-дуры не пустим мимо, когда дело до нее дойдет!
— Хорошо! Знатно! — воскликнул Суворов и снова обратился к ротному: — А что, Федор, есть у тебя и старые — крымские, кинбурнские?
— Есть! — молвил Харламов и кликнул: — Михайло Огнев!
Небольшого роста, веселый, удалой гренадер уже преклонных лет выступил вперед. Быстро взглянув на него, генерал-аншеф на мгновение закрыл глаза:
— Помилуй Бог! Я тебя знаю, видал, не вспомню…
— В Кинбурнском сражении, ваше сиятельство!
— Ах! Да, да, вспомнил!.. Помнишь ли ты, как свалил одного, другого, третьего турка? Подле меня! Помнишь ли ты, как вот тут, в плече, пуля пробила мне дырочку и ты с донским есаулом под руки свел меня к морю, вымыл морскою водою рану и перевязал?.. А ты бегал за мною во все сражение!
— Помню, ваше сиятельство! Помню и вашу ко мне милость! — отвечал Огнев.
— А каков? — обратился Суворов к ротному.
Тут все солдаты, принявши к себе этот вопрос, закричали: «Знатный, хороший молодец!»
— Очень хорошо! — повторил генерал-аншеф. — Да ты был не Азовского полка?
— Меня перевели с нашим ротным начальником его высокоблагородием, — пояснил Огнев.
— Прощай, Михайло Огонь! Чудо-богатырь ты, Огонь! — И Суворов помчался галопом вдоль строя к голове колонны.
Часа в три, на привале солдатам сообщили словесный приказ Суворова о выступлении в поход: «Войскам начинать марш, когда петух запоет. Идти быстро! Голова хвоста не ждет. Жителей не обижать!»
Объявляя этот приказ, секунд-майор Харламов пояснил сержанту:
— Слышишь, друг Шульгин! Когда у нас все будет готово — солдатам спать час, два. Потом умыться и помолиться. Слышь ты, друг! Этот петух не петух: он рано поет.
Генерал-аншеф расположился на лугу, в сеннике. При нем находились казак Исаева полка Иван, камердинер Прохор, повар и всего одна кибитка. Приближенные расположились вокруг сенника. Сам командующий отдыхал в одном белье на сене, покрытом вместо ковров и простынь солдатским плащом синего тонкого полусукна.
Уже в седьмом часу пополудни Суворов ударил раза два-три в ладоши и крикнул по-кочетиному: «Кукареку!» В ту же секунду караульные при нем барабанщики ударили генерал-марш, и звук труб, бой барабанов огласили воздух. Все закипело, минуты через четыре барабаны ударили: «По возам!», и вмиг офицерские и солдатские палатки слетели с мест. Минут через пять раздался фельдмарш передовых войск. Суворов уже повел их!
Часов пять без привалу шибко шли солдаты, ни на минуту не останавливаясь. Кто уставал, выходил из фронта в сторону и отдыхал несколько минут. Уставших до упаду собирал арьергард и вез на подводах.
Была полночь, когда солдаты, расположившись на лугу, заснули так, как шли. Чуть заря показалась, войска уже были готовы к походу. Все отставшие поотдохнули и стали в строй. Часу в десятом по ветру почувствовали русские запах благословенной кашицы. Все ожили от устали, удвоили шаги и остановились при котлах, полных мяса и каши, и здесь отдыхали до вечера. За одиннадцать часов движения под ногами у них промелькнуло пятьдесят с лишком верст. Вечером в семь снова двинулись и, сохраняя строгий порядок, шли до местечка Дивин.
5
3 сентября 1794 года казачий авангард из бригады Исаева с ходу атаковал у местечка Дивин передовой польский отряд в две сотни кавалеристов. Жители местечка и пленные показали, что городок Кобрин занимают полтысячи повстанцев из корпуса Сераковского. Генералы советовали Суворову собрать о противнике более подробные сведения, но он, не желая тратить ни часу, рассудил иначе.
Вечером того же дня генерал-аншеф нагнал авангард Исаева на привале в лесу, вздремнул у костра и около полуночи приказал выступать на Кобрин. Кобринский отряд был захвачен врасплох. Русским достался Богатый провиантский магазин. Пленные говорили, что Сераковский, уже прослышавший о движении Суворова с юга, никак не ожидал видеть его так скоро, но будет теперь искать с ним встречи.
Суворов выяснил к этому времени, что Сераковский занял крепкую позицию у Крупчицкого монастыря и не собирается ее покидать. Он объехал свои войска, предупредил о близости боя, и вечером 5 сентября шибким шагом пехота устремилась к Крупчицам. По ту сторону местечка, за пологой, болотистою топью стоял Сераковский с восемнадцатью тысячами повстанцев. За спиной у него был Крупчицкий монастырь, слева и справа — лесистые возвышенности. Русский полководец имел гораздо меньше солдат — около тринадцати тысяч. Предстояло решать трудную задачу: атака в лоб, через топь грозила большими потерями, так как перед польским фронтом расположилось пять батарей, уже открывших огонь; для флангового охвата не хватало сил. Было раннее утро 6 сентября.
Суворов решил поискать вблизи уязвимое место в позиции неприятеля, взял конных егерей и понесся с ними на правый фланг поляков. Однако преодолеть топь не удалось. Пришлось довольствоваться этим неудачным опытом и готовить атаку: Буксгевдену с пехотой идти через топь, четырем конным полкам под командой генерал-майора Г. И. Шевича совершить обход справа, а конным егерям Исленьева взять влево.
Дружно кинулась пехота к болоту через местечко, забирая с собой плетни, ворота, доски, лес, хворост и все что ни попадалось под руки годное для настилки на топь. С неприятельских батарей открылся ураганный огонь: картечь, гранаты, ядра летели, как стаи скворцов, а пули обсевали, как град. Жарко, убийственно было при этом трудном переходе. Солдаты вязли по колено и с трудом помогали друг другу выдираться из трясины. Особенно досталось Херсонскому гренадерскому полку: картечь вырывала целые ряды, но он не останавливался. Для перехода топи потребовалось около часа — замедляли движение четыре полковые пушки, которые солдаты несли на руках.
Преодолев болото, русская пехота выстроилась под тупым углом к польским порядкам и ринулась в штыки. Упорно защищались поляки, однако все их окопные батареи были взяты. Суворов лично руководил сражением, появляясь повсюду, где только замечал малейшую заминку. Сераковский построил колонны в каре и начал отступление. В этот момент на обоих польских флангах появилась русская конница. Поляки отошли к густому лесу, спасшему их от преследования.
Как только исход сражения стал очевидным, Суворов послал приказание в Кобрин обозным и ротным повозкам двигаться к Крупчицам, благодаря чему уставшие после трудной битвы солдаты сразу же получили пищу. Сам генерал-аншеф, проведший без сна несколько ночей, еле держался на ногах. Он подъехал к стоявшему на бугорке дереву, слез с лошади и, перекрестившись, сказал:
— Слава в вышних Богу!
Прохор подал ему порцию водки, которую Суворов закусил сухарем, между тем казак Иван уже расстелил прямо на бугре плащ, положил в головах походные сумы — саквы, и полководец мгновенно уснул. Генерал-поручик Павел Потемкин, который распоряжался сбором войск, раненых и пленных, увидав спящего Суворова, приказал собрать все взятые у неприятеля знамена и штандарты. Тихо подошедши с командой, поставил знамена к дереву шатром, который прикрыл Суворова от безжалостно палящих лучей солнца. Проснувшись, Суворов поблагодарил собравшихся начальников, приказал передать благодарность за службу всем офицерам и солдатам и препроводить в Кобрин пленных, пушки и обоз.
Незадолго перед вечерней зарей сошлись в солдатскую палатку Суворова генералы и полевые начальники. Павел Потемкин предложил остановиться, перепечь муку в хлебы и пересушить в сухари, так как в войсках осталось не более как на четыре дня сухарей. Взглянувши на Потемкина, Суворов отрывисто проговорил:
— А у поляков нет хлеба? Помилуй Бог! Без хлеба да без Бога — ни до порога!
И впрямь не до печения хлеба было теперь, когда корпусу Сераковского был нанесен сильный, но не сокрушивший его удар. Генерал-аншеф, поужинав, поспал часа с два, потом до свету не сомкнул глаз. Он выходил часто из палатки, смотрел на лагерь и тихо разговаривал с караульными.
Чуть стало рассветать, Суворов раздетый выбежал из палатки, и камердинер Прохор облил его с головы до ног холодной водой из двух котлов. Одеваясь, генерал-аншеф приказал бить повестку к заре, а через несколько минут совершенно одетый стоял уже перед строем караула. Было отдано короткое приказание: «Патронов не мочить». Старые солдаты поняли и объяснили новичкам, что предстоит переправа через реку вброд и надо подвязывать патронные сумы повыше. День клонился к вечеру, когда у егерей заиграли валторны, а у конных трубы: Суворов порешил дать своим войскам отдых — теперь он не боялся потерять Сераковского, который готовился защищать такой важный пункт, как Брест-Литовск.
На походе к Брест-Литовску сторонней лесной тропинкой Суворов нагнал азовцев и, поздоровавшись с полком, поехал к роте Харламова.
— А что, Федор, где Миша Огонь-Огнев? Где Воронов? Где Голубцов?
Харламов крикнул их.
— Здравия желаем, ваше сиятельство, отец наш, Александр Васильевич! — сказали гренадеры, выступивши вперед.
— Здорово, братцы! — воскликнул генерал-аншеф. — Вы Богатыри! Вчера я видел, как вы сражались. Помилуй Бог, знатно, храбро! Один на десятерых! Ты, Михайло, будь Огонь-Огнев, ты, Голубцов, — Орел, а ты, Воронов, — Сокол. Все вы, вся ваша рота, весь полк, все — чудо-Богатыри! Все молодцы!
Проговоривши это, он поскакал шибким галопом вперед. Суворов останавливался и беседовал с солдатами во всех полках, кроме одного, где замечено им было несоблюдение военной дисциплины.
В ночь на 8 сентября русский корпус остановился у деревни Трещин, в шести верстах от Бреста. Было решено обойти позиции поляков и двигаться полями через реки Мухавец и Буг.
Войска поднялись с привала в час пополуночи, перешли при лунном свете Мухавец и достигли Буга. С церквей Бреста и местечка Тересполь послышался набат: русских заметили. Солдаты вошли в реку. При каждой колонне было несколько кавалеристов — они помогали малорослым пехотинцам, державшимся за сеновязки-веревки. Суворов решил, что по центру будет атаковать пехота Буксгевдена, а с флангов — конница Шевича и Исленьева.
Сераковский ожидал русских со стороны Тересполя, расположив свои войска в две линии с резервом. Против восьми-девяти тысяч русских он имел не менее тринадцати тысяч, из которых, правда, треть составляли косиньеры. Когда стал ясен маневр Суворова, поляки быстро и четко переменили фронт под прямым углом и заняли позицию, имея слева Тересполь, а правым своим крылом упираясь в лес.
Однако сам Сераковский был недоволен новой позицией и при приближении русской конницы начал отступать к деревне Коршин, поставив в интервалы артиллерию и поместив кавалерию по бокам колонн. Суворов тотчас приказал Исленьеву атаковать поляков, а пехоте спешить на поддержку коннице. Повстанцы к тому времени уже расположились двумя колоннами за деревней Коршин на высоте, установили на плотине три четырехпушечные батареи, а третья колонна и кавалерия попытались наступать на левый фланг русских.
Намерения Сераковского упредил Исленьев, пустившийся с конницей на эту, третью колонну. Песчаная, неровная, изборожденная рытвинами местность мешала атаке, польские батареи били метко, и кавалеристы Исленьева дважды откатывались назад. Но затем казаки Исаева с фланга атаковали польскую конницу, а русские эскадроны врубились в колонну.
Подходила русская пехота — впереди четыре егерских батальона, а за ними, уступом, остальные полки. Сераковский приказал двум другим колоннам отходить, надеясь, как при Крупчицах, найти спасение в лесу. Тут подоспели кавалеристы Шевича: одна колонна почти вся полегла рядами. Той же участи подверглась и другая колонна, остатки которой все же успели добраться до лесу. Уже потрепанная третья колонна спасалась среди болот, по берегу Буга и речки Красны.
Артиллерия открыла огонь по деревне Добрин, где скопились беглецы; сабли конницы и штыки пехоты довершили дело. Небольшой кавалерийский отряд поляков завяз и утонул в болоте. Русская конница преследовала спасшихся в бою пятнадцать верст.
Лучшие солдаты каждой роты начали собирать убитых и раненых товарищей, были выделены также команды во главе с офицерами, которые искали среди убитых еще дышащих поляков. Найденных на руках сносили к месту сбора раненых, поили водой, обмывали запекшуюся кровь, давали из своих ранцев сухари и мясо, перевязывали им раны своими платками. Иные даже для этого разрывали свое чистое белье, зная, что поступок их будет приятен «отцу Александру Васильевичу». Отправившись с кавалерией преследовать остатки разбитого корпуса Сераковского, Суворов прислал приказание: «Помогать раненым полякам».
Дальнейшее продвижение Суворова приостановилось. Корпус его из-за убитых, раненых, заболевших, посланных в конвой с пленными и оставленных в разных местах для соблюдения порядка и тишины уменьшился в числе до половины.
Для лагеря очистили место, поставили палатки, вырыли землянки и сделали военный городок. «Под шатрами в поле лагерем стоять» пришлось до начала октября. Начались ежедневные, исключая праздники, воскресные дни и субботы, ученья.
При ученье он говорил: «Полк — подвижная крепость: дружно, плечом к плечу! И зубом не возьмешь!»
Если он, ехавши, поворачивал свою лошадь и словно невзначай хотел проскочить через ряды солдат, те, смыкаясь, должны были не пропускать его. Полководец радовался и говаривал: «Умники, разумники, молодцы!» Если же ему удавалось проехать через фронт, полк этот и его начальник получали название — «немогузнайки, рохли». Учил Суворов не более полутора часа и всякий раз заключал экзерциции наставительной речью из своей памятки — солдатского катехизиса.
Сидя в Бресте, он с неодобрением следил за медленностью действий союзных войск, торопил Дерфельдена занять Гродно и просил Репнина отделить часть отряда к Бресту, чтобы отсюда начать новое наступление. Другой русский корпус — генерал-поручика Ивана Евстафьевича Ферзена — тем временем перешел через Вислу. 28 сентября двенадцатитысячный корпус Ферзена при Мацейовице атаковал поляков. Польский отряд был разбит, а сам Костюшко очнулся в русском плену.
Прослышав о сражении, Суворов сейчас же переменил план действий. После его настойчивых требований Репнин подчинил генерал-аншефу Ферзена и — с оговорками — Дерфельдена. Теперь из Бреста полетели курьеры с приказом обоим генералам следовать по направлению к Варшаве. Оставив двухтысячный отряд в Бресте, Суворов 7 октября двинулся в глубь Польши.
Суворов слышал, что после поражения Костюшко польские отряды стали спешно стягиваться к Варшаве. Дерфельден шел по пятам за Макрановским, имел с ним несколько стычек. Польский корпус весьма успешно отходил форсированным маршем. Суворов послал приказание Ферзену отсечь путь одной из колонн Макрановского, но Ферзен запаздывал и в итоге соединился с генерал-аншефом только 14 октября утром в Станиславе, приведя с собою одиннадцать тысяч солдат. У самого Суворова было под ружьем до восьми тысяч.
Прежде чем наступать на Варшаву, русский полководец решил совершить два поиска — силами Ферзена к местечку Окуневу и по другой дороге к Кобылке, где, по слухам, находились польские войска. Исаев с несколькими сотнями казаков и десятью эскадронами переяславских конных егерей узнал от крестьян, что в Кобылке действительно находятся повстанцы, получившие в эту ночь подмогу. Он послал Суворову донесение, прося подкреплений; генерал-аншеф приказал продолжать путь. Казаки и конные егеря шли густой чащей, затем с большими усилиями преодолели болото и в шестом часу утра 15 октября появились перед неприятелем.
Поляки численностью от трех до четырех тысяч расположились на равнине, окруженной лесом. В центре стояла пехота, по бокам — кавалерия, на опушке — пешие егеря и несколько орудий. Исаев имел полторы тысячи всадников, но все-таки произвел атаку на фланги. Опередивший корпус и появившийся на поле боя Суворов заметил большое неравенство сил. Он послал приказание следовавшей за ним кавалерии спешить что есть мочи.
Подоспел Исленьев и атаковал неприятельскую конницу левого крыла, а Шевич опрокинул и вогнал в лес кавалеристов правого фланга. Поляки стали отступать двумя колоннами в полном порядке, под прикрытием артиллерийского огня. Как и в других сражениях этой кампании, помимо свойственной им храбрости, они выказали хорошую боевую подготовку и не походили ни на турок, ни на прежние войска Барской конфедерации.
Исленьев преследовал одну из колонн численностью до тысячи человек и заставил ее положить оружие после атаки спешенными драгунами: русская пехота не поспевала к месту сражения. Вторая, более многочисленная колонна уходила по Большой Варшавской дороге и была охвачена кавалерией и двумя подошедшими егерскими батальонами, загородившими ей отступление. Лесистое место мешало действиям в конном строю. Тогда по приказу Суворова четыре легкоконных эскадрона мариупольцев и два эскадрона глуховских карабинеров, спешившись, атаковали неприятельскую пехоту. Ферзен, не нашедший в Окуневе повстанцев, подоспел тогда, когда уже помощь не требовалась. Из тысячи пленных пятьсот, как добровольно сдавшиеся, были распущены по домам.
После Кобылки на пути к Варшаве осталось одно, правда, грозное препятствие — превращенное в крепость предместье столицы Прага. Гарнизон его превышал тридцать тысяч, не считая вооруженных варшавян, а укрепления были обширны и снабжены крупнокалиберной артиллерией. Суворов ожидал соединения с Дерфельденом, которое состоялось 19 октября. Теперь силы его возросли до двадцати пяти тысяч человек при восьмидесяти шести орудиях. Он не колебался в решении: штурм Праги должен был решить исход всей кампании.
Присоединив корпус Дерфельдена, Суворов пожелал познакомиться с его офицерами. В комнатах, где был назначен прием, невзирая на холодное время года, были заблаговременно отворены все окна и двери для выкуривания «немогузнаек». Так как полководец не любил черного цвета, строго запрещалось представляться в черном платье.
Вилим Христофорович Дерфельден, генерал, высокочтимый Суворовым, еще раз оглядел своих офицеров. В числе собравшихся были полковник апшеронцев и племянник Репнина князь Лобанов-Ростовский, украшенный Георгием 3-го класса за Мачинское сражение; полковник Тульского пехотного полка великан Карл Ливен; капитан бомбардирского батальона и будущий покоритель Кавказа А. П. Ермолов; иностранные волонтеры — подполковник граф Кенсонса и племянник французского королевского министра граф Сен-При.
Шестидесятилетний Дерфельден находился в некоторой растерянности, так как незадолго перед тем выслушал строгий разнос Суворова. Выехав поутру навстречу его корпусу, генерал-аншеф приметил нескольких солдат, которые забрались в польскую деревню и своим бесчинством наделали там много шуму. Как обычно, ничего не сказав солдатам, Суворов встретил Дерфельдена словами:
— Разбой! Помилуй Бог, Вилим Христофорович, караул! Солдат не разбойник! Жителей не обижать! Субординация! Дисциплина!
Старый генерал-поручик в ответ только говорил:
— Виноват! Недоглядел!
Сразу по отбытии Суворова Дерфельден велел пехоте выстроиться в две шеренги, снять с ружей погонные ремни и прогнать виновных сквозь строй. Солдатам был роздан суворовский катехизис. Теперь, вспоминая утреннее происшествие, Дерфельден с тревогой поглядывал на дверь, ожидая выхода генерал-аншефа. Тот появился стремительно, приятельски обнял Дерфельдена.
— Батюшка Вилим Христофорович! Вот и твой ученик пожаловал! — Заметив недоумение на лицах офицеров, добавил: — Своими победами над турками при Максимене и Галаце он показал мне, как предупреждать неприятеля!
Суворов был настроен весело и чуть насмешливо. Считая успех Репнина под Мачином сильно преувеличенным, он сказал с тонкой улыбкой Лобанову:
— Помилуй Бог! Ведь Мачинское сражение было кровопролитно!
Смотря на Ливена, он громко заметил:
— Какой высокий, должно быть, весьма храбрый офицер. Отчего это я на вас не вижу ни одного ордена?
Затем обратился к Сен-При:
— Вы счастливо служите. В ваши лета я был только поручиком! — И вдруг бросился его целовать: — Ваш дядя был моим благодетелем! Я ему многим обязан!
Пожалуй, только сам Сен-При понял значение сказанного: его дядя, будучи французским министром, возбудил турок на войну с Россией, где Суворов отличился при Туртукае и Козлуджи.
Генерал-аншеф быстро спросил у графа Кенсона:
— За какое сражение получили вы этот орден? Как зовут орден?
— Этот орден называется Мальтийским, — отвечал граф, — им награждаются лишь члены знатных фамилий.
Суворов скорчил гримасу:
— Какой почтенный орден! Позвольте посмотреть его.
С Мальтийским крестом в руках он стал спрашивать поодиночке присутствовавших офицеров:
— За что вы получили ваш орден?
И слышал в ответ:
— За Измаил.
— За штурм Очакова.
— За Рымник.
— Ваши ордена ниже этого! — возражал Суворов. — Они даны вам всего лишь за храбрость. А этот почтенный орден дается за знатность рода!
Представлявшиеся были приглашены к обеду и заняли места за столом по старшинству. Перед обедом генерал-аншеф, не поморщившись, выпил большую рюмку водки. Подали сперва горячий и отвратительный суп, который надлежало каждому весь съесть. После того был принесен затхлый балык на конопляном масле. Так как строго запрещалось брать соль ножом из солонины, каждому следовало заблаговременно отсыпать по кучке соли возле себя.
Разговор шел о Праге, ее сильных укреплениях, о решительности ее многочисленного гарнизона.
— Прага имеет все, что изобретено зодчеством военным, — говорил Суворову Дерфельден. — Об этом сообщают явившиеся перебежчики. Высокие валы с глубокими рвами, крутости, повсюду дерном одетые и усеянные тройными палисадами, батареи, камнем обложенные, кавалеры — башни, поделанные на возвышенностях, флеши, обеспечивающие ретираду, шестерной ряд волчьих ям с заостренными спицами, более ста орудий и тридцать тысяч отважного войска!
— Завтра же, батюшка Видим Христофорович, — отвечал генерал-аншеф, — наряди для обучения в корпусе как носить лестницы, фашины, плетни, как приставлять их к деревьям и лазить на оные, как плетни бросать на ямы волчьи и фашины.
Собравшийся военный совет единогласным постановлением подтвердил мнение своего командующего — идти к Праге и брать ее приступом.
Днем 23 октября во всех полках делали плетни от двух с половиной сажен длины и до трех аршин ширины каждый.
Перед вечером были отделены охотники — те, кто пойдут первыми, и рабочие — нести плетни, фашины и лестницы. Специально отобранным солдатам раздали шанцевый инструмент для разрушения крепостных преград. Перед сумерками все было готово к штурму.
Запылали костры, воины каждой роты собрались в круг. В семь вечера читан был солдатам приказ Суворова, начинавшийся простыми словами: «Взять штурмом пражский ретраншемент…», и кончавшийся также деловито: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать. Кого из нас убьют — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!»
В пять утра 24 октября зашипела ракета, лопнула, и сотни мелких звездочек рассыпались в черном небе. Колонны двинулись. Охотники и рабочие с плетнями, лестницами и фашинами понеслись бегом. Их встретили выстрелы польских караулов. Ответа с русской стороны не было. На крепостных батареях засверкали огни. Вся округа озарилась летящими раскаленными ядрами, и защитники Праги внезапно увидели в самой близи от себя густые колонны русских солдат.
Закипели ружейные выстрелы, загремела артиллерия со всех укреплений. Колонны Ласси и Лобанова-Ростовского по-прежнему молча, шибким шагом приближались к укреплениям, достигли рва, накрыли волчьи ямы плетнями, закидали ров фашинами и перебрались на вал. Стрелки рассыпались по краям рва и били по головам неприятеля. Только теперь загремело в колоннах могучее «ура».
Первая и вторая колонны, выдержав перекрестные выстрелы с крепостных батарей, а также с острова на Висле, да и из самой Варшавы, под сильным картечным и ружейным огнем бросились на стоявшую за валом конницу и пехоту, дошли до моста и пленили здесь двух генералов. Третья и четвертая колонны — штык со штыком и грудь с грудью — сшиблись с неприятелем на валу. Поляки отступили. Минуты три русские не стреляли в знак того, что первое укрепление взято.
Успех штурма облегчался разбродом, царившим в руководящих кругах Варшавы после поражения Костюшко.
Его преемник генерал Вавржецкий оказался командующим неумелым и безвольным. Поднятый на ноги стрельбой, он повсюду видел панику и даже у Варшавского моста не нашел караула. Он успел спастись и теперь торопился повредить мост, страшась за участь Варшавы.
Тревога его была напрасной. Суворов, стремясь лишь устрашить варшавян, сам приказал зажечь мост.
Суворовские войска не давали неприятелю опомниться и прийти в себя. Завладев внешними укреплениями, третья и четвертая колонны без малейшего промедления двинулись дальше, как вдруг взорвало неприятельский погреб, начиненный ядрами и бомбами.
Начинало светать. Пятая, шестая и седьмая колонны стремительно продвигались в глубь правого фланга поляков. Солдаты Денисова загнали защитников на косу, в угол между Вислой и болотистым притоком. Артиллерия шла за наступающими. Через несколько часов после начала штурма вся Прага оказалась в руках у русских.
Сам Суворов был в этот день совсем болен и едва таскал ноги. После сражения он лег на солому в своей палатке отдохнуть. Среди войск, расположившихся вблизи, не было ни малейшего движения и шума. Солдаты даже говорили вполголоса, чтобы не потревожить любимого своего начальника.
— Он не спит, когда мы спим, — поясняли они, — и в жизни своей не проспал ни одного дела.
К ночи генерал-аншефу разбили калмыцкую кибитку, так как погода стояла по-осеннему свежая. В тот же день он отправил Румянцеву короткое донесение: «Сиятельнейший граф, ура! Прага наша».
25 октября, вскоре после полуночи, от варшавского берега отчалили две лодки с развевающимся белым знаменем. Толпы безоружного народа с фонарями и свечами в глубоком молчании провожали депутатов. Посланники столичного магистрата в национальном и военном польском платье направились к Суворову, поджидавшему их перед своей калмыцкой кибиткой. Видя, что они подступают к нему с робостью, русский полководец вскочил, распоясал свою саблю и, бросив ее прочь, закричал по-польски:
— Мир! Мир! Мир!
Продиктованные им условия капитуляции Варшавы были умеренны. Суворов предлагал полякам свезти оружие и пушки за город, исправить мост и оказывать «всеподобающую честь» своему королю. Именем Екатерины II он обещал волю сдавшимся, неприкосновенность личности и имущества горожан. Горожане вынесли на руках из лодок вестников мира.
6
29 октября, в восемь часов пополуночи ударили барабаны, зазвучали флейтузы, гобои с басонами, валторны и медные трубы. Все крыши, окна домов и берега Варшавы заполнены были народом. Проворно, живо, молодцевато шли русские пехотинцы — без париков, стриженные в кружок и легко одетые — в касках с плюмажем из конского волоса, куртках, широких шароварах.
Суворов, в солдатской куртке и каске, ехал впереди Азовцев. На берегу, по ту сторону моста, главнейший из чиновников магистрата подал ему на бархатной подушке позолоченные серебряные ключи от города, хлеб-соль и произнес краткую речь. Русский полководец взял ключи, поцеловал их, поднял вверх и сказал:
— Благодарю Бога, что ключи эти не так дорого стоят, как… — Он оборотился к руинам Праги и прослезился.
На другой день генерал-аншеф отправился с официальным визитом к польскому королю Станиславу.
Ненавидевший всякую пышность, Суворов на сей раз постарался подчеркнуть парадностью своего убора, многочисленными орденскими знаками, величиной свиты и конвоя уважение к королевскому достоинству Станислава Августа. Генерал-аншеф отличался сугубым консерватизмом взглядов и глубоко почитал статус монарха, независимо от того, какие чувства вызывала у него личность Екатерины II, Станислава Августа или впоследствии Павла I. Так как своей кареты у него не было, русский полководец воспользовался экипажем П. Потемкина, большого говоруна, отдав приказ: «Хозяин кареты поедет со мною вместе, но должен сидеть и молчать, ибо мне надо думать дорогою».
Польский король, сперва пленник революции, а теперь пленник русской императрицы, встретил его на лестнице дворца. Суворов уединился с ним и беседовал с глазу на глаз в течение целого часа. Великодушие русского главнокомандующего произвело огромное впечатление. Во время беседы Станислав попросил Суворова отпустить пленного офицера, бывшего королевского пажа.
— Если угодно, я освобожу вам их сотню, — отвечал генерал-аншеф, задумался и добавил: — Двести! Триста! Четыреста! Так и быть, пятьсот! — прибавил он, смеясь.
В тот же день генерал-адъютант с приказом Суворова отправился догонять партии пленных, отошедших от Варшавы на двести верст.
Беспощадный в бою, Суворов совершенно иначе, великодушно и гуманно, вел себя с побежденным противником.
Результатом беседы со Станиславом Августом явилась договоренность о свободе для всех польских воинов с оставлением оружия у офицеров. Многочисленные отряды под начальством Домбровского, Мадалинского, Гедройца, Иосифа Понятовского и Каменецкого еще сражались. Слух о гуманности русских произвел большое впечатление: солдаты разбегались, восставали против своих генералов, сдавались казачьим отрядам. Суворов действовал безошибочно. 8 ноября он уже мог донести Румянцеву: «Виват великая Екатерина! Все кончено, сиятельнейший граф! Польша обезоружена». Конечно, человечность великого полководца в обращении с побежденными явила свои плоды. Но к этому добавлялась еще и природная простодушность Суворова, которому казалось, что «все предано забвению. В беседах обращаемся как друзья и братья. Немцов не любят. Нас обожают». Как и во многих других случаях, впечатлительный полководец принимал желаемое за действительное.
Кампания в Польше заставила умолкнуть всех завистников Суворова в Петербурге. На его донесение о покорении Варшавы Екатерина II отвечала тремя словами: «Ура! фельдмаршал Суворов!» «Вы знаете, — писала она, — что я без очереди не произвожу в чины. Не могу обидеть старшаго, но вы сами произвели себя фельдмаршалом…» Ирония судьбы! Феноменальная измаильская виктория не дала Суворову ничего, напротив, ввергла в опалу; победа над польскими повстанцами принесла ему высшую награду, о которой он мог только мечтать. Племянник Алексей Горчаков привез полководцу драгоценный жезл стоимостью пятнадцать тысяч рублей.
Этот фельдмаршальский жезл, которого Суворов ожидал с суеверным волнением и не именовал в письмах иначе, как одной начальной буквой, был отнесен для освящения в церковь. Полководец пришел туда в солдатской куртке, без всяких знаков отличий, приказал расставить в линию несколько стульев и принялся перепрыгивать через них, приговаривая после каждого прыжка:
— Репнина обошел!.. Салтыкова обошел!.. Прозоровского обошел!..
Так пересчитал он всех генерал-аншефов, прежде бывших старше Суворова по списочному отвесу, а теперь обязанных сноситься с ним рапортами. Затем он велел убрать стулья, оделся в полную фельдмаршальскую форму и снова явился в церковь. В этот же день освящались и ордена Красного Орла и Большого Черного Орла, присланные Суворову прусским королем Фридрихом Вильгельмом II.
Он всеми силами старался умиротворить измученный польский край и не знал тайных помыслов Екатерины II и ее двора. Победа была достигнута им столь быстро и неожиданно, что в Петербурге просто не поспели с инструкциями. Постепенно в придворных кругах поползли слухи о том, что фельдмаршал так напортил и что вряд ли содеянное им можно исправить. Безбородко упрекал полководца в том, что тот «взял на себя вид слишком большой кротости». Другой государственный деятель высказался еще резче: «Все чувствуют ошибку Суворова, что он с Варшавы не взял большой контрибуции; но не хотят его в этом исправить, из смеха достойного уважения к тем обещаниям, какие он дал самым злейшим полякам о забвении всего прошедшего и о неприкосновенности ни к их лицам, ни к их имениям». Гуманный образ действий Суворова шел вразрез с захватническими планами правительств Российской империи, Пруссии и Австрии, которые за спиной фельдмаршала уже готовили новый раздел Польши.
Нет смысла перечислять все просьбы и ходатайства Александра Васильевича о поляках, участвовавших в восстании, их женах и семействах. Решение Екатерины II об уничтожении самостоятельности Польши и перемещении ее короля в Гродно должно было произвести на Суворова действие ушата холодной воды.
Скрепя сердце он вынужден был отказаться от некоторых своих обещаний, невозможных при новых инструкциях. Когда к фельдмаршалу явилась очередная польская депутация с ходатайством, он встретил ее, став посредине комнаты, прыгнул как можно выше и сказал:
— Императрица вот какая большая! — Затем присел на корточки: — А Суворов вот какой маленький!
Депутаты поняли и удалились.
Суворов, чей «стремглавной военной меч» принес быструю победу, был уже не нужен в польских краях. В октябре 1795 года Екатерина II милостивым рескриптом вызвала его в Петербург.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Богатыри! неприятель от вас дрожит…
Суворов, Наука побеждать1
Прага и Варшава пропали в мглистой дали, и потянулась белая однообразная дорога. Зимний путь еще не установился. Суворов страдал в крытом экипаже от беспрерывных толчков на рытвинах и ухабах. Впереди скакал курьером один из его адъютантов, заботившийся о ночлеге и лошадях.
Адъютант Тищенко приготовил и прибрал теплую хату, но не догадался осмотреть в ней запечье, где спала глухая старуха. Услыхав звон колокольчика, он выскочил в сени, принял фельдмаршала из дормеза и ввел в комнату.
— Ты уже здесь? — сказал Суворов. — Все ли готово?
— Чай сейчас подадут.
Фельдмаршал послал адъютанта вперед просить князя Петра Ивановича Багратиона не делать торжественной встречи. Затем Суворов по своему обыкновению разделся донага, окатился холодной водой и принялся прыгать по хате, напевая по-турецки разные изречения из Корана.
В это время проснулась старуха, выглянула из запечья и, приняв фельдмаршала за черта, закричала что было мочи:
— Ратуйте! С нами нечистая сила!
От этого внезапного вопля перепугался и Суворов. Прибежали адъютант Столыпин и камердинер Прохор и вывели старуху, полумертвую от ужаса.
В невзрачной кибитке, занавешенной рогожей, и с поваром на козлах мчался фельдмаршал в Петербург, уклоняясь сим маскарадом от приуготовленных ему местными военачальниками почестей. Он с нетерпением ожидал встречи с любимой Наташей, незадолго перед тем вышедшей замуж. Суворочка стала женой тридцатидвухлетнего генерал-поручика Николая Зубова, брата екатерининского фаворита.
Зубова не было в числе претендентов. Еще в 1793 году среди возможных женихов Наташи фигурировали молодой полковник граф Эльмпт, сын генерал-аншефа и боевого товарища Суворова, и князь Трубецкой, единственный наследник отставного генерал-поручика, владельца семи тысяч душ. Последнему Суворов скоро дал отставку, прослышав, что «князь А. Трубецкой пьет, его отец пьет и в долгах, родня строптивая, но паче мать его родная — тетка Наташе двоюродная». Оставался Эльмпт, к которому Суворов все более благоволил: «Он спокоен, мне роскошен и не забияка; больше застенчив по строгому воспитанию, но умен и достоин; только по наружности стоит иногда фертом по-немецкому».
Однако Эльмпт был устранен внезапным вмешательством двора якобы по причине протестантского его исповедания. Суворов получил письмо от Платона Зубова, где говорилось, что императрице может показаться неприличным, если дочь знаменитого русского полководца, слывущего столь привязанным к вере и отечеству, будет выдана за иностранного иноверца. Истинная причина крылась в ином: вместе со славой Суворова вырастала и значимость его дочери, на которую зарились уже Зубовы. Сама императрица выступила свахой. Торжественное обручение Николая Зубова и Натальи Суворовой совершилось 8 февраля 1795 года в Таврическом дворце, а 29 апреля молодые были обвенчаны.
Николай Зубов, шталмейстер двора ее величества, был попроще своих братьев, нес службу добросовестно и усердно, долгое время служил в армии и проявил храбрость во второй русско-турецкой войне. Впрочем, современники отзывались о нем как о личности сугубо заурядной: малообразованный, грубый, «бык, который мог быть отважным в пьяном виде, не иначе», мрачный по характеру и в довершение ко всему пьяница. Атлетически сложенный, он являл собою полную противоположность хрупкой Наташе.
Суворов очень скоро разочаровался в своем зяте и повел с ним настоящую войну. Однако его неприязнь к Николаю Зубову не поколебала любви и уважения к дочери. Именно ей поручил он заботу об Аркадии, которого наконец признал как родного сына, а затем ей же и зятю доверил его воспитание. Наталья Зубова намного пережила своего мужа, активного участника заговора 1801 года, нанесшего первый удар Павлу I — тяжелой золотой табакеркой в висок. Николай Зубов скончался в 1806 году, оставив вдову с шестью детьми. После его смерти Наталья Зубова жила в Первопрестольной, всецело отдавшись воспитанию детей и окруженная ореолом уважения как дочь бессмертного Суворова.
Однажды, едучи в карете, она послала лакея купить материи. Ревнуя о хозяйской пользе, лакей торговался столь усердно, что у купца лопнуло терпение и он заявил, что предпочитает иметь дело с барыней. Узнав от лакея, что она дочь Суворова, купец подошел к экипажу и принялся просить графиню Зубову принять материю в подарок. Несмотря на все просьбы Натальи Александровны, он наотрез отказался взять деньги.
В памятном 1812 году Наталья Зубова покидала занятую французами Москву, но ее остановили неприятельские патрули. Ей достаточно было ответить, что она дочь Суворова. Французы не только пропустили ее без промедления, но и отдали ей — женщине — воинские почести.
Она скончалась в Москве 30 марта 1844 года.
2
Поезд из Стрельны до Зимнего дворца — придворную восьмистекольную карету — тянули восемь лошадей. Было начало января 1796 года, и мороз достигал двадцати градусов. Суворов облекся в полный фельдмаршальский мундир, однако шубы не надел и шляпу держал в руке. Так же вынуждены были поступить сопровождавшие его из Стрельны до Петербурга шталмейстер граф Н. Зубов, генералы П. А. Исленьев и Н. Д. Арсеньев. Между тем по приказу шестидесятишестилетнего фельдмаршала одно окошко в карете было опущено, и спутники Суворова жестоко страдали от стужи; Исленьев и Арсеньев из субординации молчали, но Зубов с неудовольствием сказал Столыпину, когда карета прибыла к Зимнему:
— Твой молодец всех нас заморозил!
Екатерина II уже ожидала фельдмаршала в своих приемных покоях. Уважив причуды Суворова, она приказала занавесить все зеркала.
Разговор пошел о предполагавшейся персидской экспедиции, начальствовать которой было предложено Суворову.
Затем со своей свитой полководец отправился в назначенный ему на жительство Таврический дворец. В небольшой спальне с диваном и креслами была готова пышная постель из душистого сена и ярко горел камин. В соседней комнате стояли гранитная ваза, наполненная невской водой, и серебряный таз с ковшом для окачивания. Суворов разделся, сел у камина и приказал подать себе варенья. Он был оживлен, весел и необыкновенно красноречив. Говоря с воодушевлением о милостивом приеме, он, однако, ввернул едкое замечание об «азиятских лаврах», которые привлекают государыню.
На другой день начались визиты. Фельдмаршал принял только Державина и Платона Зубова. Фавориту, встретившему его накануне не в полной форме, он отомстил, приняв его у дверей спальни в одном нижнем белье. Зато Державина дружески обнял, оставил обедать, а свою выходку в отношении Платона Зубова так объяснил поэту:
— Наоборот!
Привлекая в Петербурге всеобщее внимание, Суворов не собирался менять своих привычек, разве что обедывая уже не в восемь, а в десять или одиннадцать пополудни, в окружении гостей. Чуткий и щедрый на сочувствие, он по-разному относился к именитым и чиновным лицам. Однажды за столом, когда адъютант Столыпин раскладывал горячее, фельдмаршал поглядел в окно:
— Чей это экипаж?
— Графа Остермана, — доложил Столыпин.
— В это время Иван Андреевич Остерман, вице-канцлер Иностранной коллегии, был не у дел, оттесненный делающим быструю карьеру А. А. Безбородко.
Суворов выскочил из-за стола и выбежал на крыльцо так поспешно, что адъютант, находившийся ближе его к двери, не мог даже опередить старого фельдмаршала. Лакей Остермана только еще успел отворить дверцу у кареты, как Суворов вскочил в нее, поблагодарил полуопального Остермана за честь, сделанную его посещением, и, поговорив минут десять, простился с ним.
Через несколько дней за обедом полководец снова спросил о подъезжающем экипаже: «Чей?»
— Графа Безбородко! — отвечал Столыпин.
Суворов даже не встал из-за стола, а когда Безбородко вошел, велел подать стул возле себя, сказав:
— Вам, граф Александр Андреевич, еще рано кушать: прошу посидеть!
Делать было нечего: поговоривши с четверть часа, Безбородко откланялся, причем фельдмаршал снова не поднялся из-за стола проводить его. Это был опять-таки прием, оказанный двум лицам «наоборот», в нарочитом контрасте с их положением при дворе. Великий полководец продолжал неистово чудить, защищая собственное достоинство и протестуя против несправедливости.
Никогда еще прежде Суворов не был в такой славе. Повторим еще раз: подвиги, изумлявшие потомков, не принесли Александру Васильевичу подобного признания.
Поэты — Державин, Костров, Дмитриев — наперебой посвящали ему свои произведения.
Пошел, — и где тристаты злобы? Чему коснулся, все сразил. Поля и грады — стали гробы; Шагнул — царство покорил! —восторженно писал Державин. Для него русский полководец — могучий, былинный богатырь:
Ступит на горы, — горы трещат; Ляжет на воды, — воды кипят; Граду коснется, — град упадает; Башни рукою за облак кидает…«Я не поэт и изливаю чувство своей души в простоте солдатского сердца», — отвечал Суворов, посылая Державину свои стихи. Стихами отвечал он и на эпистолу Кострова, излагая в них свой взгляд на поэзию:
В священный мудрые водворены быв лог, Их смертных просвещать есть особливый долг; Когда ж оставят свет, дела их возвышают, К их доблести других примером ободряют. Я в жизни пользуюсь чем ты меня даришь И обожаю все, что ты в меня вперишь. К услуге общества что мне не доставало, То наставление твое в меня влияло: Воспоминаю я, что были Юлий, Тит, Ты к ним меня ведешь, изящнейший пиит. Виргилий и Гомер, о если бы восстали, Для превосходства бы твой важный слог избрали.В сонме поэтов, славивших Суворова, был и молодой Дмитриев, служивший тогда в гвардии. В его оде превосходно изображение русского войска, огромности многонационального Российского государства:
Се веют шлемы их пернаты, Се их белеют знамена, Се их покрыты пылью латы, На коих кровь еще видна! Воззри: се идут в ратном строе! Всяк истый в сердце славянин! Не Марса ль в каждом зришь герое? Не всяк ли рока властелин?… Речешь — и двинется полсвета, Различный образ и язык: Тавридец, чтитель Магомета, Поклонник идолов калмык, Башкирец с меткими стрелами, С булатной саблею черкес Ударят с шумом вслед за нами И прах поднимут до небес!Суворов нечасто посещал Екатерину II, избегая парадных приемов. Узнав, что фельдмаршал ехал из Стрельны в одном мундире, она прислала ему роскошную соболью шубу, приказав передать с посланным, чтобы Суворов шубу эту непременно носил.
— Как? — изумился тот. — Солдату шубы по штату не положено!
Посланный ответил, что на сие есть непременное соизволение императрицы.
— Матушка меня балует, — последовала реплика.
После того, приезжая во дворец, фельдмаршал сажал с собою слугу, который держал шубу на руках и при выходе Суворова из кареты надевал на него. В царской шубе Суворов важно шествовал до передних комнат.
Обращение его с Екатериной II было необычным, режущим глаз, хотя в выражении наружных знаков почтения он шел даже дальше, чем нужно. Впрочем, и в этой утрированности крылась своя ирония по отношению к придворным. Он был предан императрице не меньше, если не больше, всякого другого, но отличался от всех, как хорошо сказал А. Петрушевский, «неумытой откровенностью, лагерной бесцеремонностью», высказывая Екатерине правду о состоянии войск и не стесняясь касаться личностей.
Однажды за обедом Екатерина II, желая оказать внимание сидевшему рядом с ней князю С. Ф. Голицыну, заметила, что спала спокойно, зная, что в карауле надежный офицер. Должность караульного исполнял в ту ночь сын Голицына. Князь встал и поклонился. Суворов, сидевший по другую руку царицы, тотчас же спросил Голицына, отчего тот не прислал кого-нибудь из сыновей под Варшаву за Георгием, и, показывая на некоторых лиц за столом, в том числе на князя Барятинского, громко хваставшегося своими подвигами, прибавил:
— Они даром получили!
В другой раз, на придворном балу, Суворов откровенно скучал. Екатерина II, обходившая гостей, подошла к нему и спросила:
— Чем потчевать дорогого гостя?
— Благослови, матушка, водочкой, — поклонился фельдмаршал.
— А что скажут красавицы фрейлины, которые будут с вами разговаривать? — заметила не без неудовольствия императрица.
— Они почувствуют, что с ними говорит солдат, — простодушно отвечал Суворов.
Екатерина собственноручно подала ему рюмку тминной.
Навестив наследника цесаревича Павла по его просьбе, фельдмаршал тут же начал проказничать. Павел остановил его, сказав:
— Мы и без этого понимаем друг друга.
Суворов посерьезнел, поговорил с ним о делах, но, выйдя из кабинета, побежал вприпрыжку по комнатам, напевая:
— Принц восхитительный, деспот неумолимый!
Павлу, разумеется, передали о суворовской выходке. Впечатление от недавнего громового триумфа в переменчивых петербургских кругах постепенно сглаживалось, забывалось. Суворов казался уже придворным, да и самой царице однообразным, скучным, а его поступки — неуместными. Граф Ф. В. Ростопчин, отражая мнение двора, писал: «Не знают, как отделаться от Суворова; его плоские шутки наскучили императрице, и она от них краснеет». Екатерина II подумывала, куда бы услать беспокойного полководца.
Дело скоро нашлось: царица предложила Суворову съездить в Финляндию и осмотреть укрепления, созданные им в 1791–1792 годах. Старый фельдмаршал откликнулся на ее поручение с радостью. Он и сам тосковал в Петербурге, а с тех пор, как отпали заботы о Наташе, — вдвойне. Вернувшись из Финляндии, Суворов стал было размышлять о предложенной ему персидской экспедиции, но скоро нашел, что следует подождать войны более значительной, встречи с противником более грозным. Потом он сожалел о своем отказе, но поправить ошибку было поздно. Отправившиеся за Каспий войска возглавил одноногий Валериан Зубов.
В январе 1796 года Суворову были вверены все воинские соединения в губерниях Вроцлавской, Вознесенской, Екатеринославской, Харьковской и в Таврической области. По соседству начальствовал фельдмаршал Румянцев; еще далее к северу, до Литвы, — князь П. В. Репнин. Таким образом, по южной и западной границам России были образованы три армии, ожидавшие событий.
Во второй половине марта фельдмаршал покинул столицу. К тому времени уже окончательно сложилась его знаменитая инструкция по тактическому обучению войск, являющаяся одновременно солдатской памяткой, — военный катехизис «Наука побеждать».
3
Рисунки А. В. Суворова из его книги «Наука побеждать».
Небольшой городок Тульчин расположен между Винницей и Уманью, на берегу Южного Буга. Избрав его «капиталем», Суворов поселился в замке графини Потоцкой, урожденной княгини Мнишек, заняв квартиру в нижнем этаже. В одной из комнат, выходившей окнами в цветник, набросано было сено, накрытое простыней и одеялом, — фельдмаршал не изменял своим привычкам. У окна стояли стол для письма, два кресла и маленький чайный столик. Почти всегда топился камин.
Суворов подружился с Потоцкой и ее семейством, беспрестанно их посещал и приглашал обедать к себе. В довершение ко всему он позаботился о старшей дочери графини, сперва предложив в женихи своего племянника Алексея Горчакова, а затем молодого Эльмпта. Дело это, кажется, фельдмаршал благополучно довел до конца.
С возрастом великий полководец стал еще более религиозным: регулярно посылал деньги на поминание родителей в церковь Федора Студита в Москве, стал аскетичнее во время поста, не принимая никакой пищи в продолжение первых трех дней страстной недели. Накануне праздников всегда присутствовал на заутрене в домовой походной церкви, а в самый праздник — на обедне.
По субботам Суворов самолично занимался с войсками, стоявшими в Тульчине. Перед разводом фельдмаршал или кто-то из полковых и ротных командиров напоминали солдатам важнейшие положения «Науки побеждать»:
«Каблуки сомкнуты, подколенки стянуты; солдат стоит стрелкой: четвертого вижу, пятого не вижу.
Военный шаг — аршин, в захождении — полтора аршина; береги интервал.
Солдат во фронте, на шагу, строится по локтю; шеренга от шеренги три шага, в марше — два Барабан, не мешай!
Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, как негде взять. Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится: пуля — дура, штык — молодец. Коли один раз, бросай басурмана с штыка: мертв, на штыке, царапает саблею шею. Сабля на шею — отскокни шаг, ударь. Коли другого, коли третьего; богатырь заколет полдюжины, больше. Береги пулю в дуле. Трое наскачут: первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун. Это редко, а заряжать неколи. В атаке не задерживай.
Для пальбы стреляй в мишень; на человека пуль 20; купи свинцу из экономии — не много стоит. Мы стреляем цельно; у нас пропадает 30-я пуля, а по полевой и полковой артиллерии разве меньше десятого заряда.
Фитиль на картечь — бросься на картечь: летит сверх головы. Пушки твои, люди твои, — вали на месте, гони, коли, остальным давай пощаду, они такие же люди: грех напрасно убить.
Умирай за дом Богородицы, за матушку, за пресветлейший дом. Церковь Бога молит. Кто остался жив, тому честь и слава!
Обывателя не обижай: он нас поит и кормит; солдат — не разбойник. Святая добычь! Возьми лагерь — все ваше. В Измаиле, кроме иного, делили золото и серебро пригоршнями. Так и во многих местах. Без приказу отнюдь не ходи на добычь…»
Один из основных разделов «Науки побеждать» недаром назван: «Разговор с солдатами их языком». Красочным, простонародным слогом Суворов рассказал, чему и как должны учиться солдаты, чтобы стать мастерами своего дела, надежными защитниками родины. Основу его памятки составляют требования решительной, наступательной тактики как в поле, так и при осаде крепостей:
«Ломи чрез засеки, бросай плетни чрез волчьи ямы, быстро беги, прыгай чрез полисады, бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы. Стрелки, очищай колонны, стреляй по головам. Колонны, лети чрез стену на вал, скалывай на валу, вытягивай линиею, караул к пороховым погребам, отворяй вороты коннице. Неприятель бежит в город, его пушки обороти по нем, стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо. Недосуг за этим ходить. Приказ: спускайся в город, режь неприятеля на улицах. Конница, руби. В домы не ходи, бей на площадях; штурмуй, где неприятель засел. Занимая площадь, ставь гаубтвахт, расставляй вмиг пикеты к [во]ротам, погребам, магазейнам…»
И сегодня в «Науке побеждать» привлекает ее патриотическая направленность, бесконечная вера Суворова в морально-боевые качества русского солдата и офицера:
«Богатыри! неприятель от вас дрожит…»
«У неприятеля те же руки, да русского штыка не знают…»
Гениальная суворовская «Наука побеждать» создавалась полководцем всю его жизнь. Начала ее мы найдем уже в «Суздальском учреждении», где подчеркивается важность воспитания в характере солдата нравственного чувства, упорства, настойчивости, инициативы, взаимовыручки. В развернутых приказах Суворова в пору войны с польскими конфедератами, а затем в бытность его в Крыму и на Кубани основные положения углубляются и находят блестящее подтверждение на поле боя.
Ничего застывшего, раз и навсегда установленного: все зависит от особенностей противника, а также непредусматриваемых, меняющихся условий:
«Линиею против регулярных, кареями против басурман, колонн нет. А может случитца и против турков, что пятисотному карею надлежать будет прорвать 5-ти или 7-ми тысячную толпу с помощию фланговых кареев; на тот случай бросится он в колонну; но в том до сего нужды не бывало. Есть безбожные, ветреные, сумасбродные французишки. Они воюют на немцев и иных колоннами. Есть ли бы нам случилось против их, то надобно нам их бить колоннами ж».
Все элементы суворовской тактики воспринимались солдатами и офицерами не механически, а осмысленно. Всяк понимал свой маневр, так как уставные правила соответствовали боевой обстановке, учебная практика предельно приближалась к условиям военного времени. Наблюдавший за тульчинскими маневрами француз Дюбокаж писал:
«Военное искусство для одиночного солдата или офицера заключалось, по мнению Суворова, в быстроте исполнения и в неустрашимости, не останавливаемой никакими препятствиями; для достижения быстроты и неустрашимости нужно было, по его убеждению, освоить войска с явлениями войны посредством маневров, до того близких к действительности, чтобы солдат смотрел на настоящую войну не более как на маневр…
Суворов не забывал и эволюции, принятых в европейских армиях: в развертываниях, маршах, контрмаршах и пр. он не видел цели — как довести дело до своей любимой атаки, по возможности скорее и прямее…
Нужно после всего этого распространяться о причинах непобедимости войск Суворова! Последний солдат из попадавших в сферу его влияния узнавал и практически и теоретически боевое дело лучше, чем теперь его знают в любой европейской армии в мирное время, не исключая и самых образованных».
Запоминание «катехизиса» облегчалось, конечно, тем, что суворовская «Наука побеждать» излагалась афористичным и энергичным языком, самый ритм которого — «лети, рви, ломай, скачи» — передавал стремительность и сокрушающую мощь русских чудо-богатырей. Народность слога «Науки побеждать», кажется, не имеет себе ничего равного в литературе того времени. Солдат-полководец, не подлаживаясь, не подделываясь, говорил с крестьянской массой ее же выразительным — «подлым» языком, насыщенным пословицами и поговорками.
Воля великого полководца, сфокусированная в одну точку, направленная к одной цели — победа! — в бою и в ученье магнетически передавалась войскам, а непрерывные успехи под суворовским руководством вселяли в них уверенность, решимость и неисчерпаемую энергию. Не только обученные «науке побеждать» чудо-богатыри, но и австрийские «нихтбештимтзагеры» — «немогузнайки», испытывая на себе его сильнейшее нравственное воздействие, преображались и вносили весомый вклад в виктории Фокшан и Рымника, а впоследствии — Треббии и Нови. Однако главная заслуга великого полководца была в воспитании русского солдата нового типа.
В век палочной дисциплины и жестокой бессмысленной муштры вчерашний крепостной в армии Суворова чувствовал себя личностью, верил в себя и в собственные силы, понимал свой маневр, обретал национальное самосознание и, таким образом, был морально готов сразиться с любым, самым сильным противником. «Имя салдата просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть, от вышняго генерала даже до последнего мушкетера» — этот завет Петра I выполнялся свято, и сам Суворов был лишь первым солдатом. Его облик, быт и привычки делали фельдмаршала «своим» для нижних чинов.
Дворянин, сын екатерининского вельможи, полный кавалер отечественных орденов, граф, князь, под конец жизни генералиссимус всех Российских войск, он не только не стремился к тому, что давали все эти привилегии, но был им чужд и враждебен. Когда в фельдмаршальском мундире, увешанном бриллиантами стоимостью в несколько деревень, он сморкался перед строем в два пальца или садился с артелью за кашу — все это не было позерством. Известно, что некий генерал, вздумавший идти по его следам, стал вести себя по-суворовски, чудить и шутить, но в ответ вызвал смех солдат: «Что этот старик к нам привязался?» У всякого другого все это выглядело лишь капризами барина.
Когда возникали особо трудные, почти невыполнимые задачи — под Измаилом, позднее на полях Италийских и в пропастях Швейцарии, — Суворов всякий раз обращался к патриотическому чувству солдата. Вся жизнь его — пример непрерывной борьбы против подражания западной рутине, против военных тактиков, стриженных на немецкий лад, — всех этих веймарнов, Прозоровских, репниных, меласов. Каждым шагом, каждой строкой он отстаивает национальную самобытность в армии. Узнав об одном генерале, что тот не умеет писать по-русски, Александр Васильевич отозвался:
— Стыдно! Но пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски!
Воспитывая в войсках патриотическое чувство, любовь к России, сам полководец толковал его расширительно, выводя за узконациональные рамки. «Я русский! Мы русские!» — с гордостью повторяли за ним и грузин Петр Иванович Багратион, и выходец из немцев Вилим Христофорович Дерфельден.
Самобытный военный гений Суворова, однако, никогда не дал бы величайшего в мировой истории полководца, если бы сущность его сводилась к национальной архаике, верности дедовским заветам «Изучая Суворова, — заметил военный историк Марченко, — вы следите за ростом и развитием при содействии Петра I преобразованного русского человека». Внук генерального писаря Преображенского полка и сын Петрова крестника, Суворов преклонялся перед этим «вечным работником» на троне, его реформами, его победами:
— Я благоговел к нему на Ладожском канале и на Полтавском поле, по его следам дознался я, что он был первый полководец своего века.
Продолжая и развивая военные преобразования Петра, Суворов недаром придавал такое огромное значение учебе, знаниям «Ученье — свет, а неученье — тьма», — утверждал фельдмаршал в своей «Науке побеждать». Многие историки, особенно иностранные, видели в Суворове «варвара», незнакомого с теорией военного дела и побеждающего благодаря «счастью». Эта «ложь, одетая в зипун русской правды», как хорошо сказал суворовский ветеран Я. Старков, не выдерживает никакой критики.
Что касается стороны чисто военной, то Суворов настолько опередил своих современников, что и не мог рассчитывать на понимание. В противоположность существовавшим тогда стратегическим принципам он ставил главной целью войны не занятие городов и крепостей, а уничтожение живой силы противника. В отличие от западноевропейской кордонной стратегии, приводившей к распылению войск, Суворов требовал сосредоточения сил на решающем направлении и разгрома неприятеля по частям. Ф. Энгельс, характеризуя передовые черты суворовского военного искусства, писал в середине XIX века о том, что суворовская стратегия близка к современной стратегической системе.
В век застывших канонов линейной тактики русский полководец взломал мертвую рутину и придал военному искусству невиданную гибкость. «Все войны различны, — заявлял он. — В Польше нужны были массы, в Италии нужно было, чтоб гром гремел повсюду». Каре против турок, атака пехоты против польской конницы, колонны и цепи застрельщиков против французов — история суворовских войн являет нам необычайное разнообразие форм боя. Знаменитые принципы — «глазомер», «быстрота», «натиск», энергия штыкового удара, неослабное преследование противника, моральная стойкость войск — новаторские принципы Суворова оказались в итоге близки тактике армий революционной Франции.
В 1918 году В. И. Ленин и Я. М. Свердлов утвердили как обязательную для всей Красной Армии книжку красноармейца, заключительный раздел которой, определявший цели боевого и политико-морального воспитания, открывался краткими извлечениями из воинской памятки Суворова.
4
Сделавшись полновластным начальником войск на огромном пространстве юго-западной России, Суворов с неослабевающей энергией принялся проводить в жизнь свои новаторские идеи. Теперь у него уже не было и не могло быть соперника. Теснившие его некогда А. Прозоровский и П. Потемкин сами просились к нему на службу. Великий Румянцев доживал последние дни. Отправляясь из Петербурга в Тульчин, Суворов, подъехав к Вишенкам, имению Румянцева, надел фельдмаршальский мундир со всеми крестами и звездами, вышел из кареты у ворот дома и со шляпой в руке прошел через весь двор пешком. Он постарался выказать каждой мелочью уважение к старому фельдмаршалу. В двухчасовой беседе, протекавшей с глазу на глаз, речь шла, конечно, о бурных событиях в Европе.
Еще 9 апреля 1792 года Франция объявила войну Австрии. Раздались выстрелы той войны, которая прогремела во всех концах Европы и продлилась почти четверть века. Феодально-абсолютистская коалиция западноевропейских стран бесславно сражалась с буржуазно-республиканской Францией. В начале 1796 года в Италию явился двадцатишестилетний Бонапарт. Одна за другой доходили до России вести о его победах над австрийцами.
Из Тульчина Суворов внимательно следил за всеми перипетиями войны в Италии и на Рейне. Голландец Фальконе, инженер-майор при русском командующем, чертил по его указанию планы баталий, беря сведения из газет. После этого на импровизированных советах генералы разбирали действия австрийцев и французов. Раз, прочитав сообщение, что республиканский генерал Моро будто бы попал у Рейна в западню, Суворов переслал Фальконе статью для перевода, приказал изготовить подробный план и после вечерней зари пригласил всех генералов на чай.
— На военном совете начинают дело с младших, — заявил фельдмаршал, — посему рассматривайте по очереди и объявляйте всякий свою мысль.
Вникнув прилежно в исполненный Фальконе чертеж, все генералы сошлись на том, что если Моро не захочет пожертвовать войсками, то должен будет сдаться.
Суворов поглядел пристально на план и сказал, обращая внимание собравшихся на расположение сторон:
— Ежели этот австрийский генерал не поспеет подать помощь отряду, защищающему мост, французы тут пробьются!
Через несколько дней газеты известили о том, что медлительность австрийцев позволила Моро прорваться через мост и выйти из окружения.
Все же отвлеченным разборам на карте Суворов предпочитал полевые экзерциции. В окрестностях Тульчина, пересеченных высокими холмами, оврагами, балками, рекой, лесом и кустарником, были созданы учебные поля. Войска расположились четырьмя лагерями вдоль ручья Сельница. В каждом лагере стояли в ряд палатки одного полка, впереди их линий находились полковые орудия, сзади солдатских палаток — линия офицерских, затем — обоз и кухня. Для снабжения водой около села Нестерварки солдаты выкопали три колодца, прозванные «Суворовскою криницей». С началом лагерных сборов фельдмаршал переехал из Тульчина в село Кинашево и поселился в избе крестьянина Дехтяря. Фальконе сообщал Хвостову: «Наш почтенный старик здоров; он очень доволен своим образом жизни; вы знаете, что наступил сезон его любимых удовольствий — поля, ученья, лагери, беспрестанное движение; ему ничего больше не нужно, чтобы быть счастливым».
Суворов часто наезжал в полки, расположенные в лагерных «кампанентах». С тремя офицерами штаба и казаком Иваном явился он в самый полдень на лошади в лагерь. Фельдмаршал был в одной рубашке, а китель держал за рукав. В лагере все спали. Стоявший у пирамиды с оружием часовой, узнав фельдмаршала, закричал!
— К ружью!
Суворов шибко подскакал к палатке полкового барабанщика, позвав его:
— Яков Васильевич! Господин Кисляков! Тот появился, захватив барабан:
— Здравствуйте, отец наш Александр Васильевич!
— Здравствуй, Яков! Помилуй Бог, ты чудо-богатырь! Помнишь, при Бресте? Как, лишившись своего барабана, вырвал ты неприятельский и в гуще врага бил тревогу? Бей, Яков, поход!
Гром барабанов, а затем звук труб разлился по берегу ручья. Не прошло и пяти минут, как полки построились. Суворов приказал свернуть их в колонны и двинул форсировать Сельницу. По крайней мере верст пятнадцать вел он солдат, заставлял маневрировать, стрелять и с криком «ура» бросаться в штыки. Конница носилась по полю и рубила воображаемого противника.
Только перед вечером ученье кончилось, и войска, тесно сомкнувшись, окружили своего фельдмаршала. Он благодарил всех за исполнительность и за смирное квартирование, за дружбу с жителями. Начальнику же драгунского Кинбурнского полка сделал строжайший выговор за шалости солдат.
Затем позвал своего любимца Ф. В. Харламова, поцеловал его и сказал:
— Здоров ли ты, мой Федор? Спаси Бог тебя! Твои чудо-богатыри смирны, как овечки! Это хорошо. Солдат бей врага на сражении, а с бабами не воюй! Не крадь! Вор не служивой — он худой солдат!..
В другой раз, после обеда, Суворов позвал адъютанта:
— Мальчик!
Столыпин застал его умывающимся. Фельдмаршал спросил:
— Завтра суббота?
— Так, ваше сиятельство!
— Пушки бы не боялись лошадей, а лошади пушек!
Видя, что Суворов замолчал и продолжал умываться, Столыпин позвал дежурных подполковников по кавалерии и пехоте и слово в слово передал им приказание фельдмаршала. Они не могли понять приказа:
— Что бы оно значило?
Столыпин, уже привыкший к суворовским энигмам, пояснил:
— Вспомните, господа, первое учение колоннами: пехота училась против кавалерии, а потом артиллерии. Но кавалерия против артиллерии еще не училась. Прикажите стрелять из пушек, и, как скоро пушки загремят, я взойду в спальню, будто посмотреть, есть ли в камине огонь. Ежели мы ошиблись, фельдмаршал тотчас спросит меня: «Что за пальба?» Но ежели мы его поняли, то он, обернувшись ко мне, приставит два пальца к губам и зачнет заниматься тем, чем занимался.
Как только пушки открыли пальбу, Столыпин вошел к Суворову. Тот и впрямь поднял глаза на него, приставил к губам два пальца и продолжал что-то писать.
С приближением осени Суворов стал проводить большие ночные ученья, закончившиеся показательным штурмом. Для этого в трех верстах от Тульчина, неподалеку от «Суворовской криницы», было сооружено специальное укрепление. Оно состояло из четырех бастионных фронтов длиною до двухсот метров каждый, с равелинами перед всеми четырьмя куртинами. Помимо рвов, вокруг шли расположенные в три ряда в шахматном порядке волчьи ямы. В центре возвышалась сложенная из хвороста башня: отсюда фельдмаршал собирался следить за ходом штурма.
Войска вышли из лагерей в боевой амуниции, но без ранцев и выстроились вокруг крепости. Стояла полная тишина: даже по приезде Суворова его не приветствовали, чтобы не выдать себя близкому «неприятелю».
Часть пехоты с артиллерией была выделена для обороны крепости. Суворов расположил их на валах, а сам взобрался на башню. В сумерки взвилась сигнальная ракета, войска с криком «ура» бегом устремились на штурм. Грохот артиллерийской и ружейной пальбы потряс окрестности, густой пороховой дым закрыл небо. Все было как при всамделишном штурме, только стреляли холостыми зарядами. Атакующие перескочили через волчьи ямы, забросали фашинами ров, взобрались по штурмовым лестницам на вал и начали раскапывать брустверы для прохода артиллерии и конницы. Часть солдат устремилась к центральной башне, где находился командующий.
По окончании успешного штурма фельдмаршал поблагодарил войска за умелые действия.
Неослабевающая деятельность солдата-полководца привела к чудодейственным переменам в войсках. Снизилась смертность от болезней и эпидемий, ужаснувшая его вначале, особенно в Одессе, где де Рибас пытался скрыть от Суворова дурное состояние армии. Сократилось число беглых. Вовсе исчезли случаи своевольства, нанесения обид мирным жителям. Были пресечены интендантские хищения, улучшено снабжение солдат продовольствием. Призвав к себе начальника провиантской комиссии при армии полковника Дьякова, Суворов предупредил его:
— Николай Александрович! Чтобы все запасные магазейны были у тебя наполнены и все, что принадлежит к подвижным магазейнам, было бы в исправности. Но ежели, Боже сохрани, где-либо провиянта недостанет, то, ей-ей, на первой осине я тебя повешу!.. Ты знаешь, друг мой, что я тебя люблю и слово свое сдержу!..
Главное же, неутомимостью Суворова войска преобразились, прошли ускоренную великолепную выучку, впитали в плоть и кровь воинскую мудрость его катехизиса «Наука побеждать».
«Готовься в войне к миру, а в мире к войне», — говаривал фельдмаршал и приучал свои войска к боям. Но каким? От персидского похода он отказался и теперь с раздражением следил за бездарными действиями двадцатипятилетнего Валериана Зубова, хваставшегося тем, что доберется до Испагани не позже сентября. Его армия страдала от повальных болезней, солдаты разбегались. Однако ничто не могло поколебать пристрастность почти семидесятилетней царицы. Утрата прежней энергии и развившаяся болезненная чувственность заставляли ее видеть в слабом, недалеком и женоподобном Платоне Зубове нового Потемкина. Взятие Дербента и Баку она отметила производством Валериана Зубова в генерал-аншефы. Суворов иронически отзывался из Тульчина:
«Театр на Востоке; герой граф Валериан за Дербент, покорит и укрепит Каспийское море, прострит свои мышцы до Аракса, далее завоевания Петра Великого, и ограничит Грузию. Тогда ему фельдмаршал мал».
Суворов резок, даже груб и все же справедлив, когда осуждает всесильного фаворита, перед которым раболепствуют придворные, сносят не только оскорбления, нанесенные любимыми его лакеями, но и терпят проказы княжеской обезьяны.
— Козел Платон с научением не будет лев, — возмущается фельдмаршал.
Он все более склоняется к мысли, что будущим и главным противником России станут французы, успешно сражающиеся в Италии. Суворов предвидит нашествие «двунадесяти языков» на возлюбленную им Россию, нашествие, которое еще можно предупредить и малыми силами:
— Турецкая ваша война… Нет, ба принятца за корень, бить французов… От них она родитца, когда они будут в Польше, тогда они будут тысяч двести — триста. Варшавою дали хлыст в руки прусскому королю, у него тысяч сто. Сочтите турков (благодать Божия с Швециею). России выходит иметь до полумиллиона; нынче же, когда французов искать в немецкой земле надобно, на все сии войны только половину сего…
Екатерина II готовилась открыто примкнуть к антифранцузской коалиции, видя в идеях буржуазной революции смертельную опасность для абсолютизма. Правда, сама Французская республика была уже не той защитницей социальных низов, как в пору торжества якобинцев. Войска Директории несли на штыках не только высокие лозунги «свободы, равенства и братства», но и занимались грабежом и разбоем. Наполеон Бонапарт буквально разорил Италию во время своих победоносных походов.
Австрия после понесенных ею поражений стояла на грани катастрофы и просила Россию о военной помощи. В ответ Екатерина II обещала выделить в помощь австрийцам шестидесятитысячный корпус из числа войск Румянцева, Суворова и Репнина и двинуть его к Кракову. Слухами о готовящейся кампании полнилась земля. Суворов страшился, что пристрастная императрица отдаст начальствование над корпусом брату своего любимца, и давал себе волю в интимных письмах к своему поверенному Хвостову. Его отзывы о князе Платоне становятся все злее и злее:
«При его мелкоумии, он уже ныне возвышеннее князя Потемкина, который с лучшими достоинствами, в своей злобе был откровеннее и, как великодушнее его, мог быть лучше предпобежден… Я часто смеюсь ребячьей глупости Платона и тужу о России… Снять узду с ученика, он наденет ее на учителя. Вольтером правила кухарка, но она была умна, а здесь государство…»
Однако его опасения, что во главе экспедиции поставят кого-то другого — Валериана Зубова, Дерфельдена, Репнина, — были неосновательны: другого претендента, кроме него, не существовало; его же называли и австрийцы. Уже был готов «Высочайший рескрипт» для фельдмаршала с приложением подробного расписания войск, предназначавшихся в поход. Казалось, что судьба вручила ему и Наполеону жребий, обещая скорую встречу на полях сражений. Однако все еще не кончились переговоры России с Австрией, Англией и Пруссией о новом союзе, еще не был окончательно утвержден предстоящий план кампании, когда 6 ноября 1796 года Екатерина II скончалась.
С ее смертью рухнули все надежды Суворова…
В Петербург под барабанную дробь и писк флейтуз входили наряженные на прусский манер гатчинские войска Павла I. Сотни полицейских и драгун бегали по улицам и по высочайшему повелению срывали со всех прохожих круглые шляпы, которые тут же уничтожались, от фраков отрезались воротники, а жилеты разрывались на части; тысячи полуголых обывателей в панике разбегались по домам.
Во все концы России скакали фельдъегеря — новое для русского уха слово. Впечатлительному Суворову его ближние боялись говорить о случившемся. Румянцев, услышав, что прибыл в Вишенки фельдъегерь, только и спросил:
— Из Берлина?
— Нет, из Петербурга.
— Знаю, что это значит! Велите ему войти.
Сколько ни испытывал Румянцев несправедливостей от Екатерины II, а паче от ее любимцев, восшествие Павла указывало ему на такие несчастья для России, что во время чтения письма престарелого фельдмаршала хватил удар, и он в том же году скончался.
Суворов, проплакав всю обедню и панихиду, вышел к войскам со спокойным лицом.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ В ОПАЛЕ
Дайте волю быстроте розлива моего духа, благомудро исправьте шлюз… Истинно не могу утолить пожара в душе моей.
Запись Суворова1
Сомнения нет, что за свое короткое, едва пятилетнее царствование Павел I совершил великое множество сумасбродных поступков, вовсе не считаясь ни с какими велениями времени, а идя наперекор им и как бы подготавливая себе гибель. Иные историки прямо указывают на ненормальность сына Екатерины II в объяснение всех его выходок. Еще более оснований видеть в Павле только пруссофила, прямого наследника Петра III. Если то и другое правда, то правда не вся. В течение долгих лет унижений калечилось и черствело его сердце, копилась мстительность против екатерининских порядков. На смену опытности и расчету, цинизму и государственной зоркости Екатерины II пришел романтический дилетантизм; все, что было связано с именами усопшей императрицы и ее фаворитов, подлежало забвению.
В первые дни нового царствования пролился дождь, даже ливень милостей. В фельдмаршалы были произведены граф Н. Салтыков, князь Н. Репнин, граф И. Чернышев, вскорости — Каменский, Эльмпт, Мусин-Пушкин, Прозоровский, И. Салтыков, Гудович. Еще более возвысился хитрый Безбородко, ставший вице-канцлером, получивший княжеское достоинство с титулом светлости и округливший число своих крепостных до сорока тысяч душ.
Были и другие новости. Павел прекратил войну с Персией и отозвал войска В. Зубова, остановил воинские приготовления к походу против французов, отменил новый рекрутский набор, ввел жестокую дисциплину в армии, гвардии и даже при дворе: вельможам вменялось в обязанность к семи утра быть на приеме у государя. Он освободил политических узников: Новикова, Радищева, Трубецких, Костюшко и назначил два дня в неделю, в которые всякий подданный мог явиться к нему с устной или письменной просьбой.
Но к чему приводили самые благие намерения монарха? Как вспоминал А. Т. Болотов, «пользуясь свободою и дозволением всякому просить своего государя, затеяли было и господские лакеи просить на господ своих и, собравшись несколько человек ватагою, сочинили челобитную и, пришед вместе, подали жалобу сию государю, при разводе находившемуся. В оной, очернив возможнейшим образом своих господ и взведя на них тысячи зол, просили они, чтоб он освободил их от тиранства своих помещиков, говоря прямо, что они не хотят быть в услужении их, а желают лучше служить ему. Государь тотчас проникнул, какия страшныя, опасныя и бедственныя последствия могут произойти, если ему удовольствовать их просьбу… и, обозрев окружающих, подозвал к себе одного из полицейских и приказал, взяв сих людей и отведя на рынок, публично наказать нещадным образом плетьми и столько, сколько похотят сами их помещики… Сим единым разом погасил он искру, которая могла бы развести страшный пожар, и прогнал у всех слуг и рабов просить на господ своих». Россия и при Павле I оставалась тем же дворянско-крепостническим государством, отнимавшим у подневольных рабов даже самую возможность жаловаться.
Обрушивши свои реформы на армию, Павел I, безусловно, хотел пресечь злоупотребления, особенно многочисленные в последнее пятилетие царствования его матери. Он запретил использовать нижних чинов в услужении по домам, дачам, деревням, слил свои гатчинские войска с гвардейскими привилегированными полками, исключил из службы офицеров, не находившихся в полках в момент его вступления на престол, и т. д. Однако крайность мер и непримиримая ненависть к недавнему прошлому искажали до неузнаваемости даже добрые начинания. Чего уж тогда говорить о мерах губительных.
В числе их было неукоснительное стремление Павла подвести войска под прусский образец. Обмундирование, введенное по почину Потемкина, простое и удобное, было заменено прусским. Солдат одели в темно-зеленые, толстого сукна мундиры с лацканами, отложным воротником и обшлагами кирпичного цвета и длинные камзолы. Головы спереди остригли под гребенку и облили вонючим салом. К вискам привесили огромные пукли, а к затылку прикрутили аршинную косу и осыпали ее мукою. Каждый получил шляпу с широким серебряным галуном, большой петлицей и с черным бантом. Но шляпа эта была такой диковинной формы, что едва прикрывала голову и сваливалась на марше. Фланелевый черный галстук в два пальца шириною перетягивал шеи до невозможности. Ноги обули в курносые тесные башмаки и стянули за коленями черными суконными штиблетами с красными вдоль всей ноги пуговицами. Все снаряжение было тяжелым и обременительным.
Еще в бытность наследником Павел издал для своих «потешных» гатчинских войск устав 1760 года Фридриха II с некоторыми исключениями и добавками, направленными против екатерининских порядков. В самом начале 1797 года сей устав сделался обязательным для всей русской армии. При дворце был открыт «тактический класс», где военные советники нового государя — Каннибах, Штейнвер, Линденер на ломаном русском языке учили генералитет и офицеров новому строю и показывали приемы с эспантоном, парадным оружием в виде короткого копья, которое учредил для офицеров Павел. Унтер-офицерам вместо ружей даны были алебарды в четыре аршина длиной, то есть число стрелков в полку уменьшилось на добрую сотню человек.
За сущую безделицу генералы и офицеры исключались из службы, сажались в крепость, ссылались в Сибирь. Отправляясь на развод, они брали с собой по нескольку сот рублей на случай, если их отправят в ссылку. Один из заслуженных воинов, подполковник Федор Лен, заведовал офицерами свиты. Он был участником суворовских походов и при Измаиле «рекогносцировал крепость, по словам полководца, с лутчим узнанием всех мест, был под картечными выстрелами, с неустрашимостию выбрав удобные места для заложения демонтир батарей, и при открытии оных на правом фланге под канонадою успевал повсюду с отличным успехом и расторопностию», за что и получил боевого Георгия. Любимец Павла Аракчеев накинулся на него с позорной бранью за мелкую оплошность. Лен безмолвно выслушал оскорбления, остался при своих занятиях до конца, но, возвратясь домой, написал Аракчееву короткое письмо и застрелился.
Истинная мука настала для солдат. И в предшествовавшее царствование обращение с солдатами не отличалось мягкостью. При Павле оно приобрело характер подлинной жестокости. Генерал Аракчеев, лично обучая гвардейский Преображенский полк, поправлял выправку ударами, рвал усы у гренадер, бил без различия простых солдат и юнкеров нововведенной форменной палкой.
Страх сделался главным двигателем службы, особливо в столице. Многолетние боевые заслуги оказывались ничем ввиду какой-нибудь несоблюденной формальности. Оттого все внешнее стало первостепенно важным, а самый дух и сущность дела улетучились. Павел унизил фельдмаршалов, произведя в это высшее звание с десяток лиц заурядных. Он ослабил и значение генеральского чина, предоставив его нескольким юнцам. Каждый полк получил своего шефа, фамилией которого он теперь именовался взамен прежних названий, происходивших от русских городов. Тем самым потерпели урон власть и авторитет полковых командиров.
Столкновение, бескомпромиссное и решительное, павловского взгляда на армию как на послушный механизм со славной суворовской системой было неизбежно.
2
В середине ноября 1796 года Суворов перебрался из Тульчина в село Тимановку, где занял уютный двухэтажный дом. Отсюда руководил он своими войсками.
Не будучи никогда человеком близким ко двору и, следовательно, не зная толком истинного характера наследника, старый фельдмаршал первое время даже радовался происходившим переменам, хвалил нового государя за то, что тот «повалил кумиров» — прежде всего семейство Зубовых. Что беспокоило Суворова, так это тянувшееся с 1795 года так называемое дело Вронского; некоего секунд-майора, подавшего в Варшаве донос на злоупотребления по провиантской части.
Хотя следствие установило вдесятеро меньшую цифру расхищений — шестьдесят две тысячи рублей вместо полумиллиона, открылась довольно неприглядная картина обмана доверчивого Суворова его ближайшими подчиненными — Тищенко и Мандрыкиным. Сам Вронский получил «яко доноситель» пятнадцать тысяч рублей, но затем возбудил против себя подозрение в корыстных злоупотреблениях и был отослан в свой полк. Теперь, почитая себя несправедливо обнесенным, он подал жалобу Павлу I. Тот приказал возобновить следствие, одновременно послав 15 декабря 1797 года успокоительный рескрипт в Тульчин:
«Граф Александр Васильевич. Не беспокойтесь по делу Вронского. Я велел комиссии рассмотреть, его же употребить. Что прежде было, того не воротить.
Начнем сначала. Кто старое помянет, тому глаз вон, у иных, правда, и без того по одному глазу было.
Поздравляю с Новым годом и зову приехать в Москву, к коронации, есть ли тебе можно.
Прощай, не забывай старых друзей.
Павел.
Приведи своих в мой порядок, пожалуй».
Тон этого рескрипта был мягкий, почти дружеский, а предложение забыть старое (напомним, что Суворов почитался в последние годы любимцем Екатерины II) — благородным. Однако за вроде бы добродушными шутками, намеком на одноглазого Потемкина, за просьбой-постскриптумом старый фельдмаршал мог разглядеть и нечто иное, тревожное, грозное, а каждодневно умножавшиеся слухи о павловских реформах указывали на размеры надвигавшейся опасности для любимого детища — выпестованных им войск.
«Начнем сначала», — заявил новый монарх, восхотевший, не считаясь со славными традициями, совершенно переделать русскую армию. Тихая грусть овладевает душой Суворова. Авторитет государя для него безусловен, но не могут не вызвать протеста странные и вредные для армии павловские реформы. В этом воистину трагическом борении с собой великий полководец выказывает удивительное достоинство, неспособность поступиться выстраданными принципами даже перед монархом.
Фельдмаршал во власти «бури мыслей»: «Гордость приходит пред падением…», «На то благоразумие; не обольщайтесь розами, тернии под ними…» Затаенное сомнение растет: «А вежлив бывает и палач… недоверия не уменьшать и цветками какими не обольщаться…» По нескольку раз в день берется он за перо, помечая наверху листа: «на закате солнца», «поутру», «на вечер». Суворов словно оглядывает весь свой путь и подводит итог: «Я помню старую дружбу, ни в ком мне нужды нет, пекусь я только об общем благе, но паче желаю зло предварять…», «Родство и свойство мое с долгом моим — Бог, государь и отечество… Судьба всем правит…»
— Мне поздно переменяться! — повторял Суворов, все более вызывая раздражение Павла I нарушениями нового устава.
Фельдмаршал отправил в Петербург с частным письмом своего офицера — Павел приказал определить его в один из тамошних полков, а Суворову выразил неудовольствие, назвав подобное использование офицеров «неприличным ни службе, ни званию их». Не успел фельдмаршал получить этот рескрипт, как совершил сразу три провинности: просил разрешения переменить расположение подчиненных ему войск; получив распоряжение о роспуске казаков, хотел оставить у себя боевого генерала Исаева; наконец, самовольно дал отпуск в Петербург подполковнику Батурину. Последовал новый, резкий и раздраженный рескрипт. Еще не дошли эти повеления Павла, как Суворов вновь явил провинность: послал в Петербург капитана с донесением о том, что не получил никаких указаний о неупотреблении офицеров в курьерские должности. Последний дерзкий поступок был уже явным протестом против рутинной опеки.
Суворов решил вовсе устраниться от службы. В нововведенном уставе он легко узнает «прусские ухватки», «старую, протухлую» тактику Фридриха II. «Я лучше прусского покойного великого короля, — пишет он Хвостову, — я, милостию Божиею, баталии не проигрывал». Возмущаясь «бесполезной жестокостью в войсках», русский полководец отстаивает национальное достоинство, попранное в слепом подражании немецким порядкам: «Нет вшивее пруссаков. Лаузер, или вшивень, назывался их плащ; в штильгаузе и возле будки без заразы не пройдешь, а головной их вонью вам подарят обморок. Мы от гадины были чисты, и первая докука ныне солдат — штиблеты: гной ногам, за артельные телеги идут на половинное жалованье. Карейные казармы, где ночью запирать будут, — тюрьма… В слезах мы немцы».[2]
— Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять? — подводит он итог новациям Павла I в тактике, дисциплине, одежде солдат.
Его остроты ходят по всей России: «Косой не колоть, буклей не палить, пудрой не стрелять» или: «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, а я не немец, а природный русак».
Получив один за другим два высочайших выговора, объявленных по войскам, а затем отказ на просьбу о годичном отпуске, Суворов написал прошение об отставке. Однако Павел опередил его и уже 6 февраля на разводе отдал приказ: «Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь его императорскому величеству, что так как войны нет, и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы».
Суворов был готов к выезду, но теперь даже на это требовалось какое-то особое разрешение. Еще полтора месяца провел «генерал, генералов» в бездействии в Тимановке и в Тульчине, наконец в последних числах марта, в три пополуночи отправился в Кобрин. Не было ни трогательного прощания с войсками, ни плакавших фанагорийцев. Уволенный от службы без ношения мундира и сдавший командование другому Суворов и не мог собрать войска или хотя бы один полк и сказать речь.
По рескрипту Екатерины II фельдмаршалу отошло обширное имение и замок в городке Кобрине, расположенном к западу от Бреста. Тогда же в самом парке был выстроен окруженный земляным валом простой деревянный одноэтажный господский дом в семь комнат. Со стороны города к усадьбе вела дорога, обсаженная огромными пирамидальными тополями.
В начале апреля 1797 года Суворов приехал из Тульчина в Кобрин, где уже хозяйничал подполковник Корицкий, его доверенное лицо. Почти одновременно с опальным фельдмаршалом в имение перебрались офицеры, которым он предложил оставить службу и стать его подручными, — полковник Борщов, подполковники Фальконе, Гесс, Тихановский, майоры Трескин, Гресснер, Тимашов, капитан Капустянский, ротмистры Павловский и Вишневский, поручики Ставраков, Матюшинский, Корбут, Покровский, штаб-лекарь Белопольский. Суворов снабдил каждого письмом на владение определенным количеством крестьян с землей и угодьями — тысяча сто восемьдесят четыре души на восемнадцать человек. Почти сразу же по прибытии отставной фельдмаршал начал заниматься в имении хозяйственными делами.
По его приказу все служебные здания были вынесены за черту сада, а в господском доме сложена была единственная на весь Кобрин русская печь — специально для приготовления любимой Суворовым гречневой каши. Неподалеку от дома выстроили небольшую часовенку. Помимо обычных занятий, фельдмаршал много гулял; несмотря на холод ежедневно купался в небольшом пруду, окруженном липами; часто посещал городскую Петропавловскую крепость, построенную в XVI веке. У церковной колокольни лежал огромный камень, прозванный в народе Суворовским: на нем, по преданию, старый полководец часто отдыхал.
Недовольная новыми порядками армия роптала. Вокруг имени Суворова, ставшего символом славных боевых традиций, множились легенды.
Вечером 22 апреля в Кобрине появился коллежский асессор Ю. А. Николев, предъявивший отставному фельдмаршалу именное повеление государя: «Ехать вам в Кобрин или другое местопребывание Суворова, откуда его привезть в боровицкия его деревни, где и препоручить Вындомскому (боровицкому городничему. — О. М.), а в случае надобности требовать помощи от всякого начальства».
Точно во сне простился Суворов с друзьями, подписал наскоро протокольную книгу с доверенными письмами своим офицерам и, даже не сделав никаких хозяйственных распоряжений, не взяв никаких ценных вещей, среди коих были бриллианты в триста тысяч рублей, помчался с Николевым в глушь новгородских лесов. После утомительного двенадцатидневного пути Николев передал фельдмаршала под надзор премьер-майору А. Л. Вындомскому, а сам вернулся в Кобрин, именем императора арестовал всех офицеров и повез в Киев, где их посадили в крепость. Проведенное дознание, однако, ничего не дало, офицеры возвратились — кто в Кобрин, кто в свои полки. Новгородскому губернатору П. П. Митусову Павел написал: «Имейте смотрение, чтобы исключенные из службы майоры Антинг, Гресснер и ротмистр князь Четвертинский, и подобные им свиты Суворова, не имели никакого сношения и свидания с живущим в Новгородской губернии бывшим фельдмаршалом графом Суворовым».
3
Вместе с семнадцатью окрестными деревнями сельцо Кончанское было приобретено Василием Ивановичем Суворовым в 1769 году и включало тысячу душ мужского пола. Занятый по горло службою, сам А. В. Суворов побывал тут трижды, в 1784, 1786 и 1789 годах, заложив маленькую деревянную церковь во имя Святого Александра Невского и приказав насадить фруктовый сад. Явившись в это отдаленное имение 5 мая 1797 года, он нашел господский двухэтажный дом вовсе обветшалым, церковь запущенною, сад одичавшим. Пришлось поселиться в простой крестьянской избе, около церкви. На краю села, в доме крестьянина-карела расположился надзиравший за фельдмаршалом Алексей Львович Вындомский.
Слава великого полководца и ореол мученика придавали слежке за ним еще более неприятный оттенок. Судя по всему Вындомский, проявив гибкость и такт, сумел поладить со знаменитым ссыльным. В Кончанском Суворов получил письмо от дочери: «Все, что скажет сердце мое, — молить Всевышнего о продолжении дней ваших при спокойствии душевном. Мы здоровы с братом и сыном, просим благословения вашего… Желание мое непременное — скорее вас видеть; о сем Бога прошу, Он наш покровитель. Целую ваши ручки». Уже через месяц, испросив разрешение у государя, графиня Зубова с маленьким сыном Александром и тринадцатилетним братом Аркадием прибыла в Кончанское.
Старый фельдмаршал был так рад и взволнован, что не знал, как получше разместить дорогих гостей в своих убогих хоромах. Почти два месяца прожили они у Суворова, прибавив хлопот Вындомскому, который по каждому пустяку принужден был сноситься с губернатором Митусовым. Тот пересылал бумаги в Петербург, и Павел самолично вникал в каждую мелочь «Можно ли привезти из Кобрина в Кончанское бриллианты и другие ценные вещи?» — запрашивал Вындомский — и император накладывал резолюцию: «Можно». — «Дозволено ли пустить к Суворову прибывшего офицера?» Ответ: «Офицеру отказать и отправить назад». — «Разрешено ли фельдмаршалу навещать соседей?» — «Запретить». — «Вправе ли он выдать за соседа-помещика приехавшую родственницу Евпраксию Раевскую?» — «Разрешить» и т. д. Из далекого Петербурга император следил буквально за каждым шагом Суворова.
Вындомский тяготился своим положением, просил отставить его, ссылаясь на болезнь. Надзор за славным кончанским жителем Павел препоручил уже знакомому нам Николеву, который обязан был еженедельно доносить генерал-прокурору о поведении и образе жизни Суворова. Унизительный надзор более всего мучил фельдмаршала.
«Всемилостивейший государь!.. — писал Суворов Павлу в сентябре 1797 года. — Сего числа приехал ко мне коллежский советник Николев. Великий монарх! Сжальтесь: умилосердитесь над бедным стариком, простите, ежели в чем согрешил». Но в чудаковатом императоре сентиментальность соединялась с исключительной жестокостью, а порывы к добру — с бездушием. Жалобное послание осталось вовсе без ответа.
Встретив Николева, Суворов подступился к нему с нарочито наивным вопросом:
— Откуда приехал?
— Заехал по дороге из Тихвина, — уклончиво отвечал Николев.
— Слышал я, что за Кобрин ты пожалован чином, — продолжал, улыбаясь, фельдмаршал. — Правда, и служба большая. Выслужил, выслужил! Продолжай так поступать — еще наградят!
Николев почувствовал насмешку:
— Исполнять монаршью волю есть первейший долг верноподданного.
Суворов быстро возразил:
— Я бы этого не сделал, а сказался бы больным!..
Впрочем, после этого разговора опальный фельдмаршал сделался к своему надсмотрщику гораздо снисходительнее и ласковее.
С появлением Николева Наталья Зубова со всем семейством тотчас уехала. Впрочем, приближались холода, и в ветхом господском доме жить долее не представлялось возможным. По отъезде дочери Суворов сделался печален, много плакал и стал все более слабеть здоровьем. Вдобавок посыпались на него и неожиданные неприятности.
Проведав об опале, многие лица решили воспользоваться беззащитностью ссыльного фельдмаршала и предъявили разнообразные денежные претензии: некий майор Вичановский требовал, к примеру, возмещения тройной стоимости своей усадьбы, пострадавшей во время польской войны от гранаты; литовский граф Вурцель жаловался на неизвестно кем расхищенный поташ и лес; майор донского войска Чернозубов заявил, что израсходовал крупную сумму на фураж по словесному приказанию Суворова, и теперь просил вернуть эти деньги. Большинство исков, подчас самых нелепых, императором утверждались, так что опальный полководец оказался должен разным людям около ста тысяч рублей. Наконец, в рядах кредиторов появилась и жена, уповавшая «на высочайшее благоволение», единственное средство, которое «может ее извлечь из настоящего бедственного положения». Последовало повеление назначить Варваре Ивановне дом для жительства и ежегодное содержание в восемь тысяч рублей.
Суворов боролся с невзгодами по-своему, оставаясь верным спартанскому образу жизни. В Кончанском он по-прежнему вставал за два часа до рассвета, обливался водой, пил чай и шел в церковь, где стоял заутреню и обедню, причем сам громким голосом читал «Апостол» и пел басом на клиросе. В семь часов подавался обед, после фельдмаршал спал, потом обмывался, шел к вечерне, снова обмывался раза три и ложился спать. Не ел скоромного вовсе. Носил канифасовый камзольчик, на одной ноге — сапог, а на другой, раненой, — туфлю. По воскресеньям облачался в егерскую куртку и каску, в торжественные праздники надевая фельдмаршальский мундир без шитья, но с орденами. В будни ходил по деревне в нижнем белье, бегал и прыгал с крестьянскими детьми, слушал сельские новости и мирил поссорившихся.
Жизнь в Кончанском становилась для него мало-помалу все тоскливее. В начале февраля 1798 года уехал от Суворова воспитатель Аркадия и управляющий Кобринского ключа Сион, затем он отпустил бывших при нем отставных солдат. Только Прохор разделял его одиночество.
И вдруг перед кончанским ссыльным предстал его племянник Андрей Горчаков, флигель-адъютант Павла I.
Огромная популярность Суворова в армии и народе делала его опалу крайне неудобной. Император приказал девятнадцатилетнему Горчакову передать полководцу, «что, если было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению».
Увы, Павел плохо знал характер Суворова. Фельдмаршал принял известие равнодушно и от поездки в Петербург отказался. Убедившись, что воззрения нового государя на армию полностью противоположны его, суворовским, взглядам, он не находил основы для примирения. Делавший карьеру и не прошедший в отличие от старшего своего брата Алексея боевой школы, Андрей Горчаков страшился, что гнев Павла обрушится и на его знаменитого дядю, и на него самого. Ему удалось доказать Суворову, что поездка необходима. Упрямый старик согласился, но заявил, что по дряхлости и болезни отправится не иначе как на долгих, проселочными дорогами. Как ни уговаривал его Горчаков, знавший, что Павел с нетерпением ожидает прибытия фельдмаршала, тот стоял на своем. Тогда племянник ринулся на почтовых в столицу, а дядя стал неторопливо собираться в путь.
— Что, приедет граф? — встретил Павел своего флигель-адъютанта.
Горчаков поспешил заверить, что Суворов принял с радостью приглашение государя, но по слабости здоровья скакать на почтовых не может и прибудет в Петербург на своих лошадях, не так скоро.
Павел постоянно спрашивал Горчакова, где же Суворов, почему его так долго нет. Юный царедворец отговаривался как мог.
Наконец отставной фельдмаршал появился в Петербурге поздно вечером. Император, который уже лег спать, вышел при этом известии к Горчакову и сказал, что принял бы Суворова тотчас же, но так как очень поздно, то ждет его назавтра к девяти утра.
На другой день, надев военный мундир племянника — своего у него не было, — Суворов прибыл в Зимний. Он нашел некогда великолепный и пышный дворец Екатерины II преобразованным в огромную кордегардию — караульное помещение.
В комнатах учреждены были караулы; бряцанье оружия, топанье ногами носились эхом по залам; возвещательное слово «вон!», заблаговременно произносимое громко и протяжно часовыми, чтобы учрежденный в другой зале караул имел достаточно времени стать под ружье, пугало всех приходящих. В примыкавшей к кабинету Павла I зале уже стояли полукружьем в ожидании его выхода придворные. Имея твердое намерение выказать свое неодобрение и даже отвращение к новым порядкам, Суворов начал чудить, едва появившись во дворце.
Одному генералу он сказал:
— Поцеловал бы тебя в губы, да нос твой мешает!
У другого спросил, трудно ли сражаться на паркете. Наконец подступился к фавориту Павла, выкресту-турку и бывшему царскому брадобрею Кутайсову, возведенному в сан гардеробмейстера. К смущению фаворита, он сперва заговорил с ним по-турецки, а затем громким голосом спросил его:
— Кутайсов, ведь вы мой друг? Сделайте же мне удовольствие — укажите мне, где здесь известное место!
Скрывая свое раздражение, Кутайсов объяснил, как найти нужник. Но фельдмаршал хотел его доконать:
— Я так стар и так плохо вижу… Если я пойду туда один, то, боюсь, не найду пути. Будь любезен, голубчик, доведи меня дотудова…
Гардеробмейстер исполнил и эту просьбу Суворова, причем фельдмаршал, вернувшись, старался всех убедить, что Кутайсов довел свою любезность до крайних пределов и оказал ему при этом всю помощь, на которую можно рассчитывать в подобных случаях только от близкого друга.
Сопровождаемый обер-церемониймейстером появился Павел и тотчас же в нарушение всех своих правил взял Суворова за руку и увел в кабинет. Более часа разговаривал император с опальным полководцем, всячески намекая ему о поступлении на службу. Фельдмаршал упрямо переводил разговор на свои прошлые победы, длинно рассказывал о штурме Измаила. Павел терпеливо выслушивал его и снова говорил о продолжении военной карьеры. Суворов в ответ вспоминал взятие Праги и другие виктории. Пришло время ехать к разводу.
Желая сделать приятное Суворову, император приказал на сей раз производить не обычное ученье, а водить батальон в атаку. Но и шаг был не знаменитым суворовским «шагом-аршином», и атака не напоминала сквозной удар штыком. Суворов же позволял себе такие выходки, которые могли бы стоить любому другому головы: он бегал и суетился между взводами; делал вид, что не может справиться с плоской форменной шляпой, хватался за поля и то и дело ронял ее; изображал на лице крайнее недоумение и удивление и что-то шептал себе под нос. Когда Павел спросил, что это делает фельдмаршал, тот ответил:
— Читаю молитву «Да будет воля Твоя…».
Павел вел себя неузнаваемо, сдерживался и терпел, но для обоих военный развод был пыткой: один видел полное устранение прежних порядков, другой — явное неодобрение введенных им новшеств. Суворов беспрестанно подходил к Горчакову и громко говорил ему:
— Нет, не могу более! Уеду.
Перепуганный юноша молил его потерпеть, так как оставить развод, когда на нем находится государь, крайне неприлично. Однако Суворов настоял на своем:
— Не могу, брюхо болит!
По возвращении во дворец Павел вызвал Горчакова:
— Извольте, сударь, ехать к вашему дяде, спросите у него самого объяснение его поступков и привезите ответ. До тех пор я за стол не сяду.
Горчаков поскакал на Крюков канал к Хвостову, где остановился Суворов. Фельдмаршал раздетый лежал на диване. Он резко сказал племяннику, что поступит на службу лишь тогда, когда ему будет возвращена вся прежняя полнота власти, как было при Екатерине II. Горчаков отвечал, что не смеет передать эти слова императору.
— Передай что хочешь, а я от своего не отступлюсь! — сказал Суворов.
Все последующие дни император безуспешно пытался примириться со славным фельдмаршалом, не понимая причин его упорства. Однако, верный принципам самобытности русской армии, Суворов вел неравную борьбу со всесильным монархом. И в отсутствие и в присутствии Павла он не упускал случая высмеять новые правила службы, прусские ритуалы и неудобное обмундирование. Пребывание его в Петербурге делалось все более бесцельным.
Наконец он прямо обратился к Павлу и испросил разрешения вернуться в деревню. Император с видимым неудовольствием дал согласие.
4
Первое время Суворов блаженствовал в Кончанском, отдыхая от безотрадных петербургских впечатлений. Унизительный гласный надзор был теперь снят.
Фельдмаршал ездил к ближним помещикам и принимал их у себя, позволяя себе вволю почудить. Раз прибыл к нему в гости некий сосед в карете о восьми лошадях и добился ответного визита, зазвав в этот день всю округу. Удивлению собравшихся не было предела, когда показались восемьдесят лошадей цугом, тянувших бричку. Форейтор полчаса сводил их в клубок, пока наконец во двор, не въехал Суворов. Назад в Кончанское фельдмаршал отправился уже на одной лошади.
Заживши помещиком, он много заботился о благоустройстве усадьбы, видя, очевидно, в ней свое последнее пристанище: велел строить одноэтажный господский дом, сажать фруктовые деревья, перекидывать мостики через ручьи. Часто посещал он крестьянские дворы, устраивал свадьбы, присутствовал на крестинах. Он прибавил жалованье дворовым, назначил пенсию отцу своего верного Прохора, а самому камердинеру обещал по своей смерти вольную. Прохор ее и в самом деле получил от сына фельдмаршала Аркадия Александровича.
Фельдмаршал полюбил более всего в Кончанском остроконечную гору Дубиху, к которой от усадьбы вела березовая аллея. От некогда росших здесь дубов не осталось ничего, кроме названия, — гора была покрыта огромными елями. На Дубихе поставили беседки и маленький, в двенадцать квадратных метров, двухэтажный домик, обнесенный снаружи открытыми узкими галереями. Внизу помещались кухня и людская, наверх вела лесенка в восемь — десять ступенек. В комнате Суворова стояло старое кресло, дубовый стол на одной ножке и лежала куча соломы. Отсюда видны были дальние леса и реки, здесь Суворов наслаждался природой и уединением.
Между тем Павел I, обеспокоенный победами Франции, стал все чаще подумывать об оказании военной помощи Австрии и Англии. События на Мальте сильно повлияли на его решение. Сохранившийся с крестовых походов средневековья державный орден Святого Иоанна Иерусалимского, не зависевший ни от какого государя, в действительности искал себе сильного покровителя. Когда Наполеон завладел Мальтой, Павел взял орден под защиту и принял сан великого магистра. В этом несколько театральном поступке сказался весь характер императора. Какие выгоды приобретала Россия от учреждения «Греко-Российского Великого Приорства»? Кому нужен был бутафорский орден? Но Павел, пылко мечтавший о новом крестовом походе, начал войну с Францией.
В помощь Порте и англичанам император послал адмирала Ушакова, который «при великих воинских дарованиях, при необыкновенной твердости воли… отличался также простотою старинных русских нравов и обычаев». Царьград, еще недавно трепетавший при имени Ушак-паши, увидел в Мраморном море русскую эскадру, и сам султан, переодетый в платье босяка, ездил на лодке осмотреть ее.
На западных границах России в полной боевой готовности стоял двадцатитысячный корпус генерала А. Г. Розенберга. Накануне неизбежного заграничного похода русских войск Павел I снова вспомнил о Суворове. В начале сентября 1798 года к нему выехал генерал-майор И. И. Прево де Люмиан, хорошо знакомый фельдмаршалу по совместной службе в Финляндии. Император поручил ему узнать мнение Суворова о стратегическом плане войны.
Великий полководец продиктовал де Люмиану условия, необходимые для победоносной кампании:
«1) Только наступление.
2) Быстрота в походе, горячность в атаках холодным оружием.
3) Никакой методичности при хорошем глазомере.
4) Полная власть генерал-аншефу.
5) Атаковать и бить противника в открытом поле.
6) Не терять времени на осаду… брать скорее крепости штурмом и сразу живой силой; так имеешь меньше потерь.
7) Никогда не распылять силы для сохранения различных пунктов. В случае если противник их минует, это тем лучше, ибо он приближается, чтоб быть битым».
Это был чисто суворовский план стремительной кампании, противоречивший в корне представлениям пруссофила Павла и придворного военного совета Австрии — гофкригсрата. Фельдмаршал предлагал оставить только два корпуса — у Страсбурга и Люксембурга, а с главными силами идти на Париж. Наблюдая за успехами республиканской Франции, Суворов мечтал сразиться с молодым Бонапартом и говаривал:
— Далеко шагает мальчик! Пора унять…
Очень скоро в беседе с Ростопчиным он назовет Наполеона в ряду величайших полководцев мира — Цезаря и Ганнибала.
Однако, уносясь в мечтах навстречу французским армиям, отставной фельдмаршал прекрасно понимал, что надежд возвратиться на военную службу нет, что близка смерть. Не было в живых уже почти никого из знаменитых современников Суворова — Екатерины II, Фридриха II, Орловых, Румянцева, Потемкина. «Травою забвенья» поросли валы Измаила и поля Фокшан и Рымника, паук стлал свою паутину в спальне огромного потемкинского дворца в Херсоне, и разваливались торжественные врата, выстроенные в честь Екатерины. Новые люди вершили политику и вели войны: двадцатидевятилетний Бонапарт, двадцативосьмилетний командующий Рейнской армией австрийцев эрцгерцог Карл, тридцатилетний Жубер. Казалось, и сам Суворов был уже теперь сказочным обломком уходившего XVIII столетия.
Давали о себе знать многочисленные ранения. «Левая моя сторона, более изувеченная, уже 5 дней немеет, а больше месяца назад был я без движения во всем корпусе», — сообщал Суворов в декабре 1798 года. Чувствуя себя бесконечно одиноким, порвав отношения с Н. Зубовым и даже на время с любимой дочерью, почти семидесятилетний фельдмаршал решает уединиться в монастыре. В том же декабре обращается он к Павлу I: «Ваше императорское величество, всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в Нилову новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу. Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости, милосердный государь». Под прошением подпись: «всеподданнейший богомолец, Божий раб».
История, однако, готовила Суворову еще одно, быть может, самое трудное испытание.
6 февраля 1799 года в Кончанское примчался флигель-адъютант Толбухин с собственноручным рескриптом Павла I: «Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мой корпус Розенберга и Германа идут. И так посему и при теперешних европейских обстоятельствах долгом почитаю не от своего только лица, но и от лица других предложить вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для въезда в Вену». В другом, частном письме император пояснял: «Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».
Говорили, что, получив письмо императора Франца, приглашавшего Суворова в военачальники, Павел сказал Ростопчину:
— Вот каковы русские — везде пригождаются…
Император, как и год назад, сомневался, приедет ли Суворов, а если приедет, то скоро ли. Но теперь было иное дело…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ НА ПУТИ В ИТАЛИЮ
Час собираться, другой отправляться… Денег взять на дорогу 250 рублей. Егорке бежать к старосте Фомке и сказать ему, чтобы такую суму поверил. Еду не на шутку, да ведь я же служил здесь дьячком и пел басом, а теперь еду петь Марсом.
Письменное распоряжение Суворова1
Триумфальный поход Суворова в Северную Италию начался из глухого Кончанского.
Он явился в Петербург исстрадавшийся, полуживой, но могучий духом, с твердой верой в свою победу на италийских полях. Впрочем, одну, нравственную победу он уже одержал — над царем в отстаивании русской самобытности.
— Веди войну по-своему, как умеешь, — сказал Павел I в ответ на просьбу фельдмаршала о некоторых переменах в войсках.
Император возложил на Суворова большой крест Святого Иоанна Иерусалимского, всячески подчеркивал свое расположение к великому полководцу. Суворов воспользовался этим для очередного доброго дела. В Петербурге получил он слезное письмо от некой вдовы Синицкой: «Семьдесят лет живу на свете; шестнадцать взрослых детей схоронила; семнадцатого, последнюю мою надежду, молодость и запальчивый нрав погубили: Сибирь и вечное наказание достались ему в удел, а гроб для меня еще не отворился… Государь милосерд, граф Рымникский милостив и сострадателен, возврати мне сына и спаси отчаянную мать лейб-гренадерского полку капитана Синицкого».
Переговорив с Павлом, Суворов отвечал: «Утешенная мать, твой сын прощен; аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
Справедливости ради нужно сказать, что Павлу были свойственны не только приступы импульсивного гнева.
Окружавшие его честолюбцы и заговорщики, желая ослабить влияние жены Марии Федоровны и фаворитки Нелидовой, привлекли внимание императора к юной красавице Анне Лопухиной. Та не сдавалась на страстные ухаживания Павла и в конце концов призналась, что любит молодого П. Г. Гагарина, состоявшего при Суворове адъютантом во время итальянского похода. Павел вызвал офицера в Петербург и 8 февраля 1800 года обвенчал его с Лопухиной.
Резкая перемена в отношении государя к Суворову не осталась незамеченной: придворные валом повалили к полководцу. Старый фельдмаршал, не терпевший комплиментов, высмеивал льстецов.
Один из временщиков явился к нему в звездах и лентах. Суворов несколько раз спрашивал у него имя, качал головой и повторял:
— Не слыхивал! Не слыхивал! Да за что же вас так пожаловали?
Временщик не смел сказать «за заслуги» и смущенно бормотал что-то о «милостях и угождениях».
— Прошка! — закричал Суворов. — Поди сюда, дуралей, поди, учись мне угождать! Я тебя пожалую: видишь, как награждают, кто угождать умеет!
Явился к Суворову и его мучитель Николев. Такая бестактность застигла фельдмаршала врасплох. Он выбежал ему навстречу, кланяясь чуть не в ноги:
— Куда мне посадить такого великого, такого знатного человека! Это первый мой благодетель! Прошка, посади его выше всех!
Прохор взмостил стул на диван и при громком смехе присутствующих заставил усесться на это «высокое» место.
Среди приближенных императора Суворов выделил умного и честолюбивого Ф. В. Ростопчина, начальника департамента, первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел и генерал-адъютанта. С ним делился славный полководец своими планами войны, давал характеристики австрийским и французским генералам, не переставая и тут шутить. Однажды посреди важного разговора фельдмаршал вдруг запел петухом.
— Как это можно! — воскликнул Ростопчин.
— Поживи с мое, — отвечал Суворов, — запоешь и курицей!
«Трех смелых людей знал я в свете», — говорил полководец. Ростопчин спросил их имена.
— Курций, Долгорукий да староста Антон: один бесстрашно бросился в пропасть, другой не боялся говорить царю правду, а третий ходил на медведя…
Афоризмы Суворова мгновенно разлетались по Петербургу, увеличивая восторг публики. За фельдмаршалом на улицах теснились толпы, народ выражал ему уважение самым разнообразным способом. Отовсюду являлись старые знакомые по славным победам, желавшие служить с ним. Не было конца ликованию солдат экспедиционного корпуса Германа, прослышавших, что Суворов призван командовать ими.
Противник, с которым предстояло померяться силою, далеко превосходил не только турок, но и пруссаков и австрийцев, что он уже доказал на полях сражений. В ответ на усилия феодально-монархической коалиции задушить буржуазную республику французская армия в 1793 году сама перешла границы, устанавливая в завоеванных землях новое, республиканское правление. К 1799 году Голландия стала называться Батавской республикой, Швейцария — Гельветической, в Италии, раздробленной на множество карликовых государств, появились Пьемонт на месте Сардинского королевства, республики Цизальпинская с центром в Милане, Лигурийская и Парфенопейская, сменившая Неаполитанское королевство.
Однако чем далее в чужие пределы проникали французские войска, тем заметнее менялся самый характер войны, которая переставала быть для Франции оборонительной и превращалась в захватническую. Этот процесс окончательно завершился во времена завоевательных кампаний империи Наполеона, в начале XIX века.
Французская армия была необычайно сильна организационно. Молодые и честолюбивые генералы революционизировали самую тактику ведения боя, используя густые стрелковые цепи и колонны. Французский солдат в совершенстве владел холодным оружием. Придерживавшиеся мертворутинной линейной системы пруссаки и австрийцы жаловались, что «при обыкновенном течении вещей» французы были бы побеждены, но они всегда прорываются «со страшной силой», как «бурный поток». После смерти австрийского командующего в Италии, двадцатишестилетнего принца Оранского, мнение всех было единодушным — лишь Суворов сможет противостоять напору французских войск.
Однако, согласившись на предложение союзников, Павел I тогда же отправил тайный рескрипт генерал-лейтенанту Герману:
«Венский двор просил меня, чтобы поручить фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому начальство над союзными войсками в Италии. Я послал за ним, предваряя вас, что если он примет начальство, то вы должны во время его командования наблюдать за его предприятиями, которые могли бы служить ко вреду войск и общего дела, когда он будет слишком увлечен своим воображением, могущим заставить его забыть все на свете. И так хотя он стар, чтобы быть Телемаком, но не менее того, вы будете ментором, коего советы и мнения должны умерять порывы и отвагу воина, поседевшего под лаврами».
Герман взялся за щекотливое поручение без колебаний, в наивной самонадеянности полагая, что и в самом деле укротит беспокойного фельдмаршала своей немецкой методой. Его бесславное командование русским корпусом в Голландии доказало впоследствии, как мало годился он в соперники революционным генералам: корпус был разгромлен, а сам Герман оказался в плену. Еще менее подходил он для роли суворовского ментора.
Проведя в Петербурге около двух недель, великий полководец выехал в последних числах февраля в Вену, двигаясь довольно медленно, так как здоровье его заметно расстроилось уже в Кончанском. На пути Суворова была Митава, где проживал тогда герцог Прованский, принявший впоследствии имя Людовика XVIII.
2
Еще недавно будущее рисовалось последнему из Бурбонов в самом мрачном свете. После своего бегства из Франции герцог Прованский, по собственным словам, вел «кочевую жизнь авантюриста». После долгих скитаний он получил приглашение Павла I поселиться в России.
Герцогу был назначен для жительства митавский дворец, некогда принадлежавший временщику Анны Иоанновны Бирону. Правда, прибыв со своей свитой в столицу Курляндии, претендент нашел дворец в ужасном состоянии: часть огромного здания пострадала от пожара, меблированы были лишь покои для него самого и герцога Ангулемского, зато негде оказалось разместить слуг и телохранителей-гвардейцев. Обещанная ему пенсия не поступала из Петербурга несколько месяцев. Герцог глядел на голые стены, слушал рассказы о былом великолепии митавского дворца, где когда-то имелась комната, вымощенная поставленными на ребро рублевиками, и терпеливо ждал.
1799 год пробудил в изгнаннике надежды на лучшее будущее. После обеда, следя по обыкновению за партией в триктрак или шахматы, герцог Прованский рассуждал о последствиях монархической коалиции, о странном характере Павла I, к которому будто бы, как к Гамлету Шекспира, является тень его отца, или уходил в кабинет писать напыщенные воззвания европейским государям.
Как и вся Митава, его двор жил слухами о едущем через столицу Курляндии знаменитом фельдмаршале.
С утра в резиденции Суворова собралась толпа желающих ему представиться. Когда пробило восемь часов, отворились двери в залу, появилась щуплая фигура в одной нижней рубахе, голосом Суворова сказала: «Фельдмаршал сейчас выйдет!» — и скрылась. Почти тотчас же он вышел снова, но уже в зеленом, расшитом бриллиантами по швам мундире и многочисленных орденах. Скорость, с которой он облачился, имела цель опровергнуть слухи о старости и дряхлости полководца.
После приема Суворов, сопровождаемый множеством горожан, прошелся по улицам и посетил гауптвахту. Заметив, что караулу принесен обед, фельдмаршал сел вместе с солдатами и с большим аппетитом поел каши, а затем, как было условлено, поехал к претенденту на французский престол.
В четырехугольном внутреннем дворе Суворова уже ожидал почетный караул гвардейцев-телохранителей претендента. В приемной зале собралась вся свита — герцог Ангулемский, графы д’Аваре и де Гиш, капитан королевских мушкетеров граф де Коссе, многочисленные министры — министры без министерств! — рекетмейстеры, камер-юнкеры, придворные духовники. Претендент на корону Франции уж шел Суворову навстречу, отметив про себя худобу генерала, его маленький рост, лукаво сверкающие голубые глаза, отсутствие парика и расстегнутый мундир. Он несколько поежился, когда Суворов по древнему русскому обычаю сперва поклонился до земли, а затем поцеловал его руку и полу.
— Я счастлив видеть, — высокопарно начал герцог Прованский, — первый меч России и глубоко сожалею о невозможности разделить с вами боевые опасности победы, в которой совершенно уверен…
Суворов изумил претендента первым же своим ответом:
— Бог в наказание за мои грехи, — почти сердито сказал фельдмаршал, — послал Бонапарта в Египет, чтобы не дать мне славы победить его.
Гул недоверия, смущения, восхищения прошел по толпе аристократов, трепетавших при одном упоминании имени непобедимого генерала.
— Ваша шпага есть орудие кары, которое направляет само Провидение, господин фельдмаршал, — торжественно проговорил претендент, приглашая гостя в кабинет для беседы.
Суворов тут же отозвался:
— Надеюсь, ваше величество, сжечь немного пороху, чтобы выгнать неприятеля из Италии! И прошу вас, государь, назначить мне свидание с вами во Франции в будущем году.
В сердце претендента эта уверенность отозвалась болью: и республиканцы оставались для него французами! Он молча наклонил завитую голову, пропуская фельдмаршала в кабинет.
Более часу шушукались аристократы, обсуждая увиденное и услышанное, меж тем как герцог Прованский восхищался той ловкостью бывалого придворного, с которой Суворов поддерживал разговор. Полководец рассуждал о том, что после побед в Северной Италии надобно войти в Дофине, направиться к Лиону, а затем ударить на Париж. Он говорил о провинции Дофине, ее стратегическом положении, экономических возможностях, словно ему довелось жить в ней. По отбытии Суворова претендент, тщательно взвешивая слова, сказал своим придворным:
— Под этой оригинальной оболочкой таятся дарования великого военного гения.
3
Вскорости Суворов был уже в Вильне. На площади перед главной гауптвахтой его ожидали представители военных и гражданских властей, горожане, а также любимый Фанагорийский полк во главе со своим командиром Языковым. Не выходя из экипажа, фельдмаршал принял от полковника почетный рапорт и спросил:
— А есть ли тут мои старые фанагорийцы?
— Есть, ваше сиятельство! — Языков дал знак ветеранам приблизиться.
Тут же около пятидесяти рослых и седоволосых усачей подошли к экипажу:
— Отец!.. Батюшка!.. Здравствуй!
Прерывающимся от волнения голосом Суворов откликнулся:
— Здравствуйте, чудо-богатыри! Русские витязи! Мои друзья милые! Здравствуйте! А! Кабанов? Кириллов? Здравствуйте!
— Ваше сиятельство! Отец ты наш родной, — начал говорить гренадер Кабанов, — возьми же ты нас с собою!
— Хотим! Желаем, батюшка ты наш Александр Васильевич! — подхватили остальные.
Просьба была невыполнимая: согласно утвержденному Павлом расписанию войск фанагорийцам предстояло отправиться в Голландию. Однако, не желая огорчать боевых товарищей отказом, Суворов громко, так, чтобы все слышали, сказал:
— Буду молить о том государя!
Почтовых лошадей переменили, экипаж понесся дальше. Еще стояла снежная зима, дорога была трудной из-за ухабов и сугробов. В одном месте застрявший экипаж вытащили подоспевшие кавалеристы. Пока солдаты работали, Суворов кричал им:
— Ура, ура, храбрые рымникские карабинеры!
Он узнал полк, участвовавший в знаменитой кавалерийской атаке на турецкие окопы под Рымником.
Из-за дурной дороги фельдмаршал в конце концов переменил экипаж на почтовые сани. 3 марта он остановился на несколько дней в своем Кобринском ключе и отдал распоряжение по имению. Только 9-го числа Суворов пересек границу и 14-го вечером прибыл в Вену. Ему отвели покои в русском посольстве, причем посол А. К. Разумовский распорядился вынести из комнат фельдмаршала зеркала и бронзу.
Когда на другой день Суворов отправился с графом Разумовским на прием к императору Францу, толпы любопытных запрудили венские улицы. Тридцатилетний император принял русского полководца чрезвычайно любезно. Суворову был пожалован чин австрийского фельдмаршала, ему подчинили, как главнокомандующему, союзную армию и обещали полную свободу действий. Однако одновременно император попросил его подробно высказаться о предстоящей кампании.
Именно с этого момента зародилось взаимное недоверие. Во главе австрийского гофкригсрата стоял барон Тугут, сын простого обывателя, правдами и неправдами пробивший себе дорогу. То, что он сам никогда не служил в армии и не разбирался в военных делах, не мешало ему составлять планы кампаний, давать советы генералам и вмешиваться во все подробности операций. Ради корысти он мог поступиться всем, чем угодно, вплоть до интересов своей родины. По словам Багратиона, это был «тонкий, бесчестный дипломат, глупейший в мире военный тактик и в высочайшей степени гордец и эгоист, нанесший своему отечеству неизобразимые бедствия».
Тугут всецело подчинил своему влиянию русского посла в Вене Разумовского, которого сами австрийцы прозвали «эрцгерцог Андреас». Посол не раз пытался уговорить Суворова, чтобы тот посетил Тугута, но слышал в ответ:
— Андрей Кириллович, ведь я не дипломат, а солдат. Куда мне с ним говорить? Да и зачем? Он моего дела не знает, а я его дела не ведаю. Знаете ли вы первый псалом в псалтыре? «Блажен муж, иже ведает…»
Твердость и даже упрямство русского полководца еще более обострили отношения. Конечно, педантичный венский гофкригсрат после принесенных страной громадных жертв и многих военных неудач не мог слепо ввериться какому-то одному лицу, вдобавок иностранцу. Однако и Суворов понимал, что его наступательный план, изложенный в Кончанском Прево де Люмиану, не удовлетворит кабинетных теоретиков. Когда члены гофкригсрата, исполняя волю императора, приезжали к фельдмаршалу, тот говорил, что определить детали кампании можно лишь на месте, исходя из состояния вверяемых ему войск. Генералу Лауеру он сказал:
— Цель — к Парижу! Достичь ее: бить врага везде; действовать в одно время на всех пунктах. Военные дела имеют свой характер, ежеминутно могущий измениться. Частные предположения тут не имеют места, и впредь предвидеть их никак нельзя. Одно лишь возможно: бить и гнать врага, не давая ему времени ни минуты, и иметь полную свободу действий. Тогда с помощью Божиею можно достигнуть цели, в чем и ручаюсь.
Но гофкригсрату нужны были планы, предусматривающие каждый шаг. Суворову привезли прожект военных операций в Северной Италии, территориально ограниченных рекой Аддой, и попросили изменить или поправить то, что он найдет нужным. Фельдмаршал перечеркнул план и приписал внизу, что начнет кампанию переходом через Адду, а кончит, где Богу будет угодно.
По словам А. Петрушевского, «будучи знатоком истории, особенно военной, и изучив в совершенстве войны XVIII столетия, Суворов не мог не видеть, что несчастная мания — все предвидеть, все комбинировать на бумаге и направлять каждый шаг главнокомандующего из кабинета — дорого обходилась Австрии уже несколько десятков лет, и только одна эта держава по непонятной слепоте не замечала фальши в своей системе».
— В кабинете врут, а в поле бьют! — постоянно говорил Суворов.
Наметившаяся было натянутость в отношениях еще не предвещала, однако, серьезных разногласий. Много значило и личное обаяние Суворова. Даже император Франц сделался весел как никогда. Фельдмаршал шутил с ним, а однажды сказал при встрече:
— С французами обходились слишком вежливо, как с дамами. Но я стар для учтивостей и поступлю с ними грубее!
В Вене Суворов встретился с принцем Кобургом, старики всплакнули, вспомнив былое. Александру Васильевичу нанес визит покинувший уже военную службу отважный мадьярский генерал Карачай, приведший с собой сына Александра.
Расцеловав Карачая, Суворов заговорил с ним по-турецки. Тот отвечал ему с превеликим трудом, извиняясь, что позабыл язык. Разговорились о минувших войнах, о Фокшанах, Рымнике, Измаиле…
— Зачем не взяли мы тогда Константинополь! — воскликнул фельдмаршал. Карачай со смехом ответил, что это было не так-то-легко.
— Нет! — возразил Суворов. — Сущая безделица! Несколько переходов при унынии турков — и мы в Константинополе, а флот наш в Дарданеллах.
Карачай напомнил о препятствиях на пути к проливам.
— Пустяки! Наш Эльфинстон вошел туда в 1770 году с одним кораблем, не удостоил их и выстрела, посмеялся над этой неприступностью музыкою на корабле и возвратился, не потеряв ни одного человека. Знаю, что после барон Тот укреплял Дарданеллы. Но турецкая беспечность давно привела их в первобытное состояние. Почитай описание сих Дарданелл у Эттона, английского резидента в Порте, и ты убедишься, что я прав. Наш флот был бы там. Но миролюбивая политика, остановившая его паруса и руль, велела ветрам дуть назад…
Во время разговора боевых друзей сын Карачая, избалованный и пререзвый мальчик, бегал и скакал по стульям. Отец принялся унимать его, но Суворов удержал генерала:
— Оставь его! Пусть шалит, это меня тешит. Скоро, ах! скоро поблекнет сей золотой без золота возраст, при первом звуке слова: этикет. Тогда прощай невинная простота и веселость младенчества!
Расставаясь, русский фельдмаршал предложил Карачаю вновь поступить на военную службу и ехать с ним в Италию. Тот с радостью согласился.
24 марта Суворов решил покинуть Вену. Однако на прощанье император Франц вручил ему подробную инструкцию. Как справедливо замечает А. Петрушевский, она была «именно тем самым, во избежание чего Суворов не хотел обязываться пред гофкригсратом никакими заранее составленными предположениями… По духу и букве документа следовало ожидать длинной, бесцветной кампании, с нескончаемым маневрированием и с зимними квартирами, пожалуй, по-прежнему за Адидже. Робость проглядывала во всем плане вместе с обычной недоверчивостью к командующему. Это был, так сказать, заранее изготовленный приказ со вставленным именем Суворова вместо „имярек“. Для такого плана положительно не стоило вызывать Суворова из Кончанского; мало того, назначать его на пост главнокомандующего было прямо вредно при подобных условиях, потому что он всю свою военную карьеру постоянно боролся с непрошеной опекой, в каких бы размерах она ни проявлялась».
Гофкригсрат и его руководитель Тугут, таким образом, добились своего. Почти угадывая будущее, русский фельдмаршал сказал Разумовскому:
— Андрей Кириллович! Если правительство австрийское станет действовать в свою пользу более, чем в пользу общую, труды наши будут тщетны, даром прольется русская кровь и все пожертвования России будут напрасны…
Выезжая из Вены, Суворов поблагодарил графиню Разумовскую за гостеприимство, надел на нее цепочку с золотым сердечком, замкнул его, а ключик оставил себе.
По пути в Верону очень скоро начал он обгонять войска, шедшие ускоренным маршем. Торопился Суворов, ехал день и ночь, и в Штейермаркских горах дормез его свалился в темноте в реку. Фельдмаршал больно ушибся, но на сожаления спутников отвечал бодро:
— Ничего! Жаль только, что церковные ноты мои подмокли, — боюсь, что не по чему будет петь: «Тебе, Бога, хвалим!»
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ АДДА
…Мало славы было разбить шарлатана. Лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть!
Суворов1
Что же происходило в Северной Италии, куда выехал Суворов? Командование восьмидесятишеститысячной группировкой австрийских войск, расположенной на обширном пространстве от реки Адидже до Штирии, Истрии и Дальмации, после долгих проволочек было вверено престарелому генералу от кавалерии Меласу, человеку мужественному, но лишенному энергии и таланта военачальника. Им противостояли пятьдесят восемь тысяч французских солдат во главе с дряхлым и старым Шерером, бывшим военным министром, не пользовавшимся в армии никаким доверием. Остальные войска Директории были частью в Южной Италии — двадцать восемь тысяч под командованием талантливого Макдональда, частью рассеяны по крепостям Ломбардии, Пьемонта и Лигурии.
15 марта 1799 года понуждаемый Директорией Шерер выступил с сорокашеститысячной армией к реке Адидже, где занимали оборонительные позиции австрийцы. Французы держали решительный перевес на своем левом фланге — австрийцы нанесли сокрушительное поражение их правому крылу. После кровопролитного сражения Шерер и австрийский генерал-лейтенант Край пребывали в нерешительности. Обе армии маневрировали по линии Адидже и 25 марта сошлись у Маньяно в новой жестокой битве. Жертвы с обеих сторон были огромны, но французы пострадали более австрийцев, потеряв пять тысяч пленными, восемнадцать пушек и весь обоз. После этого первые отошли за реку Минчо, а вторые расположились юго-западнее Вероны у Вилла-Франка.
Край бездействовал, ожидая еще не прибывшего Меласа. За один месяц австрийцы потеряли в Северной Италии двадцать тысяч солдат. 29 марта появился наконец Мелас и сам стал ждать — сперва русские корпуса Розенберга и Ребиндера, а затем Суворова.
В это время, страшась быть отрезанными, французы покинули свою сильную оборонительную линию, оставив лишь гарнизоны в Брешии и усилив Мантую. Шерер, предполагая утвердиться на правом берегу реки Адды, боялся прихода русских, требовал себе подкреплений из Тосканы и Милана, запрашивал Париж и умолял Макдональда поспешать из Неаполя ему в помощь. Австрийцы все медлили, и Мелас только 3 апреля решился выдвинуть войска.
В тот же день Суворов въехал в Верону.
Русского фельдмаршала встретил генерал-квартирмейстер маркиз Шателер. Сидя с Суворовым в карете, ученый австрийский генерал показывал по карте расположения войск и старался выведать мысли своего знаменитого собеседника. Но Суворов, рассеянно его слушая, лишь повторял:
— Штыки, штыки…
3-го же апреля в Вену привезли трофеи, доставшиеся австрийцам в битве при Маньяно. На площади Бра выставлены были французские орудия и снарядные ящики, а на площади Мариани развевались трофейные знамена.
Когда впечатлительные итальянцы услышали о приезде русского полководца, они бросились ему навстречу, выпрягли лошадей и, восторженно крича, повезли Суворова к отведенному ему дворцу Эмилио:
— Да здравствует наш освободитель!
Фельдмаршал быстро взбежал по мраморной лестнице в приготовленные для него покои, в которых были уже занавешены все зеркала. В приемной зале его ожидали русские и австрийские генералы, представители духовенства Вероны, городского управления, депутаты. Вскоре Суворов вышел к ним в белом мундире австрийского фельдмаршала, при всех орденах, поклонился, подошел к католическому архиепископу и принял его благословение. Затем твердым голосом он сказал:
— Мой государь Павел Петрович и император австрийский Франц Первый прислали меня с войсками изгнать из Италии сумасбродных, ветреных французов, восстановить у вас и во Франции тишину, поддержать колеблющиеся троны и веру христианскую, защитить нравы и искоренить нечестивых. Прошу вас, ваше высокопреосвященство, молитесь Богу за все христолюбивое воинство. А вы, — обращаясь к чиновникам Вероны, продолжал он, — будьте верны государевым законам и душою помогайте нам!
Суворов немного помедлил и, наклонив голову, удалился в свою комнату. Итальянцы вышли, остались только русские генералы и несколько австрийских. Фельдмаршал опять появился и, зажмурив глаза, сказал командиру корпуса Розенбергу:
— Андрей Григорьевич! Познакомьте ж меня с господами генералами!
Розенберг начал по старшинству представлять всех, называя чин и фамилию каждого. Фельдмаршал стоял навытяжку и при имени лица, ему неизвестного, открывал глаза и говорил с поклоном:
— Помилуй Бог! Не слыхал! Познакомимся! Дошла очередь до младших.
— Генерал-майор Меллер-Закомельский! — назвал Розенберг.
— А! Помню! — сказал Суворов. — Не Иван ли?
— Точно так, ваше сиятельство! — отозвался тот.
Суворов открыл глаза и ласково поклонился:
— Послужим, побьем французов! Нам честь и слава!
— Генерал-майор Милорадович, — продолжал Розенберг.
— А! Это Миша! Михайло!
— Я, ваше сиятельство! — воскликнул двадцативосьмилетний генерал.
— Я едал у батюшки вашего Андрея пироги. О, да какие были сладкие. Как теперь помню. Помню и вас, Михайло Андреевич! Вы хорошо тогда ездили верхом на палочке. О! Да как же вы тогда рубили деревянною саблею! Поцелуемся, Михайло Андреевич! Ты будешь герой! Ура!..
— Все мое усилие употреблю оправдать доверенность вашего сиятельства! — сквозь слезы проговорил Милорадович.
— Генерал-майор Багратион, — представил Розенберг.
Суворов встрепенулся:
— Князь Петр! Это ты, Петр? Помнишь, под Очаковом? С турками!
Он подошел к храброму генералу, любимцу солдат, и принялся целовать его в глаза, в лоб, в губы.
— Нельзя не помнить, ваше сиятельство, — отвечал растроганный Багратион. — Нельзя не помнить того счастливого времени, в которое я служил под командою вашею!
Тут фельдмаршал повернулся и широкими шагами стал ходить по зале, затем вдруг остановился, зажмурил глаза и начал говорить:
— Субординация! Экзерциция! Военной шаг — аршин! В захождении — полтора! Голова хвоста не ждет! Внезапно, как снег на голову! Надо атаковать! Холодное оружие — штыки, сабли! Смять и забирать, не теряя мгновения! Побеждать все, даже невообразимые препятствия! Гнаться по пятам, истреблять до последнего человека! Казаки ловят бегущих и весь их багаж. Без отдыху вперед, пользоваться победою! Пастуший час! Атаковать, смести все, что встретится! Не надо патрулей, берегись рекогносцировок, которые раскрывают намерения. Твердость, предусмотрительность, глазомер, время, смелость, натиск!
Как бы устав, Суворов замолчал и, казалось, весь ушел в себя. Внезапно он встрепенулся и с живостью обернулся к Розенбергу:
— Ваше превосходительство! Пожалуйте мне два полчка пехоты и два полчка казаков!
— В воле вашего сиятельства все войска. Которых прикажете?
Суворов недовольно взглянул на него и вновь закрыл глаза. Никогда не служивший под его командой Розенберг не понимал. Фельдмаршал повторил:
— Надо два полчка пехоты и два полчка казаков! Помолчав немного и видя, что Розенберг растерян, Суворов принялся расспрашивать его, далеко ли французы, кто ими командует, и сказал о Шерере:
— Пока этот квартирмейстер будет чистить солдатские пуговицы, его легко можно разбить.
Однако, недовольный ответами Розенберга, проговорил:
— Намека, догадка, лживка, лукавка, краткомолвка, краснословка, немогузнайка! — И ушел в свою комнату.
С наступлением темноты в городе загорелись разноцветные огни, иллюминированные щиты, вензеля. Целую ночь итальянцы ликовали на улицах.
Рано утром на другой день Суворов объехал лагерь, где его восторженно встретили русские солдаты. Большой барабан гремел гулко и редко, словно билось одно, общее сердце. Неоглядными рядами стояли солдаты. И все они были подвластны его воле, жили его идеями и чувствами. Коротко напомнив им о своих наступательных принципах, Суворов воротился к себе.
Он снова попросил у Розенберга «два полчка пехоты и два полчка казаков». Розенберг его по-прежнему не понимал. Тогда вышел Багратион и сказал:
— Мой полк готов, ваше сиятельство!
— Так ты понял меня, князь Петр? Понял? Иди! — воскликнул фельдмаршал.
На лестнице Багратион встретил Ломоносова и Поздеева (первый командовал сводным гренадерским батальоном, второй — донским казачьим полком) и предложил им отправиться с ним. Менее часа спустя возвратился он к Суворову и доложил, что все готово.
— Господь с тобою, князь Петр! — напутствовал его на прощанье фельдмаршал. — Помни: голова хвоста не ждет; внезапно, как снег на голову!
Для сметливого Багратиона этого было довольно. Он немедля повел свой передовой отряд из Вероны на Валеджио. В тот же день в Валеджио направился и сам Суворов.
2
Равнину Северной Италии окаймляют с севера и запада крутые скаты Альп, а с юга — склоны Апеннинских гор. По этой долине течет полноводная По, в которую впадают реки, образующие как бы ряд последовательных рубежей, удобных для обороны: Адидже, Минчо, Ольо, Адда, Тичино, Сезиа. Северная Италия занимает стратегически важное, ключевое положение между Францией, Швейцарией, Австрией и всем Апеннинским полуостровом. Недаром она была во все эпохи ареной для множества выдающихся военных походов.
Суворов, бивший турок среди степей, польских конфедератов среди болот и лесов, сумел и здесь, в новых условиях, применить свои простые и здравые военные понятия. Благодаря железной воле и настойчивости в достижении целей, своей неограниченной нравственной власти над войсками он, конечно, мог рассчитывать на успех.
Русские солдаты в походе рассуждали о богатстве итальянской земли и бедности ее жителей. Орошенная бесчисленными каналами, густо населенная, плодородная земля эта казалась истинным раем. Но поселяне, носившие грубые куртки, короткие штаны, красные чулки и деревянные башмаки с вбитыми в подметки гвоздями, довольствовались лапшой из кукурузной муки, редко приправленной каплей простого оливкового масла. Мясное и рыбное было для них недоступно. Маленький стаканчик красного домашнего вина из остатков винограда, смешанных с водой, довершал их обед. На вино настоящее имел право лишь старший в доме. На базаре все было дорого, особенно лакомство — лягушки, привозимые живыми в салфетках и покупаемые только вельможами.
— Даже зелено-золотистые жуки, называемые у нас хрущами, — рассказывал офицер, — составляют их любимую пищу, как для нас земляника или клубника.
Солдаты ели булки из кукурузной муки с малым добавлением пшеничной и мечтали о ржаном хлебе, щах и квасе.
Дороги были отличные, с канавами по бокам, наполненными стоячей водой. Русские войска шли споро. Появлялся Суворов на своей казачьей лошадке, скакал вдоль строя, приказывал: «Запевай!»
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке Серый селезень плывет…
С подголосками, с посвистом лихим солдатским неслась над полями италийскими удалая русская песня, изумляя самый музыкальный в мире народ. А когда вырывался перед строем ложечник и принимался трещать деревянными ложками да идти вприсядку, тут уж не мог утерпеть сам фельдмаршал — соскакивал с лошади и начинал кружить вокруг ложечника с платочком. За барышню.
Он шутил с солдатами и подсчитывал в уме соотношение сил. Решив воспользоваться численным превосходством союзной армии, фельдмаршал намеревался оттеснить французов в горы за Геную. Затем он предполагал овладеть Миланом и Турином, обратить войска против армии Макдональда и разбить ее. После этого Суворов хотел вторгнуться во Францию, в то время как эрцгерцог Карл и русский генерал Корсаков должны были вытеснить из Швейцарии войска Массены и сдерживать на Рейне армию Журдена.
Однако под началом великого полководца были не только испытанные русские солдаты, но и австрийские войска, непривычные к его тактике; ими командовали педантичные генералы, не сумевшие развить успех при Маньяно. Шерер мог быть совершенно разгромлен во время отступления по узким проселочным дорогам. Он едва спас артиллерию благодаря энергичному генералу Моро, который сумел собрать из окрестных деревень полторы тысячи волов и вытащить на них застрявшие пушки. Но безынициативные австрийцы ограничились только посылкой конных разъездов и даже не пытались организовать преследование противника.
Прибыв 4 апреля в Валеджио, Суворов весьма ласково принял на другой день австрийских генералов, сказав Краю:
— Вам я буду обязан успехами над неприятелем. Вы открыли мне путь к победам!
Затем он сделал смотр австрийским войскам. Более часа сидел фельдмаршал на лошади, пристально вглядываясь в проходивших мимо солдат.
— Что, разобьем ли мы французов, старик? — спросил он по-немецки у седого гренадера.
— Мы бивали неприятеля с Лаудоном, а с вами еще лучше бить будем! — отвечал тот.
Суворов пропустил всю колонну и сказал окружавшим его генералам:
— Шаг хорош. Победа!
В кругу близких он, однако, не был так снисходителен и указал на нерешительность Края при Маньяно:
— Но вдруг нечистый дух шепнул: «Унтеркунфт», и преследование разбитых французов остановилось…
Австрийцам было свойственно то, что фельдмаршал неуклонно и энергично искоренял в русской армии, — немогузнайство. После того как он услышал ответы австрийских офицеров: «Ich kann nicht bestimmt sagen» — «Я не могу сказать определенно», появилось подходящее ироническое словечко: «нихтбештимтзагерство». Другим было «унтеркунфт», то есть спокойствие, комфорт.
Пока корпус Розенберга подходил к Валеджио, Суворов разослал по полкам союзников русских инструкторов-офицеров и составил несколько приказов об обучении австрийцев двусторонним сквозным атакам. Солдат Меласа эти приказы привели в совершенное изумление.
К 7 апреля в Валеджио прибыло одиннадцать тысяч русских солдат — дивизия Повало-Швейковского. Суворов разделил свои войска на три колонны, поставив во главе каждой казачьи полки. Авангардом, состоявшим из дивизии Отта и отряда Багратиона, командовал Край. Отдельная фланговая колонна графа Гогенцоллерна перешла за реку Ольо.
3
Ожидая встречи с новым для себя противником, Суворов несколько волновался. Он высчитывал дни до подхода следующей русской дивизии и припоминал действия принца Евгения Савойского на Ольо в 1701 году. Французы меж тем продолжали отступать к Адде. Занимавшая правый неприятельский фланг колонна Шерера, преследуемая по пятам Гогенцоллерном, оставила местечко Кремону, где находился главный склад военных запасов. Часть их Шерер успел уничтожить, но одиннадцать барок с артиллерийскими снарядами и четырнадцатью осадными орудиями попали в руки передовых австрийских отрядов. После отхода Шерера под угрозой оказался и левый французский фланг, которым командовал Моро, также отдавший приказ отступать к Адде.
На пути союзных войск лежала Брешиа — один из крупнейших городов Ломбардии. Понимая, какое значение будет придано его первой встрече с французами, Суворов поручил генералу Краю взять город штурмом. Подойдя к Брешиа с восточной стороны, австрийцы тотчас повели сильный артиллерийский обстрел, а Багратион обошел город слева виноградниками и отрезал французам пути возможного отступления.
Когда союзные войска двинулись к Брешиа, ее комендант генерал Бузэ с тысячью ста солдатами заперся в цитадели, а сами жители отворили городские ворота и опустили мосты. На предложения Края о сдаче французы отвечали выстрелами. Союзники расположились вокруг цитадели и начали готовиться к штурму. Видя невозможность сопротивления, 10 апреля в четыре пополудни Бузэ сдал цитадель. Теперь Суворов наладил через Брешиа связь с австрийскими войсками в Тироле.
После падения Брешиа французы воочию убедились, что с появлением Суворова союзная армия настроилась на весьма решительные действия. Победа была одержана быстро и без потерь. «С нашей стороны убитых и раненых нет», — доносил русский фельдмаршал Павлу I. Получив это известие, император приказал по окончании благодарственного молебствия в Павловске провозгласить «многолетие… победоносцу Суворову-Рымникскому». Четырнадцатилетний Аркадий Суворов был так растроган, что со слезами на глазах бросился на колени перед Павлом. Довольный его сыновними чувствами император позвал Аркадия в свой кабинет и сказал:
— Поезжай и учись у него! Лучше примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу!
А фельдмаршал продолжал торопить австрийцев. По его приказу войска должны были совершать ночные марши по двадцать восемь верст. Не привыкшие к таким стремительным переходам австрийцы быстро уставали, сбивались с пути, движение замедлялось вдобавок весенней распутицей, частыми переправами. Колонна, которой командовал сам Мелас, на пути к Адде была застигнута ночью ливнем. Промокшие солдаты и офицеры роптали, и престарелый Мелас, расхворавшийся, остановил солдат, чтобы дать им обсушиться. Суворов был возмущен таким неповиновением.
«До сведения моего доходят жалобы на то, что пехота промочила ноги. Виною тому погода… — насмешливо выговаривал он Меласу. — За хорошею погодою гоняются женщины, щеголи да ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет как эгоист, отрешен от должности… У кого здоровье плохо, тот пусть и остается позади… Глазомер, быстрота, стремительность! — на сей раз довольно».
Мелас оправдывался тем, что австрийцы, не привыкшие к подобным маршам, выражают недовольство.
— На это смотреть не должно, — возразил Суворов. — Филипп, король испанский, велел выносить из Мадрида всякую нечистоту, от которой едва не сделалась зараза. Вся столица противу сего возопила. Но король сказал: «Это младенцы, которые плачут, когда их обмывают. Зато после спят крепким сном!..»
Союзники тремя колоннами продолжали наступать к реке Адде. Суворов все еще не имел точных сведений о неприятеле и полагал, что французы задержатся на реке Ольо. Но 12 апреля авангард князя Багратиона, награжденного за Брешиа орденом Святой Анны, овладел переправой через Ольо. Не дожидаясь остальных войск, казаки Грекова и Денисова бросились за отходившими французами и с ходу ворвались в многолюдный Бергамо, овладев и городом и цитаделью 14 апреля вся союзная армия дошла до реки Адды и расположилась в виду неприятеля. Суворов вошел наконец в соприкосновение с главными силами Шерера и мог теперь подготовить все для удара.
Река Адда, непроходимая вброд, с крутым правым берегом у истоков и с многочисленными рукавами, каналами, болотистыми берегами в устье, у впадения в По, представляла собою на всем стоверстном протяжении выгодный естественный оборонительный рубеж. Положение Шерера было критическим: отступать дальше он не мог, так как прерывалась бы связь как с войсками, действовавшими в Альпах, так и с частями, находившимися в Средней и Южной Италии. После беспорядочного отхода французы имели двадцать восемь тысяч солдат; под началом Суворова было сорок восемь тысяч. Вдобавок, боясь за фланги, нерешительный Шерер растянул свои войска на всем протяжении Адды — от Лекко до Пицигетоне. Левое крыло составляла раздробленная на тридцативерстном участке дивизия Серюрье, занимавшая оба берега Адды; в центре находилась дивизия Гренье, а правый фланг обороняли Виктор (все дивизии по восемь тысяч) и авангард Лабуасьера.
Имея численное превосходство, Суворов намеревался создать из дивизии генерала Отта, корпуса Вукасовича и казаков ударную группировку, прорвать слабый центр французов в районе Трецио и двигаться на Милан. Одновременно Багратион на правом и Гогенцоллерн на левом флангах должны были произвести отвлекающие маневры. Мелас с дивизиями Кейма и Фрёлиха оставался в резерве у Тревильо. Однако события на правом крыле понудили русского фельдмаршала изменить первоначальный план.
15 апреля, следуя по горному ущелью к Лекко, слабый отряд Багратиона (егерский полк, гренадерский батальон Ломоносова, казаки Денисова, Молчанова и Грекова) опрокинул французов и преследовал их до самого города.
Багратион разделил свои силы: одну колонну отправил в обход, другую оставил в резерве, а третью повел прямо на Лекко. Французские солдаты генерала Сойе, вытесненные из города, рассыпались густою цепью по окрестным высотам. Однако, убедившись в малочисленности неприятеля, они вскоре перешли в контрнаступление. Над русскими войсками даже нависла угроза окружения.
Багратион запросил подкреплений. К четырем пополудни подоспел на обывательских подводах батальон во главе с генералом Милорадовичем и остановил французов, двинувшихся в обход по горам. По словам Суворова, Милорадович, «выпередя быстро прочие войски, тотчас вступил в дело с великою храбростию и хотя старее был князя Багратиона, но производимое сражение великодушно кончить передоставил ему». Два батальона под личным командованием генерал-лейтенанта Повало-Швейковского окончательно решили исход кровавого сражения. Французские эскадроны, врезавшиеся в колонну, «были сколоты до последнего человека», остальные искали спасения за рекой. Суворов, с тревогой следивший за этим ожесточенным двенадцатичасовым боем, сказал напоследок:
— У Лекко чуть было мою печенку не проглотили.
Французы потеряли здесь около тысячи человек, и отряд Сойе оказался разорванным надвое. Теперь Суворов уточнил свой план переправы через Адду. Багратион без кавалерии должен был форсировать реку у Лекко, Секендорф — в Лодп, а Мелас — атаковать предмостные укрепления у Кассано.
В тот же день, 15 апреля, генерал Шерер был отставлен от должности командующего Итальянской армией, и на его место назначили наиболее выдающегося после Бонапарта французского генерала — тридцатишестилетнего Моро. Он пользовался уважением в армии и в народе, отличался благородством и твердостью духа.
Характеризуя Шерера, сам Наполеон в своих записках об итальянской кампании отмечал, что у него «не было недостатка ни в уме, ни в храбрости, но ему недоставало характера. Он рассуждал о войне смело, но неопределенно и был к ней непригоден. Военный человек должен иметь столько же характера, сколько и ума. Люди, имеющие много ума и мало характера, мало пригодны к этой профессии. Лучше иметь больше характера и меньше ума. Люди, имеющие посредственный ум, но достаточно наделенные характером, часто могут иметь успех в этом искусстве. Полководцы, обладавшие большим умом и соответствующим характером, — это Цезарь, Ганнибал, Тюренн, принц Евгений и Фридрих».
Показательно, что Наполеон не называет еще одного военачальника, в котором великий ум гармонически сочетался со стойким характером, — Суворова. В записках о войне 1799 года вообще заметно стремление принизить русского фельдмаршала, лишившего в сказочно короткий срок Францию всех завоеваний Бонапарта в Италии. Железный характер Суворова проявлялся во всем, даже в той фразе, которой он встретил назначение Моро:
— И здесь вижу я перст Провидения: мало славы было разбить шарлатана. Лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть!
Моро принял армию при крайне неблагоприятных обстоятельствах — растянутость позиции могла обернуться поражением. Он попытался спасти положение, поспешно приказав сосредоточить дивизии — Гренье и Виктора у Ваприо и Кассано, Серюрье — у Бревио. Но Суворов не дал противнику произвести перегруппировку. В ночь на 16 апреля у Сан-Джервазио, против Треццо, саперы австрийской дивизии Отта начали сооружать понтонный мост.
Чтобы не привлекать внимания французов, нарочно было выбрано самое неудобное для переправы место: крутой изгиб реки, чрезвычайно быстрое течение и утесистый берег. Убежденные в том, что мост навести здесь невозможно, тем более в ночное время, французы даже не выставили постов на берегу. Они осознали свою ошибку лишь к утру, когда несколько сот австрийских егерей и казаков уже перешли по мосту. Начала переправляться дивизия Отта, за нею казачьи полки Денисова, Молчанова и Грекова, прибывшие из Лекко, и, наконец, дивизия Цопфа.
Успех обеспечили стремительные казаки во главе с походным атаманом Денисовым. Они быстро обскакали Треццо с севера и погнали французов к Поццо и Ваприо. Моро, поняв, что именно в этом пункте будет произведена главная атака союзников, поспешил на место боя и сам едва не попал в плен к казакам, добравшимся уже до главной ставки французской армии в Инцаго. Он послал приказание генералам Гренье и Виктору ускорить движение к Ваприо. Появившийся Гренье остановил дивизию Отта, а затем, дождавшись подкреплений, сам перешел в наступление. На помощь Отту подоспел с двумя головными батальонами и двумя эскадронами дивизии Цопфа маркиз Шателер. Однако и он не смог сдержать напора французов. Один из австрийских батальонов был весь искрошен вражеской кавалерией.
Вновь отличился атаман Денисов. Собрав все три казачьих полка, он вместе с венгерскими гусарами атаковал левый фланг и оттеснил французов к Поццо. По словам Суворова, «казаки кололи везде с свойственною россиянам храбростию, побуждаемы будучи мудрым и мужественным воином, их походным атаманом Денисовым, как в его сотовариществе полковником Грековым». Приспел от Милана французский кавалерийский полк, но казаки управились и с ним, захватив множество пленных, в их числе и генерала Бекера. После упорного боя дивизия Цопфа заняла деревни Поццо и Ваприо. Моро еще надеялся удержаться на позиции между Кассано и Инцаго, но сильная канонада, а затем вид бегущих со стороны Кассано французских солдат обеспокоили его — грозило окружение.
Одновременно с переправой через Адду у Треццо Суворов приказал Меласу направить дивизии Кейма и Фрёлиха к Кассано. Затем эти части должны были перейти Адду у Горгонцоле и отрезать французам путь к отступлению. Медлительность и вялость австрийцев не позволили до конца выполнить этот план. В течение шести часов тринадцать тысяч солдат Кейма и Фрёлиха безрезультатно штурмовали предмостные укрепления, защищаемые одной французской полубригадой в составе двух тысяч человек. Энергичный Моро успел за это время подтянуть к Кассано часть дивизии Виктора. К четырем пополудни из Треццо прибыл сам Суворов.
С его появлением австрийские войска словно преобразились, исчезли пассивность и нерешительность. Сделав небольшую перегруппировку и повелев выставить батарею из тридцати орудий, фельдмаршал воодушевил войска на новую решительную атаку. Австрийцы так быстро ворвались в неприятельское расположение, что французы не успели поджечь за собой мост и бросили орудия. В числе убитых был республиканский генерал Аргу. Дивизии Кейма и Фрёлиха все-таки вышли в тыл французам, отступавшим от Ваприо. Австрийские колонны были, однако, так измучены непрерывным двенадцатичасовым сражением, что остановились прямо в поле. Одни «залетные» донцы преследовали неприятеля.
В ночь на 17 апреля корпус Вукасовича сбил вражеские посты у Бревио и, переправившись через Адду, оттеснил генерала Гилье.
Последним драматическим эпизодом битвы при Адде было поражение генерала Серюрье. Республиканской армии приходилось расплачиваться за ошибки Шерера. В продолжение всего 16 апреля, пока длился бой у Ваприо и Кассано, в восьми верстах от сражения, можно сказать, за спиною у австрийцев, бездействовала трехтысячная группировка Серюрье. Пунктуальный генерал, ожидая указаний от Моро, оставался у деревни Падерно. Он даже не подозревал, что битва уже проиграна. Утром 17 апреля корпус Вукасовича наткнулся на французов. Те сперва упорно оборонялись, но когда Серюрье увидел подходившие войска Розенберга, то понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и сложил оружие.
Таким образом, в три дня — 15, 16 и 17 апреля — решена была участь Ломбардии. Перед союзниками открылся путь к Милану. Французы потеряли в трехдневной битве убитыми и ранеными свыше двух с половиной тысяч, а пленными до пяти тысяч человек. Суворов назвал Адду Рубиконом на дороге в Париж, похвалил австрийцев, которые «бились хватски холодным оружием», и особенно отметил донских казаков Денисова.
Препровождая Суворову бриллиантовый перстень со своим портретом, Павел I писал: «Примите его в свидетели знаменитых дел ваших и носите его на руке, поражающей врага… Сына вашего взял я к себе в генерал-адъютанты со старшинством и оставлением при вас. Мне показалось, что сыну вашему и ученику неприлично быть в придворной службе».
4
Появление союзных войск в двадцати верстах от Милана повергло в ужас французских комиссаров, пребывавших в столице Цизальпинской республики. Вместе с дивизией Гренье они покинули город и поспешили на запад, в Турин. В миланской цитадели был оставлен гарнизон под командованием генерала Бешо.
Донские казаки окружили город, взломали ворота и, отразив вылазку из замка, погнали французов, из которых многие погибли, а многие попали в плен. Как и в других городах Италии, уставшие от поборов и грабежей миланские жители истребляли деревья вольности, фригийские колпаки, стирали надписи — «Свобода, братство, равенство». Тем временем к Милану подходили дивизии Отта и Цопфа, за ними Фрёлих и Кейм. Суворов остановил войска в нескольких верстах от города, отложив торжественное вступление в Милан до 18 апреля, светлого дня Пасхи.
К вечеру неподалеку от палатки фельдмаршала разбит был большой шатер — походная русская церковь. Тысячи солдат и офицеров в глубокой задумчивости ожидали начала службы. Здесь находились не одни русские. Католическая Пасха уже миновала, но из австрийского лагеря пришли сербы, словаки, валахи послушать пасхальные песнопения.
Ночная тьма поглотила лица, ярко освещен был только походный шатер. Подъехало несколько колясок с русскими и австрийскими генералами. Суворов вышел из первой в отечественном фельдмаршальском мундире и при всех орденах.
Убранство военной церкви было скромным — полотняный, натянутый на рамах иконостас с прикрепленными немногочисленными образами, настланный из досок амвон и два-три медных подсвечника. Лишь только полководец появился, в храме началась служба. Старик священник, один из суворовских чудо-богатырей, поднял крест, за ним двинулись офицеры с ветхими хоругвями, расшитыми стеклянными бусами и шелками, далее хор певчих, сам фельдмаршал с тихо мерцавшей в руках восковой свечкой, австрийские и русские генералы.
На пути следования крестного хода к нему присоединялись новые массы людей. Пламя десятков тысяч свечек трепетало во мраке.
— Утренюем утренюю глубоку! — запевал дрожащим старческим голосом священник.
— И вместо мира песнь понесем Владыке! — подхватывал хор, в котором выделялся голос фельдмаршала.
— Да воскреснет Бог и расточатся врази Его! — и этими словами мирная тишина ночи была нарушена. На равнине, около походного храма загремели сотни орудий.
Наутро колонны потянулись к Милану.
Незадолго до того Розенберг представил Суворову двух русских чиновников, посланных в войска для тайного надзора за политическими вольнодумцами. Фельдмаршал выбежал к ним, утирая лицо тряпицей.
— Кто это такой? — спросил он у Розенберга, показывая на одного.
— Это статский советник Фукс.
— Ах, помилуй Бог, какой ты худощавый! — удивился Суворов, оглядывая его от косицы до башмаков. — Тебе надобно со мною ездить верхом! А это кто?
— Статский советник Башловский.
— Ах, как же ты толст! — сказал Башловскому фельдмаршал. — Я к тебе залезу в брюхо, когда озябну.
Впрочем, познакомившись с Фуксом покороче, фельдмаршал взял его к себе «по всем военным письменным делам» и не расставался с ним в продолжение всей кампании. В день въезда в Милан, решив подшутить над жителями, Суворов приказал Фуксу, одетому в шитый дипломатический мундир, ехать впереди пышной свиты. Сам фельдмаршал в белом австрийском кителе держался поодаль.
У городских ворот Суворова встретил Мелас. Престарелый генерал, видя, что фельдмаршал хочет его обнять, потянулся к нему и, потеряв равновесие, упал с лошади.
Народ теснился на улицах, все гремело от криков:
— Да здравствует Суворов!
В ответ на приветствия Фукс важно раскланивался. В странном, на первый взгляд, поступке фельдмаршала таился свой иронический смысл: так же восторженно три года до того миланцы встречали Бонапарта.
Суворов поселился в доме герцогини Кастильоне, там же, где останавливался перед тем Моро. Расставаясь с Фуксом, полководец поблагодарил его:
— Егору Борисовичу спасибо! Хорошо раскланивался, помилуй Бог, как хорошо!
В тот же день Суворов присутствовал на приеме, организованном хозяйкой дома. Он был учтив, любезен и остроумен. Когда тридцатилетняя герцогиня представила ему свою двенадцатилетнюю дочь, то фельдмаршал воскликнул:
— Помилуйте, сударыня, вы еще сами молоденькая прелестная девушка!
Когда же он услышал, что герцогиня разведена с мужем, то сказал:
— Я еще не видал в свете чудовища! Пожалуйста, покажите мне его!
В честь Суворова назначено было молебствие в соборе. Войска выстроились на городских улицах шпалерами. Между их рядами в парадной позолоченной карете ехал полководец, надевший австрийский фельдмаршальский мундир и все награды. У входа в собор Суворова приветствовал архиепископ, которому русский командующий отвечал по-итальянски. Для фельдмаршала в церкви устроили почетное место на возвышении, покрытое красным бархатом с золотыми украшениями. Суворов, однако, отказался стать туда и молился со всеми. Когда полководец вышел, миланцы стали бросать ему под ноги венки и цветы, падали ниц и пытались поймать полу его мундира.
— Как бы не затуманил меня весь этот фимиам, — говорил он потом, — теперь ведь пора рабочая!
Дома его ожидал парадный обед, на который были приглашены знатнейшие жители города и австрийские генералы. Суворову представили пленных французских военачальников, которых он также позвал к себе, похристосовался с ними в честь светлого воскресенья и заставил их по-русски отвечать «Воистину воскрес». Один из пленников, Серюрье, в разговоре с фельдмаршалом заметил, что его атака Адды была слишком смелой.
— Что делать, — с иронией отвечал Суворов, — мы, русские, воюем без правил и без тактики. Я еще из лучших.
Он совершенно очаровал Серюрье любезностью, приказал вернуть ему шпагу, сказав при этом: «Кто владеет ею так, как вы, не может быть лишен ее», — и отпустил французского генерала в Париж, взяв с него честное слово не воевать в эту кампанию против союзников. Серюрье пытался воспользоваться благосклонностью фельдмаршала и просил освободить весь сдавшийся отряд. Суворов не уступил ему на этот раз, хотя и сказал, что «черта эта делает честь вашему сердцу». Он заверил француза, что с пленными будут обходиться хорошо, выразил надежду встретиться скоро в Париже и просил перевести ему двустишие Ломоносова:
Великодушный лев злодея низвергает; Но хищный волк его лежащего терзает…Когда Серюрье вышел из комнаты, у него невольно вырвалось восклицание:
— Какой человек!
Все эти дни Милан жил разговорами о Суворове и его армии. Особое любопытство вызывали бородатые казаки, которых итальянцы прозвали «русскими капуцинами». По случаю светлой недели солдаты русского корпуса, встречаясь, всякий раз христосовались, изумляя миланцев, не понимавших, отчего это они так нежно целуются на каждом шагу. Впрочем, солдаты считали своим долгом христосоваться и с итальянцами, и те исполняли этот обряд с немым удивлением.
Только три дня оставался Суворов в Милане. Поручив административные заботы Меласу, он принялся обдумывать план дальнейших действий. Хотя на улице стояла настоящая теплынь, фельдмаршал приказал вытапливать печь, отчего в его комнатах царил жар, словно в парной. Собравшиеся у него маркиз Шателер, секретарь Фукс и квартирмейстер Края Антон Цаг, все в мундирах, с напудренными прическами, страдали, но терпели. Один русский полководец, в нижней белой рубахе и босой, чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Он быстро просматривал карты, ворохом лежавшие на столе, и время от времени высказывал свои соображения Шателеру о предстоявшем походе.
Форсированием Адды Суворов уже превзошел ту цель, которой ограничивались помыслы австрийского двора. Правда, за спиной у союзников оставались занятые французами крепости Пескиера и Мантуя на реке Минчио да блокированная Секендорфом и Гогенцоллерном Пицигетоне на Адде. Русский командующий беспрестанно получал из Вены напоминания о скорейшем взятии Мантуи. Но не в его правилах было тратить драгоценное время на осаду. Это только дало бы возможность остаткам разбитой армии Моро, откатившейся в Пьемонт, оправиться и собраться с силами. Ожидалось также, что армия Макдональда объединится с гарнизонами, разбросанными в Южной Италии, и двинется на север. Суворов ясно видел, что главная его задача — не допустить соединения армий Макдональда и Моро. Все остальное он считал побочным, второстепенным.
Однако приходилось считаться и с требованиями гофкригсрата. После несчастий, постигших австрийцев под Мантуей в 1796–1797 годах, в период наполеоновских побед, им казалось, что в ней сосредоточено все благополучие.
— Барон Тугут именует в письмах Мантую неприступною твердынею и ключом Италии! — скороговоркой проговорил Суворов. — Она будет взята другом моим Краем. Но зачем лгать, называть ее первейшею? Так величает ее Бонапарт. Верно, он хочет прикрасить свое хвастовство и прикрыть свои ошибки! Крепость, которую Бонапарт взял в один месяц и двадцать пять дней, не заслуживает такого пышного названия. Один солжет, а тысячи повторяют!
Он подбежал к Цагу и выхватил план Мантуи из его рук:
— Вот она! Где же ее неприступность? Бастион и равелин по обеим сторонам ворот! Это и пугает. Вся сила ее в форте Сен-Джордже. Зато какие выгоды для осаждающих! Если они овладеют башнею Терезе, в их руках шлюзы. Спусти их — осушишь каналы!
Фельдмаршал вернулся к столу и нашел другую карту:
— Зачем не говорят о Тортоне? Вот крепость, стоящая на высоте скалы и обошедшаяся в пятнадцать миллионов королю Сардинскому. Она неприступна! Ни гаубицы, ни бомбы ее не достигают! Она превосходит Мантую — и будет также в наших руках!
В плане, продиктованном маркизу Шателеру, предполагалось, что союзные войска разделятся на две части. Уступая венским тактикам, Суворов выделял двадцатипятитысячную армию Края для осады Мантуи и охранения Вероны, Леньянго, Брешиа. Для наступательных действий у него оставалось тридцать шесть тысяч солдат — восемнадцать тысяч русских и столько же австрийцев. С этой армией он собирался перейти реки Тичино и По, разбить Макдональда, а затем обратиться к Турину против Моро. С тыла Макдональду должны были угрожать неаполитанские войска вместе с русскими, английскими и турецкими десантными отрядами. Связь между частями союзной армии будет осуществлять корпус Гогенцоллерна. Саму миланскую цитадель обложит генерал Латерман, а с запада его прикроет генерал Вукасович. Со стороны Швейцарии Северную Италию охраняют отряды Тирольской армии.
Все масштабнее, все шире становились суждения русского полководца. Он размышлял о роли других союзных армий — Тирольской и Рейнской, говорил о возможности изгнания из Швейцарии французских войск. Восхищенные слушатели едва успевали следить за полетом его мысли. Цаг между тем снял с себя галстук и мундир. Внезапно фельдмаршал остановился, поглядел на него и бросился целовать:
— Люблю, кто со мною обходится без фасонов!
— Помилуйте! — воскликнул Цаг. — Здесь можно сгореть.
— Что делать, — засмеялся Суворов, — ремесло наше такое! Быть всегда близ огня. А потому я здесь от него не отвыкаю.
В кабинет вошел выбритый до синевы темноволосый гигант Милорадович, любимец Суворова, молодой и беззаботный весельчак.
— Знаешь ли ты, — обратился к нему фельдмаршал, — трех сестер?
— Знаю, ваше сиятельство! Вера, Надежда, Любовь!
— Так! — подхватил командующий. — Ты русский, ты знаешь! С ними слава и победа, с ними Бог!
Еще до получения грандиозного плана русского фельдмаршала император Франц выслал рескрипт, перечеркивавший всю идею Суворова. Командующему Итальянской армией вменялось в обязанность ограничить «главные действия свои левым берегом реки По», «особенное же внимание» обратить «на обеспечение себя в завоеванных областях покорением находящихся в них крепостей, какова, например, Мантуа». Гофкригсрат был явно перепуган обширными и смелыми замыслами Суворова. В специальных дополнениях к рескрипту вновь ограничивались его наступательные действия.
Впрочем, рескрипт из Вены поступил тогда, когда союзная армия перешла уже на правый берег реки По. Суворов не собирался ожидать ответа в Милане.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ТРЕББИЯ
Французы воюют колоннами, и мы их будем бить колоннами.
Суворов1
Итальянский фронт был единственным, где союзники добились весной 1799 года решительных успехов. Австрийцы бездействовали в Швейцарии и на Рейне.
Выступив из Милана, союзная армия 21 апреля достигла берегов По, которую форсировали передовые отряды. Сам фельдмаршал выехал в Павию, город на реке Тичино, куда прибыла часть русских войск.
Съездил он на место Павийского сражения, где потерпел поражение и был взят в плен в 1525 году французский король Франциск I. Италия, страна с блестящим воинским прошлым, была для Суворова книгой, которую он жадно читал, припоминая действия любимых полководцев.
Ничего по-прежнему не было слышно об армии Макдональда. Суворов решил передвинуть главные силы к Павии и перейти По выше устья Тичино. К 26 апреля вся союзная армия расположилась по обеим сторонам По: на левой — русские войска Розенберга, на правой, южной, — австрийцы Меласа, и у Вогеры выдвинутый авангард Багратиона.
Суворов хотел занять позицию между двумя французскими армиями и в зависимости от сведений о неприятеле объединить войска на том или ином берегу реки По: если бы сперва возникла необходимость направиться в Пьемонт, против Моро, фельдмаршал бы получил возможность присоединить к войскам Розенберга не только дивизии Фрёлиха и Цопфа, но и корпус Вукасовича с частью блокадного корпуса Латермана; если же оказалось бы нужным пойти вначале на Макдональда, то русские войска могли бы присоединиться к дивизиям Фрёлиха и Цопфа, имея уже в авангарде отряд генерала Отта.
Что же предпринимал Моро, пока Суворов искусно маневрировал со своими главными силами?
Отступая двумя колоннами от Милана, Моро был озабочен необходимостью сохранить связь с армией Макдональда и одновременно удержать Турин, главный складочный пункт французов и центр Пьемонта. Прибывшему из Франции в Геную генералу Периньону Моро поручил занять проходы через Апеннинские горы и правым крылом сомкнуться с войсками Монришара, занимавшими Пармскую, Моденскую и Феррарскую области. Тем самым он обеспечивал свободный путь армии Макдональда через Флоренцию и Болонью в Северную Италию.
Не зная ничего толком о планах русского полководца, страшась раздробленности и без того незначительных сил, Моро порешил сосредоточить все полевые войска на удобной позиции, а в Турине оставил гарнизон. Три тысячи четыреста солдат заперлись в цитадели, куда были свезены обильные запасы продовольствия, артиллерия и оружие. Французская армия, то есть две дивизии — Гренье и Виктора, насчитывающая всего двадцать тысяч солдат, стала лагерем между Валенцой и Александрией, у слияния трех больших рек — По, Тонаро и Бормиды, прикрыв весь юго-западный Пьемонт и главные пути через Апеннины в Генуэзскую Ривьеру. Положение французов было чрезвычайно выгодным: Моро поспевал отсюда к Турину прежде Суворова, а при нападении русского фельдмаршала на Макдональда мог угрожать союзникам с тыла.
Суворов, приказавший укреплять центр своей позиции между Моро и Макдональдом, перебрался к Багратиону в Вогеру. Спустя час туда же прибыл направленный Павлом в действующую армию великий князь Константин. Накануне он присутствовал при капитуляции Пескиеры, осажденной генералом Краем. В этой стратегически важной крепости на севере Италии было взято девяносто орудий, восемнадцать канонерских лодок и много пороха. Но главная выгода заключалась в ином. «Сим завоеванием, — писал Суворов, — мы господа на озере Ди-Гарде и над коммуникациями с Тиролем и Швейцариею». После взятия Пескиеры Край получил наконец возможность обратить все силы против Мантуи, расположенной ниже по течению на той же реке Минчио.
Прислав своего сына к фельдмаршалу, Павел I тем самым выказал Суворову почти неограниченное доверие. Однако двадцатилетний Константин, отличавшийся необузданной вспыльчивостью и боявшийся только своего сурового отца, легко мог сделаться обузой. Назначенный же ему в менторы честный и храбрый солдат Вилим Христофорович Дерфельден для роли воспитателя великого князя не годился. Правда, была возложена на Дерфельдена и другая миссия: возглавить армию, если что-либо случится с 69-летним фельдмаршалом.
Суворов выбежал навстречу Константину, поклонился ему:
— Сын нашего природного государя!
Затем он подошел к свите великого князя и сказал:
— Не вижу.
Константин понял и стал поименно представлять всех Суворову, назвав первым генерала Дерфельдена. Фельдмаршал открыл глаза, обнял друга, перекрестился и поцеловал у него орден. Затем Константин Павлович представил ему своих четырех адъютантов — Озерова, Сафонова, Комаровского и Ланга.
Великий князь был очень похож на своего отца — и внешностью, неправильностью черт лица, курносым носом и характером. Предвидя возможность опрометчивых поступков, Суворов решился осторожно предупредить его на прощание:
— Опасности, которым ваше высочество можете быть подвержены, заставляют меня думать, что я не переживу вас, если с вами случится какое-нибудь несчастье.
На другое утро, 27 апреля, Суворов в полной форме австрийского фельдмаршала посетил Константина и отдал ему строевой рапорт. Великий князь увел его в кабинет и долго беседовал с командующим наедине. Когда после разговора Константин представил Суворову австрийского князя Эстергази, сопровождавшего его из Вены, фельдмаршал сказал:
— Прошу донести императору Францу, что я войсками его величества очень доволен. Они дерутся почти так же хорошо, как русские!
Этим ядовитым «почти» он выразил собственное крепнущее недовольство политикой венского двора. Недолго оставалось ожидать новых, вовсе откровенных подтверждений коварства и своекорыстия австрийского императора и гофкригсрата.
Находясь в Вогере, Суворов получил неверные сообщения о передвижениях французских войск. Ему донесли, будто неприятель оставляет Валенцу и одновременно ожидает подхода из Генуи подкреплений к Тортоне. На деле все было как раз наоборот: Валенцу занимал левый фланг главных сил Моро, а в Тортоне оставался лишь малочисленный, в семьсот штыков французский гарнизон.
По приказу русского фельдмаршала австрийские войска, находившиеся на правом берегу реки По, направились к Тортоне, причем Багратион с Карачаем должны были обойти город и отрезать его от Александрии. Маневр был излишним и представлял собою, так сказать, «бой с тенью». Зато слабому отряду Розенберга надлежало занять Валенцу, то есть войти в соприкосновение с армией Моро. Ложность сведений о противнике обнаружилась не сразу и явилась предпосылкой военной неудачи, усугубленной вмешательством великого князя Константина.
28 апреля маркиз Шателер подошел с передовыми австрийскими частями к Тортоне. Солдаты выломали с помощью местных жителей городские ворота и обложили цитадель. На другой день в Тортону выехал Суворов. Между тем русский авангард под началом генерала Чубарова вышел к левому берегу реки По и начал готовиться к переправе верстах в семи ниже Валенцы, напротив песчаного островка Мугароне, отделенного от неприятельского берега только узким и мелким рукавом. Суворов, все еще убежденный в том, что французы отступили к Апеннинам, понуждал Чубарова по занятии Валенцы идти далее, к Александрии.
Под носом у Моро командир полка донцов Семерников с казаками и тридцатью егерями вплавь переправился на островок, перешел далее рукав вброд и занял деревню Басиньяну, за ними перебрались остальные. Тотчас стали подходить французы. После небольшой перестрелки Чубаров вернул свой отряд опять на Мугароне. В это время к русскому авангарду прибыл великий князь Константин с генералом Милорадовичем и тремя адъютантами. Он медленно проехал низким и болотистым левым берегом По до самой Валенцы и убедился в том, что по правому, крутому берегу стоят неприятельские пикеты, открывшие по всадникам огонь.
Только теперь, 29 апреля, Суворов смог разобраться в сложившейся обстановке. Он мгновенно переменил решение, приказав Розенбергу оставить переправу у Басиньяны и двигаться вдоль реки По к востоку, форсировать ее у Камбио и присоединиться к основным силам перед Тортоной. Но фельдмаршал напрасно ожидал прибытия Розенберга.
Не найдя у Камбио удобной переправы, Розенберг вернулся к Басиньяне, где Чубаров успел уже устроить большой паром, поднимавший целую роту. Суворов в нетерпении посылал одно приказание за другим: «Ваше высокопревосходительство Андрей Григорич! Жребий Валенцы предоставим будущему времени. Генерала Чубарова соедините к себе, что, полагаю, не видя там нужды, вы и учинили. Довольно на его прежнем пункте, пока все сюда переправятся, оставить обвещательный казачий пикет. Вы же наивозмножнейше спешите денно и ночно российские дивизии переправлять через реку По для соединения в стороне Тортоны, собирая из всех прилежащих к месту наибольшее количество судов».
Но Розенберг продолжал колебаться. Он только что получил сведения, будто бы у Валенцы осталось не более тысячи французов. Действительно, Моро, видя открытые двухдневные попытки Чубарова перейти По у Басиньяны, счел их отвлекающим маневром, оставил крупный заслон, а большую часть дивизии Гренье двинул к Александрии, где уже расположился со второй дивизией Виктор. Утром 1 мая весь авангард Чубарова собрался на островке Мугароне. Оставалось перейти рукав, но Розенберг медлил.
— Нечего мешкать, ваше превосходительство, — в нетерпении обратился к нему великий князь, — прикажите людям идти вперед.
— Мы еще слишком слабы… — отвечал Розенберг. — Не дождаться ли нам подкрепления…
— Я вижу, ваше превосходительство, — насмешливо заметил Константин, — что вы привыкли служить в Крыму. Там было покойнее, и неприятеля в глаза не видали.
Оскорбленный старый солдат не нашел в себе твердости характера для того, чтобы соблюсти прежде всего интересы дела.
— Я докажу, что я не трус! — с этими словами Розенберг вынул шпагу, крикнул нижним чинам: «За мной!» — и первым пошел вброд.
Три русских батальона и казачий полк двинулись к Валенце, сбили с окружавших высот французских стрелков и заняли деревню Печетто. Две гренадерские роты, которые повел Константин Павлович, удачно атаковали неприятеля и заставили замолчать его артиллерию. Однако этот успех слабого отряда был лишь прологом к кровопролитной неудаче.
На пути к Александрии Гренье узнал о действиях русских и поспешил назад. Вскоре к Валенце примчался и Моро, пославший Виктору приказание немедля выступать туда же. Таким образом, вся французская армия угрожала двум с половиной тысячам русских солдат! Покинув высоты и деревню Печетто, они мужественно сражались на плоской равнине, ожидали подкреплений, но их все не было. И великий князь сам поскакал за подмогой.
Появился Милорадович с одним батальоном, за ним еще несколько сот пехоты. Неприятель был остановлен. В разгар жестокого рукопашного боя на высотах показались свежие неприятельские колонны: прибыла дивизия Виктора. Тогда, по словам Суворова, «мужественный генерал-майор Милорадович, отличившийся уже при Лекко, видя стремление опасности, взявши в руки знамя, ударил на штыках, поразил и поколол против стоящую пехоту и конницу и, рубя сам, сломил саблю; две лошади под ним ранено».
Но горстка русских, измученная восьмичасовым сражением, вынуждена была отступить. В полном порядке солдаты отошли и заняли позицию у Басиньяны, где держались до темноты, отражая атаки Гренье и Виктора. Положение их сделалось критическим; вдобавок жители Басиньяны, радушно встретившие русских, теперь стреляли им в спину, а бывшие на пароме итальянцы перерезали канат и пустили паром вниз по течению. Пришлось перебираться на островок Мугароне и здесь ожидать утра. На переправе царила суматоха; едва не погиб и Константин, когда его лошадь, испугавшись, вдруг занесла всадника в реку. Всю ночь обстреливаемые неприятелем русские не давали генералу Гардану форсировать рукав. Если бы французы усилили огонь, они уничтожили бы весь авангард. К утру, однако, паром был возвращен, и войска начали переправляться на левый берег реки По.
Слыша отдаленную канонаду у Валенцы и страшась полного истребления отряда Розенберга, Суворов мучился своим положением «зрителя из затонца». Только ночью он узнал об исходе несчастного боя. У русских было убито, ранено и пленено семьдесят офицеров, один генерал и тысяча двести нижних чинов; французы потеряли до шестисот человек, в том числе и генерала Кенеля. Егерского Чубарова полка подпоручик Рыков бежал из плена на французской лошади; казаки спасли его от погони. По приказу Суворова лошадь была отыскана и возвращена французам.
Это была первая крупная неудача союзников, вдобавок она случилась с русским отрядом. Раздраженный фельдмаршал вновь приказал спешно идти к Тортоне Розенбергу: «Не теряя ни минуты, немедленно сие исполнить, или под военной суд». Павлу I Суворов написал донесение, где выставлял опрометчивость великого князя, нарушившего дисциплину. Однако он раздумывал и советовался, отправлять ли бумагу, а отправив, повелел другому курьеру вернуть ее, решив, что сам поговорит с Константином.
Чувствуя себя виноватым, великий князь не сразу приехал по вызову фельдмаршала. Тот встретил Константина с низкими поклонами и другими знаками внимания и заперся с ним. Через полчаса великий князь вышел расстроенный; его лицо было красно от слез. Суворов провожал Константина с прежними низкими поклонами, но в приемной, где ожидала свита великого князя, обозвал всех мальчишками, пообещал заковать их и отправить с фельдъегерем в Петербург.
С той поры Константина Павловича словно подменили. Присланный к Суворову в качестве волонтера поучиться военному делу, он сделался тише воды, ниже травы и просил только дозволения присутствовать на занятиях фельдмаршала с его штабом. Суворов согласился, но с условием, чтобы друг другу не мешать и даже друг друга не видеть. Константин строго выполняя условие: входил тихо, не кланяясь и садился в уголку. Великий полководец тоже делал вид, что не замечает его, и только один раз, вспомнив Басиньяну, сказал, не называя имени великого князя:
— Молодо-зелено! Не в свое дело мешаться!
4 мая князь Багратион занял небольшой городок Нови, где нашел крупный артиллерийский склад. На следующий день к союзным войскам, по-прежнему сосредоточенным на правой стороне реки По и закрывавшим Моро пути отступления на Геную, а Макдональду — вдоль подошвы Апеннин к Александрии, присоединился генерал Кейм, взявший 28 апреля крепость Пицигетоне на реке Адде.
Тогда же во изменение своих прежних планов Суворов отдал приказание армии вновь вернуться на левую сторону реки По.
2
Сложность обстановки в Северной Италии требовала мгновенной переориентации в зависимости от создавшихся условий. Кабинетная окостенелая догма, вредная всегда, тут была пагубна вдвойне. Противника отличали исключительная инициатива, энергия, нешаблонность действий, а кроме того, великолепная маневренность и потому способность исчезнуть, затаиться для внезапного удара. Наконец, близость республиканской Франции, непосредственно граничившей с Пьемонтом, таила в себе опасность любых неожиданностей, пока Турин оставался в ее руках.
Можно сказать, что только суворовская метода, близкая своим новаторством тактике французских революционных войск, позволяла союзникам с блеском решать труднейшие задачи. Даже скованный по рукам и ногам венскими «унтеркунфтами» и «нихтбештимтзагерами», русский фельдмаршал на деле доказывал истинность своей науки побеждать. Приходилось учитывать и то, что североитальянский военный театр был лишь частью огромного фронта, рассекшего Европу от Амстердама, столицы республики Батавской, до Неаполя, главного города республики Парфенопейской. Перемены на смежных театрах войны тотчас же влекли за собою изменения и в положении соседей.
Одной из причин нового решения Суворова были события в Швейцарии. 2 мая французский генерал Лекурб внезапно атаковал австрийский корпус принца Рогана и, оттеснив, нанес ему сильный урон. Не зная подробностей неудачи, русский фельдмаршал стал опасаться за правый фланг и тыл Итальянской армии, которую прикрывал Роган. Его тревожили слухи о намерении крупных сил неприятеля вторгнуться с Рейна через Швейцарию в Северную Италию. Таким образом, теперь уже возникала необходимость воспрепятствовать соединению Моро не с застрявшей на юге армией Макдональда, но с войсками, ожидаемыми из Швейцарии.
Подкрепив Рогана частью корпуса Гогенцоллерна, Суворов порешил двинуться на соединение со своим правым флангом, в то же время угрожая столице Пьемонта и выманивая Моро с его крепкой позиции.
Вообразив, что союзная армия направляется в Среднюю Италию против Макдональда, Моро в самом деле покинул свою позицию, дав приказание идти к Тортоне.
Он ожидал встретить тут лишь наблюдательный отряд и утром 5 мая переправил через реку Бормиду дивизию Виктора. Тем самым французский главнокомандующий хотел открыть себе путь на Геную. Находившийся на другой стороне Бормиды, против Александрии, авангард Карачая стал отходить, теснимый превосходящими силами. В главный лагерь австрийцев прискакал ординарец и поднял тревогу.
Меласа не нашли, русский фельдмаршал, к которому послали за приказаниями, находился далеко, и тогда генерал Лузиньян решился с дивизией Фрёлиха идти навстречу французам. В это время от Нови в соответствии с диспозицией проходил отряд Багратиона. Русские тотчас пристроились к австрийцам с флангов, и союзники стройно двинулись вперед с барабанным боем.
Заметив движение левой неприятельской колонны, Багратион атаковал ее со своим полком и казаками Молчанова и Грекова. Донцы отважно бросились на французских гусар, прижали часть пехоты к реке и почти всю истребили. Подоспел к левому крылу союзников генерал Кейм. Моро понял, что просчитался и что перед ним главные силы Суворова. Французы попятились и начали переходить по единственному мосту через Бормиду под огнем артиллерии. Они отделались лишь потерей пятисот человек, хотя представлялась возможность раздавить всю республиканскую армию.
Русский фельдмаршал слишком поздно узнал о сражении и прискакал, когда все было кончено.
— Упустили неприятеля! — сказал он с досадой.
В самом деле, австрийцы не сумели организовать даже преследования и позволили французам разрушить за собою мост через Бормиду.
Суворов остался в лагере, поужинал поджаренным луком с хлебом и куском балыка. Поутру он расспросил старого своего соратника, полковника донцов Денисова, которого называл ласково Карпыч, о подробностях сражения и участии в нем русских. Фельдмаршал особо интересовался, хорошо ли Багратион атаковал и бил ли в штыки.
Неожиданная вылазка Моро за Бормиду не изменила прежнего плана полководца. Главная армия продолжала переправляться на левый берег По. Казачьи разъезды, рассыпавшиеся к западу и северо-западу, доносили, что неприятеля нет уже на всем обширном пространстве по обе стороны этой реки. В один и тот же день 8 мая 1799 года Мидорадович занял город Казале, лежащий на По ниже Турина, а другой русский отряд — генерал-лейтенанта Я. И. Повало-Швейковского — вошел в покинутую французами Валенцу. Моро вновь ушел, оторвавшись от союзников.
Положение его армии день ото дня становилось все хуже, и талантливый республиканский генерал порешил бросить выгодную позицию у Александрии и двумя колоннами пробиваться через горы к Генуе. Дивизия Виктора без артиллерии и обозов пошла на юг горными дорогами, прорываясь через партизанские засады. Все большее число итальянцев открыто выступало против французской армии. Еще тяжелее оказался путь дивизии Гренье, с которой остался Моро. Она направилась кружным маршрутом, чтобы спасти обоз и артиллерийский парк. Но на ее пути восставшие жители захватили горную крепость Чева. Суворов немедля выслал им в подмогу небольшой австрийский отряд, проделавший трудный путь горными тропами. Еще не достигнув Чевы, Моро с удивлением узнал, что крепость занята австрийским гарнизоном, и приказал во что бы то ни стало завладеть ею. Командующий французской армией был озабочен, таким образом, спасением остатков своей армии. Перемены на итальянском военном театре имели далекие последствия — войска Края, прикованные к Мантуе, на быстрое падение которой не приходилось рассчитывать, все же служили подкреплением отряду Отта, прикрывавшему тыл союзников со стороны Апеннин. Чтобы оградить себя от покушений французов с севера, Суворов предписал теперь всему корпусу графа Гогенцоллерна выступить из Милана и соединиться в Швейцарии с Роганом и Штраухом. Союзникам предстояло решить самую главную задачу в Северной Италии — взять Турин.
Вот что писал по этому поводу Суворов: «Наше движение на Трино, Кресчентино, Кивассо и Турин, общее восстание пьемонтцев, а также голод, который придется испытывать французам в совершенно разоренной стране, вынудит Монро покинуть Пьемонт без сопротивления. Не надо пренебрегать ни манифестами, ни ласками по отношению к пьемонтцам, чтобы извлечь из этого наибольшую пользу; „барбетты“ (горцы-крестьяне. — О. М.). Пиньерольской долины и ниццары (жители Ниццкой области. — О. М.) Тендского ущелья задержат неприятеля до нашего прихода для полного его истребления… Поражение Макдональда и Монришара Краем, Отто и всеми инсургентами Италии вызовет падение Мантуи, что помешает Монришару и Макдональду соединиться с Моро; мы их уничтожим поодиночке… С какой бы стороны ни прибыла в Пьемонт из Франции эта помощь, через Савойю, или Дофинэ, или Ниццу, они по необходимости должны дебушировать через Турин. Следовательно, надо двинуть наши войска в окрестности этой столицы».
Союзники двумя колоннами — слева, вдоль реки По, Мелас, севернее Розенберг — должны были идти на Турин. В обход столицы Пьемонта следовали авангардные отряды Багратиона и Вукасовича. Хотя жара стояла страшная, армия двигалась очень быстро. Суворов часто уезжал далеко вперед, слезал с лошади, ложился где-нибудь в винограднике и смотрел на проходящие войска. Затем он выбирался на дорогу и пристраивался к какому-нибудь русскому полку. Фельдмаршала окружали солдаты, а он вспоминал прошедшие сражения или говорил о предстоящих делах и на прощанье обращался с ласковым словом:
— Вы чудо-богатыри! Вы витязи! Вы русские! Неприятель от вас дрожит!
Потом Суворов ожидал, когда его нагонит «ковчег» — древний рыдван, купленный им у казаков и запряженный обывательскими лошадьми. Отдохнув в компании неизменного Фукса и двух-трех офицеров штаба, старый фельдмаршал вновь брал казачью лошадку. Раз, желая объехать двигавшуюся русскую колонну, он взял в сторону и мигом перескочил широкий ров, так что все невольно вскрикнули.
Казачий полковник Денисов, видя, что Суворов заезжает слишком далеко, стал тревожиться, как бы фельдмаршал с малым своим конвоем не попал в плен к французским передовым постам. Когда до Турина оставалось несколько верст, Денисов посоветовал племяннику Суворова Андрею Горчакову остеречь главнокомандующего. Тот объяснил, что не смеет. Тогда сам Андриян Карпович заступил Суворову дорогу и заявил, что далее так ехать опасно. Фельдмаршал отвечал, что ему необходимо видеться с маркизом Шателером. Денисов вызвался найти его и скоро вернулся с генерал-квартирмейстером, посланным вперед для переговоров с неприятелем.
Шателер уже побывал у стен Турина и предложил командиру гарнизона сдать город. Тот отвечал, что будет защищаться до последней крайности. Суворов приказал окружить Турин, учредить батареи и в ночь на 16 мая начать обстрел, а к утру, если гарнизон не сдастся, штурмовать.
Иные из австрийских генералов начали рассуждать о трудностях взятия Турина. Русский фельдмаршал рассердился:
— Пустое! Ганнибал, прошед Испанию, переправясь через Рону, поразив галлов, пройдя Альпы, взял Турин в три дня. Он будет моим учителем! Хочу быть преемником его гения!
Вместе с передовыми войсками он вошел в предместье и остановился у фонтана, любуясь южной итальянской ночью, прихотливым очертанием деревьев. Стоявший рядом с ним Дерфельден стал хвалить природу Италии. Фельдмаршал согласился, но прибавил:
— Здесь природа заманивает к неге в очаровательном саду своем. Здесь, сыны севера, крепитесь, мужайтесь, одолевайте климат. Под всяким другим, умеренным небосклоном воздержание есть добродетель. Тут же оно — чудо!..
Стали ложиться вблизи фонтана французские ядра. Суворов уходить не собирался. Тогда Денисов, сильный, как медведь, не теряя времени, подскочил, схватил фельдмаршала в охапку поперек туловища и бегом понес его в безопасное место. Озадаченный Суворов кричал, называл Карпыча «проклятым», вдобавок вцепился ему в волосы, но не драл их. Денисов опустил его с рук только во рву и, так как Суворов все хотел к фонтану, повел его подальше от ядер.
Русский главнокомандующий попытался еще раз склонить неприятеля к капитуляции и поручил своему племяннику генерал-майору Андрею Горчакову написать увещание коменданту Фиорелле. Туринский комендант дерзко заявил: «Атакуйте меня, я буду отвечать». Он надеялся отстоять город, обнесенный прочным валом с бастионами, каменной стеной и представлявший собою подлинную крепость. Суворов повелел готовиться к штурму — отрыть траншеи и бомбардировать Турин двое суток. По счастью, столица Пьемонта была спасена от грозившей ей участи Измаила самими жителями.
Уже в ночь на 15 мая генерал Вукасович связался с начальником национальной гвардии пьемонтцев. Наутро по сигналу, поданному из города жителями, австрийцы бросились к воротам, расположенным против реки По, нашли их отворенными и подъемный мост опущенным. Союзники во главе с Кеймом и Вукасовичем ворвались в город так неожиданно, что многие французы не успели укрыться в цитадели и теперь спешили спрятаться в городских домах. И напрасно Фиорелла выслал колонну из цитадели им на помощь. Слабый отряд Вукасовича опрокинул ее. В превосходном арсенале союзники нашли триста восемьдесят две пушки, пятнадцать мортир и двадцать тысяч ружей.
В три часа пополудни в столицу Пьемонта вступил Суворов с главными войсками, встреченный еще более восторженно, чем в Милане. Вечером город был празднично иллюминирован. Главнокомандующий разместился в нижнем этаже одного из домов. Вскоре к нему привели парламентера от Фиореллы. Раздраженный изменою жителей комендант заявлял, что будет бомбардировать город до тех пор, пока союзники не оставят его. Впрочем, кажется, истинной целью посольства было разведать о доме, где остановился русский фельдмаршал. И хотя парламентера от самых ворот цитадели до комнаты Суворова вели с завязанными глазами, он все же преуспел в своем намерении. По отбытии его на Турин обрушился град бомб, картечи и каленых ядер, причем многие направлялись точно на дом фельдмаршала. Во дворе у него было убито несколько лошадей; ординарцы и адъютанты получили ранения.
Денисов поспешил к командующему несмотря на ночное время.
— Что ты, Карпыч? — спросил его фельдмаршал.
Тот доложил, что французы метко стреляют из цитадели по этому дому.
— Оставь меня, я спать хочу, — отвечал фельдмаршал и повернулся лицом к стенке.
Денисов вышел, но скоро послышался голос Суворова, требовавшего к себе дежурного генерала. К этому времени начались пожары в трех местах города. Жители Турина пришли в отчаяние. Командующий продиктовал Горчакову новое письмо к генералу Фиорелле:
«Если вы против всех обычаев, существующих между народами просвещенными, велите стрелять по городу, то предваряю вас, генерал, что за это потерпят французы, взятые в плен при вступлении в Турин; тогда их всех, не исключая больных, поставят на эспланаде цитадели, и там будут до тех пор держать, пока рассудите вы стрелять по безвинным гражданам. Предоставляю на ваше усмотрение, генерал, какое впечатление ваша месть произведет в народах, которым французы обещали помощь и братство, и что подумает об этом Европа».
Угроза Суворова подействовала: комендант объявил, что не станет обстреливать город, если союзники обяжутся не покушаться на цитадель со стороны Турина. Русский полководец согласился, хотя сторона цитадели, обращенная к городу, была слабейшей.
В Турине фельдмаршал получил известия об успехах союзников в разных местах Северной Италии. 15 мая генерал Повало-Швейковский и Секендорф заняли Александрию, почти одновременно отряд Кленау завладел Феррарой и Гогенцоллерну сдалась миланская цитадель. По случаю новых побед на 17 мая в Турине было назначено торжественное празднество. Утром в доме Суворова отслужили благодарственное молебствие, после чего главнокомандующий в полной парадной форме отправился в собор. Дома он дал обед, пригласив знатнейших жителей города и союзных генералов. Фельдмаршал предложил тост за здоровье Кейма, вместе с Вукасовичем вошедшего в Турин.
Один из венских аристократов, бывший на обеде, заметил Суворову:
— Знаете ли вы, что Кейм — сын сапожника и из простых солдат дослужился до генерала?
— Да! — отвечал Суворов. — Его не осеняет огромное родословное древо. Но я почел бы себе честью после побед Кейма иметь его, по крайней мере, кузеном…
— Трудно разглядеть в солдате будущего полководца, — сказал Дерфельден.
— Правда! — быстро откликнулся фельдмаршал. — Только Петру Великому предоставлена была тайна выбирать людей: взглянул на солдата Румянцева — и он офицер, посол, вельможа. А тот за сие отблагодарил Россию сыном своим Задунайским. Мои мысли: вывеска дураков — гордость; людей посредственных умом — подлость; человека истинных достоинств — возвышенность чувств, прикрытая скромностию!
— Ваше сиятельство! — вставил хитрый Фукс. — Почитатель ваш граф Ростопчин написал мне: «Участь ваша завидна. Вы служите при великом человеке. Румянцев был герой своего века. Суворов — герой всех веков».
Фельдмаршал поморщился:
— Нет, отвечай ему: «Суворов — ученик Румянцева».
Подали меж тем прескверный круглый пирог, который кушивал лишь один Суворов.
— Знаете ли, господа, — сказал он, — что ремесло льстеца не так-то легко. Лесть походит на пирог: надобно умеючи испечь, всем нужным начинить в меру, не пересолить и не перепечь. Я же, — добавил фельдмаршал, смеясь, — люблю своего Мишку-повара — он худой льстец!
Вечером того же дня Суворов был приглашен в театр, где ему устроили торжественный прием. При входе командующего в отведенную ему ложу раздались рукоплескания, поднялся занавес, и на сцене открылся храм славы, в который поместили бюст Суворова. Старый воин прослезился и стал кланяться публике. Когда он возвращался домой иллюминированными улицами, среди огней блистали литеры его имени.
Между тем сардинский король Карл Эммануил, с радостью следивший за успехами русского фельдмаршала, направил к нему бывшего губернатора Турина графа Сент-Андре. Суворов с его ярко выраженными монархическими симпатиями стал, как выразился один из историков, «бережно усаживать на престол пьемонтского короля». Главнокомандующий составил с Сент-Андре планы реставрации прежней власти, восстановления прежних должностей, титулов, орденов. Особые надежды возлагал он на организацию королевской армии и даже не распустил по взятии Турина республиканскую национальную гвардию: большинство гвардейцев не сочувствовало французам. «Я от трудов истинно насилу на ногах, — сообщал Суворов из Турина послу в Вене Разумовскому. — А чуть опустить напряженные струны, арфа будет балалайкою».
Своими реставрационными намерениями русский фельдмаршал, однако, выказал себя наивным политиком. Император Франц прямо рассматривал освобожденные от французов земли как новые свои приобретения. «Полная справедливость требует, — пояснял он в рескрипте, — чтобы значительные потери в людях, понесенные государством моим в продолжение почти одиннадцатилетней войны, вознаграждены были чужими областями, исторгнутыми у неприятеля…» За напыщенными обещаниями венского двора восстановить троны и поразить республиканскую «гидру» таилась, таким образом, обыкновенная корысть.
Русскому полководцу в первый раз с такой ясностью раскрылись захватнические цели Австрии. Мало того, что Суворову запрещалось возрождать королевскую армию, мало того, что все административные дела передавались Меласу, — Вена по рукам и ногам связывала Суворова рескриптами, требуя ограничиться достигнутым и главные силы обратить на осаду крепостей.
«Я должен снова поручить вам, — напоминал Франц, — чтобы вы, оставив все другие предположения, обратили исключительно попечения свои на покорение Мантуи… заняли бы позицию, удобную для охранения завоеваний наших…»
«Мантуя сначала главная моя цель. Но драгоценность ее не стоила потеряния лучшего времени кампании… Недорубленный лес опять вырастает, — сетовал Суворов в письме к Разумовскому. — О Боже! Колико бы нам пьемонтская армия полезною была…»
Он указывал, что так поступали французы, вооружавшие местных жителей, и это было первым правилом «в быстрых их завоеваниях».
Иностранные историки упрекали русского фельдмаршала в нерешительности действий после занятия Милана, но на каждом шагу своем был он стесняем вмешательством гофкригсрата. Тугут, недовольный самостоятельностью Суворова, окружил его своими клевретами, наушничавшими обо всем, что делалось в союзной армии. Суворов не мог иметь никакого доверия к австрийцам, видя в каждом лазутчика первого министра. Всякий же, кто принимал сторону русского фельдмаршала, тотчас лишался расположения Тугута и отзывался с итальянского военного театра. Так случилось с генерал-квартирмейстером Шателером, который понравился главнокомандующему и сблизился с ним.
Русская армия в Италии жестоко страдала от недостатка провианта, заботы о котором также взяли на себя австрийцы. Солдаты порою по нескольку дней не получали его, а если и получали, то самого дурного качества. Хлеб был из крупносмолотой кукурузной муки, безвкусный, словно трава; частенько присылалась ослятина; раздававшаяся рядовым водка оказывалась разжиженною водой…
Армия почти голодала, а вокруг простирался цветущий край, обильный домашним скотом и птицей, разнообразными фруктами и овощами. Не удивительно, что, случалось, солдаты пользовались чем-либо у жителей. Верный своим нравственным принципам, да еще находясь в стране, которую, по его глубокому убеждению, предстояло освободить от притеснителей-французов, Суворов решительными мерами пресек злоупотребления. Однако он понимал, что корень зла не в распущенности русского солдата, а в дурном его обеспечении, переживал за своих чудо-богатырей и ничего не мог поделать.
Раз на переходе группа солдат расположилась на берегу реки. Закусывали тем, что имели, и запивали водою, хлебая прямо из реки ложками. Наехал Суворов.
— Что, ребята, вы тут делаете?
— Итальянский суп хлебаем!
Фельдмаршал слез с лошади, подсел к ним, взял ложку, похлебал воды и сказал:
— Теперь сыт, совсем сыт!
Прощаясь с солдатами, он заметил, что французы невдалеке, что у них пропасть разного добра и что надо только до них добраться, а там дело не станет за приправою к супу.
Заботы по части политической, административной, хозяйственной не прерывали распоряжений главнокомандующего по делам военным. Союзники, ведшие осаду туринской цитадели, выдвинули на запад отряды для наблюдения за торными проходами через Альпы. Повсюду распространялись для успокоения жителей составленные Суворовым воззвания к народу.
Очистив от французов Пьемонт, фельдмаршал обратил свои помыслы к остаткам армии Моро, спасавшимся в Апеннинах. К обложенной неприятелем крепости Чева направился Вукасович, поддерживаемый отрядом Фрёлиха. При приближении австрийцев французы сняли осаду, бросив четырнадцать пушек и две мортиры. Ключевой пункт на пути к Генуе — Чева осталась в руках союзников, и Моро приходилось изыскивать новые дороги к спасению. Трое суток, денно и нощно, половина его войск строила горную дорогу в обход Чевы. Хоть и с большим трудом, удалось провести артиллерию, и 26 мая французы перешли наконец Апеннины и спустились в Генуэзскую Ривьеру.
Убедившись в том, что Моро находится в трудном положении, Суворов немедленно решился преследовать противника до самого морского берега, не давая ему усилиться. Предполагалось, что Вукасович отрежет Моро от Франции, выйдя к берегу с северо-запада от Генуи. Войскам Повало-Швейковского и Секендорфа предписывалось идти на юг горными долинами. Май близился к исходу, а в Северной Италии французы держались только в крепостях Мантуя и Кони да в цитаделях Тортоны, Александрии и Турина.
Россия восторженно следила за победами Суворова. «Честные и верные сыны отечества составляют хор, воспевающий победы ваши, — писал ему Ростопчин, — а злодеи ваши и тварь пресмыкающая грызет землю и боится блеска славы вашей». Павел I велел узнать, сколько есть готовых крестов Святой Анны, чтобы послать тотчас же Суворову пятьсот — «в его волю». «Победа предшествует вам всеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам вашим», — отмечал в очередном рескрипте русский император.
Находясь в условиях самых невыгодных, вынужденный из-за требований гофкригсрата рассредоточить большую часть сил, Суворов, однако, все время держал операционную армию, готовую к удару.
3
Успехи Суворова облегчили действия австрийцам в Швейцарии. При огромном перевесе сил эрцгерцог Карл долго медлил, отговариваясь сырой погодой и отсутствием распоряжений гофкригсрата. Затем его армия осторожно двинулась внутрь страны, огибая с двух сторон Боденское озеро. Ободренный нерешительностью австрийцев, генерал Массена сам напал на них 14 мая, спеша воспрепятствовать соединению группировок эрцгерцога и Готце. Французские войска, ведомые молодыми генералами — будущими знаменитостями Неем, Удино, Сультом, обрушились на передовые части эрцгерцога и захватили две тысячи пленных.
Долго колебались чаши весов, но все же Карлу удалось соединиться с Готце. Массена медленно отступал, австрийцы так же медленно углублялись в Швейцарию, и 24 мая под Цюрихом состоялось новое решительное сражение. Эрцгерцог вошел в Цюрих и впал в прежнюю недеятельность.
С вступлением австрийцев в Швейцарию в распоряжение Суворова поступила Тирольская армия генерала Бельгарда. Одновременно с движением главных сил на юг, к Апеннинам, фельдмаршал полагал овладеть на севере важными горными проходами в Альпах — Сен-Готардом, Симплоном и Сен-Бернаром. Бельгард получил приказание подкрепить частью своих войск генерала Гадика для готовящейся атаки на Сен-Готард.
18 мая Сен-Готард был уже в руках союзников. Против обыкновения австрийские войска ударили белым оружием и заставили французов поспешно отступить, нанеся им особенно тяжелые потери в тесном ущелье Чертова моста. Суворов выразил свое полное удовлетворение Гадику и обратился ко всей армии с призывом — в «любых атаках поступать точно так же, а именно: не занимаясь долго перестрелкой, с штыком в руке бросаться на врага и с конницей врезываться в ряды противника». Однако похвала его Гадику оказалась преждевременной.
Деятельный, предприимчивый и решительный французский генерал Лекурб оттеснил австрийцев к Чертову мосту и в решающей атаке сам бросился впереди своих гренадер. Лишь один батальон союзников вырвался из ущелья, успев взорвать за собою часть узкого моста. Получив известие об этой неудаче, Гадик совсем потерял голову. Вдобавок в тылу у него появилась сильная французская дивизия.
Спасение пришло нежданно-негаданно. Внезапно французы начали отходить: они сами страшились быть отрезанными после действий армии Карла. Суворов всячески побуждал Гадика к преследованию неприятеля, просил эрцгерцога выдвинуть левый фланг его армии для соединения с Гадиком, но все его пожелания не были исполнены.
Бездействие австрийцев определялось политическими соображениями. Эрцгерцог Карл неоднократно заявлял, что не может наступать, пока не прибудут в Швейцарию и на Рейн русские корпуса Римского-Корсакова и Ребиндера. С нетерпением ожидал их и венский двор. «Секретные шалнеры» (выражаясь языком Козьмы Пруткова) гофкригсрата заключались в том, чтобы чужой силой разоружить баварское войско и завладеть самой Баварией. Русский император едва не попался на эту приманку. Павел I был возмущен конфискацией в Баварии имений Мальтийского ордена, и только поспешность, с какой баварский курфюрст обещался исправить свою оплошность, остановила императора.
Были еще и другие причины, из-за которых Тугут предлагал Павлу сосредоточить все шедшие из России войска в Швейцарии. Первоначально корпус Ребиндера (бывший Германа) назначался в помощь неаполитанскому королю Фердинанду. Но по мере успехов Суворова увеличивалась алчность венского двора. Италия, занятая почти исключительно австрийцами, могла быть, таким образом, в полном распоряжении Франца и гофкригсрата. Под влиянием менявшихся обстоятельств Тугут несколько раз делал новые предложения относительно русских вспомогательных войск, пока наконец Павел не вышел из себя и окончательно постановил, что Римский-Корсаков пойдет в Швейцарию, а Ребиндер — в Северную Италию. С этого момента отношения между двумя дворами сделались заметно холоднее.
Павел I начал войну с республиканской Францией единственно во имя отвлеченной идеи, увлеченный своими реакционными прожектами. Австрия Франца и Тугута вела ее ради новых территориальных приобретений. Зная пылкий и неукротимый характер русского императора, нетрудно было уже тогда предвидеть неизбежность развала коалиции. Павел I поручил Суворову войти в прямые сношения с неаполитанским королем Фердинандом. К этому времени кровопролитная война кипела в Южной Италии. Уполномоченный Фердинанда кардинал Руффо прибыл с острова Сицилия, возглавил толпы инсургентов и стал занимать одну область за другой.
Неизбежное падение французов и их сторонников на юге Италии было уже следствием откровенно грабительской политики Директории. Присланный ею комиссар объявил, что не только королевское имущество, собственность монастырей, Мальтийского ордена, иезуитов, банков, но даже древности Помпеи и Геркуланума принадлежат Франции. Контрибуция была увеличена за счет новых налогов и поборов, взимаемых с населения. Прежние злоупотребления королевского правительства Фердинанда скоро забылись ввиду новых бедствий и несправедливостей.
Командующий французскими войсками на юге Италии тридцатичетырехлетний Жак Стефан Макдональд, будущий герцог Тарентский и пэр Франции, получивший маршальский жезл из рук Наполеона за блестящую атаку в битве под Ваграмом в 1809 году, обладал решительным характером, был бескорыстен и жаждал славы. Достигнуть Северной Италии и соединиться с Моро стало его главной целью.
После тяжелого пути в непрерывных стычках с инсургентами Макдональд, усиливавший свою армию за счет присоединяемых гарнизонов, достиг 14 мая 1799 года Флоренции. Он не мог провести свое тридцатишеститысячное войско узкой береговой дорогой, почти тропинкой, прямо до Генуи. Французские полководцы составили план соединения к северу от Апеннинских гор, близ Тортоны. Макдональд должен был начать длинный кружный поход через Пиаченцу 20 мая, а Моро — только 6 июня. Над союзной армией нависла серьезная угроза. Хотя Суворов имел почти вдвое больше сил, чем французы, волею гофкригсрата две трети его армии оставались раздробленными на всем протяжении Северной Италии.
Мы покинули русского полководца, когда, находясь в Турине, он намеревался изгнать Моро из Генуэзской ривьеры. Одновременно Суворов позаботился об обеспечении тыла — приказал привести в оборонительное положение и снабдить запасами крепости Пицигетоне, Павию, Валенцу, наконец, цитадель Пиаченцы. Словно предугадывая будущие события, он повелел в Пиаченце возвести дополнительные укрепления и собрать трехмесячный запас продовольствия на двадцать тысяч человек.
Сам фельдмаршал с главной армией пребывал в Турине, выжидая, чтобы яснее обнаружились намерения противника. Куда бы ни вздумал теперь обратиться неприятель — к Турину или Александрии, Суворов мог в два-три перехода сдвинуть к нужному пункту около тридцати тысяч войск. Очень быстро он убедился, что наступательные действия французов обращены будут не к Пьемонту.
В шесть пополуночи 30 мая Суворов выступил из Турина и, оставив за собою за двое с половиной суток девяносто верст, достиг днем 1 июня Александрии.
В числе многочисленных его распоряжений перед отъездом из Турина Багратиону было передано предписание относительно обучения австрийских войск: «К[нязь] Петр Иванович! Графа Бельгарда войски из Тироля приидут под Александрию необученные, чуждые действия штыка и сабли. Ваше сиятельство, как прибудете в Асти, повидайтесь со мною и отправьтесь немедля к Александрии, где вы таинство побиения неприятеля холодным ружьем Бельгардовым войскам откроете и их к сей победительной атаке прилежно направите. Для обучения всех частей довольно 2-х — 3-х раз и, коли время будет, могут больше сами учиться, а от ретирад отучите».
Тем временем, спустившись с гор, тридцатишеститысячная армия Макдональда 1 июня вышла на равнины Северной Италии — справа находились дивизии Монришара и Руска в центре — Оливье и Ватрена, и слева — польских легионеров Домбровского. В десять пополуночи Оливье атаковал у Модены отряд Гогенцоллерна, прикрывавший осадную армию Края, захватил до тысячи шестисот пленных и отбросил его за реку По.
Удар этот привел в смущение австрийских генералов: им казалось, что французы получают возможность разбить по частям разбросанную армию союзников и вернуть назад все завоевания в Северной Италии. По мнению Суворова, наступление французов сулило ему новые лавры. Бой у Модены окончательно прояснил обстановку «Французы как пчелы и почти из всех мест роятся к Мантуе…» — писал он 2 июня Розенбергу, торопя и его присоединиться к главным силам. Русский фельдмаршал решает, прикрыв свой правый фланг от возможного нападения со стороны Моро, спешно идти навстречу более опасному врагу — Макдональду, разбить его прежде, чем появится Моро, а затем уже атаковать другую французскую армию.
Все распоряжения Суворова пронизаны энергией, целеустремленностью и безграничной верой в победу. В Турин, генералу Кейму, летит письмо: «Любезный генерал! Иду к Пиаченце разбить Макдональда. Поспешите осадными работами против туринской цитадели, чтобы я не прежде вас пропел: „Тебя, Бога…“ Войскам отдается приказ, близкий по духу „Науке побеждать“:
„1-е. Неприятеля поражать холодным оружием, штыками, саблями и пиками. Артиллерия стреляет по неприятелю по своему рассмотрению, почему она и по линии не расписывается. Кавалерии и казакам стараться неприятелю во фланги ворваться.
2-е. В атаке не задерживать. Когда неприятель сколон, срублен, то тотчас его преследовать и не давать ему время ни собираться, ни строиться. Есть ли неприятель будет сдаваться, то его щадить; только приказывать бросать оружие… преследовать неприятеля денно и нощно до тех пор, пока истреблен не будет.
3-е. Котлы и протчие легкие обозы, чтобы были не в дальнем расстоянии при сближении к неприятелю, по разбитии его чтоб можно было каши варить, а впротчем победители должны быть довольны взятым в ранцах хлебом и в манерках водкою. Кавалерия должна о фураже сама пещись“».
Еще не вступившие в бой солдаты названы «победителями» — в этом весь Суворов! Замечательна и его забота об армии. Недаром Разумовский писал из Вены Павлу I: «Все в мире солдаты завидуют подчиненным Суворова».
4 июня двадцатишеститысячная союзная армия приступает к исполнению беспримерного в истории форсированного марша, завершившегося трехдневным боем на берегах Тидоне и Треббии.
Двумя колоннами — слева австрийцы под командою Меласа, справа русские во главе с Розенбергом — войска безостановочно шли всю ночь, причем были преодолены две речки: Бормида и Скривия. Австрийские генералы и офицеры, не привыкшие к подобным переходам, роптали, но, когда русская колонна начала обгонять австрийцев у местечка Кастельново-ди-Скривия, те сами втянулись в марш. Суворов понимал необходимость явиться перед Макдональдом неожиданно и сразу обрушиться на него всеми силами, а потому дал армии отдохнуть лишь три часа. По мере продвижения войск в направлении Пиаченцы фельдмаршал стал получать тревожные вести о начавшемся там сражении.
В течение всего 5 июня шеститысячный отряд Отта оказывал упорное сопротивление французской дивизии Виктора, но, обойденный с правого крыла легионерами Домбровского, понужден был с крупными потерями отойти от Пиаченцы на запад, к местечку Сан-Джиованни. Командующий немедля отрядил ему на выручку трехтысячный корпус во главе с Меласом. Усталые солдаты Меласа, прошедшие в тридцать шесть часов восемьдесят верст от Александрии до реки Тидоне, с ходу вступили в бой. Однако Макдональд, пользуясь огромным превосходством сил, готовился раздавить малочисленного врага.
Рано поутру 6 июня вослед Меласу выступила главная армия. Солдаты уже не шли, а бежали. Июньское итальянское солнце стояло высоко. Из-за жары люди выбивались из сил, падали от изнеможения. Колонна растянулась. Суворов, проезжая вдоль нее, подбадривал:
— Вперед, вперед! Как снег на голову! Голова хвоста не ждет!
Чтобы сделать для солдат сноснее трудную дорогу, он приказал написать русскими буквами двенадцать французских слов: «сдавайтесь», «бросайте оружие» и прочие. Коль скоро уставшие начинали отставать от передовых, унтер-офицеры принимались читать эти слова. Солдаты догоняли читавших, забывая усталь, дабы не показаться перед Суворовым «немогузнайками».
Дойдя до местечка Страделла, верстах в восьми от Сан-Джиованни, солдаты расположились было на отдых, но просьбы Отта и Меласа о срочной помощи заставили Суворова снова поднять войска в путь. Сам фельдмаршал, оставив авангард Константину Павловичу, взял четыре казачьих полка и вместе с Багратионом помчался к месту сражения.
Уже несколько часов Отт и Мелас были в горячем бою. Макдональд, уверенный, что перед ним весь авангард Суворова, обрушился на австрийцев, стремясь разделаться с ними до подхода главной армии. Французы перешли вброд вовсе обмелевшие в то жаркое лето Треббию и Тидоне. В восемь утра 6 июня бригада Сальма и дивизия Виктора атаковали левое крыло австрийцев, дивизия Рюска — центр их позиции, а легионеры Домбровского — правое крыло. Против девятитысячной группировки Макдональд бросил в бой все наличные силы. Он не ожидал какой-либо подмоги союзникам.
Поляки охватили правый фланг австрийцев, завладели их восьмипушечной батареей. Над всей группировкой нависла опасность окружения. В эту критическую минуту в тылу показалось густое облако пыли: то был фельдмаршал с четырьмя казачьими полками.
Он поскакал на холм и оттуда быстрым взглядом окинул поле сражения. Казаки Грекова и Поздеева облетели справа Домбровского и бросились на ошеломленную польскую пехоту; генерал-майор Горчаков с казаками Молчанова и Семерникова кинулся влево на французов; драгуны Левенера и Карачая ударили легионерам Домбровского во фронт.
В первый раз солдаты Макдональда увидели русских донцов. Замешательство было мгновенным, но достаточным для того, чтобы битва получила немедля новый оборот.
Около четырех пополудни на дороге появился русский авангард. Исполняя приказание Суворова, Константин Павлович спешил что было мочи. Поредевшие полки выстраивались против флангов неприятеля. Главнокомандующий выделил два батальона на усиление Горчакова, приказал генералу Отту наступать в центре вдоль большой дороги, а остальные силы направил на свое правое крыло против Домбровского.
Начальствующий над войсками этого крыла Багратион вполголоса просил повременить с наступлением: в ротах из-за отставших не насчитывалось и сорока человек, Суворов поманил его и наклонился к уху:
— А у Макдональда нет и двадцати… Атакуй с Богом…
Спустя тридцать шесть часов после перехода через речку Бормида чудо-богатыри появились в семидесяти верстах от переправы и вместо отдыха дружно, с музыкой и русскими песнями бросились на синие колонны французов. Суворов разъезжал по всему фронту, непрестанно повторяя:
— Вперед, вперед! Коли! Руби!
Он видел, как союзные войска под сильнейшим огнем перебираются через многочисленные рвы и канавы и почти безостановочно идут все дальше. Вскоре в тылу у них оказалась деревня Сермет. Особенно успешно действовало правое крыло союзных войск против легионеров Домбровского. Пока пехота Багратиона напирала на них с фронта, казаки Грекова и Поздеева неоднократно бросались им во фланг и в тыл, прорывались в каре. Уже было рассеяно несколько польских батальонов, а вслед за ними и французская полубригада. Очевидцы утверждали, что никогда еще казаки столь блестяще не опровергали пехоту. Как необходим был теперь резерв Макдональду!
Левый фланг французов уже отступил за реку Тидоне, но Виктор и Сальм на правом еще упорно цеплялись за каждый аршин земли. Когда создалась угроза окружения, Виктор начал отходить. Но в этот момент казаки и австрийские драгуны, отогнавшие Домбровского за Тидоне, понеслись влево, через большую дорогу, и атаковали дивизию Виктора с фланга.
Измученные быстрым переходом в знойный день и несколькими часами боя кавалеристы останавливались на каждом шагу из-за канав и заборов. Порою целые эскадроны спешивались и вели лошадей в поводу или вытаскивали их из канав Французская пехота успела выстроить каре у деревни Боско, но не выдержала удара конницы. Виктор едва собрал дивизию уже за рекой Тидоне.
Армия Макдональда потеряла в этом несчастном для себя деле до тысячи убитыми и до тысячи двухсот пленными.
Вечером к концу боя стали подходить основные силы союзников. Однако солдаты были настолько изнурены, что ни о каком преследовании неприятеля не могло быть и речи. Фельдмаршал отправился на ночлег в Сан-Джиованни, где ночью написал приказ по войскам:
«Остается до реки Треббии 1,5 мили. Оную хорошо пройдут…
За полмили от неприятеля или менее выстраиваются.
Для построения в боевой порядок идут многими колоннами.
Есть ли паче чаяния неприятель нас встретит, тотчас строиться в линию, без замешательства, но и без педантизма и лишней точности.
Есть ли же неприятель ретируется, тотчас его преследует кавалерия и казаки, поддерживаемые пехотою, которая уже тогда линиею идти не может, но колоннами, не теряя нимало времени…
Кавалерия будет атаковать в две линии по-шахматному: интервал на эскадрон, чтоб в случае, когда первая линия, рубясь, рассыпается, вторая бы линия могла сквозь интервалы проскакать.
Не употреблять команду „стой“, это не на ученье, а в сражении.
Атака „руби“, „коли“, „ура“, „барабаны“, „музыка“».
Суворов постарался предусмотреть все неожиданности. У местечка Парпанезе через многоводную реку По саперы устроили мост якобы для подхода подкреплений из-под Мантуи от Края. Мера эта имела иную цель: в случае неудачи можно было отойти на левый берег По. «Генерал Вперед» предвидел, что в случае поражения будет уже поздно отступать правой стороной По. Тогда преследуемая с тылу Макдональдом союзная армия была бы встречена шедшей из Генуэзской ривьеры армией Моро и оказалась бы между двух огней.
Составив план для атаки на 7 июня, Суворов перенес выступление из-за страшного утомления войск с семи на десять утра. Главный удар должен был нанести правый фланг союзников, который состоял из русских войск; сюда же фельдмаршал приказал Меласу прислать дивизию Фрёлиха. На узком фронте в три километра Суворов сосредоточил пятнадцать тысяч солдат, намереваясь оттеснить армию Макдональда к северо-западу, прижать ее к реке По и уничтожить. Меласу на левом крыле союзников надлежало провести вспомогательную атаку. Чтобы одушевить австрийцев, фельдмаршал приказал 7 июня в качестве пароля и лозунга пользоваться словами «Терезия» и «Колин». Он вспомнил, что в этот самый день в 1757 году австрийцы победили Фридриха II при Колине.
Между тем Макдональд, с удивлением узрев перед собою главные силы союзников, решил выждать до подхода дивизий Оливье и Монришара и начать наступление только 8 июня. Он твердо надеялся также на Моро, который еще 6-го числа должен был выйти к Тортоне, а затем появиться в тылу русско-австрийской армии. Промедление Макдональда, бесспорно, было его ошибкой и объяснялось разве что недостатком опыта. Инициатива тем самым немедля переходила к Суворову, который выжидать не собирался.
Битва разгорелась на территории между реками Тидоне и Треббия, там, где много лет назад Ганнибал разгромил римлян. Во втором часу пополудни находившийся в авангарде Багратиона фельдмаршал остановил солдат, чтобы дать им несколько оправиться. Ровно в два он разослал приказание начинать атаку и самолично повел авангард вправо. Русская пехота произвела стремительный удар на дивизию Домбровского с фронта, а казаки Грекова и Поздеева снова зашли полякам во фланг. Легионеры сражались с особенным ожесточением, зная, что перед ними Суворов, однако, не выдержав штыковой атаки, отступили за Треббию, оставив две пушки, знамя и шестьсот пленных.
Генерал Виктор, которому раненный при Модене Макдональд поручил командовать над всеми войсками, поспешил на выручку к Домбровскому со своей дивизией и частью дивизии Руска. Он даже намеревался отрезать авангард Багратиона от прочих войск, но тут подошла дивизия Повало-Швейковского. Сам шестидесятилетний Розенберг повел солдат в штыки против неприятельской колонны, которая обходила уже русский авангард справа, рассеял французов и вернулся к Багратиону.
Колонна Фёрстера успешно атаковала французов в центре: казаки Молчанова оттеснили вражескую кавалерию, а австрийская пехота завладела деревней Гриньяно. В это время в район Треббии прибыли две свежие французские дивизии — Оливье и Монришара, которых поджидал Макдональд. Его армия сделалась теперь в полтора раза сильнее союзной, увеличившись на одиннадцать тысяч шестьсот человек. Монришар подкрепил своей дивизией центр, и бой разгорелся с новой силой.
Суворов появлялся в разных местах сражения, подбадривая своих чудо-богатырей. Фукс, расположившийся в тылу на безопасной возвышенности, рассуждал о великом полководце со стариком Дерфельденом.
— Глядите! — воскликнул он. — Одно его присутствие тотчас восстанавливает порядок!
Дерфельден улыбнулся:
— Для вас это ново, а я насмотрелся в течение тридцати пяти лет, как служу с этим непонятным чудаком. Это какой-то священный талисман, который довольно развозить и показывать, чтобы одерживать победы! Несколько раз в жизнь мою Суворов меня стыдил. Иногда диспозиция его казалась мне сумбуром. Но следствия всегда доказывали противное…
Левый фланг французов был уже совершенно сбит войсками Багратиона и Повало-Швейковского. Отступившие части Виктора и Руски еле удержались на другом берегу Треббии. Однако вопреки диспозиции, нарушив приказ Суворова, Мелас оставил у себя резервную дивизию Фрёлиха, предназначавшуюся для нанесения окончательного удара. Австрийский генерал добился на своем фланге тактического превосходства, захватил семьсот пленных, но одновременно расстроил весь замысел Суворова и даже создал угрозу для слабого центра союзной армии. Мужество и стойкость чудо-богатырей восполнили численный недостаток. Однако это стоило русским многих жертв.
После продолжительного боя французы наконец были отброшены за Треббию по всему фронту.
Фельдмаршал отправился ночевать в сельский домик. Никаких перемен в диспозиции он не сделал, снова приказав Меласу отправить дивизию Фрёлиха к средней колонне и прибавить к ней десять эскадронов кавалерии. «Удивительно, с какой снисходительностью отнесся Суворов к ослушанию Меласа, — замечает А. Петрушевский, — между тем как, может быть, именно из-за него предстоял наутро новый бой».
Будучи сильнее союзников, Макдональд твердо решил назавтра начать контрнаступление. По его расчетам, вот-вот должен был появиться Моро, а кроме того, с Апеннин спускалась отдельная дивизия генерала Лапоипа (три тысячи триста солдат), выходившая союзникам во фланг. Макдональд настолько был уверен в победе, что не счел нужным оставить резерв.
«8 числа июня, — пишет Суворов, — произошла 3-я баталия… кровавее прежних». Густые синие колонны французов начали переходить речку во многих местах. Легионеры Домбровского уже двигались по высотам, в обход правого крыла союзников. Фельдмаршал немедля отрядил против них авангард Багратиона. В который раз русская пехота взяла неприятеля в штыки, а казаки ударили с флангов. Легионеры едва спаслись за Треббией и более не участвовали в сражении, расстроенные несколькими поражениями подряд.
Тяжелее всех пришлось дивизии Повало-Швейковского. Когда авангард Багратиона отделился вправо и напал на поляков, образовался промежуток в целую версту от прочих войск. Этим искусно воспользовались Виктор и Руска, обрушившие на дивизию Повало-Швейковского фланговые и фронтальные атаки. Французы имели здесь тройной перевес и оттеснили русские батальоны до деревушки Казалиджо, исходного рубежа перед битвой 7 июня. Гренадерский полк, носивший имя Розенберга, был окружен: повернув третью шеренгу назад, русские отстреливались спереди и с тыла. Изнуренные неравным боем и жарой, они едва были в состоянии держаться. Авангард Багратиона, вернувшийся на подмогу дивизии, исчерпал все имевшиеся резервы. Ружья стреляли плохо, так как замки и полки засорились накипью от пороха. Командовавший правым флангом союзников Розенберг начал подумывать об отступлении и с этим поехал к Суворову.
Фельдмаршал, проведший весь день на лошади, притомился, снял китель и присел отдохнуть, прислонясь спиной к огромному камню. Выслушав Розенберга, он с неколебимой убежденностью сказал:
— Ваше превосходительство! Андрей Григорьевич!.. Подымите этот камень. — Розенберг молчал. — Не можете? А? Ну, так вот так же нельзя отступить русским! Ступайте, помилуй Бог, ступайте. Держитесь крепко! Бейте! Гоните! Мы русские! Не унтеркунфт.
Розенберг уехал. Но тотчас примчался австрийский офицер, посланный Меласом узнать, куда отступать в случае неудачи.
— В Пьяченцу! — последовал быстрый ответ. — Скажите ему, чтобы он всеми силами в колоннах бил в середину! Шибко, прямо бил бы! — И, поворотясь к подъехавшему Багратиону, спросил: — Что, Петр? Как?
— Худо, ваше сиятельство. Силы убыли. Последний запас моих гренадер пустил я в бой. Ружья худо стреляют. Неприятель силен…
Суворов прервал его:
— Помилуй Бог, это нехорошо, князь Петр!.. Лошадь!
Он приказал, чтобы полк казаков и батальон егерей, только ставшие на отдых, двинулись за ним. Люди, от усталости едва переводившие дух, оживились. Фельдмаршал велел ударить в барабаны сбор, и солдаты дружно бросились вперед.
В это время свежая колонна французов перешла Треббию и прорвала русский фронт, Суворов полетел к отступавшим:
— Заманивайте!.. Шибче заманивайте!.. Бегом!
Солдаты приободрились, беспорядочная толпа образовала линию. Теперь при отступлении русские метко клали французов. Так отходили солдаты за своим фельдмаршалом шагов полтораста.
— Стой! — крикнул Суворов.
В этот миг скрытая русская батарея брызнула в лицо неприятелю ядрами и картечью. Главнокомандующий воспользовался удобным мгновением.
— Вперед! — приказал он. — Ступай, ступай! В штыки! Ура!..
Усталые солдаты, входившие в состав авангарда Багратиона, войск Повало-Швейковского и Розенберга, все же нашли в себе силы и ударили так энергично, что французы приняли их за свежие подкрепления. Дивизии Виктора и Руска начали отходить. Левое крыло неприятеля было отброшено за Треббию и более уже в наступление не переходило.
В резерве у Макдональда ничего уже не оставалось, кроме вконец деморализованных легионеров Домбровского.
Однако и русские войска не в силах были форсировать Треббию и выйти на правый берег. Мелас, вновь нарушивший приказ фельдмаршала, по-прежнему держал у себя дивизию Фрёлиха. Австриец никак не мог взять в толк, что левый фланг играл в битве самую второстепенную роль. Он отправил вправо лишь кавалерию Лихтенштейна.
В то время как десять эскадронов австрийской кавалерии шли к правому флангу, огромные силы французов надвинулись на центр, удерживаемый слабой колонной Ивана Ивановича Фёрстера. Русские встретили дивизию Монришара белым ружьем, и в это же время появился на фланге Лихтенштейн. Прискакал сюда и Суворов. Атакованный с фронта и с фланга Монришар начал отступление, которое вскоре превратилось в беспорядочное бегство. Французский генерал едва собрал свою дивизию на правой стороне Треббии.
Кавалеристы Лихтенштейна, разделавшись с Монришаром, подкрепили пехоту Меласа, теснимую колонной Оливье. Австрийцы двинулись вперед и спустились уже в самое русло Треббии, но сильный картечный и ружейный огонь понудил их вернуться.
К шести часам вечера союзники повсюду вышли на левый берег Треббии. Суворов хотел было возобновить атаку, но жара и чрезвычайное утомление войск вынудили его отложить наступление до завтра. Сам шестидесятидевятилетний полководец все еще находил силы ободрять, командовать, принимать новые решения, хотя почти трое суток не покидал седла. Скрывая свою усталость, он весело поздравил союзных генералов «с третьею победою» и поручил передать «большое спасибо» солдатам и офицерам. Кровопролитное сражение недешево обошлось союзникам. Но верный своим принципам Суворов намеревался добить армию Макдональда. К пяти пополуночи союзные войска должны были изготовиться к атаке.
— Завтра дадим еще четвертый урок Макдональду, — сказал фельдмаршал, отпуская генералов.
9 июня, когда забрезжил рассвет, аванпосты заметили, что на правом берегу Треббии нет французов. Ночью Макдональд увел армию, оставив небольшой кавалерийский отряд, который поддерживал бивачные огни и тем старался ввести в заблуждение союзников. Французская армия собралась 10 июня в горах, у местечка Борго-Сан-Донино. Макдональд потерял в общей сложности около восемнадцати тысяч человек. Из двух тысяч легионеров Домбровского уцелело только три сотни.
10-го же июня фельдмаршал дал своим войскам день отдыха. Теперь он мог принять меры против колонны Лапоипа, шедшей вниз по течению Треббии из местечка Боббио, и послать отряды для занятия Боббио. Французский генерал, узнавший о результатах битвы при Треббии, повернул назад, нашел местечко уже занятым союзниками, попытался атаковать русские части и был разбит. Неудачной оказалась и попытка Моро, который медленно двигался к Александрии, полагая, что Суворов все еще там. Сперва он напал на корпус Бельгарда, добился некоторого успеха, однако при приближении главной армии счел благоразумным отретироваться в Апеннины. Как бы для полноты торжества сдалась могучая цитадель Турина с трехтысячным гарнизоном.
Даже противник отдал должное действиям Суворова. О марше к Треббии Моро сказал как о «верхе военного искусства». Позже, при дворе Наполеона, Макдональд заметит в беседе с русским послом: «Хоть император Наполеон не дозволяет себе порицать кампанию Суворова в Италии, но он не любит говорить о ней. Я был очень молод во время сражения при Треббии. Эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру, меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».
Павел I откликнулся на новую викторию рескриптом: «Поздравляю вас вашими же словами: „Слава Богу, слава вам“!» Хвостов уведомлял «дядюшку», что «сие дело здесь много гремит; в подобных случаях не надо скупиться на курьеров». Все представленные фельдмаршалом получили щедрые награды; ему самому был пожалован портрет императора, оправленный в бриллианты.
В России ликовали, во Франции ужасались; те же, кому надлежало, кажется, восхищаться победами Суворова более всего, — император Франц и гофкригсрат — проявили удивительную сдержанность. Слишком далеко зашли уже разногласия между русским полководцем и своекорыстным австрийским двором. Новым рескриптом Франц воспрещал Суворову какие-либо наступательные действия — к Риму, Неаполю или через Валлис и Савойю во Францию. Опека становилась оскорбительной. Это уже понимали многие из австрийцев.
Когда фельдмаршал спросил одного из союзных генералов, отчего после победы на Треббии Ганнибал не пошел прямо на Рим, тот ответил, что, вероятно, и в Карфагене был свой гофкригсрат.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ НОВИ
Юный Жубер пришел учиться; дадим ему урок…
Суворов1
Корпус Ребиндера готовился в Пиаченце к встрече с любимым полководцем.
С вечера все чистились, бывалые солдаты рассказывали о Суворове и его победах. Рано поутру на равнине, среди кукурузных полей и виноградников, построились в каре три мушкетерских полка, егерский полк, три сводных гренадерских батальона и два казачьих полка — десять тысяч храбрейших воинов. Сверкала медь гренадерок и пуговиц на темно-зеленых с красными отворотами мундирах, сверкали золоченые офицерские нагрудные знаки, сверкала синяя сталь русских штыков.
Стены Пиаченцы сплошь покрыты были толпою горожан. Синими мундирами выделялись среди них раненые французы, покинувшие гофшпиталь, чтобы увидеть своего победителя. Все взоры обращены были на дорогу.
Сержант Ребиндерова полка Яков Старков от радостного волнения всю ночь не смыкал глаз. И вот, вот он, отец Александр Васильевич! Фельдмаршал быстро ехал верхом, окруженный многочисленной свитой.
«Если бы не мать родная — святая дисциплина, удерживавшая в рядах ратников, — думалось Старкову, — то все войско кинулось бы к нему навстречу». Суворов остановил коня, разом оглядел солдат и громко сказал:
— Здравствуйте, братцы! Чудо-богатыри! Старые товарищи, здравствуйте!
В ответ солдаты кричали ему приветствия — кто что мог и у кого что милого было на душе. Наконец громовое «ура» покрыло все.
Затем Суворов приказал начать экзерцицию, продолжавшуюся не более часа. По окончании учений корпус повзводно прошел мимо фельдмаршала. Находившиеся в его свите австрийцы удивлялись стройности фронта, молодцеватости и ловкости солдат, их веселому виду.
Войска остановились. Суворов подъехал прямо к полку Ребиндера, и батальоны тесно сомкнулись вокруг него.
— Побьем неприятеля! И нам честь и слава, — летели над войсками его слова. — Глазомер! Быстрота! Натиск! Неприятель нас не чает, щитает нас за сто верст, а коли издалека, на двух, трестах и больше. Вдруг мы на него, как снег на голову. Закружится у него голова! Атакуй, с чем пришли; с чем Бог послал. Конница, начинай! Руби, коли, гони, отрезывай, не упускай! Пехота, коли в штыки! Братцы, вы богатыри! Неприятель от вас дрожит! Вы русские!..
И крик десяти тысяч солдат: «Веди нас, отец наш! Рады стараться! Ура!» — огласил окрестности Пиаченцы.
Когда Суворов уехал, командиры полков и батальонов повели к фельдмаршалу старых его знакомых. С какой радостью воротились под вечер старики и чего не наговорили солдатам. Гренадер Огонь-Огнев рассказывал:
— Лишь вошли мы в огромную горницу — залу, как навстречу отец наш: «Здравствуйте, старые товарищи! Русские витязи!» — и подошел ко мне: «А, Михайло Михалыч! Здравствуй, Миша!» — и поцеловал меня «Здоров ли ты, Михайло Михалыч? Помнишь, как на Кинбурнской косе спас меня от смерти? Пора нам с тобою, Миша, на покой. Кончим эту войну, и ты поедешь ко мне, будешь за моим столом. О, какой же ты лысый, Миша, — с доброю улыбкой добавил Александр Васильевич, — какой стал старый ты, Михайло!» — и сунул мне в руку вот что…
Тут Огонь-Огнев показывал солдатам в тряпочке четыре золотых червонца, сам плакал и смеялся и продолжал рассказ:
— Нас было человек около полусотни. И почти всех по именам помнил Александр Васильевич! Кто с ним был в Крыму, на Кубани, кто на Пруте, при Рымнике, на Дунае и в Польше, — со всеми он поговорил и всякому нашел свое слово ласковое. Напоследок он сказать изволил: «Прощайте, братцы, покудова! Увидимся! Кланяйтесь от меня всем, всем чудо-богатырям!»
Генерал-лейтенанта Ребиндера Суворов ценил и любил, называл его просто Максимом, но, считаясь со старшинством, отдал его корпус под начальство Розенберга, а корпус последнего — Дерфельдену. Войска расположились лагерем при Александрии, занимаясь маневрами и ученьями. 28 июня с наступлением темноты фельдмаршал приказал произвести примерный приступ на стены города, и французский гарнизон, все еще сидевший в цитадели, с удивлением наблюдал за действиями русских. Быть может, этого и добивался Суворов.
Ровно месяц оставался деятельный и пылкий полководец на одном месте, принужденный ожидать сдачи александрийской цитадели и Мантуи. Неприятельская армия, укрывшаяся за Апеннинами, находилась в столь расстроенном состоянии, что и помышлять не могла о каких-либо наступательных предприятиях. В Средней и Южной Италии французов повсюду теснили и гнали. Суворов получил письма от адмирала Ушакова и кардинала Руффо о падении Неаполя, где главную роль сыграли пятьсот русских матросов во главе с капитан-лейтенантом Белле.
Командующий обратился к австрийскому офицеру, привезшему письмо от Ушакова:
— Здоров ли друг мой Федор Федорович?
Суворов высоко ценил и любил Ушакова, видя в нем близкого по таланту военачальника. Когда он узнал о взятии русским флотом в феврале 1799 года крепости Корфу, то сказал ближним: «Великий Петр наш жив! Что он по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах произнес — „Природа произвела Россию только одну; она соперницы не имеет!“ — то ли теперь мы видим. Ура русскому флоту! Генрих IV написал знаменитому Крилену: „Повесься, храбрый Крилен, мы победили при Арке, а тебя там не было!“ Я теперь говорю самому себе: „Зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом“».
Так как австриец молчал, фельдмаршал повторил свою фразу:
— Здоров ли Федор Федорович?
Тот не понимал, о ком его спрашивают. Фукс быстро шепнул ему, что об Ушакове.
— Ах да, — опомнился он, — господин адмирал фон Ушаков здоров.
Суворов мгновенно вспыхнул:
— Возьми себе свое «фон» и раздавай кому хочешь. А победителя турецкого флота на Черном море, потрясшего Дарданеллы и покорившего Корфу, называй Федор Федорович Ушаков!
Он тут же ушел с Фуксом к себе в кабинет.
Кардинал Руффо в письме своем приписывал успех единственно победам Суворова: они отвлекли все силы Макдональда к Треббии, и тот принужден был оставить в неаполитанских областях только малочисленные гарнизоны. В присланном пакете фельдмаршал нашел заметки русского очевидца, которые зачитал Фукс:
— «По вступлении войск в Неаполь калабрийцы буйствовали с беспримерной кровожадностью: убивали всех, кто только носил имя якобинца, и невинно и произвольно, грабили домы, неистовствовали с несчастными женами и безвинными детьми. Более двух тысяч домов были разорены. Христианская армия в ужасах превзошла революционную. Во многих улицах жарили пленных, подымали их на штыки. Были чудовища, которые сосали кровь из убиенных. С великим трудом удержал Руффо от пожара хлебные магазейны, в которых спрятались до шестисот патриотов. Русские смотрели с омерзением на таковые бесчеловечия. Они не оставались хладнокровными зрителями: бросались, исторгали невинные жертвы из рук убийц, и сим героизмом в человеколюбии покрыли себя славою, которая в летописях здешних пребудет вечною…»
Слушая Фукса, Суворов содрогался, а потом встал, перекрестился и сказал:
— Трусы всегда жестокосерды!
При подписании письма к Ушакову фельдмаршал добавил что-то, но так премелко, что Фукс не мог разобрать.
— Не надседайся, — улыбнулся Суворов, — это на турецком языке поклон союзному адмиралу Кадыр-Абдул-бею.
После, встретив Фукса, Ушаков уверял его, что турок, прочитавший эти строки, восхищался и не хотел верить, будто их столь правильно начертал русский.
2
Суворов желал бы, не теряя времени, предпринять движение в Генуэзскую ривьеру и там нанести решающий удар неприятелю. Но в то самое время, когда французы после понесенных ими поражений деятельно собирали новые силы и пополняли свои армии, весь операционный план гофкригсрата по-прежнему сводился к взятию Мантуи и других крепостей, а также к защите занятых итальянских областей. Пришлось вплотную заняться александрийскою цитаделью.
Отделенная от города рекой Танаре и имевшая вид правильного шестиугольника, она считалась одною из лучших крепостей в Италии и имела трехтысячный гарнизон. Щадя людей, фельдмаршал откладывал штурм, приказав вести тщательные осадные работы, и ожидал прибытия из Турина тяжелой артиллерии. Когда прибыли осадные орудия, Суворов повелел послать коменданту цитадели требование о капитуляции и лишь после лаконичного отказа французского генерала Гарданна решил готовиться к приступу.
В три пополуночи 4 июля все батареи открыли такой сильный огонь, что в цитадели немедля загорелись магазин и госпиталь, а через шесть часов вынуждены были умолкнуть крепостные пушки. Канонада велась непрерывно, и в семь дней из семидесяти пяти орудий было произведено сорок две тысячи выстрелов. 10 июля к генералу Бельгарду явился парламентер с согласием на капитуляцию.
«Сего числа получил я донесение ваше о взятии крепости Александрии, — писал Суворову Павел I — Час от часу успехи ваши и последствия побед утверждаются, и вскоре Италия вся перестанет иметь в глазах безбожных своих завоевателей. Сим обязана она будет искусству, храбрости и добродетелям вашим. Завтра еду отсель в Павловск, где на другой день приезда позову своих и иностранных господ и отпою молебен за здравие всегда победоносного фельдмаршала и войск, с ним воюющих».
После сдачи александрийской цитадели вся осадная артиллерия и часть корпуса Бельгарда отправлены были к еще сопротивлявшемуся Тортонскому замку. В продолжение всей кампании Суворов поочередно обращал все артиллерийские средства от одной крепости к другой. После падения Пицигетоне весь осадный парк был передан в Милан; капитулировала миланская цитадель — орудия перевезли к Турину; сдача туринской цитадели дала средства к осаде Александрии. Противник не выдерживал сконцентрированного мощного огня, и каждая крепость держалась лишь несколько дней. Так уберегал Суворов людей. Однако Тортонский замок мог быть взят только благодаря правильной осаде. Сам фельдмаршал, мы помним, считал его более неприступным сооружением, чем мантуанская крепость.
Блокада Мантуи между тем длилась уже три месяца. Ее комендант, один из лучших французских инженеров, бригадный генерал Латур де Фуссак, имел в своем распоряжении десятитысячный гарнизон и запасы продовольствия на целый год. Крепость эта так сильно заботила венский гофкригсрат, так долго останавливала все предприятия Суворова, что русский главнокомандующий не жалел ничего, дабы развязать себе руки. С прибытием в Италию корпуса Ребиндера большая часть состоявшей при нем артиллерии, все пионеры, саперы, минеры отряжены были к Краю под Мантую. Энергичная осада началась 25 июня, и 18 июля крепость была наконец сдана. Победителям досталось шестьсот семьдесят пять орудий, флотилия канонерских лодок и большие запасы продовольствия.
В Австрии ни одна победа Суворова не была оценена так высоко, как эта. Во Франции сдача крепости ввергла всех в состояние оцепенения. Коменданта обвиняли не только в малодушии, но и в измене, а по возвращении на родину предали суду и приговорили к лишению мундира. Император Павел возвел Суворова за Мантую в княжеское достоинство с титулом Италийского. Просьбу же русского командующего о награждении Края Павел I решительно отклонил, так как был крайне недоволен политикой венского двора.
«Примите воздаяние за славные подвиги ваши, — писал он Суворову 9 августа, — да пребудет память их на потомках ваших к чести и славе России… Хотя вы генерал-фельдцейхмейстера Края и рекомендуете, но я ему ничего не дал, потому что Римский император трудно признает услуги и воздает за спасение своих земель учителю и предводителю его войск… Простите, победоносный мой фельдмаршал, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский».
Покорение Мантуи обрадовало самого Суворова прежде всего из-за ожидаемых последствий этого события. Он надеялся, что с падением крепости рушится преграда, удерживавшая его от наступательных операций. Протестуя против мелочной опеки и необходимости предварять каждый свой шаг объяснениями гофкригсрату, великий полководец пояснял русскому послу в Вене:
— Фортуна имеет голый затылок, а на лбу длинные висящие власы. Не схвати за власы — уже она не возвратится…
Постепенно накапливалась горечь; Суворова не только лишали самостоятельности, зачастую повеления австрийским войскам шли помимо него. Сообщая Разумовскому в Вену о невыносимости своего положения, старый фельдмаршал кончает письмо словами: «Домой, домой, домой, — вот для Вены весь мой план», а через несколько дней посылает прошение Павлу:
«Робость венского кабинета, зависть ко мне, как чужестранцу, интриги частных двуличных начальников, относящихся прямо в гофкригсрат, который до сего операциями правил, и безвластие мое в проведении сих прежде доклада на тысячи верстах принуждают меня, ваше императорское величество, всеподданнейше просить об отзыве моем, ежели сие не переменится. Я хочу кости мои положить в своем отечестве и молить Бога за моего государя».
Только получив письмо фельдмаршала, Павел увидел истинную причину разногласий и со свойственной ему переменчивостью воспротестовал против превращения Суворова в покорного исполнителя распоряжений гофкригсрата. Разумовскому дано было повеление потребовать объяснений от Франца; кроме того, австрийскому монарху последовало письмо с указаниями на гибельность предписаний гофкригсрата для общего дела. Наконец, русскому главнокомандующему Павел отправил рескрипт, в котором говорилось о необходимости предохранить себя «от всех каверзов и хитростей венского двора», для чего «искусству и уму Суворова» предоставлялись «дальнейшие военные операции и особенная осторожность от умыслов, зависти и хищности подчиненных австрийских генералов». По сути, это уже было началом развала коалиции.
В вынужденном бездействии фельдмаршал разрабатывал план окончательного изгнания французов с Апеннинского полуострова. Он порешил наступать тремя колоннами, спуститься к Ницце и Генуе и довершить разгром республиканской армии. 19 июля, за несколько часов до падения Мантуи, Суворов обратился к австрийским генералам, не только приказывая, но прося, умоляя их начать движение на Ривьеру. Привыкшему к неукоснительной воинской дисциплине великому полководцу приходилось поступаться ею ради пользы дела.
«Заклинаю ваше превосходительство приверженностью вашею к его императорскому величеству, — писал он Меласу, — заклинаю собственным усердием вашим к общему благу. Употребите всю свою власть, все силы свои, чтобы окончить непременно в течение десяти дней приготовления к предложенному наступлению на Ривьеру Генуэзскую. Поспешность есть теперь величайшая заслуга; медленность — грех непростительный».
Уже прибыли под Александрию войска Края, освободившиеся после взятия Мантуи, уже пала крепость Серравалле, это «орлиное гнездо, висевшее над дорогою в Геную», как готовившееся наступление союзников предупреждено было французами. Пока Суворов терял драгоценное время в изнурительной борьбе с венским «унтеркунфтом», Директория предприняла ряд энергичных мер, формируя новые и переформировывая старые армии — Рейнскую, Швейцарскую, Альпийскую и Итальянскую. 24 июля в Геную приехал новый главнокомандующий Бартоломей Жубер, сменивший на этом посту Моро, который перемещался на Рейн.
Не достигший еще тридцати лет, Жубер был одним из лучших генералов республики, сподвижником Бонапарта в блестящей итальянской кампании 1796 года, безупречно честным и весьма образованным человеком. Он обладал замечательным мужеством, военным дарованием и за четыре года проделал путь от рядового до бригадного генерала. После битвы при Риволи Бонапарт сказал о нем: «Жубер показал себя гренадером по храбрости и великим генералом по военным зданиям». Поход в Тироль, названный Карно «походом исполинов», дела в Голландии, на Рейне, занятие Пьемонта в 1798 году прославили имя Жубера.
Отправляясь в армию прямо от венца, он сказал молодой жене: «Ты меня встретишь или мертвым, или победителем».
У Жубера имелось всего лишь сорок пять тысяч войск, а в наступательных операциях можно было использовать и того меньше. Вполне понимая тяжесть возложенной на него миссии, Жубер просил Моро остаться на несколько дней при войсках и помочь ему своей опытностью. На военном совете в конце концов порешили двигаться через горы на север. 1 августа левое крыло французов заняло город Акви на реке Бормида, а часть правого крыла приблизилась к Серравалле.
Узнав о том, что неприятель сам покинул малодоступные горные ущелья и устремился на равнину, Суворов обрадовался: отпадала надобность в трудном горном походе.
— Юный Жубер пришел учиться, — сказал он, — дадим ему урок…
3
Ничего не зная о падении Мантуи и полагая, что войска Края по-прежнему прикованы к ней, Жубер, безусловно, недооценил союзные силы. Пока французы двумя группами — Сен-Сира и Периньона — двигались в направлении на Нови — Тортона, Суворов расположил свою шестидесятичетырехтысячную армию так, что передовые части повсюду должны были встретить неприятеля. Он надеялся притворным отступлением авангарда выманить войска Жубера с высот. Этот маневр — преднамеренный отход в удобное для сражения место — был новым для XVIII века.
Перед рассветом 3 августа 1799 года французы подошли к Нови. Находившийся тут Багратион с частью авангарда стал отступать. Левое крыло неприятеля подалось вперед, но затем остановилось. Выехавший на высоты у Нови Жубер понял свою ошибку. В подзорную трубу он увидел на Тортонской равнине всю союзную армию. Марш французов через горы оказался не только бесполезным, но и поставил армию под угрозу уничтожения.
Единственно верным решением было бы вернуться назад в горы, в голодную Геную, хотя это и нанесло бы удар военному авторитету Жубера. Новый военный совет закончился безрезультатно. По счастью для французов, местность, где они стояли, представляла собою исключительно выгодный рубеж для обороны: крутые северные скаты Апеннин, несколько понижающиеся к западу от городка Нови и покрытые виноградниками и садами, которые расположены террасами. Особенно удобную позицию представляли собой высоты от Серравалле и на северо-запад до Нови.
Суворов, избравший своей ставкой местечко Поцоло-Формигаро, позади авангарда Багратиона, весь день 3 августа был на коне. Впереди линии развернутых батальонов, в хлебах залегла цепь егерей. Фельдмаршал, одетый в белую рубаху, прискакал к ним для рекогносцировки неприятельской позиции. Он уже порешил наступать, опасаясь отхода Жубера.
Французские генералы, смотревшие с высот в зрительные трубы, узнали союзного главнокомандующего. Вражеские сторожевые посты открыли сильный огонь, позади них стала собираться конница. Великий князь Константин Павлович начал побаиваться, как бы французы не предприняли что-либо против фельдмаршала, и выслал для его защиты два взвода австрийских драгун. Однако Суворов скоро сам повернул назад. Обдумывая диспозицию, он был совершенно уверен в успехе и в отличном расположении духа написал Меласу по-немецки стихи, где славил штык и саблю, клял «гадкое отступление», именовал Края героем.
С запиской к Меласу отправился Аркадий Суворов. Высокий и стройный белокурый красавец, обладавший замечательной физической силой, Суворов-младший с юности отличался умом, благородством, прямодушием и храбростью, приводившей в восторг самых отъявленных смельчаков. Он не получил, однако, ни дельного образования, ни порядочного воспитания и, сделав блестящую карьеру, вел впоследствии жизнь самую беспорядочную. Он был кумиром солдат и, начальствуя над дивизией, двадцати-пяти лет от роду утонул, спасая рядового. Сын нашел смерть в 1811 году в водах той же реки Рымника, на берегу которой отец нанес страшное поражение туркам.
В свои пятнадцать лет Аркадий Суворов был уже генерал-майором и состоял при отце в должности генерал-адъютанта.
Согласно плану, принятому фельдмаршалом, сильная группировка Края (около двадцати семи тысяч) поутру должна была справа атаковать левый фланг французов западнее Нови и привлечь к себе основные силы противника. Чуть позже русские корпуса Дерфельдена и Розенберга и австрийские — Меласа и Алькани наступают восточнее Нови, отрезая Жуберу отход на юг и окружая его армию.
«В этом замечательном плане операции, — пишет советский военный исследователь полковник А. Н. Боголюбов, — имеются новые оперативные идеи, примененные впервые Суворовым на практике. На самом деле, атаковать без соответствующего маневра неприступные позиции, занимаемые тридцативосьмитысячной армией французов, хотя бы и с двойным превосходством в силах, не имело смысла. Поэтому Суворов решает создать видимость главной атаки на второстепенном участке фронта. Задачу эту выполняет мощная группа Края… Главный удар наносится не одновременно с второстепенным, а спустя несколько часов после атаки Края. Главные силы для атаки эшелонируются в глубину: в первой линии двадцать три тысячи человек, во второй — четырнадцать тысяч человек, при этом войска второй линии в исходном положении располагаются за первой на расстоянии десять — пятнадцать километров. И, наконец, выбор операционного направления главного удара на правый фланг французов, то есть на наиболее важный участок фронта, показывает искусство Суворова оценивать местность с оперативной точки зрения».
Еще не занялась заря 4 августа, когда раздался первый орудийный выстрел. Край бросил свои войска на левое крыло французов. Отряды Бельгарда и Отта атаковали с фронта, а небольшой отряд Секендорфа направился вдоль реки Лемме в обход неприятеля. Французы не успели еще занять позиции и вступали в бой с ходу. Передовые части их кавалерии были сбиты, завязалась ружейная перестрелка.
Жубер понесся к передовой цепи застрельщиков и тут же пал, сраженный пулей. Последние слова его были: «Вперед, только вперед!» Смерть его скрывалась от солдат до самого конца боя, и главное начальство принял Моро.
Первые цепи солдат Края достигли подошвы высот, перестроились в колонны и стали подыматься, тесня французскую дивизию Лемуаня. К восьми утра бой разгорелся на всем западном участке фронта. Моро послал за подкреплениями. Подоспевшая дивизия Груши и бригада Колли ударили австрийцам во фланги. Край отправлял к Багратиону одного за другим офицеров с просьбой начинать наступление и на левом крыле союзников, но русский генерал не решался действовать вопреки диспозиции. Он и сам уже нервничал, посылал к фельдмаршалу адъютантов и ординарцев, но те не возвращались. Наконец он сам поскакал в Поцоло-Формигаро.
Один из посыльных, встретившийся ему в пути, доложил, что командующий спит, завернувшись в плащ. Багратион встревожился, подумав: «Что бы это значило? Помилуй Бог, уж жив ли он?» — и пришпорил лошадь.
Впереди колонн стояли генералы. Подъехав к ним, Багратион увидел Суворова, который лежал, завернувшись в свой ветхий плащ из синего тонкого полусукна. Едва успел Багратион перемолвиться с генералами, как фельдмаршал откинул плащ, вскочил:
— Помилуй Бог, заснул, крепко заснул! Пора!
Все это время он лежал, вслушиваясь в разговоры генералов, приезжающих с поля битвы адъютантов, и обдумывал предстоявшее дело. Теперь, через четыре-пять часов боя, французы понуждены были ввести в сражение к западу от Нови свои основные силы — около двадцати пяти тысяч. Край, таким образом, свою задачу выполнил. Расспросив наскоро Багратиона и взглянув еще раз на позицию, Суворов приказал ему и Милорадовичу наступать в направлении городка Нови, лежавшего у самой подошвы гор, посредине между двумя реками.
Авангард русских так смело подался вперед, что французы не удержались и ретировались в Нови. Русские, повернув правее города, продолжали под ядрами и картечью подниматься на высоты. Французские стрелки оставались почти невидимыми, тогда как колонны, беспрестанно задерживаемые канавами и изгородями, оказались открыты выстрелам. Авангард нес огромные потери. Три вражеские батареи, неуязвимые для русских пушек, вели непрерывный огонь из-за гребня горы. Вдобавок генерал Гарданн вышел из Нови и ударил в левый фланг атакующих. Малочисленные войска Багратиона начали отходить под прикрытием казаков и австрийских драгун.
Как раз в это время появилась свежая французская дивизия Ватреня: республиканский генерал запоздал выдвинуться к Нови, и теперь головная его колонна случайно вышла во фланг русским. Суворов сейчас же двинул против неприятеля большую часть войск Милорадовича и послал приказание Дерфельдену спешно выступить к Нови.
Милорадович и Багратион пошли теперь левее городка, передовая бригада Ватреня отступила, но атака не удалась и на этот раз. Гарданн опять вывел свои войска из Нови и ударил в правый фланг Багратиона, а две бригады Ватреня, только подоспевшие к месту битвы, взяли в штыки левое крыло Милорадовича. Угроза нависла над всей левой частью фронта союзников. Но тут показались колонны Дерфельдена — они бежали на выручку товарищей.
С барабанным боем и развернутыми знаменами, как на мирных маневрах, русская линия стройно двинулась вперед. Французы отступили на гребень горы, и вспыхнул яростный бой. Как град сыпались вражеские пули и картечь. Неприятель дрался отчаянно. Вторая атака Дерфельдена была безуспешной: не хватало сил взять громящие батареи. Внезапно густая колонна прорвала рассыпную линию сборного батальона и Московского гренадерского полка.
Находившийся беспрестанно в огне, в гуще боя фельдмаршал появился среди отступающих. Быстро разъезжая, вдоль линии, он громко повелевал:
— Ко мне! Сюда, братцы! Стройся! Подъехавшему тут же Дерфельдену сердито сказал:
— Помилуй Бог! Имей под рукой запас!
Вверх по косогору уже бежал из резерва батальон пехоты.
— Братцы! — обратился к солдатам Суворов. — Вперед! Мы русские! Бей штыком! Колоти прикладом! Не задерживайся — шибко вперед! Ух, махни! Головой тряхни! Вперед!
Гренадеры ворвались на французскую батарею. Лишь управились с ней, как показалась новая колонна в синих мундирах и треуголках. Полковник Харламов и генерал-майор Яков Тыртов в один голос крикнули:
— Дети, к нам! Оборачивайте пушки! Заряжай! Катай!
Гренадеры в мгновение повернули неприятельские орудия, зарядили картечью и дали по колонне залп. Она поколебалась и раздалась. Харламов, огромный старик без шляпы и с двумя пистолетами, увлек за собой солдат:
— Дети, вперед! Ступай, ступай в штыки! Ура! Французы побежали, но гребень горы снова не был взят.
Было уже за полдень, а союзники еще не одолели неприятеля. Солдаты выбились из сил: от расслабления и жажды иные падали, а легкораненые умирали от изнурения.
Быть может, никогда еще за свою долгую военную службу Суворов не встречал столь яростного сопротивления. На его глазах атаки отражались одна за другой. В запале он говорил успокаивавшим его генералам, что не перенесет поражения. Ему справедливо возражали, что отбитая атака не есть еще поражение, но он и сам прекрасно понимал это. Более того, фельдмаршал чувствовал, что развязка боя близка. По всему было видно, что противник ввел в сражение все свои силы, меж тем как у союзников оставались в резерве девятитысячный корпус Меласа и еще далее к северу, перед Тортоной, сильный корпус Розенберга.
Суворов приказал Меласу идти вдоль реки Скривии на Серравалле и ударить в тыл французской армии. Войска Розенберга он оставил в неприкосновенности, что уже доказывает, насколько в действительности командующий был далек от сомнения в победе.
Хоть и прокопавшись в пути довольно долго, Мелас в три пополудни зашел во фланг дивизии Ватреня. Услышав слева сильную ружейную и пушечную пальбу, одновременно с ним двинулись вперед и Край, и Дерфельден. Две колонны Меласа уже добрались до Серравалле, опрокинули легионеров Домбровского, заняли в тылу неприятеля местечко Арквату и повернули вправо, на соединение с остальной частью отряда.
Дивизия Ватреня едва держалась. Цизальпинский легион при первом же натиске бросился наутек во главе с офицерами. Начальник правого крыла Сен-Сир прискакал на подмогу с одной полубригадой и остановил Меласа. Дивизия Ватреня оправилась и даже перешла в наступление, захватив две пушки и австрийского генерала. Казалось, фортуна покидает союзников, но над городком Нови и высотами уже гремело «ура». После кровопролитной рукопашной Дерфельдену удалось ворваться в Нови.
Моро находился в полной растерянности. Когда впоследствии его спросили о Суворове, он отвечал: «Что можно сказать о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой, который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг?»
Крайнее упорство и ожесточение сражающихся сделали бой исключительно кровавым. Союзники потеряли до восьми тысяч человек, французы — более десяти тысяч, причем погибли Жубер, дивизионный генерал Ватрен и бригадный генерал Гаро. Среди четырех тысяч шестисот пленных оказались генерал-аншеф Периньон, дивизионные генералы Груши и Колли, бригадный генерал Партоно.
4
Едва лишь над высотами Нови смолкли выстрелы и на биваках водворилась тишина, фельдмаршал появился в маленьком домике, отведенном под штаб. Суворов был покрыт с ног до головы пылью.
Фукс уже приготовил на столике все необходимое для писания реляций и приказов Завидя его, полководец с восторгом воскликнул:
— Конец — и слава бою! Ты будь моей трубою.
Было около семи вечера, но жара стояла страшная. Доложили, что прибыл из-под осажденной Тортоны от Розенберга офицер. Велено было просить. Юный поручик сообщил, что Розенберг с резервным корпусом ожидает приказаний.
— Хорошо, мой друг, — сказал Суворов и велел Фуксу написать приказ Розенбергу назавтра же начать энергичное преследование разбитой французской армии.
С жадным любопытством смотрел молодой офицер на главнокомандующего, имя которого гремело по всей Европе. Пришедшим чинам штаба фельдмаршал продиктовал еще несколько приказаний о наступлении через Апеннины союзных войск. Одновременно загодя направившийся вдоль морского берега корпус генерала Кленау должен был подойти к Генуе со стороны Тосканы и, по всем расчетам, уже находился у форта Санта-Мария.
Внезапно Суворов обернулся к поручику:
— Заложены ли мины под Тортоною?
— Не знаю, ваше сиятельство, — сорвалось у офицера.
Как ужаленный отскочил от него фельдмаршал:
— Немогузнайка! Опасный человек! Схватите его! — И забегал по комнате.
Постепенно Суворов успокоился, передал сконфуженному поручику запечатанное приказание, сказав при этом:
— Вы должны знать все! Будьте впредь осторожнее!
В окружении австрийских генералов к командующему явился барон Мелас. Суворов обнял его, похвалил храбрость австрийцев и тут же заметил:
— Не задерживаться! Не впадать в унтеркунфт! Вперед, вперед!
— Да, я позабыл — вы генерал Вперед, — пошутил старый Мелас.
— Правда, папа Мелас! Но иногда и назад оглядываюсь! Не с тем, чтобы бежать, а чтобы напасть! А нам сейчас самое время наступать.
— Так вот, назади у нас нет ни продовольствия, ни мулов для продвижения в горы.
Суворов помрачнел.
— Приказываю вашему превосходительству добыть мулов и провиант с наивозможнейшей поспешностию, — твердо сказал он. — Иначе генерал Кленау один выйдет на французскую армию.
— Его превосходительство уже получил приказание гофкригсрата воротиться в Тоскану и до новых предписаний из Вены ничего не предпринимать, — отозвался Мелас. — Хочу ознакомить ваше сиятельство и с другими распоряжениями Придворного военного совета. Генералу Фрёлиху поручено с девятью тысячами солдат навести в Тоскане порядок и разоружить народное ополчение. Его превосходительство генерал Бельгард отзывается в Вену, а граф Гогенцоллерн едет во Флоренцию с дипломатическим поручением…
Видя, что Суворов молчит, Мелас добавил:
— Так как означенное высочайшее повеление должно быть исполнено безотлагательно, то я прямо уже сообщил о нем по принадлежности и сделал надлежащие распоряжения.
Еще несколько часов назад живой, по-юношески бодрый, воодушевленный славною победой русский полководец вдруг почувствовал страшную усталость и слабость. Когда австрийцы ушли, он посадил за стол Фукса и продиктовал ему письмо для начальника военного департамента и любимца императора Ростопчина:
«Милостивый государь мой, граф Федор Васильевич!
Еще новую победу Всевышний нам даровал. Новокомандующий генерал Жуберт, желая выиграть доверенность войск своих, выступил 4-го числа августа из гор с армиею свыше 30 000. Оставя Гави в спине, соединенная армия его атаковала и по кровопролитному бою одержала победу.
Все мне не мило. Присылаемые ежеминутно из Гофкригсрата повеления ослабевают мое здоровье, и я здесь не могу продолжать службу. Хотят операциями править за 1000 верст; не знают, что всякая минута на месте заставляет оные переменять. Меня делают экзекутором какого-нибудь Дидрихштейна и Тюрпина. Вот новое венского кабинета распоряжение… из которого вы усмотрите, могу ли я более быть здесь. Прошу ваше сиятельство доложить о сем его императорскому величеству, как равно и о том, что после Генуэзской операции буду просить об отзыве формально и уеду отсюда. Более писать слабость не позволяет».
Суворов вынужден был теперь послать вслед французам лишь корпус Розенберга. Рано поутру 5 августа русские колонны вышли из Нови на взлобье горы, видя вокруг себя множество поколотых французов. По воспоминанию очевидца, их было больше, чем снопов сжатого хлеба на самом урожайном поле. Гренадеры снимали с головы колпаки, крестились и творили простодушную свою молитву.
К вечеру, часу в десятом, корпус остановился в виноградниках напротив большой и крутой, охренного цвета горы, занятой неприятелем. Генерал Розенберг приказал стоять тихо, а гренадерам обернуть колпаки задом наперед, чтобы медные гербы при взошедшей полной луне не отражали блеску. На заре русские увидели гору во всей ее огромности: вся она усеяна была французами, которые со спехом уходили. Розенберг медлил. Лишь в восьмом часу корпус двинулся с места. Солдаты и офицеры роптали:
— Как? Быть так близко к врагу и упустить его из рук? О, да это не по-русски, не по-суворовски!
В армии Розенберга не любили, приписывали ему чужие ошибки, сам Суворов разделял эту предвзятость. Теперь допущена была оплошность явная. Моро получил передышку. Перед полуднем войска достигли Серравалле: на отвесной горе прицепилась маленькая крепость, а подле нее, на окраине скалы, стоял верховой донец с пикою в руках. Это значило, что ключ в Генуэзские горы снова находился в руках союзников. Часу в четвертом корпус прошел мимо крепости Гавия, на стене которой был выставлен белый флаг.
Только 6 августа русские настигли уходивший арьергард Моро. Несколько батальонов дружно и горячо ударили в штыки, сбили французов с горной позиции и преследовали версты три или четыре. Это было не сражение, а побоище. Четырехтысячный неприятельский отряд перестал существовать: сто тридцать человек попало в плен, многие полегли, а большая часть солдат разбежалась. Однако едва начавшееся преследование прекратилось.
Из-за распоряжений гофкригсрата Суворов понужден был дать приказание всем отрядам воротиться на прежние позиции. Это спасло остатки разбитой армии Моро. Между тем генерал Кленау все-таки решил повиноваться не гофкригсрату, а прежним приказаниям главнокомандующего, и берегом дошел почти до Генуи. Однако, не поддержанный основными силами; он отступил, потеряв несколько сот человек.
Тревожные сведения приходили из Швейцарии и пограничных с Францией областей. Генерал Массена оттеснил бригады Рогана и Штрауха, занял Симплон и Сен-Готард и тем самым открыл себе путь для удара в тыл Итальянской армии. К крепости Кони подходила французская армия Шампионе.
Суворов избрал местом лагеря для своих войск Асти, пункт между Турином и Тортоной, удобный на случай действий неприятеля как со стороны Кони, так и Генуи. Он приказал возобновить осаду тортонской цитадели, последнего очага сопротивления в Северной Италии.
11 августа стороны заключили взаимовыгодную конвенцию. Гарнизон давал обещание сдаться через двадцать дней, если за это время его не выручит французская армия. Взамен солдаты и офицеры получали свободу с правом возвращения на родину.
Три недели, проведенные Суворовым в лагере при Асти, стали сплошным триумфом великого полководца. Сюда стекались иностранцы поглядеть на победоносного вождя. В разных странах появлялись статьи, брошюры, портреты, карикатуры, медали и жетоны в честь русского фельдмаршала. В Германии выбили медаль с профилем Суворова и латинской надписью на лицевой стороне: «Суворов — любимец Италии», на обратной: «Гроза галлов». Русский резидент в Брауншвейге Гримм, которому фельдмаршал подарил после войны в Польше свой миниатюрный портрет, сообщал, что вынужден принимать целые процессии желающих увидеть его.
В лондонских театрах в честь Суворова произносились стихи. Вошли в моду суворовские пироги, суворовская прическа… «Меня осыпают наградами, — писал русскому полководцу Нельсон, — но сегодня удостоился я высочайшей награды; мне сказали, что я похож на вас».
Английские художники наделяли победителя французов самыми фантастическими чертами. На одной из карикатур Суворов, был изображен «в виде толстого, спившегося кондотьера с трубкою в зубах, ведущего благодушно в поводу в Россию связанных членов французской Директории, заплаканные лица которых выражают глубокое огорчение, а сложенные руки молят о пощаде… Другая карикатура, тоже относящаяся к победам Суворова, изображает его пожирающим французов, которые представлены разбегающимися от него во все стороны, тогда как он, попирая их ногами, захватывает бегущих двумя громадными вилками и жадно глотает».
Король Карл Эммануил, изъявлявший желание служить в армии под началом русского полководца, именовал Суворова «бессмертным» и сделал его «великим маршалом пьемонтских войск и грандом королевства» с потомственным титулом «принца и кузена короля».
Суворов шутками встречал этот поток милостей. Когда ему доложили, что пришел портной снять мерку для мундира великого маршала Пьемонта, он тотчас спросил:
— Какой он нации? Если француз, я буду говорить с ним как с игольным артистом. Если немец — то как с кандидатом, магистром или доктором Мундирологического факультета. Если итальянец — то как с маэстро или виртуозо на ножницах.
Узнав, что портной итальянец, Суворов сказал:
— Тем лучше! Я еще не видел итальянца, одетого хорошо. Он сошьет мне просторный мундир, и мне будет в нем раздолье!
Мундир оказался необыкновенно пышным, в полном соответствии с тщеславием правителей маленьких государств: синий, расшитый по всем швам золотом.
Не был забыт даже камердинер Суворова Прохор Дубасов. Карл Эммануил удостоил и его двумя медалями с надписью по-латыни: «За сбережение здоровья Суворова». На пакете рескрипта, запечатанном большой королевской печатью, значилось: «Господину Прошке, камердинеру его сиятельства князя Суворова». Пораженный королевской милостью старый слуга с громким воем принес этот пакет своему господину. Милости сардинского государя Суворов ставил невысоко и обрадовался новой возможности почудить. Он вызвал Фукса и закричал ему:
— Как! Его сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку! Садись и пиши церемониал завтрашнему возложению медалей!
Фукс сел и написал: «Пункт первый: Прошке быть завтра в трезвом виде…»
— Что значит это? — Суворов изобразил изумление. — Я отроду не видывал его пьяным!
— Я не виноват, — отвечал Фукс, — если не видел его трезвым.
В другом пункте предполагалось, что после возложения медалей Прошка поцелует руку у своего барина. Но Суворов не согласился и потребовал, чтобы камердинер целовал руку не ему, а уполномоченному сардинского короля маркизу Габета.
На следующий день церемониал состоялся в строгом соответствии со всеми выработанными пунктами, за исключением первого. Суворов явился в золоченом одеянии великого маршала пьемонтских войск, а Прошка, несмотря на страшную итальянскую жару, был облачен в бархатный кафтан с большим привешенным кошельком. Он не прислуживал и стоял столбом в отдаленности от стула Суворова. За столом пили какое-то кипрское прокисшее вино и провозглашали здоровье Прохора Дубасова. Суворов сохранял на лице пресерьезное, торжественное выражение. Когда медали, обе на зеленых лентах, с изображением Павла I и Карла Эммануила, были возложены на грудь Прошки, тот попытался поцеловать руку Габета, по маркиз не дался. Суворов и Прошка с криками начали гоняться за ним по комнате, и все трое едва не упали. Так мешал фельдмаршал дело с бездельем, и это называл он своею рекреациею — развлечением.
В самой России имя Суворова окончательно стало легендарным. Павел I писал: «Я уже не знаю, что вам дать: вы поставили себя выше всяких наград». Но награда сыскалась. Повелено «отдавать князю Италийскому, графу Суворову-Рымникскому, даже и в присутствии государя, все воинские почести, подобно отдаваемым особе его императорского величества».
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ «ОРЛЫ РУССКИХ ОБЛЕТЕЛИ ОРЛОВ РИМСКИХ»
Этот переход был самым выдающимся из всех совершенных до того времени альпийских переходов.
Ф. Энгельс1
Победы Суворова в Италии создали новые проблемы для алчной Вены. Дабы без помех округлить свои владения, Австрия стремилась теперь избавиться от присутствия в Италии русских войск, и в особенности самого Суворова. В то же время по мере достижения союзниками блестящих успехов на полях италийских разгорались аппетиты и у других участников коалиции. Англия решила, что настал ее черед использовать русское оружие по «ускромлению» французов. Под предлогом все той же реставрации, восстановления прежних порядков «владычица морей» хотела сокрушить давнего конкурента — Голландию или хотя бы истребить ее сильный флот.
По новому плану особая англо-русская армия направлялась в Голландию, в Италии оставались лишь австрийские войска, а русские с Суворовым должны были вступить в Швейцарию. Здесь предполагалось, что Суворов соединится с двадцатичетырехтысячным корпусом Римского-Корсакова и будет угрожать вторжением в пределы самой Франции. Австрийцы из Швейцарии передвигались на Нижний Рейн. Таким образом, союзники — Англия и Австрия — занимали слабо защищенные французами фланги, в то время как небольшой и разрозненной русской экспедиционной армии предстояло сражаться с восемьюдесятью тысячами закаленных солдат во главе с отважным генералом Массена.
Союзники превосходно учли характер русского императора, сыграв на его слабостях. Он принял и английский план, и поправки Австрии, хотя и выразил сожаление в связи с тем, что вторжение во Францию откладывалось до будущего года. Ему было важно одно: русской армии и русскому полководцу вновь отводилась важнейшая роль.
Внутренне Суворов был против высадки десанта в Голландии и переброски огромных масс войск на смену друг другу по всему огромному итальянскому, швейцарскому и прирейнскому театру военных действий. Находясь в таких переходах, армии на время выключаются из участия в войне, что порождает множество опасных и непредвидимых неожиданностей.
— Если из общего целого этого важного дела будут оторваны хотя бы некоторые куски, — тревожился русский фельдмаршал, — то весь спектакль провалится.
Прежде всего он не мог согласиться на ту спешку, с какой русским войскам следовало, по мнению императора Франца, идти в Швейцарию. Моро еще оставался в Генуе. Кроме того, русские совершенно не были подготовлены к ведению необычной для них горной войны и даже не имели штабных офицеров, знакомых с краем.
«Непонятны для меня венского двора поступки, — замечал Суворов в письме к Павлу I, — когда единое мановение вашего императорского величества — возвратить войска в империю вашу — может ниспровергнуть все заносчивые его умыслы…»
«Венскому двору, впрочем, не было никакого расчета затрагивать „славу и достоинство русского государя и его победоносного оружия“, — говорит по этому поводу А. Петрушевский, — потому что Россия представляла еще из себя колодец, из которого Австрии приходилось пить. Но собственные свои интересы были для последней так дороги, а близорукость руководителей ее политики так велика и средства к достижению целей до того неразборчивы, что подтасовка благодаря Суворову обнаружилась в игре раньше, чем было полезно для Австрии, и имела подобие посягательства на чужое достоинство».
Мысль об удалении русских из Италии во все более становившуюся австрийцам безразличной Швейцарию руководила всеми действиями «бродфрассеров», ненасытных обжор, как теперь именовал венских стратегов Суворов. Новые сведения из Швейцарии только подтверждали эти прискорбные выводы. Когда австрийские войска усилились русским корпусом Римского-Корсакова, эрцгерцог Карл получил возможность нанести сокрушающий удар по слабому левому флангу Массены, стоявшему за рекою Ааром. В результате победы Швейцария была бы очищена от французов. В ночь на 6 августа союзники произвели нерешительную попытку перейти Аар, речку шириной в две сотни шагов, но не позаботились о заблаговременной переправе авангарда, начали возводить мосты, попали под обстрел и не солоно хлебавши вернулись восвояси.
Русские восприняли действия эрцгерцога как несуразную комедию, сыгранную только для отвода глаз. «Бештимтзагер разумеет, что нельзя перейти Аара в мокрых шинелях… Далее унтеркунфт потребен», — иронизировал Суворов. Недвусмысленно выразился об этой неудаче немецкий военный исследователь К. Клаузевиц: «Эрцгерцог должен был до своего отхода использовать свой явный перевес сил, чтобы разбить наголову Массену. То, что он этого не сделал, — больше чем осторожность, это — трусость».
Почти одновременно русский фельдмаршал узнал о распоряжении венского кабинета, граничащем уже с предательством. Согласно австрийскому плану, эрцгерцог Карл выводил все свои войска из Швейцарии, не дожидаясь, пока соединятся русские корпуса, разделенные Альпами и пространствами Северной Италии! Таким образом, Римскому-Корсакову с его двадцатью четырьмя тысячами солдат предстояло держать фронт в двести верст против всей армии Массены.
«Я получил известие, крайне удивляющее меня, — писал Суворов Карлу, — ваше королевское высочество считаете обязанностью ввести в действие намеченный состав русских войск в Швейцарии так поспешно, что с императорско-королевской армией, находившейся до сих пор в Швейцарии, выступаете в Швабию. Печальные следствия для Германии и Италии, неизбежные с этой переменой, должны быть очевидны для опытного военачальника. Я уверен, что по усердию к великой цели на общее благо ваше высочество не поспешит исполнением хотя бы даже уже отданного повеления, выполнение которого было бы в полном противоречии с великими намерениями…»
Напрасная надежда! Единственно, что сделал эрцгерцог, хотя бы и вопреки гофкригсрату, это оставил в Швейцарии генерала Готце с двадцатью тысячами солдат. Будучи небесталанным полководцем, Карл прекрасно понимал всю безнадежность будущего положения Римского-Корсакова. Вдобавок по первоначальному проекту Суворов должен был идти в Швейцарию с одним корпусом Дерфельдена, которого не хватило бы даже на то, чтобы заменить австрийцев Готце. Фельдмаршал невесело шутил, что ему предстоит «одному со свитою прибыть к Корсакову на моем Буцефале…» Необыкновенный силач и в свои шестьдесят девять лет, генерал-лейтенант Максим Ребиндер, сжимая свои огромные кулаки, говорил в кружке офицеров:
— Ах! Как низка коварная неблагодарность к спасителю Австрии Александру Васильевичу и к нам великомудрых заседателей главного военного совета! Как они слепы и недальновидны! Только им будет после плохо без нас!
«Сия сова, — писал Суворов о Тугуте, — не с ума ли сошла или никогда его не имела». Он как бы предчувствует судьбу, ожидавшую Римского-Корсакова: «Массена не будет нас ожидать и устремится на Корсакова… Хоть в свете ничего не боюсь, скажу — в опасности от перевеса Массена мало пособят мои войска отсюда, и поздно…»
В Петербурге весть об уходе эрцгерцога из Швейцарии едва не привела к немедленному и окончательному разрыву союза с Австрией. Только опасаясь сепаратного мира Вены с Францией, Павел I приостановил исполнение угрозы. Еще раньше русский император разрешал Суворову «в случае продолжения нынешнего поведения» австрийцев собрать в одно место войска и «действовать независимо». Теперь Павел I наделяет полководца безграничными полномочиями: «Сие предлагаю, прося простить меня в том и возлагая на вас самих избирать — что делать…»
Надо было спешно идти на выручку Римского-Корсакова 28 августа 1799 года, рано утром Дерфельден выступил со своим корпусом из Асти, а Розенберг из Ривальты в направлении Сен-Готарда. Мелас продолжал блокаду Тортонского замка, до капитуляции которого, мы помним, оставалось три дня. Но едва русские остановились на отдых, как Суворов приказал ни минуты не медля возвращаться назад. Узнав о перемещении русских войск в Швейцарию, Моро тотчас во главе трех колонн спустился с Генуэзских гор и занял Нови, угрожая освободить Тортону. Суворов выручил Меласа — Моро спешно повернул в горы, и 31 августа согласно условиям капитуляции французский гарнизон покинул Тортонский замок.
Спасая союзников, русские потеряли три драгоценных дня, которыми как нельзя лучше воспользовался Массена.
2
С уходом эрцгерцога Карла русско-австрийские силы в Швейцарии оказались раздроблены и распылены. Самонадеянный, пренебрежительно относившийся к противнику генерал-лейтенант Римский-Корсаков расположил большую часть своего корпуса у Цюриха, впереди рек Лиммата и Аара. Тринадцать тысяч австрийцев под непосредственным командованием генерала Готце держали оборону от Цюрихского до Валенштедтского озера. Далее к югу находились небольшие разрозненные отряды Елачича, Линкена и Ауфенберга. Французская армия также была растянута, занимая фронт от Базеля на Рейне, вдоль рек Аара, Лиммата, Альбиса, Линты и далее до Сен-Готарда, однако положение ее было куда более выгодным, Массена не только имел значительное численное превосходство, но и успел сосредоточить крупные силы на важной позиции у реки Лиммата, то есть на своем левом крыле.
План Суворова, принятый в Асти, предполагал скорейшее сближение с неприятелем, наступление на Сен-Готард и удар в правый фланг и тыл французам. Не желая тратить времени, русский фельдмаршал избирает наиболее короткий, но трудный путь. По тщательно разработанной диспозиции Линкен и Готце отдельными колоннами сближаются друг с другом и с войсками Суворова. Затем союзники устремляются вдоль обоих берегов Люцернского озера до самого Люцерна, соединяются с корпусом Римского-Корсакова и овладевают позициями на правом берегу Рейса и Аара.
Совершенно не зная местности, фельдмаршал потребовал к себе в Асти офицеров австрийского генерального штаба. Их было девять человек во главе с подполковником Веройтером, приобретшим впоследствии, как говорит А. Петрушевский, «большую, но унылую известность» в наполеоновских войнах. Легко предположить, что именно Веройтеру принадлежала конкретизация плана. Приходилось поневоле доверяться как раз тому «проектному унтеркунфту», над которым столько иронизировал Суворов. На сей раз на стороне «унтеркунфта» было преимущество — знание сложного театра военных действий. По той же причине старый фельдмаршал настоятельно просил австрийских военачальников в Швейцарии — Готце и Штрауха указать все «местные затруднения и способы края». Опытный полководец в силу обстоятельств понужден был, таким образом, во многом положиться на других.
Русские войска двигались к Сен-Готарду достаточно быстро, весь обоз отправлен был кружным путем через Верону, Тироль и по северному берегу Боденского озера, а полевая артиллерия направлялась в долину Энгандин, затем — в Фельдкирх. Предполагалось, что армия получит двадцать пять горных пушек, к обращению с которыми приказано было приучить прислугу. Кроме вьюков, у солдат не имелось никакой тягости, а многие офицеры несли на себе лишь скатанную через плечо шинель. Войска были облегчены до последней возможности. Распоряжения отличались точностью, порядок соблюдался образцовый. Выступали в два пополуночи, в десять — солдат получал на привале кашу, подкреплялся и спал несколько часов. В четыре пополудни, когда зной начинал спадать, выступали в поход снова, шли часов шесть и в десять вечера находили готовый ужин.
На втором переходе от Александрии вдали показались, словно громоносные тучи, громады Альп. Климат постепенно изменялся, делался суровее, полил дождь. Дорога превратилась в широкую тропу. Близ местечка Таверно горы, уходившие в небеса, обступили солдат.
Суворов рассчитывал подойти к Сен-Готарду 6 сентября и 8-го числа произвести атаку неприятельской позиции. В Беллинцоне, по заверениям Меласа, русскую армию должны были ожидать тысяча четыреста тридцать мулов, необходимых для продолжения горного похода. Однако, прибыв форсированным маршем во главе своих войск в Таверно, главнокомандующий узнал, что австрийцы вновь обманули его.
«Нет лошаков, нет лошадей, а есть Тугут, и горы, и пропасти, — писал он, добавляя с горечью: — Но я не живописец».
Константин Павлович предложил употребить под вьюки казачьих лошадей, но не было ни мешков, ни вьючных седел. Суворов нервничал, писал Павлу о бесполезности похода и о потере «выгоды быстроты». Тем временем прибыло несколько сот мулов, законтрактованных австрийцами только до Беллинцоны. Пришлось уговаривать погонщиков остаться при армии на весь поход. Спустя два-три дня появилось еще несколько сот мулов. В тревоге и неустанных трудах прошло пять суток.
Старый фельдмаршал в неизменном своем плаще и широкополой тирольской шляпе объезжал на казачьей лошадке ставших лагерем солдат, ободрял их словом.
— Вот там, — указал он на север, в сторону гор, — безбожники французы. Их мы будем бить по-русски! Горы велики! Есть пропасти, есть водотоки, а мы их перейдем-перелетим. Мы русские! Лезши на горы, одне стрелки стреляй по головам врага. Стреляй редко, да метко! А прочие шибко лезь в россыпь. Влезли — бей, коли, гони — не давай отдыху! Везде фронт! Просящим пощады — грех напрасно убивать. Кого из нас убьют — Царство Небесное. Останемся живы, нам честь, нам слава, слава, слава!
И с чистой душевной преданностью отвечали ему солдаты:
— Веди нас, отец наш! Веди, веди! Идем! Ура!
Огонь-Огнев и другие старослужащие замечали, что Суворов занят был крепкою думой, даже переменился в лице.
— Что с ним, отцом нашим, сталось, — переговаривались они, — уж здоров ли он? Куда мы без него годны? Или впереди много французов? И он думает, что мы не управимся с ними? Да подавай нам сотню тысяч синекафтанников, всех укладем рядышком или сами до одного лоском ляжем! Так ли, братцы?
— Так! Воистину так! — отвечали старикам молодые солдаты. — Готовы не только синекафтанников, но и белокафтанников-цесарцев, если бы с последними и довелось, поколотить на славу!
В кругу офицеров велись беседы другого рода. Вернее, угадывая заботы своего фельдмаршала, они говорили:
— Александр Васильевич до невозможности оскорблен унтеркунфтом, замучен интригами австрийцев. Вместо того чтобы идти и бить французов, мы стоим по-пустому, и все это от Тугута.
Это имя «носилось в войсках, как небесная кара — чума». Русские открыто толковали об измене австрийцев и Боготворили Суворова.
Только 10 сентября двадцатитысячная русская армия тронулась в путь. Рядом с Суворовым на казачьей лошадке тащился шестидесятипятилетний хозяин дома, где полководец квартировал в Таверно, Антонио Гамма. Впечатление, произведенное русским фельдмаршалом на этого старого итальянца, было таково, что Гамма, позабыв свои лета, семью и домашние дела, вызвался следовать за Суворовым в Альпы. В дальнейшем он служил в войсках проводником и не раз приносил пользу.
12 сентября в местечке Дацио к колонне Дерфельдена присоединилась бригада австрийского полковника Штрауха. Отсюда оставалось лишь десять верст до Айорло, занятого передовыми французскими постами дивизии Лекурба. В завесе сентябрьского дождя угрюмо смотрел на пришельцев Сен-Готард. Узкая дорога вела через долину, стиснутую выщербленными скалистыми стенами, а затем терялась в вышине. Бригада Гюденя, оборонявшая перевал, насчитывала всего лишь три с половиной тысячи человек, но местность удваивала, если не утраивала, ее силы.
Понимая всю трудность и рискованность атаки Сен-Готарда, фельдмаршал загодя направил в обход шеститысячный корпус Розенберга. И все же Суворов порешил не ожидать Розенберга, который мог быть задержан в пути другими отрядами Лекурба, и наступать тремя колоннами. 13 сентября пасмурным и мглистым утром войска продвинулись от Дацио и согласно диспозиции разошлись в разные стороны. Авангард Багратиона взял вправо и стал взбираться на отвесные кручи под губительным огнем французов. Одновременно левая союзная колонна сумела обойти неприятельский фланг.
Французы поднялись выше и заняли новую позицию. Хорошо знакомые с этими доходившими до небес громадами, они чувствовали себя здесь как дома. Их атаковала средняя колонна — дивизия Фёрстера, подкрепленная Повало-Швейковским. Неприятель отходил медленно, пока не поднялся наконец на самую вершину горы.
К тому времени на подмогу Гюденю прибыла часть французской бригады Луазона, да и сама позиция сделалась еще менее уязвимой для атаки с фронта. Русские храбро бросились на штурм, но стрелки били их из-за утесов и камней чуть ли не на выбор, и атака захлебнулась. Одушевленные присутствием Суворова, войска двинулись вторично, и опять неудачно. Багратиона все не было, не было известий и о Розенберге. День уже клонился к вечеру, недолго оставалось ждать ночной темноты. Французы оборонялись с необыкновенным упорством. Но еще большим упорством обладал Суворов. Он приказал начать третью атаку. Войска двинулись наверх, и вслед за тем на снежной вершине против неприятельского левого крыла показались солдаты Багратиона.
Русские карабкались по утесам и скалам, с огромным трудом поднимаясь все выше и выше. Вершину горы заволокли облака, в густом тумане люди помогали друг другу, подсаживали, упирались штыками; кое у кого были привязаны к ногам когти для влезания на столбы — кошки. Так непосредственно по крутому склону авангард взобрался на главный Альпийский хребет и направился прямо к местечку Госпис на седловине перевала, за спиною у французов. К. Клаузевиц назвал этот переход «самым изумительным из подвигов за все время похода Суворова».
Французы, не ожидавшие появления Багратиона, бросили позицию и стали поспешно отступать. Дело было выиграно, но дорогой ценой: до тысячи двухсот русских выбыло из строя. В Госписе, где находился капуцинский монастырь, Суворова встретил старый седой приор с братией. В бурное время и в зимние метели монахи отыскивали и спасали заблудившихся на крутых и опасных тропах Сен-Готарда. Настоятель пригласил престарелого, изнемогшего русского вождя в келью отдохнуть и подкрепиться.
Картофель, горох и какая-то рыба утолили голод воинов. Суворов был весел, любезен, хвалил обитель за подвиги и говорил с приором то по-немецки, то по-французски, то по-итальянски. Приор, в свою очередь, сообщил, что русские, как указывают монастырские летописи, посетили Сен-Готард почти полтора столетия назад.
— Итак, — воскликнул фельдмаршал, — мы ступаем по следам давно усопших предков наших!
Отдохнув, солдаты начали спускаться с горы. На помощь Гюденю прибыл сам командир дивизии Лекурб с подмогой. Он двинулся было навстречу Суворову, но получил известие, что в его тылу скапливаются русские. Это подошла долгожданная колонна Розенберга.
10, 11 и 12 сентября отряд Розенберга, авангардом которого руководил Милорадович, то продвигался по узеньким тропинкам, то взбирался на высочайшие горы, то спускался в пропасти. Часто приходилось переходить вброд глубокие, по пояс, речки. Все эти дни ливмя лил дождь, ночи выдались темные, холодные, с сильным северным ветром. Переходы были нескончаемые, с ранней зари до глубоких сумерек, солдаты шли ускоренным маршем, и на горных склонах иные из них, поскользнувшись, неслись вниз кубарем и гибли в пропастях. Засветло 12-го числа войска прибыли в местечко Тавечь. Тут горы несколько раздвинулись, дорога стала лучше. В ранце у солдат оставалось сухарей на три дня.
Федор Васильевич Харламов, произведенный за итальянский поход в генерал-майоры, выбрал из своего полка сто семьдесят человек, ему хорошо знакомых, вывел вперед линии корпуса шагов за триста и расположился с ними на ночлег, приказав быть готовыми к бою. Он поговорил с солдатами и приказал им покрепче привязать ремнями штыки к ружьям. С рассветом дождь прекратился, и корпус двинулся вперед. За немногочисленными конными казаками поспешил авангард, за ним остальные полки. Так шли русские верст около шести до горы Криспальт.
Французские аванпосты отступили на вершину горы. Милорадович взял налево, полк Мансурова — направо, а Харламов со своими азовцами ударил в центр. Неприятель пытался удержаться у своих землянок. Штыковая атака заставила французов спуститься к озеру Обер-Альп и занять новую позицию.
Поднявшись на возвышение, русские увидели густую цепь стрелков, расположившихся за большими каменьями. Генерал-майор Харламов на черкесской лошади поскакал впереди охотников и егерей. Французы осыпали русских пулями и картечью.
Харламов не давал неприятелю ни минуты передышки, и наконец французы дрогнули и побежали в долину к селенью Урзерн.
Стало уже вечереть, горы задымились, а туман закрыл долину. Посланный для обозрения бригад-майор доложил генералу Ребиндеру, что перед Урзерном неприятель, построившись в колонны, приготовился к бою. Ребиндер приказал с возможною тишиною спускаться с гор. У подошвы горы русские, не замеченные неприятелем, выстроились в боевую линию. По приказу они дали ружейный залп и с криком «ура» кинулись в штыки. Озадаченные атакой французы обратились в бегство.
Федор Васильевич Харламов, несмотря на два ранения, вместе с охотниками без устали гнал врага. Третье ранение — картечью в плечо — повергло его с коня на землю. Солдаты остановились и окружили его.
— Дети! — говорил он им. — Ступайте вперед, а при мне останьтесь два человека. Слышите, дети! С Богом ступай, ступай! Коли, гони, бей! Я уже не слуга царский. Кланяйтесь от меня всем. Долго я служил с вами, не поминайте меня злом…
Ближе к ночи солдаты перенесли раненого генерала в селенье, в дом тамошнего священника. После сделанной лекарем перевязки старик забылся. Часа за два до свету он очнулся и, увидев человек тридцать своих любимцев, сказал:
— Ну, дети, прощайте! Вы идете вперед, а я с вами не могу. Жаль! Да делать-то нечего. — И залился слезами. — Бейте врага! Эхма! Надобно бы передать мой поклон отцу… да не с кем. — Потом оглядел всех и обратился к Старкову: — Да, вот ты, мой вскормленник! Скажи другу Максиму Ребиндеру, чтобы он отцу нашему отдал мой сердечный поклон! Слышь ты, сделай это, и вот тебе мое благословение. — Он сорвал с шеи крест, а потом достал часы. — Вот тебе на вечную память обо мне. Будь честен, молись Богу, служи усердно царю и отечеству! Не моги быть трусом!..
Розенберг допустил крупную ошибку, промедлив с выступлением на Урзерн. Заняв позиции на высотах и слыша выстрелы от Сен-Готарда, он подумал, что противник далеко и поэтому атаковать его рано. Между тем немедленный штурм Урзерна отрезал бы французские войска на Сен-Готарде и в деревне Госпиталь, обрекая их на истребление и пленение. Однако и так оба русских отряда добились многого. Розенберг и Дерфельден угрожали с двух сторон дивизии Лекурба, поставив его перед тяжким выбором.
Этот даровитый и отважный генерал, подлинный представитель военной школы революционной Франции, принял смелое решение. Он мог бы спокойно отойти через пологий перевал на запад, в долины Валлиса. Но тогда Суворову открывался беспрепятственный путь к Люцернскому озеру, где находилась французская флотилия. Лекурб поступил по-суворовски. Дав для устрашения залп по русскому лагерю, он побросал затем всю свою артиллерию в реку и ночью направил войска через дикий горный хребет Бетцберг, в обход Урзерна, где находился Розенберг. Всю ночь карабкались французы по горам, перевалили через хребет и, спустившись поутру, снова стали на пути русской армии.
Солдаты Дерфельдена, еле державшиеся на ногах, расположились на ночлег вокруг деревни Госпиталь. Было холодно и сыро, люди мерзли даже у разведенных костров. Верстах в четырех сквозь ночную тьму прорезались огни другого бивака — там был Розенберг, но каждый лагерь принимал другой за неприятельский. Перед полуночью Суворов направил извещение Готце и Римскому-Корсакову, что Сен-Готард взят, что войска прибыли в Госпиталь и назавтра продолжат наступление, так что он надеется, как и предполагалось по диспозиции, к вечеру добраться до Альтдорфа.
Впереди, однако, русских ожидало препятствие, еще более грозное, чем тяжкий подъем на вершину Сен-Готарда, — Урнер-Лох и Чертов мост, две такие теснины, равные которым вряд ли где-нибудь найдутся.
3
Дорога из Госпиталя шла вниз по течению реки Рейс, которая чем далее, тем стремительнее неслась в узкой щели между нависшими над нею горами. Через версту дорога врезалась в утесы, отвесно спускавшиеся в русло реки. В 1707 году один из искусных итальянских минеров пробил в скале туннель, получивший название Урнер-Лох — Урнерская дыра. Это была в полном смысле слова дыра длиною в восемьдесят шагов, почти круглая, темная, сырая и настолько тесная, что по ней едва мог пройти навьюченный мул. По выходе из туннеля дорога лепилась в виде карниза на отвесной скале, а затем круто спускалась под прямым углом к Рейсу, над которым нависла арка Чертова моста. Вода низвергалась здесь несколькими водопадами, с ревом и грохотом, слышимым далеко окрест. С моста дорога делала опять крутой поворот и только перед деревней Гешенен вырывалась на простор.
В шесть часов утра 14 сентября Суворов выступил из Госпиталя, соединился в Урзерне с Розенбергом, выслав вперед авангард Милорадовича. До самой Урнерской дыры противник не тревожил русских, убежденный, очевидно, в неприступности своей позиции. Перед входом в эту мрачно зиявшую искусственную пещеру французы встретили авангард ружейным огнем и выстрелами укрытой в туннеле горной пушки. Три сотни смельчаков полезли вверх, в обход над Урнер-Лохом. Другой отряд в две сотни егерей под командой майора Федора Тревогина начал спускаться по крутому скалистому склону высотою в сто пятьдесят метров к самому Рейсу. Под непрекращающимся огнем неприятеля, ежесекундно рискуя сорваться в пропасть, егеря достигли каменистого ложа и перешли реку, а затем стали карабкаться по отвесному берегу.
Страшась быть отрезанными, защитники Урнер-Лоха подались назад. Генерал-майор Мансуров устремился в туннель и оттеснил их до выхода к Чертову мосту. Когда впервые солдаты вышли к открытой пропасти, они не смогли податься назад. На узкой дороге образовался затор. В отступавших французов и напиравших на них русских полетели пули и картечь. Многие не удержались и сорвались в пропасть.
Русские бросились к мосту: французы сумели под огнем стрелков разрушить его — к счастью, главная арка сохранилась, но вместо второй зияла огромная дыра. Однако уже егеря Тревогина успели одолеть путь по кручам левого берега. Начавшие отходить французы еще обстреливали мост, когда русские притащили несколько бревен, разобрав сарай, который оказался поблизости, а офицеры, все время бывшие впереди, перевязали бревна своими шарфами. Князь Мещерский-третий ступил на эту зыбкую перекладину, но, пораженный смертельным выстрелом, только успел сказать:
— Друзья, не забудьте меня в реляции…
По узким бревнам, рискуя упасть в бездну, суворовские чудо-богатыри перебегали на другой берег. В это время с левой стороны, с полугорья, явился с Архангелогородским полком двадцатитрехлетний генерал-майор Николай Каменский. Еще с вечера получил он приказ следовать за Лекурбом через Бетцберг и обойти Урнерскую дыру и Чертов мост. Теперь он, как старший по чину, принял командование и, не давая неприятелю опомниться, погнал его из ущелья. Сын знаменитого военачальника и фельдмаршала, Каменский-второй мечтал заслужить похвалу Суворова. Он прибыл в армию перед самым швейцарским походом и был обласкан незлопамятным полководцем, сказавшим: «Сын друга моего будет со мною пожинать лавры, как я некогда с его отцом».
Четыре раза перебегала дорога с одной стороны Рейса на другую. Все четыре моста неприятель старался испортить, но Каменский продолжал наседать. У местечка Вазен французы попытались защищаться, не выдержали напора и отступили за мост, который Лекурб успел разломать.
Старики солдаты в похвалу молодому Каменскому говорили:
— Ай да граф! Так и летает, так и лезет с нами вперед! Молодец, похож на своего батюшку Михаила Федотьевича. Только тот был горячий человек, а этот доброй души и солдат горячо любит.
Когда Каменский принес показать фельдмаршалу письмо свое к отцу, Суворов приписал: «Юный сын ваш, старый генерал!»
Между тем основные силы русских ожидали на правом берегу Рейса исправления Чертова моста. Присланные австрийские понтонеры с величайшей обстоятельностью измеряли пространство моста, судили да рядили, а за дело не принимались. Потерявший терпение генерал Ребиндер кликнул из полков солдат, знающих плотницкое ремесло. На его вызов явилось более сотни плотников. Они выхватили из рук австрийцев их инструмент, и работа закипела. Вскорости мост был готов.
— Да, готово!.. — удивлялись понтонеры. — Это хорошо!
— То-то гут! Вы бы и до вечера гутели, а делу ходу бы не дали! — сказал им солдат, распоряжавшийся работой.
По докладу Ребиндера Суворов призвал распорядителя, наградил его деньгами и воскликнул:
— Русский на все пригоден! Помилуй Бог, на все! У других этого нет, а у нас есть!
В Вазен армия пришла ночью и тут осталась до утра.
В пять пополуночи скорым шагом двинулся авангард Милорадовича. Перед Амштегом французы встретили его, выстроившись колоннами под прикрытием двойной цепи стрелков. Милорадович, не любивший перестрелки, повел свои войска в штыковую атаку, тут подоспела подмога. Отступая, французы зажгли за собою очередной мост. Однако русский авангард по тлеющим перекладинам и уцелевшим доскам перешел на другой берег и вытеснил Лекурба из деревни Амштег. Державшийся поблизости отряд австрийского генерал-майора Ауфенберга получил возможность присоединиться к русской армии.
Отойдя до узкой и длинной Шахенской долины, тянувшейся вправо, Лекурб решил дать отпор Суворову. И снова штыковой удар русского авангарда решил исход дела. Около полудня войска заняли Альтдорф и нашли в нем небольшой магазейн с провиантом, пришедшимся как нельзя кстати. В сухарных мешках у солдат уже почти ничего не было, а вьюки отстали или погибли в пути. Каждый воин получил по три пригоршни муки и немного сухарей.
Однако только теперь Суворов с ужасом увидел, куда завели его австрийцы. Тотчас за Адьтдорфом дорога, именовавшаяся тогда Сен-Готардскою, обрывалась. Дикий и обнаженный хребет Росшток упирался в озеро отвесными скалами. Было непонятно, на что рассчитывал австрийский генеральный штаб! Можно было повернуть назад и идти Мадеранской долиной к верховьям Рейна. Но дорога эта не приближала, а удаляла Суворова от Швица. Оставалось продолжать поход по мрачной Шахенской долине, среди непроходимых гор. Солдаты должны были карабкаться по опасным пастушьим и охотничьим тропам, чтобы достигнуть Швица. Следовало торопиться, ведь Суворов и так опоздал в Альтдорф на сутки. Между тем со стороны рек Линты и Лиммата уже два дня слышалась канонада.
Конечно, ни одна армия никогда не двигалась по такому пути. В пять утра 16 сентября 1799 года авангард Багратиона начал трудный поход, за ним следовал Дерфельден, потом Ауфенберг, а Розенберг прикрывал движение с тыла. Тропинка делалась все уже и круче. Солдаты шли гуськом по скользкой глине, рыхлому снегу и мокрым каменьям.
Хребет Росштока вставал бесконечной стеной. Одна крутая и огромная гора, по словам очевидца, была выше всех остальных. Темные облака, несшиеся по ней, обдавали солдат мокрым холодом. Влажность и густота тумана постоянно усиливались. Ни единой нитки сухой не было на людях. Проклиная эту гору, солдаты говорили:
— Хоть бы показались теперь синекафтанники! Авось перестрелкою разогнали бы мы эту слякоть и в бою согрелись!
Только перед вечером корпус Дерфельдена одолел вершину и расположился на ночевку. Позади были чуть слышны выстрелы: арьергард Розенберга сдерживал наседавших французов. Солдаты замерзли, обувь у всех сделалась никуда не годной, особенно сапоги офицеров.
— Ружья к ноге! Осмотреть патроны! Ввернуть новые кремни! Чинить обувь! Разводить огни! — громко говорил генерал Милорадович, обходя солдат.
По счастью, невдалеке обнаружился сарай. Не прошло и часа, как его разобрали и запылали костры. На растопку пошли древки бесполезных в бою алебард. Теперь все принялись за работу: кто латал обувь, кто сушил мундиры и шинели, а иные начали печь лепешки из муки, полученной в Альтдорфе. Милорадович подошел к огню, увидел испеченную, пригорелую лепешку, взял ее и стал есть с величайшим аппетитом:
— Бог мой! Да это вкуснее пирога! Слаще ананаса! Чья лепешка?
Ему сказали.
— Благодарствую! Я пришлю за нее сырку.
И в самом деле, человек его принес маленький кусочек сыру и, отдавая солдату, сказал:
— Извини, что немного. Барин пополам разделил, больше нет. Ведь вьюк наш отстал.
Солдат сыру не взял:
— Ежели так, то помилуй же меня Бог! Умру с голоду, а не возьму!
Тогда каждый достал по сухарику, а Огнев добавил кусочек сухого бульона, добытый из ранца убитого им французского офицера. Собравши кто что давал, Огнев завязал еду в платок и понес Милорадовичу. Генерал принял все и сам пришел благодарить солдат.
Движение всей армии длилось непрерывно с утра 16 до вечера 18 сентября, то есть целых шестьдесят часов. В течение всего этого времени двадцатипятитысячное войско, словно огромная гусеница, медленно ползло через хребет. Удивительно, что в этих тяжелейших условиях Суворов сумел парализовать действия Лекурба, наседавшего на русский арьергард. Два пехотных полка Розенберга успешно сдерживали превосходящие силы французов, а затем, сохраняя порядок, отошли от Альтдорфа.
Сам фельдмаршал то ехал верхом, то шел пешком при передовых частях и беспрестанно находился на виду у солдат. Он чувствовал себя больным, слабым, истерзанным физически и нравственно, измученным кознями австрийцев, но старался выглядеть веселым, шутил и ободрял солдат. Раз, проезжая мимо остановившихся перевести дух людей, продрогших, голодных, сумрачных, он затянул вдруг песню: «Что с девушкой сделалось, что с красной случилось». Раздался дружный хохот, и солдаты приободрились.
Тяжел был подъем на Росшток, но едва ли не труднее оказался спуск. С севера дул резкий ветер, пронизывая насквозь. Авангард Багратиона уже подходил к селению Муттенталь, а корпус Ребиндера только готовился к спуску, намеченному на раннее утро 17 сентября. Солдаты как о счастье мечтали встретиться с неприятелем на равнине:
— Да неужели они будут против нас всегда прятаться за каменьями, как воры, или бегать от нас по горам, точно дикие козы? Неужели в этих поднебесных горах не найдется чистого места и они не станут против нас открыто, по-русски?
Милорадович дал приказ выступать, забили фельдмарш барабаны, заиграли рожки и самодельные кларнеты, разнеслись по горам и долам русские песни:
Коль за здравье поить взялися Нашей матушки-Руси, Наливай, брат, не ленися И живее подноси! Наливай, брат, наливай! Все до капли выпивай! Службы лишь не забывай! Службы лишь не забывай!Пройдя по хребту, солдаты подошли к обрывистому спуску и увидели вдали, под пеленою тумана, долину. Путь, скользкий от прошедшего дождя, становился все более мучительным. Многие, не удержавшись, неслись вниз, но погибших почти не было.
Меж тем авангард Багратиона встретил в Муттентале передовой французский пост, выдвинутый от Швица. Командир приказал конным казакам, прячась за леском, обойти его и ударить с флангов и тыла, а часть пехоты двинул прямо. В минуту неприятель был окружен, разбит; сто человек вместе с офицерами оказались в плену.
Спустившись в Муттенскую долину, Суворов послал сотню казаков вправо, к стороне Глариса, чтобы собрать какие-нибудь сведения об австрийском корпусе Линкена. О Линкене не было ни слуху ни духу, а около озера Клинталь, на полпути между Муттеном и Гларисом, стояли французы. Одновременно местные жители сообщили старому фельдмаршалу страшные вести. В то время как Суворов штурмовал Чертов мост, Массена разгромил корпус Римского-Корсакова. Катастрофа произошла 14–15 сентября и была усугублена дурным расположением русских войск, самонадеянностью и кичливостью их предводителя, численным перевесом французских сил, искусством и осмотрительностью Массены. Число убитых, раненых и пленных простиралось до восьми тысяч. Французы захватили трех генералов, девять знамен, двадцать шесть орудий и почти весь русский обоз.
14 сентября французский генерал Сульт разбил австрийцев на нижней Линте. Были убиты генерал Готце и его начальник штаба. Неудачи австрийского корпуса «распространялись справа налево, словно чумная зараза». Имея решительный перевес над французами на верхней Линте, генералы Елачич и Линкен распоряжались столь неудачно и вели себя так малодушно, что принуждены были дать команду к поспешному отступлению.
Теперь французам на всем швейцарском театре войны противостоял один Суворов со своей маленькой армией, измученной долгим переходом, лишенной продовольствия и артиллерии. Энергичный Массена уже предпринимал меры, чтобы запереть противника в Муттентале, откуда имелось только два выхода — на Швиц и на Гларис. Сам он оставался с частью войск в Швице, а остальные послал генералу Молитору, который перекрыл путь на Гларис. Бригада из дивизии Лекурба сторожила тропинку через Росшток. Казалось, армию Суворова ожидает неминуемое поражение. Выезжая из Цюриха, Массена обещал пленным русским офицерам, что вскорости привезет к ним фельдмаршала и великого князя.
Можно представить себе страдания великого полководца, преданного австрийцами! Даже солдаты, еще не знавшие толком о поражении Римского-Корсакова, замечали, что с Суворовым творится неладное. Свойственник сержанта Старкова, служивший в сводном гренадерском батальоне, на вопрос: «Что с отцом нашим?» — рассказывал солдатам Ребиндерова полка:
— Здоров-то отец наш здоров, да что-то сильно невесел. Я прошлый день стоял при его квартире в карауле, и в этот день были у него все генералы и великий князь. Долго, часа три-четыре, пробыли у отца начальники. О чем был у них совет, никто не знает: вокруг стояли часовые. Генералы, выходя от Александра Васильевича, находились в каком-то восторженном и тревожном состоянии. У всякого лицо было грозное, а особенно у Вилима Христофоровича Дерфельдена и у князя Петра Ивановича Багратиона.
Это был знаменитый военный совет 18 сентября, посвященный предстоявшему подвигу. Для свершения этого подвига требовалось единодушие всех и каждого, подъем нравственных сил до последнего предела. На совет были приглашены русские: генерала Ауфенберга не позвали.
4
Герб А. В. Суворова по его рисунку.
Прибывший первым к Суворову князь Багратион застал его в полном фельдмаршальском мундире русских войск и при всех орденах. Он быстро расхаживал по комнате. Расхаживая, Суворов отрывисто говорил сам с собою:
— Парады!.. Разводы!.. Большое к себе уважение… обернется: шляпы долой! Помилуй Господи, да и это нужно, да вовремя… А нужнее знать, как вести войну. Знать местность, уметь расчесть. Уметь не дать себя в обман. Уметь бить! А битому быть не мудрено! Готце! Да они уже привыкли — их всегда били! А Корсаков, Корсаков — тридцать тысяч, и такая победа, равным числом неприятеля! Погубить столько тысяч? И каких? И в один день? Помилуй Господи!..
Суворов все ходил и говорил, не обращая внимания на Багратиона. Тот понял, что мешает, и вышел вон. Вскорости прибыли великий князь Константин Павлович, все генералы и некоторые полковники. Фельдмаршал встретил вошедших поклоном, стал, закрыл глаза и задумался. Казалось, он боролся с мыслями, желая сказать о бедствии, постигшем русских. Все молчали. Но не прошло и минуты, как Суворов встрепенулся, открыл глаза, и взор его как молния поразил пришедших.
— Корсаков разбит и прогнан за Цюрих! Готце пропал без вести, и корпус его рассеян. Прочие австрийские войска — Елачича и Линкена, шедшие для соединения с нами, опрокинуты от Глариса и прогнаны. Итак, весь операционный план изгнания французов из Швейцарии исчез!..
Фельдмаршал начал излагать все интриги и препятствия, чинимые ему бароном Тугутом с его гофкригсратом. Он напомнил об обещании принца Карла не оставлять со своей шестидесятитысячной армией Швейцарии до прихода русских, а затем об уготованной австрийцами новой пагубе, когда в Беллинцоне русские не нашли мулов и простояли несколько дней…
— Выйди мы из Беллинцоны 4 сентября, — воскликнул Суворов, — мы были бы в Муттентале 10-го или 11-го, и Массена никак не посмел бы двинуться со своею дивизиею на поражение Корсакова и Готце!
Русский фельдмаршал прервал свою речь, закрыл глаза и снова задумался. По-видимому, он давал время генералам вникнуть в смысл сказанного. Все были взволнованы. Багратион чувствовал, как кипела в нем кровь и сердце, казалось, хотело вылететь из груди. Никто, однако, не промолвил ни слова. Все ожидали речи полководца, коварством поставленного в гибельное положение.
Суворов продолжал:
— Теперь идти нам вперед, в Швиц, невозможно. У Массена свыше шестидесяти тысяч, а у нас нет и полных двадцати. Идти назад — стыд! Это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали! Мы окружены горами. У нас осталось мало сухарей на пищу, а менее того боевых артиллерийских зарядов и патронов. Перед вами враг сильный, возгордившийся победою… Победою, устроенной коварной изменой! Со времен дела при Пруте при государе императоре Петре Великом русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении, как мы теперь. Никогда! Повсюду были победы над врагами, и слава России с лишком восемьдесят лет сияла на ее воинственных знаменах и неслась гулом от востока до запада. И был страх врагам России, и защита, и верная помощь ее союзникам… Но Петру Великому изменил мелкий человек, ничтожный владетель маленькой земли, зависимый от сильного властелина… А императору Павлу Петровичу изменил кто же? Верный союзник России — кабинет великой, могучей Австрии, или, что все равно, правитель ее, министр Тугут с его гофкригсратом! Нет, это уже не измена, а явное предательство, чистое, без глупостей, разумное, рассчитанное предательство русских, столько крови своей проливших за спасение Австрии.
Суворов оглядел своих генералов:
— Помощи теперь нам ожидать не от кого. Одна надежа на Бога, другая — на величайшую храбрость и на высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых. Это одно остается нам. Нам предстоят труды, величайшие в мире: мы на краю пропасти!..
Он умолк, снова прикрыл глаза и воскликнул:
— Но мы русские! Спасите, спасите честь и достояние России и ее самодержца! — С этим последним возгласом старый фельдмаршал стал на колени.
«Мы, сказать прямо, остолбенели, — вспоминал Багратион, — и все невольно двинулись поднять старца героя… Но Константин Павлович первым быстро поднял его, обнимал, целовал его плеча и руки, и слезы из глаз его лились. У Александра Васильевича слезы падали крупными каплями. О, я не забуду до смерти этой минуты! У меня происходило необычайное, никогда не бывавшее волнение в крови. Меня трясла от темени до ножных ногтей какая-то могучая сила. Я был в незнакомом мне положении, в состоянии восторженном, в таком, что, если бы явилась тьма-тьмущая врагов или тартар с подземными духами предстал предо мною, — я готов бы был с ними сразиться… То же было и со всеми тут находившимися. Все мы будто невольно обратили глаза свои на Вилима Христофоровича Дерфельдена, и наш взгляд ясно ему сказал: говори же ты, благороднейший, храбрый старец, говори за всех нас!»
И старший после Суворова Дерфельден начал:
— Отец наш Александр Васильевич! Мы видим и теперь знаем, что нам предстоит. Но ведь и ты знаешь нас, ратников, преданных тебе душою, безотчетно любящих тебя. Верь нам! Клянемся тебе перед Богом за себя и за всех! Что бы ни встретилось, в нас ты, отец, не увидишь ни гнусной, незнакомой русскому трусости, ни ропота. Пусть сто вражьих тысяч станут перед нами, пусть горы эти втрое, вдесятеро представят нам препон, — мы будем победителями и того и другого. Все перенесем и не посрамим русского оружия! А если падем, то умрем со славою!.. Веди нас куда думаешь, делай, что знаешь: мы твои, отец! Мы русские!
— Клянемся в том пред всесильным Богом! — воскликнули все вдруг.
Суворов слушал речь Дерфельдена с закрытыми глазами, поникнув головою, а после слова «клянемся» поднял ее и, открыв заблестевшие глаза, начал отрывисто говорить:
— Надеюсь! Рад!.. Помилуй Бог, мы русские! Благодарю, спасибо! Разобьем врага! И победа над ним и победа над коварством будет! Победа!
Он подошел к столу, на котором разложена была карта Швейцарии, и стал указывать по ней:
— Тут, здесь и здесь французы. Мы их разобьем и пойдем из Швица на Гларис. Пишите! Ауфенберг с бригадою австрийцев идет сегодня по дороге к Гларису. На пути выгоняет врага из ущелья гор при озере Кленталь, если сможет, занимает Гларис. Дерется храбро, отступа для него нет, бьет врага по-русски! Князь Петр со своими выступает завтра, дает пособие Ауфенбергу, заменяет его и гонит врага за Гларис. Пункт в Гларисе! За князем Багратионом идет Вилим Христофорович — и я с ним. Корпус Розенберга остается здесь. К нему в помощь полк Фёрстера. Неприятель будет атаковать? Разбить его! Непременно разбить и гнать до Швица — не далее! Все вьюки, все тягости Розенберг отправит за нами под прикрытием. А затем и корпус пойдет. Тяжко раненных везти не на чем: собрать всех, оставить здесь с пропитанием. При них нужная прислуга и лекаря. Оставить и офицера, знающего по-французски. Он смотрит за ранеными, как отец за детьми. Дать ему денег на первое содержание. Позовите Фукса. — Фукс явился. — Написать Массена о том, что наши тяжко раненные остаются и поручаются по человечеству покровительству французского правительства. Михайло, — обратился Суворов к Милорадовичу, — ты впереди, лицом к врагу! Максим, — сказал он Ребиндеру, — тебе слава… Все, все вы русские! Не давать врагу верха! Бить и гнать его по-прежнему! С Богом! Идите и делайте все во славу России!
«Мы вышли от Александра Васильевича, — вспоминал далее Багратион, — с восторженным чувством, с самоотвержением, с силою воли и духа: победить или умереть, но умереть со славою — закрыть знамена наших полков телами нашими. И сделали по совести, по духу, как русские… Сделали все, что только было в нашей высшей силе: враг был повсюду бит, и путь наш чрез непроходимые до того, высочайшие, снегом покрытые горы нами пройден. Мы прошли их, не имея и вполовину насущного хлеба, не видев ни жилья, ни народа, и все преодолели, и победили природу и врага, поддержанного коварством союзного кабинета, искренним другом нам называвшегося. Мы перенесли и холод-чичер, и голод. У нас до местечка Кур не было ни прута лесу, не только для обогревания в это дождливое осеннее время, но даже и для того, чтобы согреть чайник. Грязь со снегом была нашей постелью, а покровом — небо, сыпавшее на нас снег и дождь. Гром, раздававшийся над нашими головами и гремевший внизу, под нашими ногами, был вестником нашей славы, нашего самоотвержения. Так мы шли, почти босые, чрез высочайшие скалистые горы без дорог, без тропинок, между ужасных водопадов, чрез быстротоки, переходя их по колено и выше в воде. И одна лишь сила воли русского человека с любовию к отечеству и Александру Васильевичу могла перенести всю эту пагубную пропасть…»
5
Как было назначено по диспозиции, Ауфенберг выступил 18 сентября, сбил с горы Брагель неприятельские посты и спустился в долину Кленталь. Наутро бригада Молитора атаковала австрийцев, потеснила их, а затем французы предложили Ауфенбергу положить оружие. Не надеясь на скорую помощь русских, австрийский генерал вступил было в переговоры, однако, извещенный о приближении авангарда Багратиона, прервал их и начал притворное отступление. Молитор сгоряча пустился за ним, считая, что победа уже достигнута. Появившийся внезапно на его левом фланге отряд Багратиона ударил в штыки. Французы подались назад, русские их преследовали.
Молитор отступил к восточной оконечности озера Кленталь, усилив свою бригаду подходившими от Глариса подкреплениями. Позиция его была почти неприступной: с одной стороны непроходимые горы, с другой озеро и топь, в середине узкая дорога, где могли пройти рядом лишь два человека. Перед выходом из теснины французы расположились за каменной оградой кирки.
Шедший в голове австрийский батальон встречен был залпом. Несколько атак захлебнулось: слишком плотен был огонь французов. Багратион дал отдых измученным войскам. При малейшем шорохе французы стреляли. Русские были голодны, очень голодны: у многих по нескольку дней и сухаря не было во рту. За небесное благодеяние, за милость Божию всякий почитал несколько добытых картофелин.
Князь Багратион, страдавший от раны в бедро левой ноги, сидел, прислонясь к скале, и, ожидая чего-то, говорил расположившимся рядом солдатам:
— Подождите, только немножко подождите! Скажу: «Вперед!» — и дружно ударим. Пардону нет!
— Слушаем, ваше сиятельство! Как бы поскорее! — отвечали продрогшие солдаты.
В темноте послышался голос:
— Где князь Петр? Где Петр?
Появился Суворов, измокший, дрожавший в жиденьком своем плаще. Багратион встретил его и, почти насильно ведя к скале, шептал:
— Ради Бога, говорите тише, ваша светлость!
Вдруг рой французских пуль и картечь пронеслись над озером. Суворов сердился:
— Князь Петр! Я хочу, непременно хочу назавтра ночевать в Гларисе!
— Мы будем там! — успокаивал фельдмаршала Багратион. — Недавно послал я с батальоном гренадер Ломоносова с верным проводником влево на полугорье, а на самый гребень подполковника Егора Цукато. Головою ручаюсь, ваша светлость, вы будете ночевать в Гларисе.
— Спасибо, князь Петр! Спасибо! Хорошо! Помилуй Бог, хорошо! — отрывисто говорил Суворов, которого отвели на отдых в овечий хлев.
Перед рассветом обеспокоенный выстрелами Молитор отправил отряд занять позицию в горах, но опоздал: вершина была уже захвачена русскими. Французы в кромешной тьме открыли сильный ружейный огонь. В ответ батальон, занявший кручи, кинулся на выстрелы с криком «ура». Многие сорвались в пропасть и разбились, но еще более пострадал неприятель от этой неистовой атаки. Войска Дерфельдена, стоявшие внизу, также повели наступление, а Ломоносов начал обходить кирку. Страшась окружения, Молитор быстро отступал по узкой дороге. В шести верстах, у деревни Нецсталь, он снова закрепился. После упорного боя Багратион выбил его и отсюда, с ходу захватив и деревню Нефельс на берегу реки Линты. Однако в это время к деморализованной бригаде Молитора подошло подкрепление генерала Газана. Французы, получив перевес в силах, завладели вновь Нефельсом. Авангард Багратиона, чрезвычайно измотанный непрерывными боями и тяжелым походом, опять прогнал их из Нефельса. Пять или шесть раз местечко это переходило из рук в руки и осталось за русскими, когда Суворов послал Багратиону приказание отходить к Нецсталю. Путь на Гларис был открыт.
В наиболее трудном положении находился корпус Розенберга, прикрывавший отход главных сил в Муттенской долине. В строю имелось тысячи четыре солдат, не считая спешенных казаков. Полки арьергарда все еще тянулись через Росшток, охраняя вьюки. У Массена было десять тысяч, и он порешил безотлагательно произвести рекогносцировку, чтобы выведать положение русской армии.
Отряд Розенберга стоял в две линии перед селением Муттенталь, имея впереди до трехсот охотников и роту егерей под командованием майора Ивана Сабанеева. К вечеру 18 сентября были доставлены вьюки с патронами и крошечным запасом сухарей. Сабанеев объявил охотникам, что бить врага насмерть было именно приказом Суворова, что это его непременная воля. Перед сумерками к передовым прибыл Максим Васильевич Ребиндер и, собравши всех, сказал:
— Дети! Помните, что вы русские. Охулку на руку не класть! Бить врага, и бить храбро, дружно, живо. Стрелять метко, класть штыками. Помните, дети, у страха глаза велики! Труса надо выкинуть, как паршивую овцу из стада: трус в сражении — дело пагубное, заразительное, как чума. Слышите, дети? Это мое вам слово — слово старика, пятьдесят лет служащего отечеству.
— Ваше превосходительство, батюшка Максим Васильевич! — отвечал ему рослый старик с длинными густыми усами. — Помилуй же Бог быть нам трусами. Все ляжем лоском, а врагу верха не дадим. Будьте надежны в том: мы не рекруты, все мы русские, бывалые. — И, обернувшись к остальным, спросил: — Так ли, братцы?
— Управимся с врагом на славу! — отвечали солдаты.
Всю ночь провели охотники без сна. Огня не зажигали, разрешено было лишь закурить трубки. Стало рассветать, был сильный туман. Сабанеев пустил вперед дозор — офицера с пятьюдесятью охотниками. Через четверть часа русские встретили сильный неприятельский патруль, но после стычки французы бежали. Рассвело. Шло время, солдаты проголодались и решили перекусить сухариком. Старики запретили:
— Нет, братцы, нехорошо вы делаете! Поевши, тяжелей станешь, да иному если достанется получить подарок в живот, так не скоро вылечат. Попоститься будет для души лучше, а для сухарного мешка выгоднее…
Около двух пополудни у французов началось движение. Стрелки быстро шли на сближение с русскими, за ними следовали густые колонны. Четыре взвода охотников вмиг заняли места. Французских стрелков было более русских втрое. Охотники выждали и, лишь подпустив врага шагов на полтораста, открыли огонь: ни одна пуля не пошла на ветер. Цепь неприятельская заметно обредела, приостановилась, но ее нагнала вторая линия. Бодро двинулись французы; пули их летели теперь на передовых русских, точно пчелы на мед.
Майор Сабанеев, заметив, что стрелки врага довольно далеко оторвались от своих колонн, приказал ударить в барабаны, охотники бросились в штыки и опрокинули вражеских стрелков. Отмарш барабанов дал знать, что нужно отступать. Охотники начали с неудовольствием отходить, но повторение отмарша заставило их ускорить шаг.
Французские колонны надвинулись быстро, выкатили пушки и скоро стали потчевать русских картечью. Охотники и егеря Сабанеева, отстреливаясь, отступали к первой линии, та затем перед нею приняли влево и вправо. Неприятельские колонны сунулись вперед, но их обдало пулями и картечью. Русские бросались в штыки и теснили французов, однако их было слишком много. Употребив последние усилия, солдаты Ребиндера опрокинули неприятеля. Внезапно из-за большого каменного строения показалась сильная, тысячи в три неприятельская колонна. Два русских полка поколебались и стали уступать. Сабанеев с охотниками принужден был также податься назад. Очистив штыками путь себе, охотники построились в треугольную колонну и повели беглый огонь.
Сам старый Ребиндер собрал колонну солдат и крикнул:
— Дети! У нас отняли пушку! Вперед!
Русские бросились в штыки, отбили орудие и захватили большую гаубицу, сыпавшую на русских картечь. В то же время появился Милорадович с тремя полками второй линии и окончательно опроверг неприятеля. Преследование продолжалось более пяти верст по пути к Швицу. Тут показали чудеса храбрости донцы Денисова; они врезались в гущу врага с такой яростью, что французы побежали. Стало вечереть, и Милорадович приказал прекратить преследование.
Неприятель потерпел знатный урон убитыми и ранеными: пленных было мало. У русских потери оказались также значительными. В числе тяжело раненных оказался и отважный командир охотников Иван Васильевич Сабанеев.
Розенберг полагал, что одержал победу над грозным неприятелем. На деле французы предприняли всего лишь разведку боем. К ночи прибыли в Муттенталь все вьюки, а за ними последние полки. Розенберг теперь располагал примерно семью тысячами человек. Ночь и утро прошли спокойно: русские были убеждены, что вторичного нападения не последует. Между тем Массена готовил решающий удар. Три огромные французские колонны с артиллерией появились по обеим сторонам реки Муттен и повели наступление, охватывая русские фланги по скатам гор. Подпустив врага поближе, цепь охотников встретила его меткими выстрелами. Полковник Апшеронского полка Михаил Жуков, заменивший Сабанеева, приказал отступать. Французские стрелки, увлеченные преследованием, далеко отделились от своих колонн, и охотники горели желанием ударить в штыки. Но Жуков, тряся седой головой, говорил им:
— Еще не время, дети! Подождем маленько!
Вскоре появился Милорадович и приказал атаковать. Охотники кинулись вперед и опрокинули вражеских стрелков. Натиск французов становился все азартнее, они теснили передовых русских. Охотники оборачивались и, не видя позади своих, неохотно пятились. За фронтом скакал на лошади адъютант Милорадовича и кричал:
— Оттягивай! Заманивай их, прижимай к горам!
Отстреливаясь, сержант Яков Старков и старый солдат Иван Махотин переговаривались: «Куда делись наши?» Охотники уже подошли к самым горам, а французские егеря стали обходить их по самой крутизне.
— Что за диво! — сказал Старков. — Враг-то носится по скалам, словно дикая коза.
Он прицелился, выстрелил, и один из «прыгунов» упал почти у его ног. Под башмаками у убитого Старков нашел другие подошвы с железными шипами, привязанные ремнем к ногам. Но не было времени сорвать премудрую эту вещь. Сзади, по пригоркам, рос обширный виноградник, в который вступили охотники. Тут Милорадович повелел им принимать левую сторону, а мушкетерам — правую. Маневр был исполнен хорошо, и вражеские колонны внезапно очутились перед главными силами Розенберга, скрытно занимавшими всю ширину долины.
Последовала контратака, и ошеломленные французы с минуту не предпринимали ничего, а затем ответили ружейным и артиллерийским огнем. Но уже стремительно приближались батальоны и закипела молодецкая, русская рукопашная! Неприятель не выдержал и побежал. Русские продолжали яростно наступать и дошли до такой степени возбуждения, что некоторые батальоны второй линии опередили первую, чтобы добраться до врага. Паника охватила войска Массена. В суматохе опрокинулся и загородил дорогу отступавшей артиллерии зарядный ящик, пять орудий тотчас достались русским.
Унтер-офицер Иван Махотин, рослый и мужественный воин, теснил с двенадцатью неразлучными своими товарищами «Шапошников»-гренадер. Поодаль он заметил вражеского офицера в блестящих эполетах.
— Братцы! Вон видите золотого-то молодца на прекрасной лошади? К нему! Вы с шапошниками управляйтесь, а я с ним!
«Мы таки добрались до молодца, — рассказывал впоследствии сам Махотин, — кругом него рослые ребята дрались с нашими насмерть. Я со своими пробился, когда он повернул свою лошадь и уезжал из свалки. Мне хотелось взять его живьем. Я подлетел к нему сзади и во всю мочь ударил штыком его лошадь. Она бросилась вбок и стала на дыбки. Вмиг я попотчевал ее и еще. Она грянулась на землю с седоком. Товарищи мои, усердно укладывая французов, берегли меня. Схватив молодца за воротник, я сорвал с плеча его эполет и бросил, и опять за него, а он эфесом своей сабли огрел меня довольно порядочно в грудь. Видя, что он добром не сдается, и чувствуя боль в груди, дал я ему леща всею правою, да такого, что он упал на спину. Вырвав из рук его саблю и отбросив, стал я честно, по-русски поднимать его за воротник и получил удар в левое плечо. Мигом оглядываюсь и вижу, что этот подарок саблею дал мне французский офицер, сидевший на лошади, и готов еще меня наградить. Я толкнул первого так, что он упал, и обратился на нового, отскочил на шаг, хватил его штыком. Офицер, как сноп, слетел на землю. Покуда я с этим бешеным управился, первый-то мой знакомец улетел на чужой лошади и был уже на полвыстрела. Жалко было, да нечего делать. Я пустил пулю ему в провожатые, поднял эполет, сунул в сухарный мешок и начал опять работать».
После Махотин с эполетом предстал перед Суворовым в Гларисе. Плененный в Муттенском сражении генерал Лекурб показал, что эполет этот был на плече Массена. За отличную храбрость произведен был Махотин в подпоручики и переведен в егерский полк.
Покинув Муттенское ущелье, французы пытались остановиться у моста через реку Муотту, но вновь были опрокинуты, оставили два орудия, которые русские немедля обратили против неприятеля. Только быстроконные донцы могли угнаться за французами. Целые толпы сдавались в плен. Поражение было столь сокрушительным, что Массена остановился лишь позади Швица. Потери его армии исчислялись в четыре тысячи. Изголодавшиеся русские нашли в ранцах убитых французов вдоволь хлеба и полубелых сухарей, сыр, водку и вино в маленьких плоских штофиках. Неподалеку от Швица казаки обнаружили в лесу брошенные маркитантские запасы. Ночь прошла спокойно: неприятель смирно стоял за Швицем, а русские впервые за много дней разговелись горячим, наварив похлебки в водоносных фляжках.
Впоследствии Массена говорил, что отдал бы все свои победы за один швейцарский поход Суворова.
6
В Гларисе русских ожидал отдых: солдатам роздано было по фунту сыра и пшеничных сухарей. Пока арьергард Розенберга два с лишним дня тянулся через гору Брагель, уже заваленную снегом, остальное войско собиралось с силами для нового похода.
— К ружью! — крикнул часовой Ребиндерова полка, и вмиг вскочили и вытянулись усачи, закаленные в боях.
— Не надо, не надо… — махал рукой их седой шеф полка, старик, шедший в ботфортах, у которых не было подошв и которые вместо того обернуты были полами, отрезанными от генеральского сюртука. — Здорово, братцы!
Солдаты дружно приветствовали любимого генерала.
— Ели ли сыр? Давали ли вам сухариков?
— Ели, ели! Покорнейше благодарим!
— Знаю, что мало после такого длинного голода. Но потерпите. Бог поможет, будем сыты. Прогоним остальных французов, и в Швабию! Поправьте ружья! Привяжите покрепче штыки!
— Слушаем! Рады стараться! — неслось в ответ.
Ребиндер подошел к обвешанному медалями старому Михайло Огневу.
— А, здравствуй, Михайло Михалыч! Ну, братец, почини ужо мне ботфорты чем-нибудь.
— Слушаю, ваше превосходительство! У меня есть кожа, — отвечал с улыбкой солдат. — Вот в эту ночную схватку снял ее с француза. Даром что сырая, да я сделаю ее годною.
— Как с француза? — изумился Ребиндер. — С него кожу?
— Да, ваше превосходительство! Я снял с него кожу, только она была на нем коровья. Верно, он с товарищами съел корову, а кожу-то прорезал в середине и через голову надел себе на плечи от дождя. Хитер был!.. Скидавайте ботфорты. Вон, до крови продрали родительские свои подошвы!
— Спасибо тебе, Миша! — с чувством сказал Ребиндер. — Все вы, весь полк любите меня. И в горах здешних то то, то другое ко мне присылали, то картофельку, то свеколки, и за это вам мое отеческое спасибо!
— А что отец наш? Как он? Здоров ли? — спросил у генерала Огнев.
— Крепко озабочен батюшка наш Александр Васильевич Тугутовыми кознями, — отвечал Ребиндер.
В самом деле, по прибытии в Гларис Суворов понял, что пропала последняя надежда на помощь и содействие австрийцев. Генерал Линкен безо всякой на то причины покинул долину реки Линта и отступил в Граубинден. Приходилось думать теперь не о том, как поправить дела союзников в Швейцарии, а о том, как спасти честь и славу России, как сохранить от поражения и истребления остававшиеся войска. В Гларисе фельдмаршал собрал военный совет. Состояние армии было ужасным: люди окончательно обносились, оголодали, не имели патронов и артиллерийских зарядов. Учитывая все это, командующий отказался от прежнего плана пробиваться навстречу австрийцам и порешил выводить войска кружным, безопасным, но нелегким путем через Шванден, Эльм, Рингенкопф, Панике в долину Рейна.
Армия двинулась в путь ночью на 24 сентября. Первым шел Милорадович, потом войска Розенберга и Дерфельдена, в арьергарде находился Багратион. У реки Зернфта пять тысяч французов перешли в наступление. Багратион тотчас же остановил свой двухтысячный отряд и перестроил его. Неприятель открыл орудийный огонь; у русских пушек не было, и они действовали больше штыком. Необходимость сберегать последние патроны только увеличивала стойкость и упорство русских. Сохраняя полный порядок, арьергард отошел к вечеру за деревню Матт. Всю ночь русские бодрствовали под дождем и снегом, ожидая преследования.
После полуночи 25 сентября 1799 года войска снова тронулись в путь через перевал Панике, где снежный покров достигал полуметровой глубины. Вверх на высокий хребет извивалась тропинка, допускавшая движение только в одиночку. С вершины, куда ни глянешь, простирались в виде огромной снежной пустыни Граубинден и Тироль. Густой туман обнимал бредущих солдат, дождь и снег сыпьмя сыпали, а сильный ветер валил с ног. Ночь на 26-е, проведенная большей частью войск на перевале Панике, была особенно страшной. Каждый ютился как мог, отыскивая себе убежище от ветра и стужи.
Спуск с Панике после морозной ночи сделался еще труднее подъема. Ветер сдул весь снег в лощины, обнажив на скалах тонкий слой льда. Десятки солдат, скользя, падали в пропасти и погибали. В лощинах приходилось идти через реки по колено в ледяной воде. Солдатские колпаки, шляпы, букли не защищали головы и уши от горного ветра, мороза и метели. Ни крошки пищи уже не имелось. Когда по выходе из ущелья солдаты авангарда увидели двух быков, то вмиг бросились на них, распластали и раскрошили, развели огонь. Каждый, начиная с фельдмаршала, жарил сам свой кусочек мяса на палочке или шпаге.
Суворов, здоровье которого пошатнулось еще в Италии, старался, сколько мог, ничем не выказывать своей слабости. Долгое время он терпеливо сносил вьюгу, стужу, ветер, дождь, голод, изнемогая от слабости, шутил с солдатами:
— Чудо-богатыри! Витязи русские! Перемахните эту гору — близко! Недалеко!
Но к концу похода и он сдал, изменился в лице, исхудал. При переходе через Панике два дюжих казака держали его самого и вели его лошадь. По временам фельдмаршал хотел вырваться, повторяя:
— Пустите меня, пустите! Я сам пойду!
Однако усердные охранители молча продолжали свое дело, а иногда с хладнокровием отвечали: «Сиди!» — и Суворов повиновался.
Солдаты спускались к местечку Кур, где их ожидало тепло, хлеб, мясная и водочная порции. Сквозь слезы глядел старый полководец на своих чудо-богатырей — босых, раздетых, изможденных, — и губы его шептали:
— Альпийские горы за нами: ура! орлы русские облетели орлов римских!
Длинный список таких побед, как Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил, Прага, Адда, Треббия, Нови, был блестяще завершен бессмертным швейцарским походом.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ
Остановись, прохожий!
Здесь человек лежит, на смертных не похожий;
На клиросе, в глуши, с дьячком он басом пел
И славою, как Петр иль Александр, гремел.
Ушатом на себя холодную лил воду
И пламень храбрости вселял в сердца народу.
Не в латах, на конях, как греческий герой,
Не со щитом златым, украшенным всех паче,
С нагайкою в руках и на казацкой кляче
В едино лето взял полдюжины он Трой…
Одною пищею с солдатами питался,
Цари к нему в родство, не он к ним причитался.
Был двух империй вождь; Европу удивлял;
Сажал на трон царей и на соломе спал.
А. С. Шишков1
Недолго оставалось великому полководцу жить на земле после швейцарского похода. Но эти последние полгода он, сделавшись личностью уже легендарной, находился как бы в фокусе всеобщего внимания, восхищения и поклонения. В продолжение всего похода в далекой России затаив дыхание ожидали сведений о разыгравшейся кровавой драме. Только в 20-х числах октября в Петербурге получили известия об исходе кампании. «Да спасет вас Господь Бог за спасение славы государя и русского войска, — писал Суворову Ростопчин, — до единого все награждены, унтер-офицеры все произведены в офицеры». 28 октября 1799 года Павел I пожаловал полководцу звание генералиссимуса всех Российских войск. «Ставя вас на высшую степень почестей, — отмечал император, — уверен, что возвожу на нее первого полководца нашего и всех веков». До этого в России было лишь два генералиссимуса: с 1727 года Меншиков и с 1740-го муж императрицы Анны Леопольдовны Антон-Ульрих. Но в отличие от них Суворов заслужил свое звание не положением, а боевыми подвигами и трудами.
— Другому этой награды было бы много, Суворову мало: ему быть ангелом! — сказал Павел Ростопчину.
Император решает воздвигнуть в Петербурге прижизненный памятник Суворову, подобно тому, как Римский сенат постановлял ставить статуи великим мужам. В те времена в невской столице был всего лишь один памятник — поставленный Екатериной II в 1782 году монумент Петру Первому.
Увы, стать любимцем русского императора оказалось еще опаснее, чем пребывать у него в немилости.
Русский полководец еще мечтал продолжить войну, вынашивал новые планы: «Вернее было бы отдать Швейцарию эрцгерцогу на руки… Россиян же обратить на Италию, где знакомой там Бонапарте оказаться может. Я все настою на пиамонтскую армию, на экспедицию чрез Дофине. Депот в Турине готов; а ежели что Тугут утащил, то пришлет назад».
Русские военные историки не раз высказывали предположения о том, какова была бы судьба Италии, останься там Суворов, так жаждавший встречи с Бонапартом. Они отмечали, что трудно сравнивать почти независимого Бонапарта (а впоследствии самовластного Наполеона) с подневольным главнокомандующим. Однако по широте взгляда и остроте ума, по силе железной воли Суворов, конечно, не уступал французскому полководцу, а по глубине образования, знанию военной истории, ясности суждений, насколько это видно из письменных источников, был наравне с Наполеоном, в некоторых случаях даже превосходя его.
Мечтая сразиться с Бонапартом, Суворов не мог спокойно видеть австрийцев и разговаривать с ними. На приеме, устроенном в городе Линдау, он сказал присланному к нему эрцгерцогом Карлом генералу фон Коларедо:
— Вы мне привезли приказание от эрцгерцога. В Вене я у его ног, но здесь совсем другое, и получаю я приказания только от моего государя!
После этого Суворов стал обходить русских генералов и офицеров. Отличившихся в швейцарском походе он хвалил, с некоторыми целовался, а одному генералу из корпуса Римского-Корсакова порекомендовал после цюрихского поражения подать в отставку. Несчастный Римский-Корсаков, находившийся тут же, не дождавшись разноса, потихоньку удалился.
— Вы видели, господа! — обратился ко всем присутствующим русский главнокомандующий. — Корсаков ушел, хотя ни он мне, ни я ему не сказали ни слова. Он более несчастлив, чем виновен. Пятьдесят тысяч австрийцев шагу не сделали, чтоб его поддержать, — вот где виновные. Они хотели его погубить, они думали погубить и меня, но Суворов на них…!
Употребив крепкое слово, солдат-полководец повернулся к австрийскому генералу:
— Скажите эрцгерцогу, что он ответит перед Богом за кровь, пролитую под Цюрихом!
Дело дошло уже, таким образом, до попреков и даже оскорблений. Впрочем, Суворов здесь лишь разделял общее негодование. Что можно было сказать о русско-австрийском союзе, если 15 ноября Ростопчин получил повеление Павла I: «Когда придет официальная нота о требованиях двора венского, то отвечать, что это есть галиматья и бредни».
В тот же день, 15 ноября, русские войска, несмотря на все просьбы и требования императора Франца, выступили из Аугсбурга в Россию. Замыслив против Франции что-то наподобие крестового похода, Павел теперь ясно сознавал, что только он один бескорыстно действовал во имя идеи, в то время как остальные союзники эксплуатировали ее для собственной выгоды.
Хотя сам Суворов неотвязно мучился из-за неполного успеха итальянской кампании и неудачи кампании швейцарской, современники видели в нем победителя и триумфатора: в городах Германии и Чехии его встречали с музыкой, хоры исполняли кантаты в его честь, девушки подносили лавровые венки. Один из очевидцев, шведский генерал Армфельд, так описал появление русского генералиссимуса на спектакле в Праге:
«Театр был иллюминован, за билеты платили тройную цену. Когда Суворов появился в ложе эрцгерцога Карла, театр разразился громом рукоплесканий, криками „Ура! Виват Суворов!“, и вообще публику охватил необычайный энтузиазм. Когда прошел пролог, написанный в его честь, приветствия повторились так же шумно. Суворов, одетый в австрийский фельдмаршальский мундир и во всех орденах, отвечал кликом „Да здравствует Франц!“ и несколько раз пытался остановить превознесение своего имени, но без успеха, так что наконец перестал жестикулировать и только низко кланялся. Затем он благословил зрителей в партере и ложах, и, что особенно замечательно, никто не находил это смешным; напротив, все отвечали ему поклонами, точно папе. В антракте одна молодая дама высунулась из соседней ложи, чтобы лучше разглядеть его. Суворов пожелал с ней познакомиться и, когда она была ему представлена, протянул ей руку, но дама так сконфузилась, что не подала ему своей. Тогда он взял ее за нос и поцеловал; публика расхохоталась».
В шумных празднествах в Линдау, Аугсбурге, Праге, Пильзене, в разработке новых замыслов и планов Суворов на время забывал о недугах, преследовавших его с самого Кончанского. Но потом наступала общая слабость, мучили кашель и озноб. Ночью в Праге генералиссимус так озяб, что выскочил из спальни и стал бегать по приемной, выискивая с Прохором, откуда же дует. Порою же отрешенность одолевала великого полководца. Разговаривая как-то со своим квартирмейстером о «Дон-Кихоте», Суворов грустно пояснил:
— Да, но, мой милый Цаг, мы все донкихотствуем. И над нашими глупостями, горе-богатырством, платоническою любовью, сражениями с ветряными мельницами так же бы смеялись, читая сию книгу, если бы у нас были Сервантесы. Я, читая сию книгу, смеялся от души. Но пожалел о бедняжке, когда фантасмагория кукольной комедии его начала потухать перед распаленным его воображением и он наконец покаялся, хотя и с горестию, что был дурак. Это болезнь старости, и я чувствую ее приближение…
Тотчас по выезде из Праги он ощутил себя нездоровым, а в Кракове уже должен был остановиться для лечения. Кое-как дотащился Суворов до Кобрина и здесь слег. Болезнь развивалась. Необычайно чистоплотный, он особенно страдал от «огневицы» и гнойных опухолей. «12 суток не ем, а последние 6 ничего, без лекаря, — писал генералиссимус Ростопчину 9 февраля 1800 года.
— Сухопутье меня качало больше, нежели на море. Сверх того тело мое расцвело: сыпь и пузыри — особливо в вгибах… Я спешил из Кракова сюда, чтоб быть на своей стороне, в обмороке, уже не на стуле, но на целом ложе».
Все это время не отлучавшийся от Суворова Багратион поспешил в Петербург с донесением об опасном характере болезни. В Кобрин примчались сын полководца и лейб-медик Павла Вейкарт. Больной не слушался придворного врача, предпочитая ему фельдшера Наума, а на совет Вейкарта ехать на теплые воды возразил:
— Что тебе вздумалось? Туда посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков, интриганов и всякую сволочь. Там пусть они купаются в грязи, а я истинно болен. Мне нужна молитва в деревне: изба, баня, кашица и квас. Ведь я солдат.
Вейкарт отвечал, что Суворов не солдат, а генералиссимус.
— Правда, — услышал он в ответ, — но солдат с меня пример берет.
Что болезнь Суворова сильно зависела от его душевного состояния, подтвердилось, когда были получены новые приятные вести из Петербурга. Генералиссимусу в столице готовился необыкновенно торжественный прием: придворные кареты должны были встретить его у самой Нарвы; войскам приказано было выстроиться по обеим сторонам улиц и встречать полководца барабанным боем и криками «ура».
Суворов повеселел, почувствовал себя лучше и решился потихоньку ехать дальше.
2
Вал суворовской славы, прокатившийся по Европе и обогнавший влачившегося в дормезе, на ненавистных ему перинах хворого генералиссимуса, бушевал уже в Петербурге. Нетерпеливый и порывистый Павел I не находил себе места, по нескольку раз на день спрашивая, когда же наконец приедет Суворов.
Всесильный генерал-губернатор Петербурга, начальник почт и полиции, член Иностранной комиссии граф фон дер Пален, на утренних докладах до развода и отдачи пароля не упускал случая дать мыслям императора иное направление.
Когда милость Павла к генералиссимусу достигла апогея и в Петербурге готовилась торжественная встреча победоносному полководцу с оказанием ему всех царских почестей, Пален спросил с придворной почтительностью у императора:
— Не прикажете ли вы, ваше величество, чтобы при встрече с Суворовым на улицах все, не исключая дам, выходили из экипажей для его приветствия, как это делается для особы государя?..
— Как же, сударь! — быстро ответил Павел. — Я сам, как встречу князя, выйду из кареты!
Попытка раздражить государя успеха не имела. Уняв огорчение, Пален продолжал:
— Ваше величество! Наш славный полководец, видно, не очень-то торопится припасть к стопам обожаемого монарха…
Павел подбежал к мосластому немцу, впился в него взглядом.
— Но ведь он, сударь, докладывают мне, сильно занемог!
— Лейб-медик Вейкарт доносил об улучшении здоровья Суворова. А в Риге надевал же он все свои регалии и бриллианты, был в церкви, разговелся у губернатора, видел многих, как, например, Бенкендорфа, — с немецкой педантичностью сообщил Пален.
Павел отвел глаза и запыхтел.
— Брось упражняться в подлости! — наконец картаво сказал он. — И Суворова я тебе, сударь, не отдам!
— Вы не так поняли меня, государь!.. — обиженно наклонил белобрысую голову Пален. — Я просто осмелился доложить вашему величеству, что Суворов слишком возмечтал. Едет и говорит: «Ничего, пускай подождут…»
На разводе император был рассеян и сильно гневался. Изволил кричать на командира Преображенского полка генерала Талызина: «Я из вас потемкинский дух вышибу! Щука умерла, да зубы живы!»
Его мучили сомнения, давно уже подогреваемые фон дер Паленом и другими немцами и полунемцами из придворного окружения. Вспоминалось о намерении Суворова женить сына Аркадия на принцессе Саганской. Точно мало ему русских княжон и фрейлин! Раздражало нежелание полководца после разрыва с Веной отослать туда австрийский фельдмаршальский мундир и его просьбы выяснить через Иностранную коллегию, будет ли он получать пенсию за австрийский орден Марии Терезии. «Вот каков бессребреник!» — добавлял Пален.
А после развода и отдачи пароля начальник военно-походной канцелярии граф Ливен докладывал императору поступавшие донесения инспекторов, которые обращали внимание на то, что шаг в полках, возвращающихся на постоянные квартиры из-за границы, не соответствует установленному, что алебарды и офицерские эспантоны порублены и сожжены в Швейцарии, что у многих солдат обрезаны косы, что в боевых столкновениях применялся рассыпной строй, не указанный в уставе, что немало и других нарушений формы, к примеру, штиблеты заменены сапогами. Перед выходом к обеду и ужину, во время одевания, гардеробмейстер, простодушный Кутайсов, передавал императору неблагоприятные для Суворова соображения, нашептанные Ливеном, Паленом, голштинцами Штейнваром, Каннибахом, Линдерером…
В один из своих докладов в середине марта 1800 года Пален вдруг замялся.
— Мне кажется, сударь, вы чем-то озабочены? — удивился Павел.
Последовал тщательно подготовленный ответ:
— Страшусь, ваше величество! Сумею ли справиться и оправдать доверие монарха в дни приезда и пребывания Суворова в столице?..
— А почему нет, сударь?
— Да слишком высока особа и велики указанные почести!
— Что именно, сударь?
— Так вы сами, ваше величество, будете встречать Суворова?
— А как же.
— И ему будет при вас гвардия отдавать честь?
— Конечно, сударь! Так мною приказано…
— И он поедет при колокольном звоне в Зимний дворец?
— Так.
— И там на молебне ему будет возглашено многолетие, за обедом будут пить его здоровье?
— Конечно! Ведь он войск Российских победоносец, князь Италийский…
— А за обедом будет викториальная пальба?
— Несомненно, сударь.
— А вечером во всем городе будет иллюминация и на Неве фейерверк?
— Верно.
— Ну, это слишком опасно, ваше величество… — Пален замолчал.
— Почему? — повысил голос Павел. Он подбежал к долговязому генерал-губернатору и, дергая его за отворот мундира, стал сыпать словами: — Почему же? Отвечай! Немедля!
— Да как же! Будет жить в Зимнем дворце со всеми почестями, приличествующими высочайшим особам, войска и караулы будут отдавать ему честь в присутствии вашего величества, он станет принимать во дворце генералов и вельмож и ходатайствовать за них у вашего величества. Он будет парадно выезжать в придворных экипажах куда захочет — в свой ли Семеновский или в Преображенский полк. А там его торжественно встретят…
— Ну и что же? — Павел нетерпеливо притоптывал ногой.
— А то, ваше величество, что он, ежели захочет, поведет полки, куда прикажет. На ученье, на маневры… — Пален наклонился к императору и добавил шепотом: — Или еще куда…
Павел задумался.
— Верно, сударь! — сказал он картаво. — Отменить высылку навстречу генералиссимусу придворных экипажей.
Первая брешь в доброжелательном отношении императора к Суворову была пробита.
Оставшись один, Павел вспомнил в туманном зеркале детства давний эпизод.
Набегавшись и нашалившись, он, резвый десятилетний мальчик, смирно сидел за обеденными столами. Кроме воспитателя наследника — Никиты Ивановича Панина и бывшего при его особе поручика Порошина на обед явились известные братья Чернышевы — президент Военной коллегии Захар Григорьевич и президент Адмиралтейс-коллегии Иван Григорьевич. По случаю присутствия гостей Павел был наряжен в богатый мундирчик генерал-адмирала флота российского: звание сие он носил с восьми лет. Потрогав тройной ряд золотого шитья по всем швам и рукавам, Павел сказал: «Ну, ежели кто будет генералиссимус, так где же ему вышивать еще мундир свой — швов не осталось!» Граф Захар Григорьевич отвечал на это: «Генералиссимуса при царской особе быть не должно, потому что государь отдает войско свое в руки другого. А войско государю самому держать в руках надобно!» Сам он тогда только и мог ответить: «А! А!»
— А! А! — пробормотал, задумавшись, Павел. — Так, сударь! Генералиссимус при царской особе опасен паки и паки!
Пален торжествовал. С этого дня посыпались приказы, в которых явлена была крутая перемена императора к Суворову:
20 марта. Генералиссимус князь Суворов вопреки действующему предписанию имел при своем корпусе по прежнему обычаю постоянного дежурного генерала, о чем с порицанием сообщается к сведению всей армии.
22 марта. Его императорское величество с крайним неудовольствием замечает по возвратившимся полкам, как мало господа инспектора и начальники употребили стараний на то, чтобы удержать отряд в желательном для его величества порядке, и видит в этом, как мало усердия они прилагают к исполнению его воли к службе.
17 апреля. Сын Суворова, произведенный во время похода в Италию в генерал-адъютанты, назначается снова камергером.
25 апреля. У князя Суворова приказано отнять адъютанта.
А затем последовали и уточнения к приезду Суворова в Петербург: въехать в столицу он должен вечером, никаких шпалер гвардии не выставлять, колокольный звон отменить, назначенных покоев в Зимнем дворце не отводить. Направиться ему надлежит в дом его племянника Хвостова.
Старания русских немцев увенчались полным успехом. А объяснялись они готовившимся в Петербурге заговором против Павла I, искусно сплетенным Паленом и подкрепленным английским золотом. Суворов, явившийся в Петербург в ореоле европейской славы, был страшен заговорщикам. Один его авторитет, одно его присутствие делали невозможным государственный переворот. Хитроумно вызванная немилость императора к Суворову была, таким образом, лишь одним из звеньев в цепи заговора, впрочем, как и опала, постигшая преданных Павлу Ростопчина и Аракчеева, битье кнутом в Новочеркасске обвиненного в измене верного телохранителя царя казачьего офицера Грузинова. Пален так умело раздул враждебность Павла к собственной жене Марии Федоровне, что тот накануне переворота повелел забаррикадировать дверь, ведущую из его спальни в ее покои.
Павел I сам шел навстречу гибели, последовавшей в ночь на 12 марта 1801 года, когда толпа пьяных заговорщиков ворвалась в Михайловский замок и задушила своего императора офицерским шарфом.
3
Только немногим более двух недель пролежал Суворов в доме Хвостова, тяжело пораженный внезапной, ничем не объяснимой опалой.
Он въехал в столицу 20 апреля 1800 года в десять пополудни и как бы тайком медленно протащился на дормезе по сонным улицам до так называемой пустынной Коломны. На Крюковом канале его ожидал еще один удар. Прибывший от Павла князь Долгорукий оставил записку, в которой было сказано, что Суворову не следует являться к государю. На смертном одре Суворов сказал любимцу императора графу Кутайсову, приехавшему потребовать отчета в его действиях:
— Я готовлюсь отдать отчет Богу, а о государе я теперь и думать не хочу…
Дни великого полководца были сочтены и даже, несомненно, сокращены интригами заговорщиков.
В один из дней дом Хвостова навестил Багратион. Узнав о тяжелом состоянии Суворова, император прислал его верного сподвижника и любимца с изъявлением своего участия.
Придворный врач Гриф тер генералиссимусу виски спиртом. Суворов приходил в себя и снова погружался в небытие.
— Князь Петр? Это ты, князь Петр?
Суворов приподнялся на постели. Казалось, одни голубые глаза жили на восковом лице. Багратион кивал головой, слезы мешали ему сказать что-либо.
— Помни, Петр! Берегите Россию… А война с французами будет, князь Петр! Помяни мое слово…
Суворов прощался с близкими, позвал к себе и верного Хвостова, над стихотворными упражнениями которого всю жизнь подшучивал.
— Наклонись, Митя… Ближе… Вот так…
Хвостов почтительно приготовился слушать дядюшку.
— Прошу тебя, — внятно заговорил полководец. — Брось ты писать стихи… не твое это дело! Не позорь ты наш дом…
Когда Хвостов вышел от Суворова, ожидающие бросились к нему:
— Ну как он? Что?
Хвостов скорбно наклонил голову:
— Бредит…
Суворов пожелал видеть Державина и, смеясь, спросил его:
— Ну, какую же ты мне напишешь эпитафию?
— По-моему, — отвечал поэт, — слов много не нужно: «Тут лежит Суворов!»
Полководец оживился:
— Помилуй Бог, как хорошо!..
Суворов умирал, хорошея лицом, которое становилось спокойным и просветленным.
Стоял ясный, не по-петербургски погожий майский день, и деревья сторожко — не прихватит ли поздний морозец? — разворачивали нежную свою зелень. А далеко на юго-западе, в древней полуденной стране, недавно покинутой Суворовым, шли уже в рост травы, буйствовали цветы. За Альпами погромыхивали громы, под трехцветными знаменами собирались колонны солдат в синих мундирах, и маленький человек с налипшей на лбу прядкой, еще худощавый, в знаменитой уже треуголке, готовил австрийцам новые Канны, первой жертвой которых должен был стать Мелас.
Новый, XIX век входил в свои права. Реакционный романтик, российский император-сумасброд в Михайловском замке ненамного пережил Суворова.
Ничего от Павла не перешло потомству, разве что стиль мебели. Смерть Суворова означала же его новую жизнь. Заветы великого полководца, как бы частицы бессмертной его души, остались в сердцах людей — чудо-богатыря и сержанта Ребиндерова полка Якова Старкова и капитана Алексея Ермолова, семнадцатилетним юношей получившего из рук фельдмаршала боевого Георгия; черноволосого гиганта генерала Милорадовича, выказавшего чудеса храбрости в Альпах, и будущего гусара — поэта и партизана Дениса Давыдова, как святыню хранящего память о встрече с русским Марсом; прямодушного князя Багратиона и мудрого Голенищева-Кутузова.
Всем им предстояло вскоре спасти отечество от нашествия, быть может, самого грозного со времен Батыя.
ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. В. СУВОРОВА[3]
1729, 13 ноября — родился в Москве в семье прапорщика Преображенского полка Василия Ивановича Суворова.
1742, 23 октября — зачислен на военную службу мушкетером в Семеновский гвардейский полк.
1748, 1 января — начал действительную службу в качестве капрала в Семеновском полку.
1754, 25 апреля — произведен в поручики и направлен в Ингерманландский пехотный полк.
1758 — в чине премьер-майора вел работу по формированию резервных батальонов для действующей армии в Лифляндии и Курляндии. Был комендантом в Мемеле. Произведен в подполковники.
1759, 1 августа — участвовал в сражении при Кунерсдорфе.
1761 — совершал кавалерийские операции при корпусе Г. Г. Берга.
1762, 26 августа — произведен в полковники и назначен в Астраханский пехотный полк.
1763, 6 апреля — переведен в Суздальский пехотный полк. 1764–1765 — разработал «Полковое (Суздальское) учреждение».
1768–1772 — участвовал в военных действиях против польских конфедератов.
1773–1774 — участвовал в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.
1773, 10 мая — совершил первый успешный поиск на Туртукай.
1773, 3 сентября — нанес поражение турецким войскам в сражении под Гирсовом.
1774, 16 января — женился в Москве на княжне Варваре Ивановне Прозоровской. Венчание происходило в церкви Федора Студита близ дома Суворовых на Б. Никитской (№ 25).
1774, 17 марта — произведен в генерал-поручики.
1774, 10 июня — одержал победу над турецким корпусом при Козлуджи.
1775, 1 августа — родилась дочь Наташа.
1778, 23 марта — назначен командующим войсками в Крыму и на Кубани.
1780, январь — в связи с возможным персидским походом переведен в Астрахань.
1784, 4 августа — родился сын Аркадий.
1786, 22 сентября — произведен в генерал-аншефы.
1787–1790 — участвовал в русско-турецкой войне 1787–1791 гг.
1787, 1 октября — одержал победу в сражении под Кинбурном.
1789, 21 июля — разгромил турецкий корпус при Фокшанах.
1789, 11 сентября — одержал победу над турецкими войсками в сражении при Рымнике.
1790, 11 декабря — взял штурмом крепость Измаил.
1791 — командирован в Финляндию для укрепления русско-шведской границы.
1794, 19 ноября — произведен в генерал-фельдмаршалы.
1796, январь — назначен командующим русской армией с штаб-квартирой в Тульчине.
1797, 6 февраля — уволен в отставку Павлом I без права ношения мундира.
1797, 22 апреля — сослан в сельцо Кончанское Новгородской губернии под надзор полиции.
1799, февраль — вновь зачислен на службу с назначением главнокомандующим русско-австрийских войск в Италии.
1799, март — прибыл в Вену и возведен в чин генерал-фельдмаршала австрийских войск.
1799, 10 апреля — взял штурмом крепость Брешиа.
1799, 16–17 апреля — одержал победу над французскими войсками на реке Адде.
1799, июнь — одержал победу над французами на реке Тидоне, выиграл сражение при Треббии.
1799, июль — занял крепость Мантую.
1799, сентябрь — с боями прошел через Сен-Готард и Чертов мост в Швейцарии, вывел войска через хребет Росшток в Муттенскую долину, осуществил переход через хребет Панике.
1799, 28 октября — получил звание генералиссимуса всех Российских войск.
1800, 20 апреля — прибыл в Петербург.
1800, 6 мая — скончался в доме Хвостова на Крюковом канале в Петербурге.
СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ИМЕН[4]
Алексиано Панаиоти Павлович (? — 1788) — адмирал, грек. В 1769 г. поступил волонтером в эскадру адмирала Г. А. Спиридонова. В отличие от многих других наемников, которых Суворов называл «проклятые волонтеры», сражался не из-за денег. Турки были поработителями его родины, многие греки сражались в русско-турецких войнах XVIII–XIX вв. как единоверцы. Участвовал в Чесменском сражении. Командуя фрегатом, осуществлял крейсерство у берегов Турции в Средиземном море, овладел крепостью Яффа (1772), участвовал во взятии Бейрута (1773). Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1788 г. в чине капитана бригадирного ранга командовал парусной эскадрой на лимане, но в самый ответственный момент был заменен Полем Джонсом, что вызвало его решение в знак протеста покинуть русский флот вместе с опытнейшими греческими моряками. Суворову удалось погасить конфликт, и накануне Кинбурнского сражения 26 мая 1788 г. Алексиано написал Потемкину письмо, заканчивавшееся словами: «Я остаюсь, но чувствую обиду». План сражения 17 июня принадлежал Алексиано, чья роль в победах на лимане была очень велика. Но это было его последнее морское сражение, за которое он был произведен в контр-адмиралы. 8 июля 1788 г. он скоропостижно скончался. «Приняв, — по его словам, — Россию за свое отечество», он был одним из талантливейших флотоводцев.
Анна Иоанновна (1693–1740) — дочь царя Ивана Алексеевича, российская императрица. В январе 1730 г. умер четырнадцатилетний Петр II, на нем пресеклась мужская линия династии Романовых. Из прямых потомков Петра I права на престол имела только его двадцатилетняя дочь Елизавета, но ее кандидатура «верховниками» даже не рассматривалась, поскольку она родилась за три года до официального венчания императора на Екатерине и была дочерью «шведской портомои». Выбор «верховников» пал на племянницу Петра I — дочь царя Иоанна Алексеевича, возведенного на царство в 1682 г., но оказавшегося полностью не способным к государственному правлению. Стрельцы потребовали, чтобы вместе с Иоанном царствовал его младший брат — десятилетний Петр при правительнице Софье. Слабоумный и почти слепой царь Иоанн Алексеевич не имел никакой реальной власти, ни для кого не являлось секретом, что пять его дочерей царевна Прасковья родила вовсе не от царя. Тем не менее в 1730 г. на русский престол была возведена не дочь Петра I Елизавета, а его племянница Анна, которая к тому времени была герцогиней Курляндской, жила в Митаве, овдовев во время свадебного пира: ее муж, герцог Курляндский умер от перепоя. Никакими особыми заслугами она не обладала, но уже в 1718 г. ее фаворитом в Митаве стал Эрнст-Иоганн Бюрен, вошедший в историю России под именем Бирон. Всеми делами при Анне Иоанновне управляли три немца — Бирон, Остерман и Миних. «Бироновщина» и Канцелярия тайных розыскных дел стали символами ее десятилетнего царствования. Впрочем, современный историк вносит весьма существенные коррективы в эту историческую мифологему, доказывая на основе документальный данных: «Государыня обладала здравым смыслом, чувством самосохранения, она не совершала в политике резких движений, а если дела были сложны и многотрудны — что ж для этого были хитроумные министры, которые всегда могли подсказать, как нужно действовать! Несмотря на господство Бирона в сердце и в администрации Анны, национальной целостности России, петровским основам внешней политики имперских завоеваний ничего не грозило. Так же и во внутренней политике при Анне не произошло никаких из ряда вон выходящих перемен, которые бы нарушили внутреннее равновесие сословных и властных интересов. Все проявившиеся и усиливавшиеся еще при Петре Великом процессы и явления экономической, политической, социальной, культурной жизни России развивались по своим внутренним законам и корректировались правительством Анны Иоанновны в разумных пределах. Что же касается расцвета бюрократии, мздоимства, присвоения государственной собственности, несовершенства в работе государственного аппарата, то кто из преемников и наследников Анны Иоанновны мог похвалиться, что победил эти пороки русской власти» (Анисимов А. В. Анна Иоанновна. ЖЗЛ. — М., 2002).
Багратион Петр Иванович (1765–1812) — князь, генерал от инфантерии. Из грузинского рода царей Багратидов. Сын полковника русской армии Ивана Александровича Багратиона. В 1782 г. вступил сержантом в Кавказский полевой батальон, сражался с горцами на Кавказе и в 1783 г. получил чин прапорщика. В 1788 г. отличился при штурме Очакова (первая награда — крест за Очаков). В 1789–1791 гг. вновь воевал на Кавказе. В 1792–1794 гг., будучи майором Киевского конно-егерского полка, отличился при штурме Праги (предместье Варшавы) и обратил на себя внимание Суворова, став одним из любимцев и лучшим учеником великого полководца. В 1798 г. произведен в полковники и назначен шефом 6-го егерского полка, 4 февраля 1799 г. произведен в генерал-майоры. Участвовал в Итальянском и Швейцарском походах Суворова, отличившись в сражениях при Адде, Треббии, Нови и при осаде Александрии, проявив чудеса храбрости в авангарде армии. Воевал с французами в 1805 г. В сражении под Шенграбеном его отряд численностью в 6000 человек отразил все атаки корпуса маршала Мюрата в 30000 человек и прорвался к главным силам. За этот подвиг произведен в генерал-лейтенанты и награжден высшей воинской наградой — орденом Святого Георгия 2-й степени. Участвовал в антинаполеоновских войнах 1806–1807 гг., командуя 4-й дивизией. Отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, где, командуя авангардом русской армии, отразил все атаки французов. Во время русско-шведской войны 1808–1809 гг. действовал в южной Финляндии, очистив от шведов побережье от г. Або до г. Вазы. Возглавил знаменитый «ледовый поход» через Ботнический залив, за который был произведен в генералы от инфантерии. В марте 1812 г. назначен главнокомандующим 2-й Западной армией. В начале Отечественной войны 1812 г. отважно оборонялся от превосходящих сил Жерома Бонапарта и Даву. Войска Багратиона оказали стойкое сопротивление французам под Салтановкой, оторвались от преследования и соединились с 1-й армией в Смоленске. В Бородинском сражении возглавил оборону на левом фланге. 2-я Западная армия Багратиона более шести часов удерживала Семеновские флеши, на которые французы направили главный удар. Тяжело раненный осколком гранаты в бедро, умер от гангрены 12 сентября 1812 г. в д. Симы Владимирской губ. По инициативе Дениса Давыдова в 27-ю годовщину Бородинского сражения с почестями похоронен рядом с памятником героям Бородина на Курганной высоте. Его имя стало легендарным, как и имена других героев Бородина, сражавшихся под знаменами Суворова. Суворовцами были Кутузов, Милорадович, Ермолов, Платов, Дорохов, Денисов и многие другие генералы, офицеры, солдаты, постигшие «науку побеждать» великого русского полководца.
Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) — светлейший князь. Окончил Киевскую духовную семинарию, где отличался «памятью и острым умом». Служил в канцелярии Румянцева, который рекомендовал его Екатерине II. С 1775 г. секретарь императрицы, фактически возглавлял Коллегию иностранных дел. Под его руководством совершилось присоединение Крыма к России, он сопровождал Екатерину II как докладчик во всех ее путешествиях. Среди его главных заслуг — заключение в 1791 г. Ясского мира с Турцией. При Павле I — канцлер, которому было поручено создание коалиции против «мятежной и развратной» Франции. «Граф Безбородко, — отмечал Суворов, — не столько хитр, но больше мудр». Суворов надеялся, что Безбородко сможет объяснить Павлу I всю опасность преобразования русской армии на прусский лад, но осторожный царедворец, видя, как круто меняется внешняя и внутренняя политика России, предпочел в 1798 г. уйти в отставку. Его брат, генерал-майор И. А. Безбородко при штурме Измаила командовал 4-й и 5-й колоннами. Был тяжело ранен.
Бекетов Никита Афанасьевич (1729–1794) — генерал-лейтенант, сенатор. Учился в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, где часто устраивались спектакли. Посетив один из них, Елизавета Петровна обратила внимание на красавца-кадета. Так двадцатилетний Бекетов «вошел в фавор». Но вскоре был «изведен» кланом Шуваловых и удален от двора. Принимал участие в Семилетней войне, в битве при Цорндорфе в 1758 г. был взят в плен. После возвращения Петр III произвел его в генерал-майоры, а Екатерина II в 1763 г. назначила астраханским губернатором. Ушел в отставку в 1780 г. и, поселившись в своем саратовском имении Отрада, полностью посвятил себя разведению садов, виноградников, завел на Волге богатые рыбные ловы, прославившиеся Бекетовской икрой. К этому времени относится знакомство Бекетова с Суворовым, назначенного в 1780 г. в Астрахань для подготовки экспедиции сухопутных и морских сил в Персидский поход. Суворов не просто отдыхал в тиши и прохладе бекетовских садов. Бекетов принимал активное участие в его церковном примирении с женой. Суворов писал П. И. Турчанинову 12 марта 1780 г.: «Варвара Иоанновна упражняется ныне в благочестии, посте и молитвах под руководством ее достойного духовного пастыря». Этим пастырем был Бекетов. Есть сведения, что Бекетов принимал участие в устройстве Астраханской губ. колонии секты «моравских братьев», об учении которых упоминает Суворов в связи с упражнениями в благочестии своей жены. Секта эта проповедовала правила простой, нравственной жизни, в которой люди смогут обрести семейное счастье. Вполне возможно, что Бекетов был последователем этой секты.
Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745–1826) — барон, граф, генерал от кавалерии. Из старинного немецкого дворянского рода. Служил в Ганноверской армии и участвовал в Семилетней войне. В 1773 г. перешел на русскую службу, зарекомендовав себя как храбрый и хладнокровный кавалерийский офицер. За отвагу при штурме Очакова в 1788 г. получил звание бригадира. Отличился в Польской кампании 1794 г. С присвоением чина генерал-майора и награждением орденом Святого Георгия 3-й степени его поздравил Суворов. Участвовал в Персидском походе 1796 г. В 1801 г. сыграл одну из главных ролей в дворцовом перевороте и цареубийстве. Впоследствии один из видных участников антинаполеоновских войн 1805–1807 гг. Награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. В Отечественную войну 1812 г. исполнял обязанности начальника Главного штаба объединенной армии. Из-за разногласий с Кутузовым был отставлен. В 1813 г. командовал Польской армией. В 1814 г. за осаду Гамбурга награжден орденом Святого Георгия 1-й степени. Прослужив в русской армии около 50 лет, так и не принял российского подданства, вернувшись в конце жизни на историческую родину.
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693–1768) — граф, генерал-фельдмаршал, канцлер. В шестнадцать лет отправлен Петром I учиться в Копенгаген и Берлин. С разрешения императора служил при ганноверском дворе. В 1721–1740 гг. был русским резидентом в Копенгагене. При Анне Иоанновне был приближен ко двору Бироном. После падения Бирона был приговорен к четвертованию, замененному ссылкой. При Елизавете Петровне — вице-канцлер, с 1744 г. — канцлер, один из самых влиятельных царедворцев. При нем Суворов, будучи сержантом л. — гв. Преображенского полка, отправлен в 1752 г. курьером в Дрезден и Вену. «Императрица Елизавета, — как отмечает биограф, — ничего не решала без его мнения». В 1758 г был обвинен в заговоре как тайный союзник великой княгини Екатерины Алексеевны, арестован и приговорен к отсечению головы. Помилован и сослан в можайскую вотчину, где до воцарения Екатерины II «обитал в дымной избе, нося соответственную ей одежду, отрастив бороду». Екатерина II особым манифестом восстановила его честь и даже пожаловала в генерал-фельдмаршалы. Но возвращение в большую политику не состоялось. Его последние годы были омрачены «развратной и неистовой жизнью» единственного сына Андрея, которого он был вынужден заточить в монастырь. Его увлечение химией и медициной осталось в истории под видом «бестужевских капель».
Бибиков Александр Ильич (1729–1774) — генерал-поручик. В Семилетнюю войну командовал мушкетерским полком и был ранен в сражении при Кунерсдорфе. С 1771 г. командующий русскими войсками в Польше. Во время войны с конфедератами Суворов обращается к нему с письмами, свидетельствующими о близости отношений и взаимопонимании. Оказавшись «в праздности», Суворов пишет Бибикову в ноябре 1772 г. из Люблина: «Животное, говорю я вам, привыкает к трудам, пусть даже с заботами сопряженным, и лишившись их, почитает себя бессмысленной тварью: продолжительный отдых его усыпляет. Как сладостно мне воспоминать прошедшие труды!.. Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но я заключил доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию. Никогда самолюбие, часто послушное порывам скоропреходящих страстей, не управляло моими деяниями. Я забывал себя там, где надлежало мыслить о пользе общей. Жизнь моя была суровая школа, но нравы невинные и природное великодушие облегчали мои труды: чувства мои были свободны, а сам я тверд! Боже! Скоро ли возвратятся такие обстоятельства! Теперь изнываю в праздности, привычной тем низким душам, кои живут для себя одних, ищут верховного блага в сладостной истоме и, переходя от утех к утехам, находят в конце горечь и скуку. Уже мрачность изображается на челе моем; в будущем предвижу еще более скорби. Трудолюбивая душа должна всегда заниматься своим ремеслом: частое упражнение так же оживотворяет ее, как ежедневное движение укрепляет тело». В 1773 г. Екатерина II поручила Бибикову усмирение Пугачевского бунта. «Колико возможно, — писала ему императрица, — не терять времени, старайтесь прежде весны окончать дурные и поносные и всячески приложить труда для искоренения злодейств их, весьма стыдных пред светом». Во время проведения карательной экспедиции скончался от горячки. «В сердцах твой образ будет вечен», — писал Г. Р. Державин в оде на смерть Бибикова. Суворов прибыл для «утушения бунта» в августе 1774 г. при генерал-аншефе П. И. Панине.
Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) — естествоиспытатель, мемуарист, издатель. Из дворян Тульской губ. Отец — полковник, участник многих военных походов, взятия Хотина. В десять лет записан в Архангелогородский пехотный полк, в 1755 г. начал службу сержантом. Участвовал в Семилетней войне, в Егерсдорфском сражении. В 1758 г. назначен письмоводителем, а затем переводчиком при канцелярии генерал-губернатора Восточной Пруссии Н. А. Корфа. Посещает лекции Кенигсбергского университета, рисует, пробует свои силы в литературе, в театре, все больше приходя к мысли, что рожден «не для войны, а для наук». К этому периоду относится его знакомство с Суворовым и Григорием Орловым, который организовал в Кенигсберге любительский театр. В 1762 г. назначается флигель-адъютантом Корфа, ставшего петербургским генерал-полицеймейстером. В Петербурге Г. Орлов пытается привлечь его к заговору. В дальнейшем, благодаря своим связям с всемогущим фаворитом императрицы, мог сделать блестящую придворную карьеру, но предпочел остаться в тени. Воспользовавшись указом Петра III о вольности дворянства, Болотов вышел в отставку и полностью посвятил свою жизнь науке, став крупнейшим в России естествоиспытателем. В 1774 г получил должность управителя собственных имений Екатерины II в Киясовской волости, а с 1776 г. — управителя дворцовых имений в Богородицкой волости. За двадцать лет службы превратил г. Богородицк, Богородицкий дворец, пейзажный парк в одни из лучших в России, проводя сельскохозяйственное опыты в дворцовых хозяйствах. В 1778–1779 гг. издавал первый в России сельскохозяйственный журнал «Сельский житель», выступая автором большинства статей. В 1779 г. сблизился с Н. И. Новиковым, но не принимал его масонских взглядов. В 1780–1789 гг. редактировал журнал «Экономический магазин», издававшийся на средства и в типографии Новикова. В домашнем детском театре, созданном Болотовым в Богородицке, ставились его пьесы, он писал стихи, но самым значительным его произведением стали записки «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». Работа над записками началась в 1789 г. и продолжалась в течение нескольких десятилетий, став выдающимся памятником истории и литературы XVIII в.
Булгаков Яков Иванович (1743–1809) — дипломат. С 1770 г. советник русского посла в Варшаве князя Н. В. Волконского. Во время войны с конфедератами Суворов не раз обращался к нему за помощью и в дальнейшем, в течение многих лет, сохранял с Булгаковым дружеские отношения. В 1781 г. Булгаков был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Турцию. Прославился тем, что в июле 1787 г. отверг ультиматум турок о пересмотре условий Кучук-Кайнарджийского мирного договора и два года провел в Семибашенном замке, как писал Суворов, «в титле Стамбульского кабальника». Тем не менее, находясь в заключении, он сумел достать и переправить в Петербург секретный план военных действий турок против России. Располагая сведениями о переносе главных действий турецких сухопутных войск в Молдавию и Валахию, Потемкин вовремя объединил две армии, что имело решающее значение в дальнейшем ходе военных действий. В 1789 г., по возвращению в Россию, был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Польшу.
Бутурлин Александр Борисович (1694–1767) — граф, генерал-фельдмаршал, конференц-министр, сенатор. Внук боярина Ивана Васильевича Бутурлина и сын капитана гвардии Бориса Ивановича Бутурлина, скончавшегося от ран в сражении под Лесным (1708). В 1720 г был взят Петром I из Морской академии в качестве денщика. Участвовал во всех его сухопутных и морских походах. При Екатерине I — камер-юнкер, при Петре II — камергер, при Анне Иоанновне — губернатор Смоленский, при Елизавете Петровне — управляющий Малороссией, генерал-губернатор Москвы. В 1751 г. получил фельдмаршальский жезл. «Отличаясь деятельностью и усердием к службе, — отмечает биограф, — граф Александр Борисович не прославил оружия своего на ратном поле; занимал более почетное место между царедворцами и градодержателями, нежели полководцами; со всем тем императрица Елизавета Петровна, по особенной привязанности к Бутурлину, поручила ему армию, долженствовавшую сразиться с Фридрихом Великим». При Петре III вновь назначен генерал-губернатором Москвы, взошедшая на престол Екатерина II пожаловала ему шпагу, украшенную бриллиантами, и утвердила в графском достоинстве.
Веймарн Ганс фон (1722–1792) — генерал-поручик. Из лифляндских дворян. В Семилетнюю войну занимал должность генерал-квартирмейстера при главнокомандующем русской армией С. Ф. Апраксине. В 1768–1771 гг. командовал русскими войсками в Польше. К этому времени относятся письма к нему Суворова о ходе военных действий. Веймарн предвзято относился к Суворову, выдвигая на первые роли своих любимцев — фон Древица, Штакельберга, фон Ренне. Суворов обращался к нему «изрыгнув всю свою желчь в преисподнюю», обещая в точности выполнить его «предписания», но прилагая все усилия, чтобы вырваться от своего «покровителя».
Вейсман Отто-Адольф (1726–1773) — барон, генерал-майор. Из лифлянских дворян. В 1774 г. поступил в русскую армию рядовым. Капитаном участвовал в Семилетней войне, дважды ранен под Цорндорфом. К началу войны с Турцией в 1768 г. — командир Белозерского пехотного полка. Дважды водил в ночные штыковые атаки своих гренадер при осаде крепости Хотин. В 1770 г. произведен в генерал-майоры и назначен командиром бригады, находившейся в авангарде армии. Награжден орденом Святого Георгия 3-й степени за сражение при Ларге и орденом Святого Александра Невского за сражение при Кагуле. 1771 г. прославил имя генерала Вейсмана по всей русской армии. «Руководя своей группой, — отмечает биограф, — за одну компанию 1771 года Вейсман сделал столько, сколько иному полководцу не удается совершить за целую жизнь. Еще в начале года он уничтожает турецкие магазины в Тульче и Исакчи. В июне, имея под своим началом менее 3 тысяч человек, несколько раз подряд разбивает неприятеля под Тульчей, в общей сложности доведя число разгромленных им османов до 15 тысяч. Вся армия называла его Оттоном Ивановичем и „русским Ахиллом“». Погиб в неравном рукопашном бою с янычарами.
Войнович Марк Иванович (1750–1807) — граф, адмирал, выходец из Далмации. На русской службе с 1770 г. В 1780 г., будучи капитаном 2-го ранга, назначен командиром Каспийской флотилии, добившись при этом независимости от Суворова, в подчинении у которого остались только сухопутные войска. Экспедиция Войновича потерпела крах. Суворов писал по этому поводу: «Они пришлецы из земли; все им равно, хотя Каспийское море меня потопит, но и Россию: они уйдут в Мадагаскар». В дальнейшем Суворову еще не раз придется встретиться с такими «пришлецами», особенно во флоте, который восстанавливался на Каспийском и Черном морях. 27 июля 1781 г. флотилия Войновича бросила якорь в Астрабадском заливе. Командующий и его офицеры были приглашены на восточный пир и схвачены, закованы в колодки и брошены в тюрьму. «Многообещающий граф», как называл его Суворов, бесславно вернулся в Астрахань. Тем не менее это никак не сказалось на его флотской карьере. Войновича не понизили, а повысили, назначив первым командующим Севастопольской эскадрой Черноморского флота со званием контр-адмирала. На Черном море он получил предписание Потемкина: «Хотя бы всем погибнуть, но должно показать всю неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля». 31 августа 1787 г. Войнович вывел в море Севастопольскую эскадру в составе десяти военных кораблей и едва не погубил ее у мыса Калиакрия, но не в бою, а в жесточайшем шторме. Последствия были катастрофическими. Неначавшаяся военная морская кампания была проиграна. Даже видавший виды Потемкин пришел в суеверный ужас: «Флот Севастопольский разбит, корабли и фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки». Екатерина II на его «первое нервное движение» об отставке философски заметила: «то ли еще мы брали, то ли еще теряли». Флот пришлось вновь восстанавливать. Но и на этот раз, потеряв без боя два судна, Войнович сумел оправдаться. Сказалась его служба капитаном императорской шлюпки. Но Войнович стал настолько осторожен, что вообще старался под всякими предлогами отсиживаться в Севастопольской бухте, не выводить эскадру в море, дабы сохранить ее. Он в буквальном смысле «ждал у моря погоды». Суворов записывал: «Сегодня Войнович хотел было поднять паруса». А в результате Севастопольская эскадра не приняла участие в морском Кинбурнском сражении на лимане. Суворов сообщал не без иронии: «Войнович молодец, он маневрировал, маневрировал, как и должно было, но слишком поздно». Севастопольская эскадра получила боевое крещение в июле 1788 г. у острова Фидониси, но основной удар принял на себя авангард капитана бригадирного чина Ф. Ф. Ушакова. Войнович вновь осторожничал и дал возможность противнику уйти. В марте 1790 г. Потемкин принял окончательное решение: Войновича он вернул на Каспий, а начальником Черноморского флота назначил «контр-адмирала и кавалера Ушакова».
Волконский Михаил Никитич (1713–1786) — князь, генерал-аншеф, сенатор, генерал-губернатор Москвы. Выпущен в 1736 г. подпоручиком из Кадетского корпуса. Отличился в Семилетней войне. Суворов отметил в автобиографии, что был под его командою, «впервые увидел войну». В 1761 г. «к сохранению тишины в Польше» назначен командующим войсками в Познани. С 1764 г. — командир корпуса в Польше. В 1769 г. сменил «крутого» князя Н. В. Репнина в должности полномочного министра в Варшаве, но и его «мягкая» политика потерпела крах. В 1771 г. назначен главнокомандующим Москвы после чумного бунта, усмиренного Григорием Орловым. Обходительный и хлебосольный, проявил себя как опытный администратор.
Ганнибал Абрам Петрович (1696–1781) — знаменитый «арап Петра Великого» — предок А. С. Пушкина. Чернокожий пленник, проданный в рабство в Стамбуле, он становится крестником и неотлучным секретарем Петра I, получает образование во Франции и всю свою жизнь посвящает служению России, став крупнейшим военным инженером, управляющим Инженерной частью всей России, генерал-аншефом русской армии. Отправленный Петром III в отставку, Абрам Ганнибал поселяется в своем псковском имении Суйда. «Под сенью липовых аллей / Он думал в охлаженны леты / О дальней Африке своей», — писал Пушкин в 1824 г. в послании к Н. М. Языкову. В Суйде его часто навещали Суворовы. Младший из его сыновей Исаак в чине артиллерийского капитана служил под командой Суворова. В реляциях Суворова о польской компании 1771 г. упоминается его «неустрашимость и храбрость».
Герман Иван Иванович — генерал от инфантерии. Перешел на русскую службу из саксонской, зарекомендовав себя отличным инженером-картографом: составил карты Молдавии, Северного Кавказа, Финляндии. Занимал генерал-квартирмейстерские должности. В 1780 г., при Суворове, подполковник Кабардинского пехотного полка, возводил укрепления на Кавказской линии, часто бывал в Астрахани. В 1790 г. разгромил на Кубани крупные силы турок и горцев, награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. Вместе с Суворовым с 1792 г возводил укрепления в Финляндии. В 1799 г. должен был возглавить русский корпус, направлявшийся в помощь Суворову в Италию, получив секретное предписание Павла I «иметь наблюдение за его предприятиями, которые могли бы повести ко вреду войск и общего дела, когда он будет слишком увлекаться своим воображением, заставляющим его иногда забывать все на свете». Герман принял предложение императора и, благодаря за оказанное доверие, нелицеприятно отозвался о Суворове, видя в нем лишь «старые лета, блеск побед и счастье, постоянно сопровождавшее все его предприятия». Назначение не состоялось Герман был направлен командующим русскими войсками в Голландии. В первом же большом сражении с французами потерпел поражение и со своим штабом попал в плен. Непобедимого Германа из него не получилось, военное «счастье» ему изменило.
Голицын Александр Михайлович (1718–1783) — князь, сенатор, вице-канцлер, генерал-фельдмаршал. Родной дядя отца Суворова по матери, который знал Голицына по родственным связям и по совместной службе. Суздальский полк, которым он командовал, входил в дивизию Голицына. Начал службу в 1742 г. «дворянином» посольства в Голландии. В 1755–1761 гг. — чрезвычайный посланник в Лондоне. В знаменитом сражении 1759 г. при Кунерсдорфе командовал левым крылом русской армии, принявшем на себя главный удар. С 1761 г. — вице-канцлер и вице-президент Коллегии иностранных дел. Во время июльского переворота был послан Петром III к Екатерине с прошением о помиловании, но перешел на сторону императрицы. При Екатерине II более десяти лет оставался вице-канцлером, но, по словам английского посланника, «скорее путал, чем помогал, даже в тех безделицах, до которых его допускали». С началом первой русско-турецкой войны главнокомандующий 1-й армией, но был отозван Екатериной II из-за нерешительности действий. Тем не менее взятие Хотина и Ясс связано с его именем. В 1769 г. произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1778 г. оставил службу и удалился в Москву, посвятив себя благотворительным делам. Был почетным опекуном Воспитательного дома и попечителем Павловской больницы, построил Голицынскую больницу, собрал большую коллекцию картин и скульптур.
Головатый Антон Андреевич (1732–1797) — войсковой судья, кошевой атаман Черноморского казачьего войска. Вместе с атаманом Запорожских казаков Захарием Чапегой, организовал волонтерскую команду, из которой в 1788 г. образовалось «войско верных казаков» под предводительством атамана Сидора Белого. Впоследствии кош был переформирован в Черноморское казачье войско, ставшее основой Кубанского казачьего войска. Антон Головатый командовал в этом казачьем войске гребной флотилией, взявшей ночным штурмом крепость Березань. За штурм Очакова он первым из казаков получил Георгиевский крест. При штурме Измаила командовал двухтысячным войском казаков, высадившихся на берег и осадивших крепость, проявив беспредельную личную храбрость. В этих победах, прославивших имя Суворова, начинается ратная слава и самих казаков как одного из ударных подразделений регулярной русской армии. Под руководством Головатого проходило заселение Кубани казаками-переселенцами с Запорожья, составившими Черноморское казачье войско, которому по наказу Екатерины II подлежало «бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских». Головатый принимал деятельное участие и в строительстве войскового «града Екатеринодара» на землях, отданных в дар казакам Екатериной. Суворов приезжал в гости к Головатому. «Его сиятельство граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, — сообщал он Чапеге в письме от 18 июля 1793 г., — был у нас в Тамани, обедал у меня и, часов с пять погостив, обратно в ту сторону возвратился. Музыка и дьяки его увеселение составляли, а беседа за столом занимаема была нашими обстоятельствами». Суворов присутствовал при «опробовании» колоколов, отлитых для Екатеринодарского Свято-Троицкого собора из переплавленных трофейных пушек. «Граф Александр Васильевич Суворов, — сообщал Чапеге Головатый, — изволил сам опробовать, со многими господами хвалил и благодарил». Полковник Антон Головатый «скончал живот свой» 28 января 1797 г. во время Персидского похода на Каспийское море, возглавляя отряд черноморских казаков и оставшийся верен казачьей клятве: «Мы вздвигнем грады, населим села, сохраним безопасность пределов». Царский указ о назначении его вместо умершего 8 января 1797 г. Захария Чапеги атаманом Черноморского казачьего войска был зачитан над его могилой.
Горич-Бенесевский Иван Петрович — родом черкес. Добровольцем участвовал в первой русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Впоследствии бригадир, командир 6-й колонны при штурме Очакова. Первым взошел на крепостную стену «почти вместе со своей смертью», как сказано в рапорте Потемкина о штурме. Похоронен в Херсоне. В Очакове установлен памятник Горичу как очаковскому герою.
Горчаков Андрей Иванович (1779–1855) — князь, родной племянник Суворова по матери. Вместе с братом Алексеем Горчаковым с отличием проделал Итальянский и Швейцарский походы Суворова. В чине генерал-лейтенанта участвовал в 1806–1807 гг. в антинаполеоновских войнах. В Отечественную войну 1812 г. состоял во 2-й армии. Отличился при Шевардине и в Бородинском сражении, награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. Участник заграничного похода. За взятие Парижа удостоен ордена Святого Георгия 2-й степени. С 1817 г. член Государственного совета. С 1819 г. генерал от инфантерии. Сестра Горчаковых Аграфена Ивановна вышла замуж за Д. И. Хвостова. Таким образом поэт Хвостов стал родственником Суворова и одним из самых доверенных к нему лиц.
Гудович Иван Васильевич (1741–1820) — граф, генерал-фельдмаршал. Из польских дворян, переселившихся в XVIII в. на Украину и служивших в казачьих полках. Поступил на службу в девятнадцать лет инженер-прапорщиком. Отличился при штурме Хотина в 1769 г. За взятие турецкой батареи под Ларгой награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. Участвовал в Катульском сражении, взятии Браилова, Бухареста, штурме Журжи. С 1770 г. — генерал-майор. После завершения первой русско-турецкой войны назначен рязанским и тамбовским генерал-губернатором. С 1787 г. вновь в действующей армии. В его послужном списке — взятие укрепленного замка Хаджибей (Одессы), капитуляция Килии. С 1790 г. — начальник Кавказской линии и командующий Кубанским корпусом. Всероссийская слава его связана со штурмом крепости Анапы в 1791 г., за который он был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. Последующие годы укрепил Кавказскую линию системой крепостей, ставшую плацдармом на южных рубежах России. Фельдмаршальского жезла был удостоен в 1807 г. за битву при Арпачае. С 1809 по 1812 гг. — главнокомандующий Москвы. Имя сына фельдмаршала Андрея Ивановича Гудовича стоит в ряду героев Бородинского сражения.
Дама Роже де (1765–1823) — граф, из родовитой французской семьи. В 1788 г. поступил волонтером в армию Потемкина. Неудачно действовавший командир лиманской эскадры Мордвинов и командир гребной флотилии Алексиано были отстранены, а на их место приглашены принц Нассау и Поль Джонс, вместе с которыми появились на флоте и другие волонтеры, рангом пониже. Граф Роже был из их числа, оказавшись, благодаря своим родственным связям, в ближайшем окружении принца Ангальта-Бернбурга из немецкой родни Екатерины II. Сам принц поступил на русскую службу в 1772 г., уже будучи генерал-поручиком, принимал участие в Кинбурнском сражении, в осаде и штурме Очакова, а в 1790 г., командуя русскими войсками в Финляндии, был смертельно ранен в бою. Дама оставил воспоминания, в которых описывает свою первую встречу с Суворовым: «Я не без волнения размышлял о минуте, когда мне придется представиться ему, как вдруг в мою палатку совершенно просто вошел человек в сорочке и спросил меня, кто я такой. Я ответил ему и прибавил, что ожидаю пробуждения генерала Суворова, чтобы отнести ему письмо, данное мне принцем Нассау. „Я очень рад, — ответил он, — познакомить Вас с ним. Это я. Не правда ли, я держусь без чинов?…“» Точно так же, «без чинов» попробовал держать себя с Суворовым и Дама, но прилюдно, в официальной обстановке, вызвав вполне справедливый гнев полководца. По просьбе Суворова «граф Роже», как называет он его в переписке, был прикомандирован к принцу Нассау. Выучив русские команды, помогал принцу отдавать приказания в ходе сражения. Командовал двумя небольшими судами из эскадры Нассау, крейсировавшими у мыса Кинбурнской косы. 17 июля 1788 г. доставил спущенный кормовой адмиральский флаг с севшего на мель флагмана Хасан-паши. За сражение на лимане награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Но в письме Суворова к Рибасу от 10–12 августа 1788 г. воспроизводится характерная сцена в отношении русского полководца к иностранным наемникам: «Проклятые волонтеры, самый проклятый — Дама, словно мне равный. Хоть бы и Князь, титул предков ничто, коли не доблестью заработан. Обо мне говорили, меня узнали, мы в глаза один другому смотрели, я остерегался (коли не в нашей службе, с радостью уступлю место Нассау-иностранцу), а иначе — ни за что, хоть бы даже и в одном был со мной чине. Если нужно, скажите об этом графу Браницкому; пусть бы даже был он Герцогом и Пэром Франции, ни ему не уступлю, ни Ангальту, (ни другим, ежели будет со мною в одной службе). Сопливец Дама, друг его, возомнил, что мне равен, подходит и кричит мне: „Сударь!“ Хотя бы Светлейший воздал по заслугам молодому человеку, я был не хуже их флагмана, — не человек, а шляпа одна, и сказать Вам не могу, берется в полный голос распоряжаться, русские слышат язык французский словно от играющего роль актера, а меж тем я, командующий, ни на мгновение ни единого слова, кроме его приказов, услышать не могу. Я в бешенство пришел». Заметим, что все это Суворов пишет Рибасу, который был таким же наемником-итальянцем и, как признается позже полководец, «не раз предавал». Засилие «проклятых волонтеров» в морском сражении на лимане и взятии Очакова объяснятся слабостью черноморского флота, который Потемкин решил укрепить иностранными флотоводцами, прославленными морскими баталиями и взятием морских крепостей.
Денисов Василий Тимофеевич (1777–1822) — генерал-майор, потомственный казак Войска Донского. В 1792–1794 гг. командовал казачьим полком, отличившимся в сражениях с поляками. При штурме Праги (предместья Варшавы) первым из «охотников» вскочил на вал крепостного укрепления и отбил у неприятеля пушку. Был награжден Суворовым орденом Святого Георгия 4-й степени. Участвовал в антинаполеоновских войнах 1805–1807 гг. В Отечественную войну 1812 г. командовал казачьей бригадой, дошел до Парижа.
Державин Гавриил Романович (1743–1818) — сенатор, министр юстиции, поэт, прозаик. В 1762 г. определен солдатом в Преображенский полк. В 1773 г. в составе карательной экспедиции А. И. Бибикова принял участие в усмирении Пугачевского бунта. Стал знаменит как поэт после публикации в 1782 г. оды «Фелица». Более четверти века знал Суворова, переписывался с ним. Широкую известность получили его оды, посвященные победам Суворова и славе русского оружия. На смерть Суворова написал знаменитое стихотворение «Снигирь». При Павле I был государственным казначеем и министром юстиции. По словам В. Г. Белинского, «Державин — это полное выражение, живая летопись, торжественный гимн, пламенный дифирамб века Екатерины. Поэзия Державина — это сама Россия Екатеринина века». Его автобиографические «Записки» — уникальное свидетельство эпохи.
Дерфельден Вильгельм Христофорович (1735–1819) — генерал от кавалерии. Из старинного рода эстляндских дворян. Участник первой русско-турецкой войны. В период второй русско-турецкой войны ему было суждено начать победоносную для русской армии кампанию 1789 г. Награжден орденом Святого Георгия 2-й степени «в воздание усердию и отличному мужеству, произведенных им с войсками, под командою стоящими, в поражении неприятеля в Молдавии при Максименах и потом при Галаце за одержание знатной победы». Вошел в историю как сподвижник Суворова под Фокшанами и в Рымникском сражении. Когда Суворова поздравляли с этими победами, он воскликнул: «Честь не мне, а Вильгельму Христофоровичу, я только ученик его, ибо он поражением турок при Максименах и Галаце показал, как предупреждать неприятеля». В 1794 г. отличился в Польской кампании, где вновь сражался вместе с Суворовым. Участник легендарных суворовских походов в Италию и Швейцарию. На знаменитом военном совете в Муттенской долине первым высказался за прорыв и обратился к полководцу со словами: «Веди нас, отец, я ручаюсь за неизменную храбрость и беспрекословное самоотвержение войск, готовых безропотно идти, куда поведешь нас ты, великий полководец. Мы — русские, и с Божьей помощью все одолеем!»
Джонс Поль (1747–1792) — адмирал, национальный герой США, предводитель флота Конгресса во время войны за независимость 1775–1783 гг. Шотландец, торговец рыбой. Добровольно предложил свои услуги Конгрессу и со своей маленькой флотилией успешно сражался против английского флота. Был объявлен «врагом старой родины». После войны жил в Париже. В 1787 г. был приглашен на русскую службу. Парусная эскадра, которой командовал Джонс, и гребная флотилия Нассау были самостоятельными боевыми объединениями и подчинялись непосредственно Потемкину. Но Алексиано, как флотоводца более опытного, оскорбило назначение Джонса командиром гребной флотилии. В знак протеста он решил оставить русский флот. Вместе с ним из солидарности флот собрались покинуть все греческие моряки. Все это могло привести к тяжелым последствиям. Суворов прилагает все усилия, чтобы погасить конфликт, не дать, как пишет он Алексиано, «своим страстям над собою область». В результате Алексиано посылает Потемкину письмо: «С того самого времени, как я имел счастие принять Россию за свое отечество, никогда я ни от чего не отказывался и прихотей не оказывал. Критические обстоятельства, в которых мы находимся, и любовь общего блага меня решили. Я остаюсь, но чувствую обиду». В то же время состоялась встреча Суворова с Джонсом. «Александр Васильевич, — сообщал Рибас, — принял вчера Поль Джонса с распростертыми руками. Доверие, дружба установлены как с одной, так и с другой стороны». При отсутствии единоначалия Суворов фактически взял руководство совместными действиями двух флотилий и сухопутных сил в свои руки, но, чтобы не задеть самолюбия адмиралов, в письме к Нассау замечает: «Не мне, человеку сухопутному, Вам указывать», а в письме к Джонсу: «Я солдат, а моряком сроду не был». План прикрытия Кинбурна кораблями был предложен Джонсом, о чем Суворов сообщал в письме к Нассау от 25 мая 1788 г. В письме Суворова к Потемкину от 20 июня 1788 г., отдавая должное Джонсу среди «первых орудий» побед, он, видимо, не случайно называет его Дон-Жуаном. В дальнейшем судьба Джонса в России сложилась не совсем удачно. Он прожил три года в Петербурге, подвергался судебному преследованию и, разочарованный, покинул Россию. В мемуарах, написанных в 1791–1792 гг., т. е. до легендарных суворовских походов в Италию и Швейцарию, он называет Суворова «величайшим воином», «не только первым полководцем России, но и всей Европы» и красочно описывает сцену прощания, во время которой Суворов подарил ему бобровую шубу и подбитый горностаем доломан со словами: «Возьмите, Джонс, они слишком хороши для меня; мои детушки не узнали бы своего батюшку Суворова, если бы я так нарядился, но вам они подойдут: вы ведь французский кавалер. Для нашего брата Суворова годится серая солдатская шинель и забрызганные сапоги. Прощайте».
Долгоруков-Крымский Василий Михайлович (1722–1782) — князь, генерал-аншеф. Начал службу в тринадцать лет солдатом. В 1736 г. четырнадцатилетним участвовал в русско-турецкой войне, в штурмах Перекопа и Очакова, получив боевое крещение там, где через тридцать пять лет, будучи главнокомандующим, вновь овладеет Перекопом и одержит одну из самых блистательных побед. В Семилетнюю войну генерал-майор. В 1771 г. командующий армией, направленной в Крым. В результате двух побед, принудил крымского хана Селим-Гирея бежать в Константинополь и возвел на престол ставленника России Саиб-Гирея, отделив Крым от Турции. Окончательное присоединение Крыма к России произойдет в 1783 г. благодаря Потемкину и Суворову. Екатерина II наградила его высшим воинским орденом Святого Георгия 1-й степени и титулом «Крымский», но он подал в отставку, не дождавшись производства в генерал-фельдмаршалы. С 1780 г. — главнокомандующий Москвы. Заслужил любовь москвичей своей добротой, доступностью и бескорыстием «Я человек военный, в чернилах не окупат», — говорил он, подчеркивая свое неприятие чиновничьего крючкотворства, взяточничества. В начале первой русско-турецкой войны 1768–1774 гг. бригадир Суворов был направлен в Польшу на борьбу с конфедератами, оказавшись вне главного театра военных действий, где гремели своими победами Румянцев и Долгоруков. Лишь в апреле 1773 г. после настойчивых просьб, Суворова перевели в Дунайскую армию Румянцева, и он отличился в боях с турками, но в 1774 г. был вновь отозван для «утушения бунта» Пугачева.
Долгоруков Сергей Николаевич (1769–1829) — князь. Сын Н. С. Долгорукова, с которым Суворов сблизился во время пребывания в 1780–1784 гг. в Астрахани, и племянник бригадира, однополчанина Суворова во второй русско-турецкой войне П. Н. Долгорукова. В мае 1792 г. двадцатитрехлетний Сергей Долгоруков прибыл к Суворову в Финляндию для навыка в инженерном деле. Вскоре Суворов писал Хвостову: «Торопитесь замужить Наташу, и истинно утверждаюсь с Князем, Сергеем Николаевичем Долгоруковым». Молодой поручик «показался» Суворову в качестве достойного жениха «Суворочке». Но Хвостов сообщил ему, что мать Сергея Долгорукова — родственница Салтыковых. Сватовство не состоялось, так как за год до этого в придворных кругах рассматривалась кандидатура сына Н. И. Салтыкова. Помолвка была отложена на два года, что не могло не задеть самолюбия Суворова. В 1793 г. в качестве жениха рассматривалась еще одна кандидатура — молодой фон Эльмпт, сын генерала И. К. Эльмпта. Но в результате его любимая «Суворочка» в 1795 г. была выдана замуж за старшего из братьев Зубовых Николая, став женой цареубийцы. С. Н. Долгоруков прожил вполне достойную жизнь. При Павле I в чине генерал-майора был комендантом Петропавловской крепости, членом Военной коллегии. Выполнял дипломатические поручения. При Александре I был послом в Голландии и главой русской миссии в Неаполе. В октябре 1812 г. прибыл в действующую армию и командовал корпусом. Награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. Автор уникальной книги «Хроника Российской Императорской армии» (Спб., 1799).
Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) — сенатор, член Государственного совета, министр юстиции, поэт, прозаик. В 1774 г. поступил в Семеновский полк и учился в полковой школе. В 1787 г. произведен в прапорщики, выйдя в 1796 г. в отставку полковником. Но известность его связана не с военным, а с поэтическим поприщем. В 1795 г. вышел его первый поэтический сборник «И мои безделки», названный по аналогии с «Моими безделками» Н. М. Карамзина, в 1798 г. — «Басни и сказки», ставшие классическими образцами басенного жанра. В оде «Глас патриота на взятие Варшавы» и в других произведениях воспел победы Суворова.
Древиц Иван Григорьевич (1733–1783) — перешел на русскую службу из прусской во время Семилетней войны, начав сражаться со своими единоверцами и боевыми товарищами. По свидетельству современников, отличался жестокостью и жаждой к наживе. Мародерство, чинимое Древицем в Польше, возвращали, по словам Суворова, к стыду России, «варварские времена». Суворов называл солдат Древица «трусливой сволочью», замечая: «Мсье Древиц хвастает, что служил у пруссаков, а я хвастаю, что всегда колотил их». Он всячески пытается выпроситься в Главную армию, которая в это время вела войну с турками, «не в силах терпеть над собой никаких Древицев» и подчеркивая: «зато в Главной Армии много мне равных». Равными себе он по праву считал Румянцева и Потемкина, победы которых на главном театре военных действий вершили судьбу России.
Екатерина II Алексеевна (1729–1796) — принцесса Анхальт-Цербстская, с 1745 — Великая княгиня, с 1762 — российская императрица. Урожденная Софья Фредерика Августа из княжеского рода северной Германии. В феврале 1744 г. пятнадцатилетнюю принцессу привозят в Россию в качестве невесты великого князя и наследника Российского престола Петра III. Принимает православие под именем Екатерины Алексеевны и в августе 1745 г. становится Великой княгиней. Петр Федорович (герцог Карл Петр Ульрих) по немецкой линии приходился ей троюродным братом. Он сам был привезен в Россию из Германии за три года до их бракосочетания. Это был один из первых и важнейших шагов императрицы Елизаветы Петровны, провозгласившей себя продолжателем дела своего отца — Петра Великого. Для этого ей необходимо было, прежде всего, восстановить прерванную после смерти Петра II династию Романовых по мужской линии. Екатерина I, назначив персонального наследника — внука Петра I двенадцатилетнего Петра Алексеевича, создала тем самым прецедент для всех последующих дворцовых переворотов XVIII в. Закон о престолонаследии, принятый в 1731 г. императрицей Анной Иоанновной, не смог разрешить сложнейшую династическую проблему. После смерти Анны преемником престола оказался девятимесячный младенец Иоанн Антонович. Елизавета Петровна своим «ночным переворотом» 1741 г. положила конец катастрофическому для государства институту регентства — восстановила ветвь Петра, но по женской линии.
Официально она не была замужем и не имела детей, поэтому вопрос о престолонаследии вставал не менее остро, чем после смерти малолетнего Петра II. Признание престолонаследником внука Петра от его младшей дочери было едва ли не оптимальным решением этих проблем. Для окончательного утверждения престолонаследия по мужской линии необходимо было найти Петру III достойную династическую пару. Так в этом сложнейшем династическом пасьянсе выбор пал на будущую Екатерину Великую. Изначально ее историческая миссия заключалась лишь в том, чтобы утвердить наследственность Российского престола. Что она и свершила, произведя на свет в 1754 г. своего единственного сына цесаревича Павла Петровича. Зато у Павла было четверо сыновей. Этот исторический вектор сохранял свою силу еще полтора столетия. Но уже Екатерина внесла в него первые коррективы, узурпировав власть у своего супруга Петра III, взошедшего на престол в 1761 г. после смерти императрицы Елизаветы Петровны. Впоследствии она объясняла причины дворцового переворота и свержения Петра III: «Я должна была либо погибнуть с ним, или от него, либо спасти самое себя, моих детей, и, может быть, все государство от тех гибельных опасностей, в которые несомненно ввергли бы и меня нравственные и физические качества этого государя». В отличие от Петра III — внука Петра Великого, Екатерина не имела никаких прав на российский престол. При отречении Петра III она могла претендовать лишь на регентство при восьмилетнем наследнике престола Павле. Но Екатерина возложила царскую корону на себя.
Став четвертой и последней императрицей она полностью унаследовала основные отрицательные черты новоявленного института русских императриц — Екатерины I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны (не была исключением в этом ряду и «правительница» Анна Леопольдовна) — почти узаконенное фаворитство. Впрочем, Россия в этом отношении лишь продолжала прорубать «окно в Европу», усваивая европейские нравы XVIII в. через династические браки и общую «европеизацию». Не менее характерно для Екатерины II признание: «Меня обворовывают так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать». По степени воровства ее царствование сравнимо лишь с нынешними временами. Разница лишь в том, что по другим показателям оно тоже было беспрецедентным.
Екатерине II суждено было править Российской империей почти 35 лет, выиграв две войны с Османской империей, со Швецией, присоединив Крым, основав и построив 144 города, учредив 29 новых губерний. Она по праву стала единственной императрицей, ставшей в истории России после Петра Великого Екатериной Великой.
Елизавета Петровна (1709–1761) — средняя дочь Петра I, цесаревна, с 1741 г. — российская императрица. Детство и юность Елизаветы прошли в Москве и Петербурге, где она воспитывалась вместе с младшей сестрой Анной, родившейся в 1708 г. Елизавета и Анна были внебрачными детьми Петра I, лишь в 1712 г. после венчания Петра I на Екатерине стали «привенчанными» детьми. Б. X. Миних писал о двенадцатилетней царевне Елизавете: «Она была хорошо сложена и очень красива, но весьма дородна, полна здоровья и живости, и ходила так проворно, что все, особенно дамы, с трудом за ней поспевали, уверенно чувствуя себя на прогулках верхом и на борту корабля. У нее был живой, проницательный, веселый и очень вкрадчивый ум, обладающий большими способностями. Кроме русского, она превосходно выучила французский, немецкий, финский и шведский языки, писала красивым почерком». Уже к этому времени цесаревнам стали подыскивать подходящие «равнолетные» партии среди европейских принцев. Незадолго до смерти Петра младшую Анну выдали за голштинского герцога Карла Фридриха. В списке из пятнадцати невест для французского короля Людовика XV под № 2 стояла Елизавета. Но по желанию Екатерины I ее выдали за младшего брата мужа Анны — голштинского герцога Карла Августа. В 1727 г. жених прибыл в Петербург, но неожиданно заболел и умер. Последующие годы ее жизни, вплоть до «ночного переворота» 25 ноября 1741 г., — это череда куртуазных историй.
Одна из них связана с именем императора Петра II. Испанский посланник сообщал в Мадрид о только что восшедшем на престол тринадцатилетнем императоре: «Больше всех царь доверяет принцессе Елизавете, своей тетке, которая отличается необыкновенной красотой, я думаю, что его расположение к ней имеет весь характер любви». Последней фразой посланник давал понять, что в этих отношениях нет политической подоплеки. Это вопрос волновал не только иностранных дипломатов, но и «верховников», управлявших страной при малолетнем императоре. Им было важно предугадать дальнейшее развитие событий, в случае если Елизавета — дочь Петра I решит править страной вместе или вместо Петра II. Этот вопрос приобрел еще большую остроту в 1730 г. после неожиданной смерти Петра II, на котором пресеклась мужская линия дома Романовых от Петра Великого. «Верховники» вынесли решение возвести на царство Анну Иоанновну — дочь царя Иоанна V Алексеевича, старшего брата Петра. Но не меньшие, если не большие права на престол имела дочь Петра Елизавета. Кроме того, в феврале 1728 г. в столице Голштинии у старшей дочери Петра Анны родился сын. Анна вскоре после родов умерла, но ее сын, племянник Елизаветы, остался единственным престолонаследником Петра I по мужской линии. Датский посланник предупреждал «верховников», что Елизавета «непременно найдет средства завладеть российским престолом или лично для себя или же для своего племянника». Что и произойдет, но не в 1730, а в 1741 г. После смерти Петра II у нее, видимо, еще не оказалось «средств» для возведения на престол малолетнего Петра III. Глава «верховников» князь Дмитрий Голицын предложил в русские императрицы «чисто русскую» царскую дочь, походя упомянув «отродье шведской портомои». Лишь сподвижник Петра I, старый моряк Петр Сивере, осмелился произнести: «Корона Его императорского высочества цесаревне Елизавете принадлежит!»
Судя по всему сама Елизавета до 1740 г. не помышляла о власти, лишь после смерти Анны Иоанновны, когда, согласно ее манифесту о престолонаследии, императором был провозглашен тринадцатилетний немец Иоанн VI Антонович, а правительницей оказалась его мать немка Анна Леопольдовна, сами события сложились таким образом, что только дочь Петра Великого могла спасти династию Романовых и освободить Россию от ненавистных «мучителей». Ночному перевороту 25 ноября 1741 г. способствовало и то обстоятельство, что над Елизаветой нависла угроза заточения в монастырь. Это был один из самых бескровных переворотов, и царствование Елизаветы тоже было одним из самых бескровных, она никого не казнила. Правда, судьба Иоанна Антоновича сложилась трагически. В 1756 г. из холмогорской ссылки его перевезли в одиночную камеру в Шлиссельбургской крепости, где при Екатерине II он был убит в 1784 г. при попытке офицера Мировича освободить «царя Ивана». Двадцатилетнее царствование Елизаветы Петровны — это не только бесконечные увеселения и балы, увековеченные в стихах А. К. Толстого: «Веселая царица / Была Елизавет: / Поет и веселится, / Порядка только нет». При ней был открыт Московский университет и основана Академия художеств, в ее царствование Россия одержала громкие победы в Семилетней войне, заняла Кенигсберг, присоединила Восточную Пруссию. Елизавета Петровна с первых дней царствования провозгласила себя продолжателем «дела Петра», и Россия при ней шла по пути, предначертанном Петром Великим, хотя не дочери Петра I и Екатерины I, а принцессе Голштейн-Готторпской суждено было стать в истории России Екатериной II Великой.
Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) — генерал от инфантерии, член Государственного совета, «проконсул» Кавказа. Свое боевое крещение будущий герой Бородинского сражения и покоритель Кавказа получил в бою при взятии варшавского предместья Праги в 1794 г., приняв из рук самого Суворова свою первую боевую награду — орден Святого Георгия 4-й степени. Всю жизнь он оставался суворовцем как на поле брани, так и в суворовском отношении к солдатам, называя их товарищами, разделяя с ними все тяготы солдатской службы. Но и взаимная любовь к нему тоже была суворовской. Генерал Ермолов и генерал Кульнев в этом отношении стали символами русской армии, ее суворовских традиций.
Зубов Платон Александрович (1767–1822) — светлейший князь, генерал-фельдцейхмейстер. В 1789 г. двадцатидвухлетний секунд-ротмистр, командовавший караулом в Царском Селе, стал последним фаворитом шестидесятилетней императрицы Екатерины II, писавшей о нем: «Это очень милое дитя, имеющее искреннее желание сделать добро и свести себя хорошо. Он не глуп, сердце доброе и, я надеюсь, он не избалуется». В короткое время он стал шефом Кавалергардского корпуса, генерал-адъютантом, екатеринославским и таврическим генерал-губернатором, начальником Черноморского флота. Высокие посты получили и его братья — старший Николай, ставший в 1795 г. зятем Суворова, и младший Валериан. Высланный Павлом I за границу, Платон Зубов был возвращен в Петербург в конце 1800 г. и по предложению Палена назначен шефом Кадетского корпуса. Вместе с братьями один из основных участников заговора и убийства Павла I.
Зубов Николай Александрович (1763–1805) — граф, генерал-поручик. Старший из братьев Зубовых. С 1794 г. — генерал-майор. В 1795 г. стал зятем Суворова. За этим браком стояла сама императрица, рассчитывавшая усилить партию Зубовых родством с великим полководцем. В 1796 г. Николай Зубов, ничем не проявивший себя на военном поприще, был произведен в генерал-поручики, получив придворный чин шталмейстера. Его придворная карьера могла закончиться так же быстро, как и началась. Но он первым привез в Гатчину известие о смертельной болезни императрицы, за что получил от Павла I орден Андрея Первозванного. Некоторое время император подчеркивал свое внимание к Николаю Зубову, но в декабре отправил его за границу. В 1797 г. Николай Зубов был отставлен от придворной должности, а в 1798 г. уволен со службы. Был выслан в деревню и Валериан Зубов. Все три опальных брата возглавили заговор и совершили убийство императора. Смертельный удар массивной золотой табакеркой нанес ему Николай Зубов.
Зубов Валериан Александрович (1771–1806) — граф, генерал-аншеф. Младший из братьев Зубовых. Волонтером участвовал в штурме Измаила. Привез в Петербург известие о победе. Пользовался расположением императрицы и быстро делал карьеру, но в отличие от братьев, был боевым генералом, кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени, а позже и 2-й степени за боевые заслуги. В Польской кампании 1794 г. в бою под Бугом он потерял ногу, но в дальнейшем воевал на протезе. «Фавор» брата ставил его в особое положение среди полководцев, способствовал многим его авантюрным действиям и замыслам. Уже в двадцать один год он стал бригадиром (Суворов — в тридцать восемь), в двадцать пять — главнокомандующим на Кавказе (Суворов — в сорок восемь). При этом назначении Суворов, уже породнившийся с всесильными братьями Зубовыми, в письме к Д. И. Хвостову не смог не съязвить, назвав Валериана Зубова «новым завоевателем Азии», который превзойдет не только Персидский поход Петра Великого, но и Александра Македонского. В такой роли, видимо, и представлял себя генерал, как прозвали его горцы, «Золотая нога». Там более что сам Г. Р. Державин посвятил ему оду, в которой восклицал: «О юный вождь, сверша походы, / Прошел ты с воинством Кавказ». Но план, предложенный «юным вождем», — удар по Турции через Кавказ на Анталию с одновременным началом французского похода, не казался Суворову авантюрным, губительным. Суворов, будучи великим стратегом, лишь подчеркивал, что Персидский поход требует серьезного обеспечения. Все это в полной мере сказалось не в Персидском, а в Индийском походе. Крах Индийского похода был вызван не «бредовостью» замысла Павла I нанести удар по Англии в ее самой незащищенной части, а неподготовленностью материального обеспечения. Об определенной симпатии Суворова к Валериану Зубову можно судить по письму к нему из ссылки. Опальный полководец обращается к опальному Зубову, которого после увольнения из армии стали привлекать к денежным взысканиям, с сочувствием. Суворов и на себе в полной мере испытал, что значат подобные иски. Валериану Зубову сначала разрешили выезд за границу, затем выслали под надзор в секвестированные имения Платона Зубова во Владимирскую губернию. 12 марта 1801 года принял участие вместе с опальными братьями в дворцовом перевороте и убийстве императора.
Иловайский Алексей Иванович (1736–1797) — войсковой атаман Донского казачьего войска. Из простых казаков. Выдвинулся благодаря своей личной храбрости. Суворов знал Иловайского с 1774 г., когда его казачий полк преследовал разбитого Пугачева. К Иловайскому обращено несколько писем Суворова 1783 г. в период их совместных военных действий за присоединение Крымского ханства к России.
Карачай Андрей (1744–1808) — венгерский барон, впоследствии граф и генерал от кавалерии. В 1789 г. полковник отличился при Фокшанах и Рымнике. Суворов в своих донесениях особо отмечал его храбрость и умелые действия. Произведенный в генерал-майоры, ушел в отставку и жил во Львове, но в 1799 г., увлеченный подвигами Суворова, вернулся в действующую армию и командовал кавалерийским авангардом в Итальянском походе. Суворов был заочным крестным отцом его сына, названного в честь русского полководца Александром и зачисленного по просьбе Суворова на русскую службу. В 1793 г., пересылая трехлетнему поручику Александру патент, Суворов приложил к нему свои знаменитые наставления, каким должен быть русский солдат.
Каховский Михаил Васильевич (1734–1800) — генерал-аншеф. В 1757 г. закончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Участвовал в Семилетней войне. Один из лучших офицеров Генерального штаба, быстро продвигался в чинах, занимая квартирмейстерские должности. В 1768 г. состоял при Генеральном штабе генерал-майором. Командовал войсками в Крыму. После смерти Потемкина назначен главнокомандующим соединенной армии. В польской кампании 1792 г. Суворов считал, что из-за интриг Репнина, командующим армией был назначен не он, чьи победы решили проход второй русско-турецкой войны, а Каховский. В январе 1796 г. такое назначение состоялось: Суворов выехал из Финляндии в Тульчин командующим русской армией. В состав армии входили две дивизии: 1-я — Каховского и 2-я — Г. С. Волконского.
Каменский Михаил Федорович (1738–1809) — граф, генерал-фельдмаршал, член Государственного совета. Обучался в Сухопутном кадетском шляхетском корпусе. В 1757–1759 гг. служил волонтером во французской армии. В первую русско-турецкую войну — генерал-майор, предводитель авангарда при разгроме крымского хана и взятии Хотина. В 1774 г. участвовал в штурме Бендер и сдаче Акермана и других сражениях, за которые был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В 1774 г. вместе с Суворовым разгромил турецкую армию при Козлудже, блокировал крепость Шумлу, после чего турки были вынуждены пойти на мирные переговоры. Награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. С 1783 г. — рязанский и тамбовский генерал-губернатор. Во вторую русско-турецкую войну был возвращен в действующую армию, участвовал в осаде Бендер. Фельдмаршальский жезл получил при воцарении Павла I, но вскоре «за слабостью здоровья» вышел в отставку. С началом антинаполеоновских войн как опытный полководец был назначен Александром I предводителем армии, но надежды на него не оправдались. Младший сын генерал-фельдмаршала Николай участвовал в Итальянском походе Суворова, прославился в русско-шведской войне 1808 г., в 1810 г командовал Дунайской армией.
Константин Павлович (1779–1831) — великий князь, цесаревич, второй сын Павла I. Вместе со старшим братом Александром прошел военную выучку под руководством А. А. Аракчеева в Гатчинском гарнизоне отца, что определило его дальнейшую судьбу. Двадцатилетним волонтером получил боевое крещение в Итальянском и Швейцарском походах Суворова, после которого Павел I присвоил ему титул цесаревича. Принимал участие в антинаполеоновских войнах 1805–1807 гг., командовал корпусом в Отечественную войну 1812 г., участвовал в заграничном походе. За битву при Лейпциге награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. С 1822 г. — главнокомандующий Польской армией. Многие черты, внешность и характер он унаследовал от отца. Но современники отмечали не только «вспышки самого необузданного гнева», но и доброту души. Его второй брак на полячке Жаннете Грудзинской, получившей титул княгини Лович, не был династическим. Это вынудило цесаревича отречься от прав на престол, и 16 августа 1823 г. Александр I подписал манифест о назначении наследником великого князя Николая Павловича. Но этот манифест хранился в тайне, поэтому после смерти Александра до вскрытия завещания Государственный совет и сам Николай присягнули Константину, мятежные полки вышли на Сенатскую площадь присягать ему как законному наследнику престола, чем решили воспользоваться заговорщики в своих целях.
Константинов Андрей Дмитриевич (? -?) — резидент при дворе крымского хана Шагин-Гирея с момента возведения его на престол русскими войсками в июле 1777 г. Суворов, командуя Крымским корпусом, содействовал восшествию на престол Шагин-Гирея. Его переписка с Константиновым показывает, насколько глубоко он вникал в суть проблем внешней политики России. Константинов был одним из верных помощников Суворова в переселении в Россию крымских христиан — греков и армян. Крымский хан всячески препятствовал переселению, поскольку основные поступления в казну получал от греков и армян, наиболее зажиточных в его ханстве. Христиане видели в выходе из Крыма освобождение от ханского гнета. Тем более что специальными грамотами от 21 мая и 14 ноября 1779 г. греческие и армянские переселенцы получали льготы: освобождались от поставки рекрутов, от уплаты государственных повинностей и податей на десять лет, получали право свободно торговать, основывать фабрики, заниматься промыслами. По имеющимся сведениям, вместе с христианами спасались от ханского гнета и крымские татары, тайно принимавшие крещение. Основная заслуга в «выводе христиан» из Крымского ханства принадлежит Суворову и Константинову. Но отношения с Константиновым не ограничивались только официальной сферой. В одном из писем Суворов называет его кумом. Это дало возможность исследователям предполагать, что Константинов крестил «Суворочку» — Наташу Суворову.
Корсаков Николай Иванович (1749–1788) — один из лучших военных инженеров русской армии. Строил набережную реки Фонтанки в Петербурге, проводил дороги и выбирал места для заложения городов в Крыму. Был в числе главных строителей Херсона и Кинбурна. Суворов находился в дружеских отношениях с семьей Корсаковых, но о Корсакове писал: «Я его знаю с детства, это мелкий плут, но в своем деле искусный». Чуть позже, узнав о смерти Корсакова, он напишет: «Я оплакиваю Николая Ивановича».
Кречетников Михаил Никитич (1729–1793) — видный военный деятель и администратор. Участник Семилетней войны. В 1770 г. — бригадир, командовал боевым участком по соседству с Суворовым. В 1792 г. командовал армией, вступившей в Польшу, успешно вел военные действия. В декабре 1792 г. назначен генерал-губернатором и командующим войсками вновь присоединенных областей Белоруссии и Правобережной Украины. Суворов не раз упоминает о нем в переписке, а в письме к Д. И. Хвостову от 16 мая 1793 г. сделал приписку: «Оплачьте! Михаила Никитича не стало в день Св. Николая». За три дня до кончины был возведен в графское достоинство. Суворова предлагали на его место, но назначение получил князь Ю. В. Долгоруков, близкий к главе военного ведомства графу 3. Г. Чернышеву. Суворов с симпатией относился к Кречетникову, который своим положением был обязан не родственным и клановым связям, а верной службой. В одном из писем Суворов даже подчеркивает, что в этом он «ближе к Кречетникову», чем к «князьям», имея в виду триумвират князей Репнина и двух Салтыковых.
Курис Иван Онуфриевич (1762–1834) — один из самых близких сослуживцев Суворова. Участник Кинбурнского сражения. С 1788 г. дежурный при Суворове, до 1796 г. заведовал его канцелярией. Отличился при Фокшанском и Рымникском сражениях, при штурме Измаила. Награжден боевым орденом Святого Георгия 3-й степени. 26 сентября 1793 г. Суворов продиктовал ему наставление о том, каким должен быть офицер и генерал русской армии. Впоследствии, на гражданской службе — оренбургский губернатор.
Кутайсов Иван Павлович (1759–1834) — граф. Маленький турчонок, взятый в плен при штурме Бендер, вырос при дворе великого князя Павла Петровича, был его любимцем и «брадобреем». После вступления Павла I на престол пользовался положением фаворита в корыстных целях, став одним из самых богатых людей России. Младший сын Кутайсова Александр — генерал-артиллерист, прославился в сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 г. и погиб в Бородинском сражении на «батарее Раевского».
Кутейников Дмитрий Ефимович (1766–1844) — генерал от кавалерии. Из штаб-офицерских детей Донского казачьего войска. Участвовал в стычках с горцами на Кавказской линии в 1779–1782 и 1784–1787 гг. В 1788 г. Суворов сообщал о Кинбурнской баталии: «Простреляна моя рука. Я истекаю кровью. Есаул Кутейников мне перевязал рану своим галстуком с шеи; я омыл на месте руку в Черном море». После этого боя казаки сочли недостаточным его производство в казачьи полковники (чин армейского капитана) и просили Суворова еще раз обратиться к Потемкину. Просьба была уважена, и Кутейников был награжден золотой медалью на георгиевской ленте. В 1805–1807 гг. участвовал в антинаполеоновских войнах. Награжден орденом Святого Георгия 4-й и 3-й степеней. В 1810–1812 гг. командовал казачьей бригадой. Принимал участие в Бородинском сражении. В 1827–1836 гг. — наказной атаман Донского казачьего войска.
Кутузов-Смоленский Михаил Илларионович (1747–1813) — светлейший князь, фельдмаршал. Из древнейшего дворянского рода Голенищевых-Кутузовых. В начале 1763 г. шестнадцатилетним прапорщиком определен в Астраханский пехотный полк, которым командовал полковник Суворов. Боевое крещение получил в 1764 г. в боях с польскими конфедератами. Школой военного мастерства стали для него боевые действия при Рябой Могиле, Кагуле. 22 июля 1774 г. при взятии Шумы, близ Алушты, получил пулевое ранение в правый глаз, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Начиная с 1776 г. находился почти безотлучно при Суворове. Они вместе участвовали в осаде Очакова и почти одновременно получили ранения. Командовал штурмовыми колоннами при штурме Измаила. Суворов писал: «Кутузов показал новые опыты военного искусства и личной своей храбрости. Он шел у меня на левом крыле, но был моей правой рукой». Кутузов овладел новой каменной крепостью — самым мощным укреплением Измаила. Назначенный комендантом Измаила, писал жене: «Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Кого в лагере ни спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня обливалось кровью, и залился слезами. К тому же столько хлопот, что за ранеными посмотреть не могу; надобно в порядок привесть город, в которых однех турецких тел больше 15 тысяч. Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось». За штурм Измаила был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. За победу под Мачином — орденом Святого Георгия 2-й степени. После заключения в 1791 г. Ясского мира направлен Екатериной II в Константинополь в качестве чрезвычайного и полномочного посла победившей России, проявив себя блестяще на дипломатическом поприще. По возвращении был назначен в 1794 г. командующим войсками и крепостями в Финляндии и директором Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, где преподавал военную историю и тактику.
В 1797 г направлен Павлом I со специальной дипломатической миссией в Берлин, в результате которой Пруссия склонилась к союзу с Россией и Англией против Франции. В последующие годы сменил несколько военно-административных должностей. Вновь был призван в действующую армию в 1805 г., но не смог спасти ее от Аустерлицкого поражения. Впав в немилость, был назначен киевским, затем виленским генерал-губернатором. В 1811 г. вновь был возвращен в действующую армию — командующим главным корпусом Молдавской армии. Одержал победы над турками под Рущуком и Слободзеей, что привело к подписанию крайне важного для России Бухарестского мирного договора 1812 г. В начале Отечественной войны 1812 г. — начальник Петербургского ополчения. Лишь при «народном желании» Александр I назначил его накануне Бородинского сражения главнокомандующим. Прибыв к войскам 18 августа, через восемь дней дал генеральное сражение, за которое 30 августа 1812 г. получил фельдмаршальский жезл. В декабре 1812 г. «за непревзойденные заслуги в деле спасения Отечества от вражеского нашествия» удостоен титула светлейший князь Кутузов-Смоленский и ордена Святого Георгия 1-й степени, став первым в истории России полным Георгиевским кавалером. Умер во время победоносного заграничного похода «от перенесенных лишений и старых недугов», сокрушив за три месяца «великую армию» Наполеона. Перед походом в Европу войскам был зачитан его приказ: «Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с удивлением восклицать: непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирских! Вот благородная цель, достойная воинов, будем же стремиться к ней, храбрые русские солдаты!»
Кушников Сергей Сергеевич (1765–1839) — в 1799 г. подполковник, старший адъютант Суворова, о котором он говорил: «Кушников храбр, бодр, говорит языком и все знает». Отличился при Нови и был послан в Петербург с донесением о победе, произведен в полковники, награжден тремя орденами. Впоследствии сенатор, член Государственного совета. Н. М. Карамзин, приходившийся ему племянником, признавался: «Сергей Сергеевич есть для меня герой благородства душевного и выше всех отличий, которые иметь может». Со слов Кушникова записаны воспоминания о Суворове.
Ласси Петр Петрович (1678–1751) — граф, генерал-фельдмаршал. Из древнего дворянского ирландского рода, переселившегося в XI в. в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Служил сначала в Англии, затем — во Франции и Австрии. С началом Северной войны в числе других иностранных офицеров перешел на русскую службу. Участвовал в сражениях под Нарвой, в походах на Кокенгаузен и Ригу, в сражении под Гуммельсгофом, в штурме Дерпта. В 1706 г. именным указом Петра I произведен в подполковники, а за участие во взятии Быхова — в полковники. Был тяжело ранен в Полтавской битве. В чине генерал-майора участвовал в походе Меншикова в Померанию, Шереметьева — в Польшу. В 1719 г. возглавил летучий десант на побережье Швеции и был награжден Петром I чином генерал-лейтенанта. В последующие годы, при Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, участвовал почти во всех крупнейших походах и сражениях, командуя крупными воинскими соединениями и армиями. В 1736 г. Анна Иоанновна произвела его в генерал-фельдмаршалы. В этом звании он командовал русской армией в 1736 г. при осаде Азова, в 1737 г. при форсировании Севаша и взятии Крыма. В 1741 г. принес присягу дочери Петра Великого Елизавете Петровне и привел к победе русскую армию, заставив в августе 1742 г. капитулировать шведов. По его собственным словам, «находился везде на воинских потребах, именно: в 31 кампании, на генеральных 3 баталиях, в 15 акциях и 18 осадах и при взятии крепостей, где не мало и ранен», став примером истинного профессионального воина XVIII в., чуждого политическим страстям, полностью посвятившего себя исполнению воинского долга. Россия стала для него второй родиной. Суворов сталкивался с детьми Ласси — с австрийским фельдмаршалом Францем Ласси и русским генералом Борисом Ласси, с которым он штурмовал Измаил в 1790 г. и Прагу (предместье Варшавы) в 1794 г. Произведенный в 1799 г. в генералы от инфантерии Б. П. Ласси должен был возглавить войска, назначенные в заграничный поход, но император изменил свое решение.
Ломбард Джулиано (?— 1791) — мальтиец на русской службе. В 1787 г. в чине мичмана командовал галерой «Десна». В отличие от многих наемников, о которых Суворов в сердцах писал: «проклятые волонтеры», отличался храбростью. В Кинбурнском сражении на лимане, будучи «охотником» (т. е. добровольцем), в опасной атаке на плавучей батарее попал в плен. Перечисляя награжденных орденом Святого Георгия 4-й степени, Суворов отмечает: «6-й крест оставлен лейтенанту Ломбарду, что в плену, — ежели жив». Чуть позже, получив агентурные сведения о том, что пленный доставлен в Константинополь, Суворов сообщает Потемкину: «Бедненький Ломбард и ребро выломал и постукали». При попытке бегства он выломал ребро и был избит охраной. В 1790 г. Ломбард был возвращен из плена. Участвовал в штурме Измаила.
Меншиков Александр Данилович (1673–1729) — светлейший князь, генералиссимус. «Счастья баловень безродный, / Полудержавный властелин», — так назовет А. С. Пушкин в поэме «Полтава» одного из самых знаменитых сподвижников Петра I, начинавшего свой путь «Алексашкой» — царским денщиком. Уже в 1697 г. его имя значилось первым среди ста волонтеров, отправившихся вместе с десятником Петром Михайловым, пятнадцатилетним Петром I, за границу для обучения корабельному делу. С 1699 г., после смерти Лефорта, становится самым приближенным и доверенным лицом царя. В первых сражениях Петра I участвует в чине бомбардир-поручика Преображенского полка и все последующие победы — штурм Нотебурга, сражения при Калише, при Доброй и Лесной, Полтавская битва, осада Риги, Штеттина связаны с его именем. Пройдя военную школу в юности в «потешных полках» Петра, встал в один ряд с выдающимися полководцами XVIII в. Петр I вручил ему фельдмаршальский жезл в 1709 г. за Полтавское сражение. С 1716 г. — руководитель строительства Петербурга. С 1719 г. — президент Военной коллегии. 28 февраля 1725 г., благодаря гвардии, возвел на престол Екатерину I и был в течение двух лет ее царствования «полудержавным властелином» — фактическим правителем России. Отличался как несомненными достоинствами, так и неимоверной алчностью, в которой превзошел всех нуворишей. Но пал при Петре II в тот момент, когда достиг наибольшего могущества, знатности и богатства, став генералиссимусом. Согласно завещанию Екатерины I, 25 мая 1727 г. ее пасынок, взойдя на престол и став императором Петром II, был обвенчан на княжне Марии — старшей дочери Меншикова. Но двенадцатилетний царь, который еще три года должен был находиться под опекой своего тестя, через три месяца сверг его, лишил всех имений, чинов и сослал сначала в Ранненбург под Воронежем, а затем в тобольский Березов. Вместе с ним в Сибирь была отправлена и вся семья, включая семнадцатилетнюю нареченную царскую невесту, умершую в Березове в один год с отцом. Среди восьми «вин» Меншикова первым значилось: «дерзнул нас принудить на публичный зговор к сочетанию нашему на дочери своей княжне Марье».
Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) — граф, генерал от инфантерии. Род Милорадовичей переселился в Россию после завоевания турками сербской Герцеговины. Его отец — генерал Андрей Степанович Милорадович сражался под знаменами Суворова в первой русско-турецкой войне. Впоследствии в чине генерал-поручика он был правителем Черниговского наместничества, попав в опалу при Павле I. Сына своего однополчанина Суворов знал с детства. Милорадович-младший изучал гуманитарные науки в Кенигсбергском университете, артиллерию и фортификацию в Страсбурге и Меце. По возвращении в Россию в 1787 г. произведен в прапорщики л. — гв. Измайловского полка. Принимал участие в русско-шведской войне 1788–1790 гг. Всероссийскую славу получил за участие в суворовском Итальянском походе, в котором командовал авангардом. Когда в битве Борго-Франко русские дрогнули, Милорадович своей отчаянной храбростью вырвал у французов победу. Суворов писал: «Юной Милорадович схватил знамя, ринулся вперед, а за ним богатыри». В 1805 г. за отличия в боях при Амштеттене и Штейне награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В русско-турецкую войну 1805–1812 гг. стремительными действиями освободил Бухарест. В Бородинском сражении командовал центром. Участвовал в сражениях при Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном. Награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. В 1818 г назначен военным генерал-губернатором С.-Петербурга. Уцелевший в 52 сражениях, погиб 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. На уговоры не выезжать к восставшим, отвечал: «Что же это за генерал-губернатор, если он боится пролить свою кровь, когда кровопролитие неизбежно?» Когда врач извлек пулю, Милорадович с облегчением вздохнул: «О, слава Богу, эта пуля не солдатская. Теперь я совершенно счастлив». Современники называли его «героем времени, любимцем армии и народа».
Миних Бурхард Христофор (1683–1767) — граф, генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии. Предки были крестьяне, отец первым получил дворянство от датского короля. Родился близ Ольденбурга. Служил в Германии, Польше. В 1721 г. перешел на русскую службу, получив от Петра I чин генерал-майора. Возглавил строительство Ладожского канала. По договору обязывался служить России 5–6 лет, но при Екатерине I продлил контракт еще на 10 лет. Петр II возвел Миниха в графское достоинство и назначил генерал-губернатором С.Петербурга, Ингерманландии, Карелии и Финляндии. При Анне Иоанновне — президент Военной коллегии, генерал-фельдмаршал. В 1736 г. войска под предводительством Миниха штурмовали Перекоп, овладели Бахчисараем. В 1737–1739 гг. штурмовал Очаков, Бендеры, Хотин. Русско-турецкая война завершилась для России тяжелыми потерями. 8–9 ноября 1740 г. возглавил дворцовый переворот, утвердив правительницей мать тринадцатилетнего Иоанна Антоновича Анну Леопольдовну. Но 24 ноября 1741 г. произошел новый дворцовый переворот. Вступившая на престол дочь Петра Великого Елизавета Петровна приговорила Миниха к смертной казни, замененной ссылкой. Через двадцать лет, при Петре III, был возвращен из Сибири в С.-Петербург. При перевороте 28 июня 1762 г. присягнул Екатерине II и был назначен генерал-директором Балтийским и Нарвским портами, Кронштадским и Ладожским каналами.
Михельсон Иван Иванович (1740–1807) — генерал от кавалерии. В 1774 г. подполковник С.-Петербургского карабинерского полка. Участвовал в Семилетней войне и русско-турецких войнах, отличился при Ларге и Кагуле. Суворов знал Михельсона по войне с польскими конфедератами и подавлению Пугачевского бунта. Отряд Михельсона сыграл решающую роль в поражении Пугачева. Суворов, используя авангард Михельсона, преследовал остатки повстанцев. Никому неведомый подполковник был отмечен Екатериной II как едва ли не основной победитель Пугачева. Но эта «слава» не особенно сказалась на его карьере. Он участвовал в русско-шведской войне 1788–1790 гг., закончив свой ратный путь генералом от кавалерии. Суворов в последний раз упоминает о нем в письмах из Финляндии, жалуясь, что «осужден быть инженерным конструктором», в то время как Михельсон «не без дела». Даже участь Михельсона представлялась ему более завидной, чем его положение «рака на мели».
Мордвинов Семен Иванович (1701–1777) — адмирал. Дед убит в Крымском походе, отец — под Нарвой. В тринадцать лет представлен «к разбору» Петру Великому и зачислен во флот гардемарином. С 1717 г. усовершенствовался в морском деле во французском флоте, в 1722 г. вернулся в Россию. Участвовал в русско-шведской и Семилетней войнах, с 1757 г. — контр-адмирал. При Петре III ему «был поручен весь флот и Коллегия с Адмиралтейством». Во время дворцового переворота 28 июня 1762 г. привел к присяге Екатерине II «все команды» в Кронштадте. Стал ее деятельным пособником, как организатор флота, составитель морских регламентов и сигнальных книг, руководств по морским наукам.
Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) — граф, адмирал. В десять лет взят Екатериной II для совместного воспитания с наследником престола великим князем Павлом Петровичем, с которым был одногодок. Но в тринадцать лет, как и отец, поступил на флот гардемарином. В 1774 г. усовершенствовался в морской службе в Англии. В 1787 г. в чине контр-адмирала был назначен командиром лиманской эскадры. «Николай Семенович, — отзывался о нем Суворов в письме к Потемкину 22 сентября 1787 г., — всегда усердие имел. Хорошо, коли б таковы ж были севастопольцы и меньше хитрили». Это письмо свидетельствует, что в начале военных действий под Кинбурном Суворов отмечал «усердие» двадцатитрехлетнего командира эскадры и даже противопоставлял его «хитростям» командира Севастопольской эскадры Войновича, который, по словам Суворова, «маневрировал, маневрировал, как и должно было, но слишком поздно». Отношение изменилось после высадки турецкого десанта, когда в кровопролитном сражении русские сухопутные войска Суворова потеряли до тысячи человек и сам Суворов был дважды ранен (пулей в руку и картечью в бок). При этом эскадра Мордвинова бездействовала, выделив на помощь лишь одну галеру. В дальнейшем основу победы в Кинбурнском сражении и штурме Очакова составит взаимодействие сухопутных и морских сил, которое Мордвинов при первом турецком десанте осуществить не смог.
Недееспособность лиманской эскадры стала одной из причин приглашения на русский флот наиболее прославленных в то время иностранных флотоводцев — принца Нассау-Зигена и знаменитого Поля Джонса, предводителя флота Конгресса в войне за независимость в США. И тот и другой обладали опытом морских боев в аналогичных условиях: Нассау штурмовал (правда, неудачно) Гибралтар, а Поль Джонс со своей маленькой флотилией успешно сражался против могучего английского флота. Суворов с Нассау разработали план сражения, который позволил с помощью армии и флота штурмовать Очаков. Контр-адмирала Мордвинова при этом отстранили от руководства предстоящими военными действиями, поручив ему снабжение корабельной эскадры и гребной флотилии, но и на этом посту он проявил себя не лучшим образом своей мелочной регламентацией. Потемкин был вынужден сказать ему со всей прямотой: «Есть два способа производить дела: один, где все возможное обращается в пользу и продумываются разные способы к поправлению недостатков, другой, где метода наблюдается выше пользы». Мордвинов не мог отказаться от «метод», поскольку их разрабатывал и внедрял во флоте его отец — адмирал С. И. Мордвинов. Он подал в отставку, которая была принята Потемкиным. Но после смерти Потемкина Мордвинов вновь возглавил Черноморское адмиралтейское правление в Херсоне («Херсонскую академию», как называл ее Суворов), подавляя своей «методой» Ф. Ф. Ушакова. В дальнейшем занимал высокие посты в администрации Павла I, Александра I, Николая I. Имя адмирала Мордвинова не вошло в число флотоводцев, составивших морскую славу России, но в качестве государственного деятеля он получил широкую известность, как автор проектов о постепенном освобождении крестьян, об ответственности министров, «о представителях областных», а также рядом финансовых проектов, в том числе о подоходном налоге, о развитии «частной предприимчивости», утверждая: «Дайте свободу мысли, рукам, всем душевным и телесным качествам человека; представьте всякому быть, чем его Бог сотворил, и не отнимайте, что кому природа особенно даровала». Близкий ко двору, он так и не стал царедворцем, отличаясь, как отмечали современники, «неподкупной честностью, твердостью и прямотой убеждений».
Набоков Андрей Иванович (? -?) — в 1768 г. советник в канцелярии Государственной коллегии иностранных дел. Суворов, командуя в Новой Ладоге Суздальским пехотным полком, неоднократно обращался к нему с просьбами «вырви отсюда меня одного туда, где будет построжее и поотличнее война». Судя по переписке, их связывали дружеские отношения. В войне с польскими конфедератами 1764 г., под командованием Суворова сражался брат Набокова, капитан Алексей Иванович Набоков. Их младший брат Александр был офицером в армии Румянцева, в 1789 г. — подполковник и комендант Новгорода. Впоследствии генерал от инфантерии. Его сын, Иван Александрович Набоков, участник Бородинского сражения, тоже ставший впоследствии генералом от инфантерии.
Нассау-Зиген Карл Никола Оттон (1745–1808) — немецкий принц, близкий родственник Оранского дома, давшего таких выдающихся полководцев Нидерландов, как Вильгельм I Оранский, прозванный Молчаливым (1533–1584), его сын Мориц Оранский-Нассаульский (1567–1625), Иоганн Мориц Нассау-Зиген (1604–1679) — предок Карла Нассау. С пятнадцати лет на французской службе. Участвовал в кругосветной экспедиции Л. А. де Бугенвиля. Сражался против англичан во время войны за независимость. В 1781–1783 гг. участвовал в трехлетней осаде Гибралтара, где плавучая батарея принца Нассау была уничтожена огнем крепостной артиллерии. Тем не менее в 1788 г., как и Поль Джонс, был приглашен на русскую службу с чином контр-адмирала и возглавил гребную флотилию. Суворов решил воспользоваться опытом Нассау для разработки плана штурма Очакова с использованием морских сил. Согласно плану Суворова и Нассау, корабли эскадры, обладавшие более мощной артиллерией, чем гребные суда, должны были прикрывать своим огнем десант и пробить брешь в слабейшей стене Очаковской крепости, обращенной к Кинбурну. Сохранившиеся письма Суворова к принцу Нассау за 1788 г. свидетельствуют, как полководец, называя себя «человеком сухопутным», вникал во все детали морского боя. Накануне сражения с турецким флотом, Нассау принял на себя общее руководство морскими силами. «Россия никогда еще не выигрывала такого боя, Вы — ее слава!» — воскликнул Суворов в письме к Нассау от 20 июня 1788 г. После этой победы Нассау стал «героем лимана», был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В письме к Рибасу от 18 июня, в день сражения, Суворов скажет несколько иначе: «Нассау только фитиль поджег; а скажу и более — неблагодарный он!» Лавры победы достались флоту, что Суворов считал неблагодарностью. В 1790 г. Потемкин перевел принца на Балтику, где гребная флотилия под его командованием была разгромлена шведами. Принц Нассау, по словам современников, был «царедворцем всех дворов, воином всех лагерей, рыцарем всяческих приключений». Но в России ему не суждено было стать выдающимся флотоводцем. Здесь всходила звезда Ушакова.
Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783) — князь, генерал-аншеф. Второй из пяти братьев Орловых, которым, как и братьям Зубовым, суждена была, в равной степени, славная и зловещая роль в истории России. В пятнадцать лет поступил солдатом в Семеновский полк, во время службы в нем подпрапорщика Суворова. Поручиком участвовал в Семилетней войне, получив три ранения. До вхождения в «случай» был кутилой, картежником, кулачным бойцом. Сближение с Екатериной произошло еще до восшествия ее на престол. Братья-гвардейцы Орловы были главными исполнителями плана заговора. «Умы гвардейцев, — писала Екатерина II, — были приготовлены и в заговоре были от 30 до 40 офицеров и около 10 тысяч рядовых. В этом числе не нашлось ни одного изменника в продолжении трех недель, было четыре отдельные партии, их начальники были приглашены для осуществления плана, а настоящая тайна была в руках трех братьев». «Природа, — по словам Екатерины II, — наделила его всем как со стороны внешности, так и со стороны сердца и ума. Это — баловень природы, который, получив все без труда, сделался ленивцем». Наиболее ярко на государственном поприще он проявил себя лишь в 1771 г. при усмирении в Москве чумного бунта. Остальные двенадцать лет его «фавора» не оставили заметного следа в истории России. Д. Дидро оставил характеристику фаворита: «Граф Орлов, любовник ее, статный, веселый и развязный малый, любивший вино и охоту, циничный, развратник, совершенно чуждый государственным делам». В конце жизни он сошел с ума.
Орлов Алексей Григорьевич, граф Орлов-Чесменский (1737–1807) — генерал-аншеф. Екатерина II никогда не забыла услуг, оказанных братьями ее «фавора» Григория Орлова, в особенности Алексея, который и взял на себя весь грех за убийство Петра III, каялся, признавал себя «достойным казни». Как и Григорий, он обладал «богатырским сложением и геркулесовой силой», но был, по словам Екатерины, «другого сорта», добившись славы и необыкновенной популярности среди народа своими ратными победами. Знаменитое Чесменское сражение 24–26 июня 1770 г., положившее конец турецкому владычеству на Черном море, принесло ему титул графа Орлова-Чесменского и поставило в ряд выдающихся полководцев. Алексей Орлов за это сражение был награжден высшим военным орденом — Святого Георгия 2-й степени.
Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович (1752–1827) — князь, фельдмаршал, член Государственного совета. Из древнего германского рода, переселившегося в XV в. в Прибалтику. В четырнадцать лет поступил подпрапорщиком в Копорский мушкетерский полк. В 1771–1772 гг. воевал под знаменами Суворова. Во второй русско-турецкой войне отличился при взятии Фокшан, Бендер, штурме Измаила. Суворов отзывался о нем, как об одном из «наиболее содействовавших мужеством и благоразумием своим к одержанию над неприятелем свершенной победы». В 1792 г. награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1794 г. участвовал в Польской кампании, в суворовском Швейцарском походе. В антинаполеоновских войнах 1805–1807 гг. отличился в сражениях при Пултуске, Яновой, Прейсиш-Эйлау. В Отечественную войну 1812 г. командовал резервным корпусом, в составе войск Милорадовича занял Варшаву и Краков. За сражение при Кацбахе награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. По окончании войны был назначен комендантом Парижа. В 1826 г. получил фельдмаршальский жезл как «вождь опытный и поседевший на поприще военной славы».
Павел I (1754–1801) — сын императора Петра III и императрицы Екатерины II, с 1796 г. — император. С рождением Павла Петровича, а затем четверых его сыновей Александра (1777), Константина (1779), Николая (1796), Михаила (1798) была окончательно решена одна из самых сложных для России после смерти Петра I династических проблем: утвердилась мужская линия династии Романовых. Но сам Павел более сорока лет оставался наследником престола, которого императрица не допускала к браздам правления. За два года до смерти она даже официально объявила императорскому Совету о своем намерении устранить Павла от престола, назначив престолонаследником внука Александра. «Говорят, — отметил в своих записках секретарь Екатерины II А. В. Храповицкий, — что Совет склонился было к ея намерению, но что кто-то между избранных — то ли Безбородко, то ли Мусин-Пушкин — заметил, что, несмотря на справедливость намерения, оно может дать повод к народной ферментации (брожение умов, мятеж. — Ред.), ибо слишком давно все привыкли почитать в Павле законного наследника. Екатерина, видя отсутствие единогласия, отложила дело до другого времени».
Столь резкое неприятие было вызвано характером престолонаследника, самим образом жизни его «малого двора» в Гатчине, в котором все было упорядочено, подчинено армейской дисциплине. Великий князь не скрывал своего отрицательного отношения к институту фаворитства, коррупции, казнокрадства при дворе матери, создавая в течение тринадцати лет в Гатчине прообраз будущей России — ее армии и двора. Его старшие дети Александр и Константин прошли эту «гатчинскую школу» под руководством «без лести преданного» Аракчеева, но Екатерина II так и не смогла примириться со своим сыном. Четырехлетнее правление Павла I отмечено рядом кардинальных реформ, позволивших ему восстановить порядок и дисциплину в армии, в правительственных учреждениях, суде, остановить инфляцию. Он публично сжег на Дворцовой площади бумажных ассигнаций более чем на 5 миллионов рублей, положив конец «хроническому дефициту» бюджета. Крестьянская реформа Павла тоже была «неслыханным и необыкновенным делом», введенный им закон «о трехдневной барщине» и запрещении заставлять крестьян работать в церковные праздники был предвестником отмены крепостного права. Павел был уверен, что совершает «исцеление страны». Но это «исцеление» затрагивало интересы правящей элиты, что и послужило одной из основных причин кровавого ночного дворцового переворота 12 марта 1801 г. Пресловутая непредсказуемость действий Павла I сказалась и на судьбе Суворова, отставленного от службы 6 февраля 1797 г. по причине «отсутствия войны», но вновь призванного, когда союзники России по антинаполеоновской коалиции обратились с просьбой назначить главнокомандующим опального полководца. Павел I обратился к нему с посланием: «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время расчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армией и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите с приездом сюда и не отнимайте у славы вашей время, у меня удовольствия вас видеть. Пребываю вам доброжелательным Павел». За легендарные победы в Итальянском и Швейцарском походах, в которых союзники под предводительством Суворова одержали десять побед, император Павел I присвоил полководцу высший воинский чин генералиссимуса. «Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов Отечества, — писал к нему Павел I, — не доставало вам еще одного рода славы: преодолеть самую природу; но вы и над нею одержали ныне верх. Поразив еще раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистью против нас вооруженных. Ныне, награждая вас по мере признательности моей, и ставя на высший степень, чести и геройству представленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего Полководца сего и других веков». Но именно после этих легендарных побед Суворов был отозван в Россию. Павел I, резко изменив внешнюю политику, не дал великому полководцу «добить французов». Предлагавшийся Суворовым план взятия Парижа мог переломить ход истории и навсегда положить конец карьере Наполеона, который, бросив войска в Египте, тайком бежал во Францию. Известны пророческие слова Суворова по поводу грядущей войны: «Если еще раз начинать войну с Францией, то надобно вести ее хорошо. Если поведут ее худо, то это будет смертельный яд. Тысяча раз лучше ее не предпринимать по-прежнему. Всякий, вникнувший в дух революции был бы преступником, если бы о сем умолчал. Первая большая война с Францией будет и последнею». Павел I, пойдя на сближение с Францией, фактически подписал приговор самому себе. Есть все основания предполагать, что за спиной русских исполнителей заговора стояла Англия, чьи интересы в первую очередь затрагивало сближение Павла I с Наполеоном.
Панин Петр Иванович (1721–1789) — граф, генерал-аншеф, сенатор, член Государственного совета. В 1735 г. был определен в Измайловский полк капралом, в 1736 г. переведен в армию, участвовал во взятии Перекопа и Бахчисарая. В 1741–1743 гг. участвовал в Шведской кампании. В Семилетнюю войну — генерал-майор. С 1762 г. генерал-губернатор Восточной Пруссии; сменив отца Суворова, произведен в «полные генералы». После дворцового переворота назначен вместо Румянцева командующим армией, находившейся на театре военных действий. Во время первой русско-турецкой войны — командующий 2-й армией. За штурм Бендер награжден орденом Святого Георгия 1-й степени. После смерти А. И. Бибикова назначен главнокомандующим «с полною мочью и властью» для подавления Пугачевского бунта, прибегая к жесточайшим мерам, в то время как Суворов «усмирял человеколюбивою ласковостью». Старший брат Панина Никита Иванович был одним из влиятельнейших царедворцев, воспитателем наследника престола Павла Петровича. Екатерина II признавалась, имея в виду Н. И. Панина и Г. Г. Орлова: «Я долгие годы жила с этими двумя советниками, напевавшими мне с двух сторон каждый свое; смелость ума одного и умеренная осторожность другого придавали изящество и мягкость делам величайшей важности». Суворов, как он сам неоднократно подчеркивал, всегда был «как бы за кулисами» придворных баталий, но неоднократно оказывался втянутым в них благодаря близости к братьям Зубовым и братьям Паниным.
Петр III Федорович (1728–1762) — герцог Голштейн-Готторпский, внук Петра I, с 1761 г. — российский император. Сначала сына младшей дочери Петра I Анны, выданной замуж за голштинского герцога Карла-Фредериха, готовили к восшествию на шведский престол и принятию лютеранской веры. Но взошедшая на российский престол в результате «ночного переворота» 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна решила восстановить прерванное престолонаследие по мужской линии Петра Великого, пригласив в Россию четырнадцатилетнего племянника и провозгласив его наследником российского престола. Так герцог Карл Петр Ульрих стал великим князем Петром Федоровичем и принял православие. А для укрепления этой преемственности по линии Петра I ему была подобрана достойная династическая пара — принцесса Софья Фредерика Августа, ставшая после крещения великой княгиней Екатериной Алексеевной. Они приходились друг другу троюродными братом и сестрой. Согласно православным догматам, их брак был недопустим. Но так называемые «государственные интересы» взяли верх, что в дальнейшем, быть может, и предопределило трагическую судьбу как самого Петра III, так и его сына Павла I. В качестве престолонаследника Петр Федорович прожил в России двадцать лет, оставшись, как принято считать, чуждым ее интересам. В этом отношении ему обычно противопоставляется Екатерина, которая, не имея ни капли русской крови, оказалась более русской, чем внук Петра Великого. Петр III вступил на престол 25 декабря 1761 г. после смерти Елизаветы Петровны. Никаких вопросов о законности его прав на русский престол не возникало.
Петр III правил Россией всего 186 дней, оставшись в памяти потомства одним из самых непопулярных русских императоров, едва ли не «ненавистником всего русского». Современный историк отмечает по этому поводу: «Созданный несколькими поколениями мемуаристов, профессиональных историков и писателей отрицательный образ Петра III превратился в расхожий стереотип. По меткому замечанию одного из дореволюционных историков, Петру Федоровичу была присвоена „какая-то исключительная привилегия на бессмысленность и глупость“. Приговор был вынесен. Он не нуждался в доказательствах и не подлежал пересмотру» (Мыльников А. С. Петр III. ЖЗЛ. — М., 2002.). И все-таки «реабилитация» Петра III состоялась, как, впрочем, и других исторических деятелей, испытавших на себе действие «кривых зеркал истории». В этом отношении сын Петра — Павел Петрович в полной мере разделил судьбу отца, которого, как отмечал Н. М. Карамзин еще в 1797 г. «судили со слов его смертельных врагов». Среди действий Петра III, которые никак не укладывались в эти стереотипы — его манифесты о вольности дворянства и ликвидации тайной канцелярии. Не так все просто обстоит и с подписанием мирного договора с Пруссией, который послужил основной причиной обвинений в «предательстве», выдвинутых Екатериной. Характерны слова Бирона: «Если б Петр III вешал, рубил головы и колесовал, он остался бы императором». Этот «недостаток» стоил ему не только короны, но и жизни.
Обстоятельства цареубийства до сих пор не выяснены. В первой из сохранившихся записок императрице Алексей Орлов говорит о его болезни. Во второй — о смерти. «Готов идти на смерть, — восклицает он, — но не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь, Матушка, его нет на свете, но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя!» Существуют сведения, что будущий полководец А. Г. Орлов-Чесменский, приставленный к Петру III «главным надзирателем», взял на себя весь грех, каялся, признавал себя «достойным казни». Последней жертвой дворцовых переворотов XVIII в. стал сын Петра III и Екатерины II Павел I, который попытался восстановить имя Петра III и даже перезахоронил его рядом с матерью в Петропавловском соборе, как бы посмертно «примирив» их.
Платов Матвей Иванович (1753–1818) — граф, генерал от кавалерии, атаман Войска Донского. Сын войскового старшины, начал службу в тринадцать лет в казачьем войске, в двадцать лет командовал казачьим полком. Впервые прославился своей отчаянной храбростью в 1744 г. в бою с ханской конницей на реке Калнах. В 1782–1783 гг. вновь сражался на Кубани. В 1788 г. за участие под знаменами Суворова во взятии Очакова награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. За сражения под Бендерами и Каушанами назначен походным атаманом. При штурме Измаила командовал пешими казачьими колоннами, был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени и назначен атаманом Екатеринославских и Чугуевских казаков. В 1793 г., будучи генерал-майором, участвовал в Персидском походе. При Павле I был оклеветан и сослан в Кострому. При Александре I произведен в генерал-лейтенанты и назначен атаманом Войска Донского. В антинаполеоновских войнах 1805–1807 гг. платовские казаки били цвет французской кавалерии. Награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. В Отечественную войну 1812 г. «летучий корпус» Платова входил в состав 1-й Западной армии и до Бородинского сражения одержал несколько крупных побед. В Бородинском сражении казаки Платова совершили легендарный рейд в тыл французской армии. «Платов, — отмечал биограф, — будучи одаренным выдающимися военными дарованиями и неустрашимостью, не имел соперников в том деле, которое выпало на его долю: он умел воодушевлять казаков на изумительнейшие подвиги; он жил всегда единой жизнью с донцами и разделял с ними все тягости и лишения войны». Воспет в оде Г. Р. Державина, в героической поэме В. А. Жуковского «Певец по стане русских воинов», в казачьих песнях, в лубочных картинах, став одним из самых популярных в народе героев Отечественной войны 1812 г.
Потемкин Григорий Александрович, светлейший князь Таврический (1739–1791) — генерал-фельдмаршал. Сын не богатого смоленского помещика. В 1757 г. поступил в Московский университет, но был отчислен, предпочтя военную службу. Екатерина II обратила внимание на вахмистра-богатыря в ее Конной гвардии еще в 1762 г., но в тот период в фаворе у нее были братья Орловы, которым она была обязана восшествием на престол.
О блистательной карьере Потемкина сохранился исторический анекдот. Он встретился с Григорием Орловым на придворной лестнице. «Что нового при дворе?» — спросил Потемкин, поднимаясь вверх. «Ничего, только вы подымаетесь, а я иду вниз», — ответил Орлов. В 1774 г. Екатерина сообщит Гримму о своем новом фаворите: «Я отделалась от некоего превосходного, но весьма скучного гражданина, которого немедленно, и сама точно не знаю как, заменил величайший, забавнейший и приятнейший чудак, какого только можно встретить в нынешнем железном веке». Потемкин уже участвовал к тому времени во всех наиболее крупных сражениях первой русско-турецкой войны 1768–1774 г., пройдя за шесть лет путь от подпоручика до генерал-поручика, заслужив на поле брани высший военный орден Святого Георгия 2-й степени. Двухлетний «фавор» ввел его в первые ряды царедворцев. Существует предание, что Екатерина, как и Елизавета Петровна с Разумовским, вступила с Потемкиным в тайный брак в церкви Большого Вознесения в Москве (в той самой, в которой венчался Пушкин с Натальей Гончаровой), и где долгое время хранились их подвенечные венцы. В записках она называла его: «муж дорогой», «нежный муж», «дорогой супруг», «остаюсь вам верной женой», «мой дражайший супруг», «муж родной». Но и в дальнейшем, когда роль «ночного императора» перешла к другим, Потемкин продолжал занимать исключительное положение как государственный деятель. «Истинный и бескорыстный друг Екатерины, — писал известный мемуарист А. М. Тургенев, — человек необразованный, но великий гений, человек выше предрассудков, выше своего века, желавший истинно славы отечества своего, прокладывавший пути к просвещению и благоденствию народа русского». Назначенный в 1774 г. наместником Новороссийского края, он все последующие годы посвятил главному делу своей жизни — присоединению Крыма. «Крым, — писал он императрице, — положением своим разрывает границы. Положите же теперь, что Крым Ваш и что нет уже сей бородавки на носу. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, цесарцы без войны у турков Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет держав в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой добавит». Императрица направила Потемкину секретный рескрипт, в котором давала согласие на присоединение Крыма, чтобы он «не гнездом разбойников и мятежников на времена грядущие оказался, но прямо обращен был на пользу государства». Реорганизация армии, Черноморского флота, основание Севастополя, Херсона, Николаева, Екатеринославля, создание на Кубани мощной пограничной линии Черноморского, Терского, Моздокского казачьих войск — все это позволило России выиграть вторую русско-турецкую войну 1787–1791 гг. и закрепить Ясским миром незыблемость южных рубежей Империи. Таков был итог деятельности светлейшего князя Тавриды, одной из самых ярких личностей екатерининской эпохи. В 1788 г. награжден орденом Святого Георгия 1-й степени «в воздаяние, усердия к отечеству, искусства и отличного мужества, с которым предводительствуя армиею и одержав важные над неприятелем России и всего христианства поверхности, предуспел покорить оружию и крепость Очаков». Кампании 1789–1790 гг. ознаменовались победами Суворова при Фокшанах и Рымнике, взятием Измаила. Покровительство Потемкина спасло Суворова от многих бед. «Бес, но с благодеяниями», — скажет Суворов о своем сослуживце, которого он знал еще до его возвышения. Получив известие о смерти Потемкина, Екатерина II произнесла: «Теперь вся тяжесть правления лежит на мне одной».
Прозоровский Александр Александрович (1732–1809) — князь, генерал-фельдмаршал Потомок Рюрика. В 1746 г. закончил в чине капрала Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Боевое крещение получил в Семилетней войне, закончив ее полковником. В 1767 г. принял участие в войне против польских конфедератов. В первую русско-турецкую войну 1768–1774 гг. награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В 1777 г. за Крымскую кампанию награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. В 1790–1795 гг. генерал-губернатор Москвы. Жена Суворова Варвара Ивановна приходилась троюродной сестрой князя. 12 декабря 1805 г. как старший кавалер ордена Святого Георгия объявил решение кавалерственной Думы о награждении Александра I орденом Святого Георгия 1-й степени, от которого император отказался, «найдя приличным только иметь знак четвертой степени». (Награжденный всеми российскими орденами высших степеней и двадцатью двумя иностранными, Александр I остался кавалером боевого ордена Святого Георгия только низшей — 4-й степени). В 1807 г. получил фельдмаршальский жезл и был назначен главнокомандующим армии в Молдавии.
Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771) — граф, генерал-фельдмаршал. Сын простого украинского казака Григория Розума, певчий в сельской церкви, а затем в придворной капелле, где на него обратила внимание двадцатилетняя дочь Петра Великого. С 1731 г. певчий Розум становится Разумовским — фаворитом цесаревны, а с 1741 г. царицы Елизаветы Петровны, получив все подобающие придворные звания, титулы и даже фельдмаршальский жезл. Но никаких ратных подвигов за ним не значится. Согласно преданию, в ноябре 1742 г. Елизавета Петровна в подмосковном селе Перово вступила с ним в тайный брак.
Разумовский Кирилл Григорьевич (1728–1803) — граф, генерал-фельдмаршал, сенатор. Младший брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны Алексея Григорьевича Разумовского. Образование получил за границей, вернувшись на родину вполне «европейцем». В девятнадцать лет — Президент Академии наук, в двадцать два — гетман Украины. В 1764 г., при ликвидации гетманства, произведен в генерал-фельдмаршалы. Никогда не забывал, что в юности, как и брат, пас волов. На что от своего кичливого сына получил ответ: «Между нами громадная разница: вы сын простого казака, а я сын русского фельдмаршала». По словам Екатерины II, «он был хорош собой, оригинального ума, очень приятен в обращении и умом несравненно превосходил своего брата, который также был красавец».
Разумовский Андрей Кириллович (1752–1836) — светлейший князь, генерал-майор. Третий сын графа К. Г. Разумовского. Зачисленный в десять лет мичманом, проходил действительную службу в английском флоте, участвовал в 1770 г. в русской экспедиции в архипелаге, в 1775 г. произведен в генерал-майоры. Был товарищем детства наследника престола Павла Петровича, одним из ближайших друзей, но оказался в роли «фаворита» его первой жены Натальи Алексеевны. Для Павла Петровича это был один из самых первых тяжелейших ударов в жизни. Разумовский был выслан, но в 70-е годы назначался попеременно посланником в Неаполь, Данию, Швецию, а затем в Вену. В качестве посла в Вене оказался в центре европейских событий как организатор антинаполеоновской коалиции. В секретной инструкции Екатерина II предписывала ему: «Сегодня дело заключается в том, чтобы реорганизовать коалицию на других принципах, чем первую, поставив перед нею задачу принудить французов прекратить свои нашествия, отказаться от побед и вернуться к прежним границам». Спустя три года, уже при Павле I, Суворову суждено было блестяще осуществить эту задачу в качестве командующего союзными войсками. В этот период он часто обращался с письмами к Разумовскому, от которого впрямую зависели военные действия. В октябре 1799 г. Разумовский был отозван в Россию. Ф. В. Ростопчин, во многом определявший в это время внешнюю политику России, сообщал об этом в письме к Суворову: «Граф Разумовский по привычке жить в Вене и по великому мнению о бароне весьма часто забывал, какому Государю он служит».
Ребиндер Максим Владимирович (1730–1804) — генерал-лейтенант, шеф Азовского мушкетерского полка. Ветеран русско-турецких войн, в 1787–1791 гг. сражался на Северном Кавказе. В Итальянском и Швейцарском походах Суворова командовал русским корпусом. Был ровесником Суворова, который называл Ребиндера по имени — Максимом.
Рек Иван Григорьевич (1737–1795) — в первую русско-турецкую войну подполковник, сражался под знаменами Суворова в Дунайской армии. В 1787 г. — генерал-майор, руководил обороной Кинбурнской крепости, получил ранение одновременно с Суворовым. Награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. Впоследствии генерал-поручик.
Репнин Николай Васильевич (1734–1801) — генерал-фельдмаршал. Его дед — один из ближайших сподвижников Петра Великого, генерал-фельдмаршал Аникита Иванович Репнин, племянник братьев Паниных, что впоследствии определило его принадлежность к влиятельной при дворе «панинской партии». В одиннадцать лет записан в л. — гв. Преображенский полк. Получил «дельное немецкое воспитание». По окончании Семилетней войны назначен послом в Берлин, затем в Польшу. Во время первой русско-турецкой войны взял Измаил, Килию, во время второй разгромил турок на реке Сальче, взял крепости Килия, Тульча, Исакча, одержал оглушительную победу на верховным визирем под Мачином, прославившись как талантливейший полководец, награжденный за свои победы орденами Святого Георгия 2-й и 1-й степеней, минуя 3-ю и 4-ю. Губернаторствовал в разных городах. Павел I произвел Репнина в генерал-фельдмаршалы, он стал ближайшим советником императора в преобразовании русской армии по прусскому образцу. Отправленный в отставку, умер в Москве в начале царствования Александра I. Суворов не без основания считал Репнина своим основным соперником. В письме к Д. И. Хвостову от 1 июля 1792 г. Суворов дал ему исчерпывающую характеристику: «Никто как последний, как я по страсти первым солдатом, не хочет быть первым министром. И ни у кого так на талант всех: 1. Стравить. 2. Порицать. 3-е. Унизить и стоптать. Тверд и долготерпив, не оставит плана до кончины, низок и высок в свое время, но отвратительно повелителен и без наималейшей приятности». Суворовская «Записка о Н. В. Репнине» заканчивается словами: «Я ему зла не желаю, другом его не буду, разве в Сведенберговом раю». Неприятие Суворовым Репнина столь велико, что он не ручается за дружбу с ним даже в Сведенборском раю, где, по описанию шведского мистика, наступает всеобщая любовь и всепрощение. Многолетняя зависимость от Репнина тяготила Суворова. В письме к П. И. Турчанинову от 16 сентября 1782 г. он буквально умоляет: «Берегите меня от козней Репнина, я немощен, ему и никому зла не желаю». Впрочем, если судить по переписке, отношения их могут показаться райскими. В письмах к Репнину Суворов подчеркнуто учтив: «Милостивый Государь мой, Князь Николай Васильевич!..» «Имею честь пребыть с совершенным почтением моим и искреннею преданностью навсегда, Милостивый Государь мой Вашего Сиятельства покорнейший слуга Александр Суворов». В течение многих лет Суворову доставались лишь «вторые роли», первые, с помощью поддержки Паниных и Салтыковых, неизменно получал Репнин. Суворов волей-неволей оказался втянут в придворные интриги, в полной мере испытав «тиранство судьбы». После смерти Потемкина у него не было защиты. Назначение в 1792 г. после блистательных побед в Финляндию было для Суворова равносильно ссылке. «Я осужден быть инженерным конструктором», — восклицал он. Лавры победителя пожинал Репнин. Суворов имел все основания считать, что благодаря придворным связям Репнин берет верх над ним — солдатом: «Оставь меня в покое, о Фальгот! воспитанный при дворе и министре и от того приобретенными качествами препобеждающий грубого солдата!» — пишет он Турчанинову из Финляндии, называя Репнина за гугнивый голос «фальготом». В 1794 г. главнокомандующим всеми войсками в Польше и Литве был назначен Репнин. Суворов вновь оказался в его подчинении. В 1796 г. Репнин был одним из тех, кто способствовал высылке Суворова в Кобрин. Но в 1799 г. после неудачной дипломатической миссии в Берлине его самого постигла опала.
Рибас Хосе де (Дерибас Осип Михайлович) (1749–1800) — адмирал. Родился в Неаполе. В семнадцать лет начал службу на неаполитанском флоте. Оказал услуги графу А. Г. Орлову в поимке княжны Таракановой. В России прославился во время второй русско-турецкой войны, был награжден орденом Святого Георгия 3-й и 2-й степеней. В 1789 гг. при взятии турецкой крепости Хаджибей обратил внимание на ее видное местоположение и представил проект основания порта Одессы. Центральная улица Одессы в честь него названа Дерибасовской. В 1793 г. произведен в вице-адмиралы и назначен командиром Черноморского гребного флота. С 1799 г. адмирал, управляющий Лесным департаментом. Один из идеологов заговора против Павла I. Судя по сохранившейся обширной переписке Суворов был с Рибасом в гораздо более близких отношениях, чем с другими флотоводцами, включая Ф. Ф. Ушакова, хотя сам же признавался: «Рибас не раз меня предавал, я был на то и останусь всегда холоден. Он играл князем Потемкиным, сей им играл больше. Князь Платон играть не умеет, разве по свойству своему змею в пазуху спрячет». Но и Суворов в результате оказался в положении князя Платона Зубова — «змея» ужалила его прямо в сердце. Суворов так и напишет Д. И. Хвостову, узнав об «играх» Рибаса, — «сердце мое окровавлено». В 1796 г. вскрылось, что этот великий махинатор подкупал в Одессе чиновников, чтобы они показывали умерших живыми, и на эти «мертвые души» получал положенное им довольствие, предвосхитив как Остапа Бендера, так и гоголевского Чичикова. Вся ответственность за эти махинации Рибаса ложилась на Суворова, поскольку это касалось личного состава вверенных ему частей. Суворов сам же признавался в одном из писем — «обманет меня всякий», многих он великодушно прощал. Простил и итальянца Рибаса, вошедшего в историю России как основатель Одессы и один из сподвижников великого полководца.
Римский-Корсаков Александр Михайлович (1753–1840) — генерал-лейтенант. Из древнего дворянского рода. Участвовал во второй русско-турецкой войне, отличился при взятии Хотина, в 1789 г. при Берладе наголову разбил восьмитысячный турецкий отряд и был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1790 г. разбил шведов при Кюменгарде. С 1794 г. — волонтер в армии принца Кобурского. В 1796 г. отличился при взятии Дербента и крепости Елизаветполь. В 1798 г. произведен в генерал-лейтенанты. Командуя Семеновским полком, сблизился с его шефом великим князем Александром Павловичем. В 1799 г. назначен командиром русского корпуса, направленного в Швейцарию. Не сумел правильно оценить обстановку и 14–15 сентября был разбит в сражении при Цюрихе, что поставило на грань катастрофы армию Суворова. Павел I «отставил» его и сослал в деревню. При Александре I занимал важные посты, при Николае I был членом Государственного совета. Написал мемуары, в которых оправдывал свое поражение.
Розенберг Андрей Григорьевич (1739–1813) — генерал-поручик. Начинал службу солдатом. Участвовал в Семилетней войне, в экспедиции черноморского флота в архипелаг. В 1793 г. командовал войсками, расположенными в Крыму. В 1799 г. отличился в Итальянском и особенно Швейцарском походах Суворова, командуя русским корпусом. При переправе через р. По в неудачном бою, по выражению Суворова, «загнал себя в угол» и потерял более тысячи человек. «Как подчиненный, я виноват без оправдания», — писал он Суворову, выгораживая виновника великого князя Константина Павловича, который заставил Розенберга принять бой в заведомо невыгодных условиях. Суворов беседовал с великим князем наедине, и, когда Константин вышел от него, все видели его заплаканное лицо. Суворов пригрозил свите великого князя военным судом и Сибирью. Урок пошел впрок Константин Павлович вернулся из Итальянского и Швейцарского походов приверженцем Суворова. После этой неудачи Розенберг выиграл несколько важных сражений. 25 января 1800 г. заболевший Суворов сдал в Кракове войска Розенбергу и отправился в Брест.
Ростопчин Федор Васильевич (1765–1826) — граф, генерал от инфантерии, член Государственного совета, писатель. Сын орловского помещика, с детства записан в л. — гв. Преображенский полк. Учился в Лейпцигском университете. Заветнейшей его мечтой было служить у Суворова, что ему удалось осуществить. «Сколько рыб в Неве», — спросил полководец молодого поручика Ростопчина. Тот, не моргнув глазом, назвал первую пришедшую на ум цифру. Поле этого служил при Суворове, участвовал добровольцем в штурме Очакова. В 1792 г. зачислен в камер-юнкеры. Дежурил при «малом» гатчинском дворе Павла I, сблизившись с будущим императором. При восшествии Павла I на престол, пользовался его неограниченным доверием. 7 ноября 1796 г., в день восшествия на престол Павла I, назначен флигель-адьютантом, 9 ноября произведен в генерал-майоры и генерал-адъютанты, с 1798 г. — первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел, (практически — министр иностранных дел), с 1800 г. — член Совета императора, но вскоре попал в немилость. Суворов неоднократно обращался к нему с письмами. Во время Итальянского похода Ростопчин писал ему: «Я горжусь тем, что в одной земле с Вами родился и столько же ее люблю, как и Вас». Оставил воспоминания о Суворове. В период антинаполеоновских войн 1805–1807 гг. возглавил борьбу с галломанией, составив вместе с А. С. Шишковым, И. И. Дмитриевым, Н. М. Карамзиным «русскую партию», которая добилась отставки М. Н. Сперанского. Издал в 1807 г. книгу «Мысли вслух на Красном крыльце», принесшую ему известность как писателю-патриоту. «Господи помилуй! — восклицает ее герой, — да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли нам опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: сгинь ты, дьявольское наваждение! Ступай в ад или восвояси, все равно, только не будь на Руси!» В мае 1812 г. при содействии великой княгини Екатерины Павловны, поддерживавшей «борьбу с чужеземчиной», назначен главнокомандующим Москвы. Во время Отечественной войны прославился своими афишами, слова которых, по свидетельству современника, «были по сердцу народу русскому». Хотя сохранилось и другое мнение: «Жалко потомство, если оно будет читать эти прокламации! Что в них достойного уважения? Как назвать слог, испещренный выражениями грубыми и площадными? Неужели жители Москвы не заслужили красноречия более благородного, более достойного людей мыслящих и чувствующих?» С 1815 г. жил в основном в Париже, вернувшись на Родину в 1823 г., продолжал числиться консерватором. После восстания на Сенатской площади произнес фразу, ставшую крылатой: «Обычно сапожники делают революцию, чтобы сделаться господами, а у нас господа захотели стать сапожниками».
Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796) — граф, генерал-фельдмаршал. Сын денщика Петра I, (а по преданию — императора). В шестилетнем возрасте записан рядовым в л. — гв. Преображенский полк. Получил известность в Семилетней войне. В Кунерсдорфском сражении командовал центром, отбив все атаки прусской кавалерии. Первая русско-турецкая война прославила его имя как выдающегося полководца. Эту победоносную для русской армии войну по праву называют «румянцевской». Все ее основные победы и образцы наступательной стратегии связаны с его именем. В 1770 г. за разгром турецких войск при Ларге первым из русских полководцев был награжден высшим военным орденом — Святого Георгия 1-й степени. После Катульского сражения получил фельдмаршальский жезл, после перехода за Дунай стал Румянцевым-Задунайским. Обладал необыкновенной «военной поворотливостью», пользовался громадным авторитетом в армии, как «прямой солдат». Его наставления «Обряд служб» стали боевым и строевым уставом екатерининской армии. Из румянцевской школы вышли такие выдающиеся полководцы, как Потемкин, Панин, Репнин, великий Суворов.
Салтыков Петр Семенович (1698–1772) — граф, генерал-фельдмаршал, сенатор. Из старинного боярского рода. В 1714 г. послан Петром I за границу учиться морскому делу. Почти двадцать лет пробыл во Франции. Вернувшись в Россию при Анне Иоанновне, звавшей его «мой кузен» (ее отец был женат на Салтыковой), и при Елизавете Петровне, приходившейся ему двоюродной сестрой, пользуясь родственными связями, быстро сделал карьеру при дворе. При Елизавете был направлен в действующую армию и назначен в 1759 г. Главнокомандующим. Две значительных победы в Семилетней войне принесли ему славу победителя непобедимого Фридриха Великого и жезл фельдмаршала. Фридрих Великий писал после Кунерсдорфского сражения, вошедшего в военную историю как одна из самых ярких побед русского оружия: «От армии в 48 тысяч человек у меня в эту минуту не осталось и трех. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском». Это было полной неожиданностью, поскольку Салтыков не обладал полководческим даром. Парадокс его побед заключался в том, что они были одержаны не благодаря, а вопреки знанию общепринятых правил и законов военного искусства. Его непредсказуемые действия поставили в тупик Фридриха Великого, не сумевшего разгадать стратегические замыслы Салтыкова. В 1764 г. назначен генерал-губернатором Москвы. А. Т. Болотов оставил портрет Салтыкова: «Старичок, седенький, маленький, простой, в белом ландмилицком кафтане, без всяких украшений и без всяких пышностей ходил по улицам и не имел за собой более 2–3 человек. Привыкши к пышности и великолепию в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простому и, по всему видно, незначащему старику можно было быть главнокомандующим столь великой армией и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, прозорливостью и знанием военного искусства. Он казался нам сущею курочкою, и никто и мыслить того не отважился, чтобы он мог учинить что-нибудь важное». Екатерина II к военным действиям «лаврами покрытого фельдмаршала» не привлекала. «Я рассудила, — писала она, — от обременения поберечь лета сего именитого воина, без того имеющего довольно славы».
Салтыков Иван Петрович (1730–1805) — граф, генерал-фельдмаршал, сын фельдмаршала П. С. Салтыкова — победителя непобедимого Фридриха II. Участвовал в Семилетней войне, быстро продвигаясь в чинах. В 1773 г. — генерал-поручик, командир крупного соединения в румянцевской армии. Храбрый, простой в общении Салтыков не обладал полководческим даром, хотя и пытался играть первые роли. Суворов, разгадав его характер, разыгрывал перед Салтыковым, которому непосредственно подчинялся в первую русско-турецкую войну, роль простоватого служаки. Салтыков благоволил к нему. Отношения начали меняться по мере роста славы Суворова. Известен его отзыв: «Суворов только практик и не знает тактики». На что последовал суворовский ответ: «Я не знаю тактики, да тактика меня знает, а Ивашка не знает ни тактики, ни практики». Тем не менее «Ивашка» попеременно командовал корпусом во второй русско-турецкой войне, армией в войне со Швецией, получил от Павла I фельдмаршальский жезл. В 1797 г. стал, как и отец, генерал-губернатором Москвы. Среди его боевых наград орден Святого Георгия 2-й степени.
Салтыков Николай Иванович (1736–1816) — светлейший князь, генерал-фельдмаршал, председатель Государственного совета. Сын генерал-аншефа Ивана Алексеевича Салтыкова. Службу начал рядовым в л. — гв. Семеновском полку. В Семилетней войне принял участие в осаде Хотина. При Екатерине II получил чин генерал-аншефа и был назначен вице-президентом Военной коллегии и гофмейстером при дворе наследника престола Павле Петровиче. Оказавшись между двух огней, сумел не потерять расположение императрицы и завоевать доверие великого князя. Впоследствии стал главным воспитателем его детей — великих князей Александра и Константина. В конце своего царствования Екатерина II поручила ему один из ключевых постов — управление Военным ведомством. Восшедший на престол Павел I вручил ему фельдмаршальский жезл, а Александр I в 1813 г. назначил своего воспитателя, семидесятилетнего фельдмаршала, Председателем Государственного совета и Комитета министров, возведя его в 1814 г. в достоинство светлейшего князя.
Известно, сколь сложными были отношения Суворова с кланом семейства Салтыковых. Тем не менее в 1791 г. наметилось сватовство сына Н. И. Салтыкова Дмитрия Салтыкова на фрейлине императрицы, дочери прославленного полководца «Суворочке». «Между тем я в оковах, в ласкании», — записывает Суворов. В письме к Н. И. Салтыкову он отмечает: «Ни о женихе — что рано, ни о богатстве, ни о светских развлечениях моей дочери не мышлю, но одном целомудрии. Не она, но оно дороже мне жизни и собственной чести».
Сиверс Яков Ефимович (1731–1808) — граф, генерал-майор. Из бедных лифляндских дворян. В 1744 г. начал службу в Петербурге юнкером при Коллегии иностранных дел, при русских посольствах в Копенгагене и Лондоне. Участвовал в Семилетней войне. В 1764–1781 гг. — новгородский губернатор. Пользовался особым доверием Екатерины II и принимал участие в составлении важнейших правительственных актов: «Наказа», «Положения о губерниях», «Грамоты дворянству», «Городового положения». Был одним из инициаторов учреждения Вольного экономического общества. Сиверс был, как отмечают историки, «редким в XVIII в. примером иностранца, бескорыстно и самоотверженно посвятившего себя службе России, и лучшим образцом просвещенного и гуманного администратора». Эти качества в полной мере отразились в его практической деятельности в качестве новгородского губернатора, а затем управляющего Тверским, Новгородским и Псковским наместничествами. С его именем связано основание городов Боровичи, Валдай, Вытегра, Вышний Волочек, Калязин, Осташков. При Павле I Сиверс был возведен в графское достоинство и назначен попечителем Воспитательного дома и главным директором водных коммуникаций.
Суворов Аркадий Александрович (1784–1811) — генерал-адъютант. Единственный сын Суворова. Был принят на службу в Гвардию и зачислен в камер-юнкеры к великому князю Константину Павловичу. В 1799 г. Павел I назначил пятнадцатилетнего Аркадия Суворова генерал-адъютантом и отправил его вместе со своим сыном в Италию «учиться победам». Вернувшись в Петербург, жил у своего воспитателя Хвостова. Больной Суворов послал ему десять заповедей, которые начинались словами: «Почтение Бога, Богоматери и Святых состоят в избежании от греха; источник его ложь, ей товарищи — лесть, обман». Оставшись в шестнадцать лет без отца, Аркадий Суворов сделался кумиром золотой молодежи, быстро промотав огромное состояние. Утонул при переправе через реку Рымник, прославившую отца как Суворова-Рымникского. По повелению Александра I его сыновья воспитывались на казенный счет.
Текелли-Попович Петр Абрамович (1720–1793) — генерал-аншеф. Австрийский серб, перешедший в 1747 г. на русскую службу. Сражался в Семилетней войне рядом с Суворовым и был хорошо ему знаком. В один день с Суворовым произведен в генерал-поручики и в генерал-аншефы. Отличился в первой и второй русско-турецких войнах. Прямой, честный и храбрый, пользовался уважением Суворова. В письме от 1 февраля 1788 г., описывая Текелли «Кинбурнскую баталию», Суворов обращается к нему так, как не обращался ни к одному из своих многочисленных адресатов, — «Высокопревосходительный брат».
Трубецкой Никита Юрьевич (1699–1767) — князь, генерал-фельдмаршал, генерал-прокурор. Получил образование в «немецкой земле», по возвращению из которой в 1719 г. был принят ко двору Петра I «волунтиром», т. е. денщиком. Взлет карьеры молодого князя начался в 1730 г., когда он со своими родственниками решительно поддержал императрицу Анну Иоанновну в ее борьбе с «верховниками». В ее царствование двадцать лет был генерал-прокурором, вел самые громкие дела над А. И. Остерманом, Б. X. Минихом, А. П. Бестужевым-Рюминым. В 1756 году был произведен в генерал-фельдмаршалы, в 1760 г. назначен президентом Военной коллегии, но никаких военных заслуг за ним не числится. Своей военной карьерой и званиями он обязан «дворцовому фавориту» и родственным связям. Князь Трубецкой пережил все дворцовые перевороты и служил восьми государям от Петра I до Екатерины II.
Турчанинов Петр Иванович (1746–1823) — генерал-поручик. Сведения о нем крайне скудны, хотя он был весьма заметной фигурой в государственном аппарате екатерининского времени. В 1778 г. правитель канцелярии Г. А. Потемкина, затем по его рекомендации — статс-секретарь Екатерины II по военным делам. Суворов судя по всему знал его еще с детских лет. Турчанинов, как никто другой, был посвящен в служебные и семейные дела великого полководца. Первые письма Суворова к Турчанинову датированы августом 1778 г., когда он проводил переселение армян и греков из Крыма. После переселения армяне основали в низовьях Дона г. Нахичевань. Позднее в семье Турчаниновых жила «Суворочка». В 1791–1792 гг. Суворов пишет ему в Петербург из Финляндии, желая вырваться на главный театр военных действий. В 1792–1794 гг., возводя Севастополь, систему крепостей на Днестре и Кубани, Суворов обращается к Турчанинову, от которого впрямую зависело финансирование стратегических укреплений. Несмотря на размолвки, между ними сохранялась, по выражению Суворова, «целостность дружбы». Старший сын Турчанинова Павел был назначен в 1796 г. адъютантом Суворова, впоследствии генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода.
Ушаков Федор Федорович (1744–1817) — адмирал. Из тамбовских дворян. Закончил Морской кадетский корпус, ставший при Елизавете Петровне кузницей морских кадров. Его становление как флотоводца происходило между двух русско-турецких войн. В первой, 1768–1774 гг., Россия, выиграв в ночь с 25 на 26 июля 1770 г. самое грандиозное морское сражение — Чесменское, отвоевала почти все завоевания Петра Великого в Причерноморье и вновь стала великой морской державой. Во второй, 1787–1791 гг., Россия завоевала все крупнейшие военные форпосты Турции в Причерноморье и Черное, некогда Русское море, вновь стало русским. Во второй войне раскрылся полководческий гений Суворова и флотоводческий — Ушакова. Ушаков получил чин капитан-лейтенанта в 1776 г. в Средиземном море, и его флотская судьба связана с эскадрой русских кораблей. К началу войны он был капитаном бригадирного ранга, под командой которого находился один из трех отрядов Черноморского флота, имея за плечами удачные внешние и внутренние рейды.
В морских баталиях 1787 г. на Кинбурнской косе и совместном штурме в 1788 г. морскими и сухопутными силами Очакова он не участвовал. Командующий Черноморской флотилией Войнович не смог подвести ее к месту сражения. В этот период в морских реляциях звучат имена флотоводцев-наемников, приглашенных Потемкиным перед штурмом Очакова для укрепления русского флота — адмирала Нассау, адмирала Поля Джонса, адмирала Войновича, бригадира Рибаса, лейтенанта Джулио Ломбарда и др. Ушаков вступил в бой с турецким флотом утром 3 июля 1788 г. у острова Фидониси, находясь в авангарде Севастопольской эскадры Войновича. И уже эта первая победа, ставшая предвестником грядущих побед русского флота, выделила его имя среди флотоводцев.
14 марта 1790 г. Потемкин принял решение, которое определило судьбу Ушакова и судьбу русского флота. Он отправил Войновича на Каспий, «героя лимана» принца Нассау — на Балтику, приняв командование Черноморским флотом на себя, но назначив при этом «начальником флота по военному употреблению» контр-адмирала Ушакова. Последствия этого решения не замедлили сказаться. Уже 8 июля 1790 г., в морском сражении с турецким флотом в Керченском проливе Ушаков обратил в бегство корабли противника и сорвал высадку десанта в Крыму. 28–29 августа у острова Тенда Ушаков вновь разбил турок, заставив их отступить от устья Дуная, что обеспечило действия гребной флотилии в октябре 1790 г. Штурм Измаила 11 декабря 1790 г. утвердил воинскую славу как Суворова, так и Ушакова. В «Истории русского военно-морского искусства» отмечается: «Впервые в истории военного и военно-морского искусства речная военная флотилия, взаимодействуя с армией, действовала столь большим количеством кораблей с массой десантных войск, принявших непосредственное участие в штурме такого сильно укрепленного приречного пункта, каким был Измаил. Взятие Измаила представляет поучительный пример организации взаимодействия между речной флотилией и эскадрой Черноморского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова, которая охраняла устье Дуная от проникновения туда турецких морских сил. Взятие войсками Суворова Измаила и действие эскадры Ушакова в тот период на Черноморском театре имели в основе единый стратегический военный замысел». 31 августа 1791 г. последовала еще одна «совершенная победа» Ушакова при Калиакрии. Во всех этих морских баталиях Ушаков применил новую тактику «решительного боя», став «Суворовым на море». Победы Суворова на суше и победы Ушакова на море обеспечили условия крайне выгодного для России Ясского мира, закрепившего присоединение Крыма к России, признания новой границы по Днестру и снятия морской блокады. Проход в Средиземное море был открыт, а это значит — Россия вновь возродилась как морская держава. Ушаков, как и Суворов, был награжден высшим военным орденом — Святого Георгия (Ушаков — 2-й, Суворов — 1-й степени), но лавры побед пожинали другие. Они были «выдвиженцами» Потемкина, а потому после смерти «светлейшего», несмотря на все заслуги, оказались в армии на вторых ролях. Суворова отправили строить укрепления в Финляндии, затем перевели на такую же «инженерную» должность — строительство укреплений в Тамани, в Крыму, по Днестру, а Ушаков — укреплял Севастополь. Ни Суворов, ни Ушаков, распоряжаясь строительными подрядами, не нажили на этом «инженерные миллионы» (выражение Суворова), как это сделал предприимчивый Рибас и многие другие. Они исполняли свой воинский долг вдали от придворных интриг. «Я ползать не могу», — признавался Суворов. Не обладал этими способностями и Ушаков, не принимавший никаких усилий повлиять на ход событий, уповая на промысел Божий. (Суворов, наоборот, не мог смириться, просил «уволить волонтера», т. е. готов был стать даже наемником, так и писал: «остается мне умереть вне отечества»). Полководческий гений Суворова востребовала лишь «варшавская резня» 1794 г. При Павле I его и вовсе сослали, и лишь в 1799 г. наступил его звездный час. Флотоводческий гений Ушакова оказался востребованным в те же самые годы и теми же самыми внешними обстоятельствами. «О, как шагает этот юный Бонапарт, — восклицал Суворов еще в 1796 г. — Он герой, он чудо-богатырь, он колдун. Ему ведома неодолимая сила натиска — более не надобно». Провидчески заметив при этом, что Наполеон погибнет, «если на несчастье свое, бросится он в вихрь политический». Остановить эту «неодолимую силу» могла только равная ей. На море — Ушаков, на суше — Суворов. Назначенный командиром Средиземноморской эскадры, Ушаков в 1798 г. освободил от французов остров Кипр, Ионические острова, создав на них греческую православную республику, освободив семь островов Ионического архипелага от 300-летнего османского ига, а затем, 18 февраля 1799 г. штурмовал главную цитадель Франции в Средиземном море — остров Корфу. Буквально в это же самое время, 17 февраля, Суворов отъезжал из Петербурга, чтобы принять командование союзными войсками. По свидетельству современника, получив известие о взятии Корфу, Суворов воскликнул: «Великий Петр жив! Что он по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах произнес, а именно: „Природа произвела Россию только одну; она соперницы не имеет!“ — то и теперь мы видим. Я теперь говорю сам себе: „Зачем я не был при Корфу хотя мичманом?“» Легендарные победы Суворова в Италии и Швейцарии неотделимы от морских побед на средиземноморском театре военных действий. Эскадра Ушакова действовала не только на море, но и на суше. После взятия Корфу русский десант высадился на юге Италии и занял Неаполь. Суворов и Ушаков уже имели успешный опыт взаимодействия сухопутных и морских сил при штурме Очакова, использовав его в Италии. Суворов обращался к Ушакову в письме из Вены от 23 марта 1799 г.: «Милостивый государь мой Федор Федорович! Здешний чрезвычайный и полномочный посол пишет ко мне письмо, из которого Ваше Превосходительство изволите ясно усмотреть необходимость крейсирования отряда флота команды Вашей на высоте Анаконы (крепость на восточном берегу Апеннин, оккупированная французами. — Ред.). Как сие для общего блага, то я, о сем Ваше Превосходительство извещая, отдаю Вашему суждению по сообразию правил Вам данных». Ушаков ответил Суворову, что после Палермо отправит эскадру «к Неаполю и от оного к Генуе или в те места, где польза и надобность больше требовать будут». Крейсирование обеспечивало защиту перевозок продовольствия для армии по Адриатическому морю, а занятие десантом опорных пунктов обезопасило побережье Адриатики. Благодаря действиям Суворова и Ушакова, весной и летом 1799 г. от французов была освобождена почти вся Италия — Северная и Южная. Оплотом французов оставалась лишь крепость Анакона в Центральной Италии. Ушаков сообщал: «Три фрегата от меня посланы блокировать и взять Анакону, ибо без этого Венецианский залив не будет спокоен, пока не взята будет Анакона». 2 ноября 1799 г., после двухмесячной осады Анакона капитулировала.
В 1800 г. непобедимый Суворов и непобедимый Ушаков были отозваны в Россию. Павел I принял одно из самых непредсказуемых своих решений — превратить Наполеона из стратегического противника в стратегического союзника. Занятие Парижа Суворовым и освобождение Мальты Ушаковым теряли смысл. «Я весьма бесподобно сожалею, — сообщал Ушаков 25 декабря 1799 г. Италийскому, — что дела наши и приготовления в рассуждении Мальты расстроились и, так сказать, все труды пропали. Я надеялся соединению с англичанами взять ее непременно, но означенные в письме обстоятельства воспретили». Для Суворова это был последний и самый тяжелый удар, который семидесятилетний генералиссимус уже не смог перенести. Ушаков прожил еще семнадцать лет, но все эти годы был практически не у дел. При Александре I возобладала военная доктрина, согласно которой «России по многим причинам, физическим и локальным, быть нельзя в числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни пользы не предвидится. Посылка наших эскадр в Средиземное море и другие экспедиции стоили государству много, дали несколько блеску и пользы никакой». В 1805 г. Ушаков вышел в отставку. Прижизненная и посмертная слава адмирала Ушакова неотделима от славы русского флота, его побед как в XVIII–XIX вв., так и в XX веке. Во время Великой Отечественной войны, 3 марта 1944 г были учреждены орден двух степеней и медаль Ушакова — самые почетные морские награды. А в 2001 г. адмирал Ушаков признан местночтимым святым Русской Православной Церкви. Впервые в святцах появилось имя флотоводца — покровителя русских моряков.
Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835) — граф, служил в Синоде и в Сенате, поэт. Один из ближайших друзей Суворова благодаря родственным связям. В 1789 г. женился на родной племяннице полководца — княжне Аграфене Ивановне Горчаковой. «Сему великому мужу, — вспоминал Хвостов, — обязан я счастием моим. Могу хвалиться не только чинами и отличиями, кои приобрел, может быть, не столько по заслугам моим, сколько по его благоволению: он принял меня в особливую милость свою и удостоил неограниченной доверенностию; нет тайны, которой бы он мне не вверял. Когда он командовал армиями, все отношения к императрице Екатерине II и императору Павлу I во время Итальянской кампании шли через мои руки. Наконец, мне ж определено было иметь печальное преимущество принять последнее вздыхание непобедимого героя». Сохранившиеся письма Суворова подтверждают это. Начиная с 1791 г. большинство из них обращены к Хвостову. И последнее из них от 17. III. 1800 г. тоже обращено Хвостову, на квартире которого в С.-Петербурге в доме на Крюковом канале он скончался в мае 1800 г. во втором часу дня. Вошел в историю русской литературы не столько стихами, сколько анекдотами о своих стихах, но в судьбе Суворова и его «Суворочки» сыграл одну из самых благородных ролей, став ее «вторым батюшкой».
Храповицкий Василий Иванович (1714–1782) — генерал-аншеф. Из преображенцев, возведших в результате «ночного переворота» 25 ноября 1741 г. на престол дочь Петра Великого Елизавету Петровну. Участвовал в штурме Очакова, русско-шведской войне, Семилетней войне. Суворов служил под началом Храповицкого, командовавшего бригадой, в которую входил Суздальский полк. С тех пор они сохраняли дружеские отношения. Сыновья Храповицкого от первого брака служили под командой Суворова. Сын от второго брака, Александр Васильевич Храповицкий, в течение одиннадцати лет был статс-секретарем Екатерины II «при собственных ее делах». Его знаменитый «Дневник» — выдающийся памятник эпохи.
Чернышев Захар Григорьевич (1722–1784) — граф, генерал-фельдмаршал. Мать — Евдокия Ржевская — одна из фавориток Петра I, входившая в круг самых приближенных лиц императора. Принимал участие в Семилетней войне, командуя корпусом в чине генерал-поручика в битве при Цорндорфе, в 1761 г. взял Берлин и наложил на него контрибуцию. В 1763 г. Екатерина II назначила его вице-президентом, а с 1773 г. президентом Военной коллегии. С 1774 г. — генерал-губернатор Белоруссии, с 1782 г. — главнокомандующий Москвы. Один из самых умных и образованных людей своего времени, «горячая голова», как называла его Екатерина II.
Штейнгель Фаддей Федорович (1762–1831) — из эстляндских баронов, генерал от инфантерии. С 1792 г. находился при Суворове в Финляндии в должности обер-квартирмейстера. В 1806–1807 гг. — генерал-квартирмейстер русской армии в Пруссии. За отличие в сражении при Прейсиш-Эйлау награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В 1808–1809 гг. участвовал в русско-шведской войне. С 1810 г. — генерал-губернатор Финляндии. Финляндский корпус под его командованием участвовал в Отечественной войне 1812 г.
Шувалов Александр Иванович (1710–1741) — граф, генерал-фельдмаршал. Также, как и брат Петр, начал службу при дворе пажом, а затем камер-юнкером цесаревны Елизаветы Петровны, составив прочный тандем трех братьев Шуваловых — Петра, Александра и двоюродного брата Ивана. Но если Петр Шувалов прославился изобретением шуваловских единорогов, а Иван Шувалов — основанием Московского университета, то за Александром Шуваловым осталась зловещая слава начальника Тайной канцелярии. Ему был поручен надзор над свергнутым тринадцатилетним императором Иоанном Антоновичем. В инструкции надзирателю предписывалось: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою или плетью». Екатерина II оставила в «Записках» его портрет: «Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую занимал, был грозою всего двора, города и всей империи, он был начальником инквизиционного суда, который звали тогда Тайной канцелярией. Его занятие вызывало, как говорили, у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица от глаз до подбородка всякий раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью». Фельдмаршальский жезл ему, как и Петру Шувалову, вручил при воцарении Петр III, хотя он никогда не командовал войсками и не участвовал ни в одном сражении.
Шувалов Иван Иванович (1727–1789) — генерал-адъютант, генерал-поручик. Фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Родился в Москве и учился с Суворовым у одного учителя. При возвышении двоюродных братьев Петра и Александра Шуваловых был взят ко двору в пажи. В 1749 г. произведен в камер-юнкеры. К этому времени братьям Шуваловым удалось пресечь «фавор» двадцатилетнего красавца Никиты Бекетова, и место «ночного императора» до самой смерти императрицы занял Иван Шувалов. «Мягкий и доброжелательный, — отмечает биограф, — враг ссор и шума, он старался со всеми быть в добрых отношениях и иногда являлся даже в роли примирителя других, поэтому он имел мало врагов. Вполне бескорыстный, Шувалов отказался от материальных выгод и не принял графского титула. Однако была одна область, куда его влекли личные вкусы и где он господствовал неограниченно, это — область наук и искусств, что доставило ему прозвание „российского мецената“ и сделало его имя навсегда памятным в истории русского просвещения как основателя первого русского университета в Москве, по его же мысли были учреждены Академия художеств и гимназия в Казани. Имя Шувалова неразрывно связано также с именем его современника — Ломоносова: он был его покровителем, вместе с ним обсуждал проект университета и был воспет Ломоносовым в многочисленных поэтических произведениях». Памятным в истории осталось и бескорыстие Ивана Шувалова, и в этом он был полной противоположностью своих братьев, корыстолюбие которых не знало границ. Когда в 1757 г. вице-канцлер Михаил Воронцов подал на подпись проект именного указа, по которому Иван Шувалов становился вровень с братьями — графом, сенатором, кавалером высшего ордена, землевладельцем, он вернул его со словами: «Могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности; когда я, милостивый государь, ни в коем случае к сим вещам моей алчбы не казал в таких летах, где страсти и тщеславие владычествуют людьми, то ныне истинно и более причины нет». После смерти Елизаветы Петровны он прожил еще 36 лет, так и не женившись.
Шувалов Петр Иванович (1711–1762) — граф, генерал-фельдмаршал. Двенадцати лет определен пажом к Екатерине I. В 1731 г. назначен камер-юнкером к цесаревне Елизавете Петровне, войдя в круг ее ближайшего окружения. Фельдмаршальский жезл получил уже незадолго до смерти при воцарении Петра III, не приняв участия ни в одной военной баталии. Тем не менее он вошел в военную историю своими знаменитыми единорогами — прототипами гаубиц. Его любимым детищем была артиллерия, в усовершенствовании которой он принимал личное участие. В докладной записке «О военной науке» представил передовые для своего времени принципы военной теории.
Эльмпт Иван Карпович (1725–1802) — граф, генерал-фельдмаршал. Из немецких баронов. Служил во Франции, в 1749 г. перешел на русскую службу капитаном. Проявил храбрость в Семилетнюю войну и был произведен в генерал-майоры. Командовал корпусом в первую русско-турецкую войну. Принимал участие в войне с польскими конфедератами. В 1780 г. произведен в генерал-аншефы. Командовал дивизией во вторую русско-турецкую войну, но никакими громкими победами не прославился, оставаясь на вторых ролях. Тем не менее Павел I в день коронации произвел его в генерал-фельдмаршалы, отправив через год в отставку. В 1793 г. его сын, полковник Староингерманландского пехотного полка Филипп Иванович Эльмпт, рассматривался как возможный жених «Суворочке». Суворов писал о нем и его родителях, их лютеранском вероисповедании: «…Коли старики своенравны, то отец его разве в пункте благородного почтения и послушания. Мать добродушна и по экономии скупа, тем оне богатее. Кроме германского владения, юноша тихого портрета, больше с скрытыми достоинствами и воспитанием, лица и обращения не противного, в службе безпорочен и по полку без порицания. В немецкой земле лутче нашего князя, в России полковник, деревни под Ригой и деньги. Вера: он христианин! Не мешает иной вере. И дети христиане!» Судя по этому и другим письмам Суворов был склонен к кандидатуре «молодого графа». Сватом при этом был П. И. Турчанинов, один из самых близких друзей Суворова в Петербурге, женатый на сестре жениха, Софье Ивановне. Судя по имеющимся сведениям, Турчанинов сообщил Эльмпту о согласии Суворова и тот готов был посвататься. Тем не менее сватовство не состоялось. «Суворочка» была фрейлиной императрицы, а мнение двора, видимо, не совпало с мнением Суворова, который был вынужден сообщить Хвостову, что «закрывает жениха». Против этого брака выступили всесильные братья Зубовы. А в 1796 г. «Суворочка» стала графиней Зубовой — женой старшего из братьев Николая Зубова.
Шагин-Гирей-Хан (1746–1787) — последний крымский хан из рода Гиреев, потомков Чингисхана. По отзывам современников, сочетал восточный деспотизм с европейской образованностью. Он обратил на себя внимание русской дипломатии еще в 1772 г. во время переговоров о заключении договора между Россией и Крымом после занятия ханства русскими войсками. Шагин-Гирей прожил в Петербурге девять месяцев. В письме к Вольтеру Екатерина II восхваляла ум молодого калги-султана, его желание заняться самообразованием на благо своего ханства, «независимого по милости Божией и русского оружия». В 1777 г. возведен на престол при поддержке России, но русские войска трижды были вынуждены восстанавливать свергнутого хана. В 1783 г. отрекся от власти в пользу России. С 1784 г. жил со своим гаремом и свитой в Воронеже, затем в Калуге. По его просьбе был отпущен в Турцию. Принятый с показным почетом, затем был сослан на остров Родос — место пребывания опальных ханов Крыма. В августе 1787 г. злодейски убит.
СЛОВАРЬ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ XVIII ВЕКА
Генерал-адъютант — одно из высших воинских званий Учреждено Воинским уставом 1716 г. В XVIII генерал-адъютанты состояли при императоре, генерал-фельдмаршалах, при полных генералах. Несли обязанности адъютантов и вели делопроизводство при штабах. Дежурные генерал-адъютанты при Екатерине II заведовали личным составом армии и наградными делами.
Генерал-аншеф (букв, главный генерал) — по Воинскому уставу 1716 г. — главнокомандующий, равный фельдмаршалу. При Павле I звание генерал-аншеф заменено званиями по родам войск: генерал от инфантерии (пехоты), генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, инженер-генерал.
Генерал-квартирмейстер (букв, начальник квартир) — одна из высших штабных должностей. Генерал-квартирмейстер ведал вопросами изучения местности, организацией расположения и передвижения войск, подготовкой карт, строительством укреплений. В 1711 г. при генерал-квартирмейстере была создана квартирмейская часть, ставшая базой для образования в 1763 г. Генерального штаба.
Генерал-прокурор — лицо, наблюдавшее за законностью деятельности государственного аппарата с помощью подчиненных прокуроров.
Генерал-фельдмаршал — высшее воинское звание в сухопутных войсках. По Воинскому уставу 1716 г. «генерал-фельдмаршал, или аншеф, есть командующий главный генерал в войске». Чин генерал-фельдмаршала стоял на первом месте среди 14 чинов «Табели о рангах». Чин генералиссимуса, считавшийся исключительной наградой, в Табель о рангах не входил. Всего в России с 1700 по 1917 гг. было 64 генерал-фельдмаршала. Первым генерал-фельдмаршалом стал Ф. А. Головин, возглавивший в 1700 г. 45-тысячную русскую армию, выступившую к Нарве в начавшейся войне со Швецией. Из полководцев Петра I генерал-фельдмаршалами, вслед за Головиным, были герцог Кроа-де-Круи (1700), граф Б. П. Шереметьев (1701), светлейший князь Д. И. Меншиков (1709), ставший в 1727 г. генералиссимусом. При Екатерине II чин генерал-фельдмаршала получил граф А. П. Бестужев-Рюмин (1762), граф К. Г. Разумовский (1764), князь А. М. Голицын (1769), граф П. А. Румянцев-Задунайский (1770), граф 3. Г. Чернышев (1773), ланграф Людвиг IX (1774), светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический (1784), граф А. В. Суворов-Рымникский (1794).
Генерал-фельдцейхмейстер — чин и должность главного начальника артиллерии. В его обязанности входило заведование личным составом артиллерии, строевой подготовкой и учебной частью.
Генералиссимус — высшее воинское звание в вооруженных силах. В воинском уставе 1716 г. говорится: «Сей чин коронованным главам и великим владеющим принцам принадлежит, а наипаче тому, чье есть войско». В Российской империи первым генералиссимусом стал воевода А. С. Шейн (1696), затем, в соответствии с Воинским уставом, звание генералиссимуса было присвоено трем лицам: князю А. Д. Меншикову (1727), принцу Антону Ульриху Брауншвейгскому, отцу императора Иоанна VI Антоновича (1740) и графу А. В. Суворову-Рымникскому князю Италийскому (1799).
Гетман — предводитель, командующий войсками на Украине. В 1648 г. титул гетмана принял Богдан Хмельницкий. После перехода Правобережной Украины под власть Польши существовало два гетмана — на Левобережной и Правобережной Украине. Гетман Левобережной Украины был наделен высшей гражданской, военной и судебной властью, имел право дипломатических сношений с другими государствами, кроме Польши и Турции. Выбирался генеральной войсковой радой. С 1708 г. назначался императором. В 1764 г. эта должность была упразднена.
Есаул — военный чин в казачьих войсках. Соответствовал чинам ротмистра в кавалерии, капитана в пехоте, капитана-лейтенанта, а затем старшего лейтенанта на флоте и коллежского асессора в гражданской службе.
Капитан бригадного ранга — временное наименование в 1764–1798 гг. военно-морского чина V класса по «Табели о рангах». Соответствовал военному чину бригадира и гражданскому статского советника.
Капитан-командор — военно-морской чин в 1707–1732, 1751–1764, 1798–1827 гг. Соответствовал военному чину бригадира и гражданскому — статского советника.
Капитан-лейтенант — военный чин в армии и инженерных войсках в артиллерии и флоте в 1798–1884, 1907–1911 гг. Заменен чином старшего лейтенанта.
Капитан-поручик — военный чин в гвардейских и военно-морских частях XVIII в. В 1798 г. переименован в штабс-капитана и капитан-лейтенанта.
Капрал — воинское звание младшего командного состава. В XIX в. заменено званием унтер-офицера.
Контр-адмирал — название связано с тем, что эскадра, на которой держит свой флаг контр-адмирал, находилась впереди (против) эскадры адмирала. Соответствовал военному чину генерал-майора и гражданскому действительного статского советника.
Корнет — военный чин в армейских кавалерийских частях в 1798–1884 гг. Первоначально корнеты выполняли роль знаменосцев. Соответствовал чину прапорщика в пехоте.
Майор — военный чин, разделенный с 1731 по 1791 гг. на две ступени — премьер-майор и секунд-майор.
Мичман — военно-морской чин, введенный в русском флоте с 1716 г., первоначально унтер-офицерский, затем обер-офицерский. Соответствовал военному чину поручика и гражданскому коллежского секретаря.
Офицер — офицерские чины делились на три категории: генералы, штаб-офицеры и обер-офицеры. При введении «Табели о рангах» 1722 г. уже первый офицерский чин давал право дворянства.
Подполковник — должность помощника полковника, существовавшая в русской армии с XVII в. С 1798 г. в гвардии ликвидирована. Соответствовал военным чинам капитана II ранга и войскового старшины, гражданскому надворного советника.
Подпоручик — военный чин, соответствовавший военным чинам корнета в кавалерии, хорунжего в казачьих войсках и губернского секретаря в гражданской службе.
Подпрапорщик — унтер-офицер в пехоте (эстандарт-юнкер в кавалерии, подхорунжий в казачьих войсках). Считались нижними чинами, но исполняли офицерские обязанности и пользовались некоторыми их правами.
Подъесаул — военный чин в казачьих войсках, соответствовал военным чинам штабс-капитана, штабс-ротмистра, лейтенанта и гражданскому титулярного советника.
Полковник — военный чин в русской армии, введенный в XVII в. Соответствовал военному чину капитана I ранга и гражданскому коллежского советника.
Портупей-прапорщик — военное звание для унтер-офицеров из дворян в пехоте, с 1865 г. — юнкер, исполняющий унтер-офицерские обязанности.
Портупей-юнкер — военное звание для унтер-офицеров из дворян в артиллерии и легкой кавалерии.
Поручик — порученец, помощник командира. Соответствовал военным чинам сотника, мичмана и гражданскому коллежского секретаря.
Прапорщик (букв, знаменосец) — военный чин в артиллерии, инженерных войсках, гвардии.
Премьер-майор — в 1731–1797 гг. верхняя ступень военного чина майор.
Ротмистр — военный чин в кавалерии. Соответствовал военным чинам капитана в пехоте, есаула в казачьих войсках, капитан-лейтенанта, а затем старшего лейтенанта во флоте и гражданскому коллежского асессора.
Секунд-майор — в 1731–1798 гг. низшая ступень военного чина майор.
Секунд-поручик — военный чин, введенный в русской армии в 1703 г. и замененный в «Табели о рангах» 1722 г. на подпоручика.
Секунд-ротмистр — в 1730–1797 гг. военный чин в кавалерийских частях гвардии, соответствовавший капитан-поручику гвардии.
Старший лейтенант — военно-морской чин, соответствовавший военным чинам капитана в пехоте, ротмистра в кавалерии, есаула в казачьих войсках и гражданскому коллежского асессора.
Фанен-юнкер — военный чин в драгунских полках для унтер-офицеров из дворян в 1798–1802 гг. В полках тяжелой кавалерии ему соответствовал военный чин эстандарт-юнкера, в легкой кавалерии и артиллерии — портупей-юнкера, в пехоте — портупей-прапорщика.
Фельдфебель — военный чин, существовавший в русской армии с начала XVIII в. Помощник командира по административным и хозяйственным вопросам. В кавалерии, конной артиллерии и казачьих войсках ему соответствовал военный чин вахмистра.
Фельдъегерь — военный или правительственный курьер в чине унтер-офицера для доставки важных, часто секретных документов. Введен в России в 1796 г.
Хорунжий — человек, держащий знамя (хоругвь). В 1798–1884 гг. в России военный чин в казачьих войсках. Соответствовал военному чину прапорщика, гражданскому губернского секретаря.
Штабс-капитан — военный чин в пехоте, драгунах, артиллерии и инженерных войсках, гвардии. Соответствовал военным чинам штабс-ротмистра, подъесаула, лейтенанта, гражданскому титулярного советника.
Штык-юнкер — военный чин в артиллерии в 1722–1796 гг.
Эстандарт-юнкер — военный чин в 1788–1802 гг. в кавалерии для унтер-офицеров из дворян.
Примечания
1
П. А. Румянцев находился в то время в своем имении Вишенки.
(обратно)2
Штильгауз — караульное помещение; гадина — паразиты, плодившиеся под слоем муки и сала в прическе; половинное жалованье получали нестроевые солдаты.
(обратно)3
Все даты даются по старому стилю. (Примеч. ред.)
(обратно)4
Составил В. И. Калугин.
(обратно)

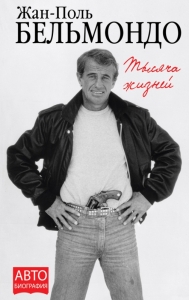
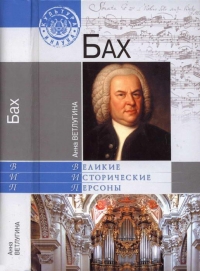


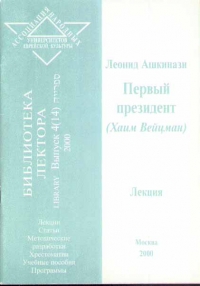
Комментарии к книге «Суворов», Олег Николаевич Михайлов
Всего 0 комментариев