Юлия Константиновна Жукова Девушка со снайперской винтовкой Воспоминания выпускницы Центральной женской школы снайперской подготовки 1944–1945
Моим любимым девочкам Оленьке и Варюше посвящаю.
Вступление
Я никогда не думала о том, чтобы писать воспоминания, всегда считала, что это дело только личностей неординарных, совершивших что-то значительное, важное. Поэтому, когда мне предложили написать о своем времени и о себе, это показалось мне ненужной затеей. Однако постепенно идея завладела мной. Мне стало казаться, что жизнь любого человека представляет интерес, поскольку он — отражение своего времени, он свидетель, а то и участник исторических событий. Кроме того, очень важно, думаю, чтобы последующие поколения людей лучше знали, как жили их предки, чем они занимались, о чем думали, как оценивали свое время.
Решилась писать. Моя жизнь по времени совпала с очень интересным периодом истории страны, мне пришлось многое увидеть и пережить.
Я стала участницей одного из самых трагических, но и великих событий XX века — Великой Отечественной войны. Моя работа в комсомоле совпала с периодом многих созидательных начинаний молодежи. Почти 30 лет отдала я любимому делу — народному образованию.
На моей памяти репрессии 1930-х годов и широкомасштабная кампания 1950-х годов по разоблачению культа личности И. В. Сталина. Мне довелось стать свидетельницей того, как великая держава — СССР — была разрушена и превращена в страну полуколониального типа. Я прожила жизнь как бы в двух эпохах…
Я всегда честно служила Советской Родине, моему народу. Никогда не искала в жизни легких путей и личной выгоды, всегда старалась помогать людям. Нынешняя трагедия страны — это и моя личная трагедия, так как свою судьбу я никогда не отделяла от судьбы страны.
Мне за мою жизнь не стыдно. Я могу смело смотреть людям в глаза.
Если бы меня попросили коротко сформулировать, что же это такое, моя жизнь, я бы сказала так: «История моей жизни — это крохотная частичка истории моего поколения».
Когда я вспоминаю самое важное, самое главное в моей жизни, то в первую очередь думаю о военных годах… Для меня все, что связано с войной, — это самое трудное, но и самое святое. Мое участие в войне — это моя боль, но и моя гордость. Все прошедшие годы я старалась забыть о войне, но память постоянно возвращала меня к тем далеким временам.
Сейчас о войне пишут много и правды, и неправды. Меня оскорбляет, когда некоторые ученые, писатели, журналисты, кинематографисты с каким-то злобным упоением и страстью (особенно в 1990-е годы) фальсифицируют историю Великой Отечественной войны, принижают роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии, унижают и оскорбляют тех, кто одержал победу в войне 1941–1945 годов. Прочитала у К. Паустовского: «Нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему, к ее языку, быту… и людям…»
Мне довелось испытать трудности военного времени в тылу и хлебнуть солдатского лиха на фронте. Сегодня я чувствую себя обязанной в меру своих возможностей честно и правдиво рассказать о том трагическом, но и героическом времени. Просто напишу, ничего не приукрашивая, но и не сгущая краски, как я воспринимала те события, что ощущала, что делали я и мои товарищи, близкие, родные.
Однажды я прочитала в какой-то газете письмо рядового солдата, прошедшего всю войну, несколько раз раненного. Он писал, что не совершил на фронте ничего героического, не был даже награжден, а просто честно делал свое солдатское дело. И далее он подчеркивал, что гордится своей судьбой, тем, что в самые трудные для Родины дни он был в окопах, на передовой.
Я разделяю позицию этого неведомого мне солдата и подписываюсь под его письмом.
Хочется, чтобы среди моих читателей было больше молодежи, в руках молодых — будущее страны, за свободу и само существование которой отдали жизнь многие миллионы советских людей.
Глава 1. Начало
Мне никогда не забыть день 22 июня 1941 года.
В тот день наша отрядная пионервожатая Юля Коваленко уезжала на каникулы к своим родственникам на Украину. Она училась в 9-м классе, уже два года работала в нашем отряде и всегда уделяла нам очень много внимания, часто забегала в наш класс даже на переменах, в то время как ее подружки обсуждали свои дела и проблемы. Юля была очень красивой девушкой — высокая, статная, с толстой русой косой, большими серо-голубыми глазами и густыми черными бровями. Мы все очень любили нашу вожатую, поэтому решили обязательно пойти на вокзал, чтобы проводить ее и попрощаться до нового учебного года. Однако намерение наше держали в тайне, хотели преподнести ей сюрприз.
Примерно в 10–11 часов собрались около школы. В нашей средней школе № 1 ребята учились в 5–10-х классах. Она стояла на центральной улице Уральска — Советской, занимала кирпичное двухэтажное здание, в котором имелось всего восемь классных комнат — четыре внизу и четыре наверху, а также актовый, он же физкультурный зал. Школа была старая, ветхая, оборудована бедно. Зато учительский коллектив сложился отменный. Каждый год большинство выпускников школы поступали в ведущие институты Москвы, Ленинграда, Саратова и других крупных городов. Тогда еще не было репетиторства, так что это — заслуга наших учителей. По рассказам маминого брата дяди Миши (Михаила Ивановича Синодальцева), прекрасного учителя математики, знаю, что часто вузовские экзаменаторы спрашивали выпускников нашей школы, где и у каких учителей получили они столь блестящие знания. И атмосфера в школе всегда была очень теплой, отличалась доброжелательностью, уважительным отношением к учащимся. Мы любили свою школу, проводили в ней много свободного времени, а если собирались куда-то идти вместе, то сходились непременно здесь, около школы.
Так было и в тот раз, собрались на привычном месте. День стоял чудесный — теплый, ясный, необыкновенно солнечный. Было радостно, весело. Мы только что закончили семилетку, впереди — долгие летние каникулы. А еще мы представляли, как обрадуется и удивится наша любимая вожатая, увидев на вокзале почти в полном составе свой отряд. Шутили, смеялись.
Вдруг подошла какая-то женщина с заплаканными глазами: «Детки, куда вы собрались? Война!» Ее слова показались нам такими несуразными, что мы даже не обратили на них внимания, они как-то скользнули мимо, не задев никого из нас. Рассмеялись, пошутили над странной плачущей женщиной…
Уральск был совсем маленьким провинциальным городком, его весь и вдоль, и поперек можно было пройти пешком. Местного пассажирского транспорта, как мне помнится, вообще не имелось. Веселой толпой мы двинулись на вокзал. Там мы вторично услышали: «Началась война!» На перроне царила суета, люди плакали, что-то кричали, чувствовалось общее напряжение. Вот теперь и мы поверили, что к нам пришла беда…
Настроение упало, все как-то сникли. Юля никуда не поехала. Вместе с ней и ее родными мы вернулись в город, разошлись по домам.
Конечно, тогда мы еще не осознавали в полной мере, что такое пришедшая к нам война, насколько это серьезно и надолго, какой трагедией обернется она для нашей страны и сколько человеческих жизней унесет. Но хорошо помню, что у всех, кого я знала и с кем общалась, была твердая уверенность: мы обязательно победим.
Дома — уныние, слезы. Села за стол и простым черным карандашом нарисовала плакат: красноармейцы с винтовками, за ними — танки, над ними — самолеты. И надпись: «Фашисты не пройдут!» Прикрепила кнопками к стене над столом. Это был, прямо скажем, примитивный плакат, но почему-то никому не хотелось его снимать, поэтому висел он долго. Может быть, из-за надписи, выражавшей общее настроение.
Началась новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. Как-то незаметно все изменилось, весь уклад жизни стал другим. Но самые сильные впечатления первых дней — это огромные толпы людей возле городского военного комиссариата, горкома партии и горкома комсомола. Все рвались на фронт. И я, и мои друзья-одноклассники с завистью смотрели на тех, кто уходил на фронт, но понимали, что нас в наши 15 лет в армию не возьмут. Поэтому мы собирались иногда вместе и думали: а что мы можем сделать, чем мы можем помочь стране.
В это же время сначала папа, потом мама тоже попытались уйти на фронт. Папе отказали, потому что у него не было правого глаза, он потерял его во время подавления меньшевистского восстания в Закавказье, и теперь носил стеклянный протез. Тогда отец попытался попасть в партизаны, приобрел даже короткое полупальто из серого солдатского сукна. Но снова получил отказ по той же причине. Маму не взяли, так как я была еще несовершеннолетней, а в начале войны это принималось во внимание.
В городе появилось очень много военных — к нам из Ворошиловграда перевели летное военное училище. Бывало, идут курсанты строем (красиво!), песни поют, а на тротуарах останавливаются прохожие, машут им руками, что-то кричат, женщины слезы вытирают. Мальчишки же гурьбой маршируют за ними, завидуют им, их красивой форме, мечтают стать такими же.
Потом в Уральске появился эвакуированный из Ленинграда завод № 231 имени Ворошилова, который выпускал морские мины и торпеды. Завод разместили в трех местах: в Затоне, это в 12 километрах от города, в бывших авторемонтных мастерских ив здании техникума. Мы видели, как на завод везли оборудование — большое, громоздкое. Автомашин не хватало, они тоже были мобилизованы на фронт, поэтому возили на лошадях, верблюдах. Там, где создавался будущий завод, круглые сутки что-то грохотало, стучало, скрипело. И вскоре, через месяц-полтора, оттуда потянулись колонны машин, накрытых брезентом, обозы лошадей и верблюдов. Это везли продукцию завода. Сроки, в которые завод фактически был заново создан и начал выпускать продукцию, просто фантастические. Это я поняла лишь позднее, когда начала там работать и увидела масштабы сделанного.
Прибыл еще какой-то завод. С каждым предприятием приезжали специалисты, рабочие, их семьи. Всех их надо было где-то устроить. Началось так называемое уплотнение — в квартиры, в частные дома уральцев вселялись приехавшие. Больше всего меня поражает сегодня, что люди не только не возражали, не возмущались, но сами предлагали эвакуированным поселиться у них, иногда приходили прямо к поездам и брали к себе семьи. Сейчас это трудно представить, а тогда казалось естественным.
К нам никого не подселили. Мы жили в то время у другого маминого брата, дяди Саши (Александра Ивановича Синодальцева). Дядя Саша был очень мягкий и добрый человек. В то же время я помню его как убежденного коммуниста: и патриота. Работал он в милиции, имел двухкомнатную квартиру, что было в то время редкостью. Мы втроем ютились в маленькой комнатке метров 10–12, а в другой, немного просторнее нашей, жил дядя Саша с женой и сыном. Поэтому подселять к нам было некуда. Я, помню, жалела тогда, что наша семья никого не может принять к себе.
Вскоре мы увидели первых беженцев — худых, почерневших, с какими-то потухшими глазами. Особенно тяжело было смотреть на детей. Спасаясь от фашистов, люди бросали все, уезжали или уходили из родных мест, иногда успевая взять с собой лишь кое-что из еды и одежды, иногда же вообще безо всего, фактически разутые и раздетые.
Моя двоюродная сестра Нина Михайловна Даценко (дочь дяди Миши), жившая перед войной на Украине, ушла из своего города в одном летнем платье и без всяких вещей. Вместе с толпой беженцев она прошла пешком многие десятки километров. Потом Нина воевала под командованием З. Берлинга в составе Войска Польского, получила чин подпоручика и множество боевых польских наград.
Уральск снова «уплотнялся», принимая этих несчастных, все потерявших людей.
Сегодня редко, только в юбилейные дни, вспоминают о благородстве, доброте и отзывчивости людей, проявившихся в годы войны. Но если бы тогда не было всеобщего сострадания к людской беде, мы могли бы и не выдержать. Сколько детей не погибло только благодаря тому, что многие семьи брали на воспитание сирот, потерявших где-то родителей или вывезенных из районов боевых действий! В советское время о таких случаях много писали. Я помню, что одна женщина в Ташкенте взяла на воспитание 16 детей разных национальностей! Это, конечно, исключительный случай, но по одному, по два ребенка брали многие. Сейчас такое даже представить невозможно…
А тогда все это было. И хотя людям приходилось трудно, но они помогали, поддерживали тех, кому было еще хуже, еще труднее.
Уральцы делились с беженцами всем, что имели: кровом, теплом, скудным продовольствием, одеждой, обувью. По карточкам давали только хлеб — рабочим 800 граммов, служащим и детям и того меньше — по 400 и 600 граммов. Масло, сахар, чай, на которые тоже были карточки, практически исчезли с нашего стола. На рынке же было все. Но если государственные цены на хлеб и другое продовольствие не менялись в течение всей войны, то на рынке они сразу резко подскочили и росли постоянно. Продукты стоили очень дорого. Так, килограмм сливочного масла стоил 1000 рублей, буханка черного хлеба — 200 рублей (для сравнения: моя зарплата на заводе составляла примерно 800–1000 рублей).
Сейчас, когда в условиях мирного времени цены растут еженедельно и для большинства населения многие из жизненно важных продуктов питания стали уже недоступными, даже представить невозможно, как удалось руководству страны сохранить государственные цены неизменными в течение четырех лет войны, когда значительная часть экономики была разрушена, а остальная работала на армию, на фронт.
Время шло. Война катилась на восток, немцы захватывали один город за другим. Дома ни днем, ни ночью не выключалось радио, все с тревогой слушали сообщения Советского информбюро, волновались, переживали. Никогда, наверное, не забудется этот круглый, черного цвета висевший на стене репродуктор, около которого собирались все, чтобы узнать последние новости с фронта.
А у нас каникулы, и мы томились от того, что не находили себе применения. Наконец наше время пришло.
Однажды всех комсомольцев (я вступила в комсомол в марте 1941 года) собрали в школе и объявили, что мы едем в колхоз на сельскохозяйственные работы. К тому времени очень многих молодых и здоровых мужчин уже мобилизовали на военную службу, в селах остались в основном женщины, старики, дети. А народ, армию надо кормить. Немцы заняли значительную территорию европейской части страны, поэтому очень важно было не дать пропасть урожаю в восточных районах. Все это нам объяснили. Начались сборы.
Необыкновенное все-таки было время. Оглядываясь назад, вспоминая те события, каждый раз изумляюсь. Всем нам, выпускникам семилетки, в рамках существовавшего тогда спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» надлежало обязательно участвовать в легкоатлетическом кроссе. В назначенный день почти никто не пришел: война идет, а тут какой-то кросс! Но когда нам сказали, что те, кто не придет на кросс, не поедут в колхоз, — все пришли.
И вот мы в колхозе. С утра до вечера под палящим солнцем — в поле. Все обгорели, кожа слезала клочьями. Поварихи у нас не было, так как в поле дорожили каждой парой рук. Готовили сами, все по очереди. Готовили — это громко сказано. Варили прямо в поле, на костре, в огромном котле. Я с ужасом ждала, когда придет мой черед, ведь я совсем ничего не умела готовить. Чуда не произошло, моя очередь кашеварить наступила. Как сейчас вижу: костер, черный от копоти котел и вылезающая через край пшенная каша. Я слишком много положила крупы, вот и тесно стало моей каше в этом огромном котле. Возле стою я — в бордовых сатиновых шароварах, обгоревшая и вся в слезах — от дыма, от боли в обгоревших руках и досады на свою неумелость. Да и стыдно было: придут уставшие и голодные ребята, а тут… Но ребята ничего не сказали, всю кашу съели, ложки облизали. Голодные же! Увы, я была не единственная неумеха. Такие «кулинарные шедевры» мы ели не один раз.
До конца лета я не доработала. Заболела скарлатиной, меня увезли в Уральск и положили в больницу. Не помню, сколько я там пролежала. Вскоре после выписки из больницы я снова заболела. Перепады температуры от 35 до 40 градусов. Невыносимые головные боли, мне казалось, что даже волосы мешают, будто железным обручем стягивают голову. Попросила отца сбрить их. Он не стал спорить, взял машинку и обрил меня наголо. Долго не могли поставить диагноз. Однажды мама встретила на улице известного в городе врача Келлера, из ссыльных немцев. И хоть он куда-то очень торопился на своей бричке, но согласился посмотреть меня. Выслушал, осмотрел, определил — брюшной тиф. И снова в больницу. Помню охвативший меня ужас, когда я оказалась в той же палате, где лежала в первый раз, и на кровати, где тогда умерла моя соседка. «Значит, и я умру» — это было первой моей мыслью. Тут же я надолго потеряла сознание. Все остальное до того, как сознание вернулось ко мне, знаю со слов мамы. Положение было почти безнадежным. Я очень долго находилась без сознания, температура постоянно держалась на уровне 39–40 градусов, сердце справлялось с большим трудом. И однажды маму с папой пропустили, чтобы они могли проститься со мной, хотя отделение было инфекционное, к больным никого не допускали. Врач сказала им, что все зависит от сердца — выдержит оно или не выдержит. Представляю их состояние. Позднее мама рассказывала, что она каждое утро приходила к больнице и со страхом заглядывала в окно моей палаты, которая находилась на первом этаже: если видно мое домашнее одеяло, значит, я еще жива. И так — не одну неделю.
Была уже зима, когда я пришла в себя. Стояли сильные морозы. В больнице, где было печное отопление, не хватало дров, и родители каждый день приносили несколько поленьев, чтобы подтапливали мою палату. Есть грубую пищу мне не разрешали, требовались белые сухари, масло, соки. Но где все это взять, когда действует строгая карточная система, а на рынке цены такие, что купить ничего нельзя? Подобную роскошь могли себе позволить лишь спекулянты. Их во время войны появилось немало. Можно было выменять продукты на драгоценности, на какие-то очень хорошие вещи. Но в нашей семье такого отродясь не водилось. Выход нашел отец: собрал более или менее приличные вещи (ковер, свой новый коверкотовый костюм, хромовые сапоги и что-то еще) и поехал по деревням. Привез мешок яблок, немного белой муки и чуть-чуть сливочного масла. Теперь почти каждый день мама или папа приносили мне белые сухарики, сок, яички. Понемножку я начала поправляться.
Однажды стук в окно раздался во внеурочное время. Я выглянула и увидела под окном радостно улыбавшуюся Люсю Малиновскую — лучшую мою подругу. Она что-то говорила, показывала на свою голову. Я ничего не слышала через двойные стекла, не понимала, чего она хочет. Тогда Люся сняла с головы шапку, и я увидела, что она острижена наголо! Как потом выяснилось, сделала она это из солидарности со мной. Чудачка!
Месяца три, кажется, провалялась я в больнице, вышла оттуда такая слабая, что пришлось заново учиться ходить, держась за спинку кровати или стула. Обритая наголо, худющая, еле стоявшая на ногах, я остро испытывала радость: жива! Ходила по комнате, трогала вещи, смотрела в окно и снова радовалась. Радовалась тому, что хожу, вижу, разговариваю, слушаю. Потом начала выходить на улицу. Наступил день, когда я решила пойти в школу, повидать одноклассников. У нас был очень дружный класс, встретили меня радостно, а Люся Малиновская кинулась обниматься. Я от слабости не устояла на ногах, упала и ее за собой потянула. Обе лежали на полу и хохотали, а рядом хохотал весь класс.
Учиться в том году я уже не смогла, ибо безнадежно отстала больше чем на полгода, да и сил пока не было для учебы.
Когда после болезни я начала выходить на улицу, мне показалось, что людей в городе стало значительно больше, чем до моей болезни. Так и было в действительности. В Уральск передислоцировались с запада еще какие-то предприятия, военные училища, постоянно прибывали беженцы. А это все люди, люди, люди…
За годы войны население Уральска возросло примерно на 40 тысяч человек и достигло 100 тысяч.
Глава 2. Все для фронта
В 1942 году нашу школу закрыли, в ее здании разместился госпиталь. Ученики разбрелись кто куда: одни перешли в другие школы, многие старшеклассники пошли работать, кто-то вообще уехал из города.
Надо признаться, что я в то время была, что называется, маменькиной дочкой: избалованная, робкая, несамостоятельная, не приспособленная к разного рода житейским трудностям и передрягам. Но в тот момент, когда встал вопрос, что же мне делать, я вдруг четко поняла, что в этой ситуации нельзя ответственность за свою судьбу перекладывать на кого-то другого, что я должна сама принимать решение. И я решила: иду работать на завод.
В это время мне пришла повестка: меня мобилизовали на трудовой фронт, пока — в качестве ученицы школы фабрично-заводского обучения. Да, в годы войны существовала и трудовая мобилизация. Мама пошла со мной на комиссию, предъявила справку о том, что у меня порок сердца, и я получила временную, до полного выздоровления отсрочку. Неловко было уклоняться от призыва, но мне почему-то не хотелось в эту школу, и мамины действия не вызвали у меня протеста. Однако, выйдя из школы, я тут же заявила маме, что болтаться без дела не могу и пойду на военный завод. Мама возражала, потому что сердце-то после перенесенного тифа действительно очень беспокоило меня. Мама предлагали устроить меня куда-нибудь в более спокойное место, на канцелярскую работу. И вот тут я впервые за свои шестнадцать лет сказала свое твердое «нет», заявила, что пойду только на военный завод и обязательно буду осваивать рабочую профессию. Меня отговаривали от этого опрометчивого, по их мнению, шага все родственники, но я настаивала на своем. И настояла.
Пошла на оборонный завод № 231. Меня определили в цех № 8. Встал вопрос о рабочей одежде. В доме ничего подходящего не нашлось, подключились родственники. Тетя Лида (старшая мамина сестра Лидия Ивановна Синодальцева) принесла свое старое пальто, длинноватое, правда, и широковатое, но если подпоясаться ремнем — сойдет. Кто-то подарил красивую шелковую шаль, которая в момент дарения была белой, через несколько дней стала серой и потом уже никогда не имела первоначального цвета, несмотря на все наши усилия. Еще от кого-то достались подшитые, с кожаными заплатками на задниках, валенки. Нашлись у родственников лишние шапка и варежки.
Выглядела я, мягко говоря, неважно, но тогда на заводе мало кто выглядел лучше, да и внимания на это не обращали. Нас волновали другие проблемы.
И вот наступил мой первый рабочий день. В проходной предъявляю пропуск, иду по территории, нахожу свой цех, еще раз предъявляю пропуск и вхожу. Наш цех размещался в бывших авторемонтных мастерских. То, что я здесь увидела, потрясло меня. Огромный цех, холодные стены, цементный пол. Кое-где виднелись чугунные печки, которые назывались «буржуйками», но они давали мало тепла, поэтому было так холодно, что изо рта шел пар. По всему цеху — станки: токарные, фрезерные, шлифовальные, сверлильные, расточные и еще какие-то. Одни — огромные, длинные, другие — совсем маленькие, настольные. Они стояли очень тесно, видно, руководство цеха стремилось разместить на отведенной площади как можно больше оборудования. Все это крутилось, гудело, скрипело, визжало. Шум стоял невообразимый.
Но самое потрясающее впечатление произвели работавшие здесь люди. Это были главным образом женщины и подростки. Все в зимних пальто, телогрейках или полушубках, в теплых шапках или платках, в валенках. Несмотря на сильный холод, все сосредоточенно работали. И как работали! Обратила внимание на то, что некоторые подростки стоят на каких-то ящиках. Подумала, что это для тепла, но потом поняла, что многие подростки из-за своего маленького роста без этих ящиков просто не смогли бы управлять станками. Неудивительно, ведь некоторым мальчишкам и девчонкам было лишь по 13–14 лет.
До сих пор, когда вспоминаю наш цех, видятся мне длинные сигарообразные корпуса торпед, отполированные до блеска, огромные шары морских мин. И люди — смертельно уставшие от непосильной работы и недосыпания, истощенные, всегда голодные, посиневшие от холода.
Начав работать, узнала, что в цехе всего несколько мужчин, в том числе начальник цеха Иванов и слесарь-инструментальщик Д. Полтев. Вот к этому последнему я и попала в подчинение. Скверный был старикашка, куркуль настоящий, норовил всегда хапнуть побольше, не гнушался и приписками. Но в своем деле — ас, при этом еще и единственный такой специалист. Вот и терпели его.
Меня определили кладовщицей в инструментальную кладовую, одновременно поручили Полтеву обучать меня тому, чем занимался он. А занимался он очень ответственным делом — собирал какие-то узлы для взрывных устройств морских мин и торпед. Многие детали делались им вручную. Я уже не помню названий этих изделий и деталей к ним, но главное, что без них ни один снаряд не мог взорваться.
Рабочее место моего мастера было оборудовано здесь же, в кладовой, где я работала. Это позволяло мне каждую свободную от основной работы минуту использовать с толком, обучаясь полтевскому мастерству. Правда, поначалу свободных минут было мало. Но потом, когда я освоилась с работой и лучше стала управляться с обязанностями кладовщицы, обучение пошло быстрее.
Работа была тяжелая, целый день на ногах. Я выдавала и принимала инструменты: ручные дрели, ножовки, молотки, зубила, сверла, фрезы, керны и прочее. Это сказать легко — выдавала и принимала. На деле же… За каждой единицей инструмента — к стеллажу и обратно, туда и обратно. Не перепутать ячейки и не положить, к примеру, сверло одного диаметра в ячейку, где лежат сверла другого диаметра, иначе потом никогда это сверло не найдешь. А у окна выдачи инструмента — очередь, все требуют быстрее, чтобы времени попусту не терять. И так — с утра до вечера, в течение двенадцати часов (такова была продолжительность рабочего дня).
Сколько я пролила слез! Инструмента и так катастрофически не хватало. Да еще мальчишки часто портили, ломали его, иногда по неопытности, а иногда и по шалости — дети все-таки. А рабочие требуют, кричат, ругаются. Целый день в ушах: «Давай, давай, такая-сякая!» Пойдешь к слесарю-заточнику с поломанным или затупившимся инструментом, а он тоже: «Такая-сякая, куда смотришь, что инструмент в плохом состоянии! Точи сама!» А как точить, если не умею? Спасибо моему учителю: хоть и неважный он был человек, но сжалился надо мной, иногда сам стал затачивать инструмент, а главное, меня этому научил. Стало намного легче.
Затем меня допустили в святая святых: вместе со старым мастером я стала собирать те самые изделия, от которых зависел весь цех: сколько мы их вдвоем соберем, столько и продукции уйдет из цеха. Вскоре получила 3-й разряд по профессии слесаря-инструментальщика.
А над инструментами плакала уже другая девчонка. Ей, правда, было легче, я понемногу помогала, когда была такая возможность.
Работая на заводе, мы очень хорошо чувствовали (именно чувствовали) обстановку в зонах морских сражений. Бывали дни, и нередко, когда всех рабочих цеха собирали на пятиминутный митинг и говорили, что надо поработать сверхурочно. Мы понимали: или где-то идут тяжелые бои на море, или готовятся крупные морские операции, от нас требуется дополнительная продукция. Сверхурочная работа могла продолжаться и сутки, и двое, и даже трое суток. Ночевали в цехе, располагаясь на верстаках, на ящиках, у станков. В эти дни нас немного подкармливали в заводской столовой.
А иногда люди засыпали прямо на рабочем месте. Из-за этого всякое случалось — были и травмы, и увечья. После аврала отпускали на двенадцать часов домой, на отдых — и снова за работу.
Но никто не роптал. «Все для фронта! Все для победы!» — эти слова стали главным девизом для страны на долгих четыре года войны. Люди много и самоотверженно трудились, боролись за перевыполнение планов. Лучшим бригадам присваивалось наименование «фронтовых». А сколько было добровольных пожертвований в Фонд обороны на строительство танков и самолетов! Сдавали драгоценности, деньги, антиквариат. Женщины, и старые и молодые, вязали для солдат носки, варежки, иногда на последние деньги покупали махорку, папиросы и все это посылали на фронт. Писали солдатам письма. В те годы появилось много доноров, люди сдавали кровь для спасения жизни раненых.
На военных предприятиях, да и в других организациях, дисциплина была жесткая. По законам военного времени прогулы, нарушения дисциплины, производственный брак карались жестко, вплоть до уголовного наказания. Мой племянник, 14-летний мальчишка, работавший на том же заводе, что и я, прогулял по какой-то причине пару дней, так его осудили на год исправительных работ с пребыванием в колонии для малолетних правонарушителей. Жестоко, конечно. Но без строгой дисциплины мы не смогли бы сделать того, что было сделано. Взять наш завод: ведь не успели еще полностью смонтировать оборудование, а на установленных станках рабочие уже начали выпускать продукцию. Так было повсеместно. Бывало и по-другому: устанавливали станки под открытым небом, начинали работать, выполняли военные заказы, а параллельно с этим возводили стены, крышу — так создавались новые предприятия по выпуску военной техники и оружия. Без жесткой дисциплины, порядка и организованности это было бы невозможно.
Рабочая наука давалась мне трудно. Я ведь тогда ничего не умела делать. Родители не приучили меня даже к домашнему труду. Думаю, что одной из причин этого были постоянные мои болезни. Ведь я переболела практически всеми детскими болезнями, потом перенесла скарлатину, тиф, естественно, что здоровьем не отличалась. И родители оберегали меня.
На заводе же всего хватало с лихвой. Сколько раз я разбивала пальцы молотком, обдирала точильным камнем. Потом в раны попадала грязь, все начинало гноиться, пухнуть. Помню, встанешь утром, а пальцы как сардельки. Помнешь их, разотрешь, гной выдавишь, где можно, и идешь на завод. Больше всего в то время я мечтала о том, чтобы можно было работать в перчатках. Но, увы, это могли себе позволить только те, кто работал с крупными деталями или занимался сваркой. У нас же детали были очень мелкие, их, бывало, и голыми-то руками еле ухватишь. А холод стоял такой, что иногда кожа примерзала к металлу, потом клочьями слезала.
Мне, да и не только мне, постоянно хотелось есть. Хоть я и получала по рабочей карточке 800 граммов хлеба в день, но что это был за хлеб! Сожмешь кусок в кулаке, потом разомкнешь пальцы, а он, хлеб-то, так темно-серым комом и остается. А больше и нечего было взять с собой на работу. Да и такого хлеба не ели вдоволь. Правда, иногда в столовой удавалось что-то перекусить, но это нерегулярно. Дома тоже питались скудно.
В какой-то период стало совсем худо. Тогда папа сложил в мешок свои последние хромовые сапоги, прекрасную зимнюю бекешу, еще что-то, опять поехал в деревню и обменял все это на мешок мучели (мука из шелухи проса). Мы так обрадовались: ведь целый мешок муки, пусть не настоящей, но из нее можно испечь лепешки, оладьи. Увы, радость наша оказалась преждевременной: мучель оказалась очень горькой, по вкусу напоминала хинин. То ли она подпортилась у хозяев, то ли по природе своей такова, не знаю, поскольку потом мне никогда не приходилось ее есть. Но все равно, мы пекли из нее лепешки — без дрожжей, без соли, без масла, просто лепили с водой и ставили сковородку с этим «шедевром» кулинарного искусства военного времени в русскую печку. И ели. Помню, возьмешь кусочек в рот и думаешь: проглотить или выплюнуть? Все-таки глотали, голод брал свое. Потом во рту долго ощущалась горечь.
Но случались в нашей жизни поистине чудесные дни. Однажды отцу, как участнику Октябрьской революции, к какому-то празднику выдали паек. Что там было, не помню. Когда я вошла в комнату и глянула на стол, мне бросился в глаза кирпичик настоящего белого, мягкого, пористого, с душистой корочкой хлеба. Этот кирпичик пшеничного хлеба, такого необычного для того времени, буквально заворожил меня. Я бережно взяла его в руки и резала прямо на ладони, чтобы ни одной крошки не уронить. Нож оказался с зазубринами, я порезала себе руку, но выбросить крошки не смогла, съела их вместе с капельками крови. До сих пор ясно вижу этот кирпичик великолепного хлеба.
В другой раз маме дали целый котелок наваристого мясного бульона. Мы выставили его на мороз. Потом застывший жир собрали, на нем что-то жарили, а из разбавленного и обезжиренного бульона несколько дней варили суп. Вообще-то трудно было назвать это супом: туда бросалась какая-то крупа и немного соли. Но все-таки похлебка была на мясном бульоне.
Во время войны самой устойчивой валютой была водка, в обмен на нее можно было приобрести все. За 0,5 литра водки на рынке давали, например, полкило сливочного масла. Как-то отец получил сразу три бутылки водки. Поставили мы эти бутылки в укромном месте. К нам в то время изредка заходила одна старушка — одинокая, вечно голодная, но всегда чистенькая, аккуратная (как ей это удавалось при отсутствии мыла и всего остального, не понимаю), и необыкновенно услужливая. Звали ее тетей Таней. Откуда она появилась, не помню. Но мы все очень любили ее, понемногу подкармливали, когда было чем, она же помогала маме по дому. Мы все работали с раннего утра и до поздней ночи, времени на домашние дела просто не оставалось. Да и тетя Таня чувствовала себя лучше, когда помогала нам. «Все-таки не даром ем у вас», — говаривала она, когда для нее находилось какое-нибудь дело.
Однажды она надумала вымыть полы, случайно задела одну бутылку с водкой, та упала и повалила другие. Разбились все три! Для нас это была весьма ощутимая потеря, мы ужасно расстроились. Тете Тане никто ничего не сказал, но сама она очень долго чувствовала себя виноватой. Как придет, бывало, так плачет: «Что же я, старая, наделала!» Успокаивали ее, как могли.
На заводе все шло своим чередом. Комсомольцы избрали меня членом комитета ВЛКСМ. Главной моей обязанностью была забота об учащихся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), готовившей рабочих для завода. Той самой, в которую меня совсем еще недавно призывали и в которую мне так не хотелось идти.
Мне было уже 17 лет, но я не отличалась боевитостью и самостоятельностью, не всегда умела постоять даже за себя. А теперь пришлось отстаивать интересы нескольких десятков подростков, заботиться о том, чтобы и производственная практика у ребят на заводе проходила организованно, и быт с питанием были налажены. Как говорится, положение обязывало. Понемногу я научилась спорить с начальством, доказывать, Добиваться, кое-что стало неплохо получаться. Во всяком случае, так оценила мою общественную работу наша заводская, многотиражка, которую я сохранила.
В общем, дел хватало, я основательно была занята и производственными, и общественными делами, скучать не приходилось.
Но молодость — она всегда молодость. Когда выдавалось свободное время (правда, это бывало не так уж часто), встречалась с прежними своими друзьями, ходила в гости, в кино и даже на танцы.
Однажды узнала, что в госпиталь, размещенный в нашей школе, прибыл мой одноклассник Володя Чемряев. С разрешения мамы потратила часть своего заработка, купила чего-то вкусненького на базаре и отправилась навестить раненого. Мы долго разговаривали. Володя рассказал, что в 16 лет он, обманув все комиссии, умудрился поступить в пехотное военное училище, в 17 лет командовал ротой, был ранен и вот теперь лечился в стенах своей родной школы. Прощаясь, Володя сказал: «Знаешь, Юля, меня направляют на Сталинградский фронт, чувствую, что оттуда я не вернусь». Так и случилось, он погиб под Сталинградом…
Еще один мой одноклассник — Юрий Зайцев — тоже добровольно ушел на фронт. Остался жив, но потерял руку.
Об остальных мальчишках моего довоенного класса ничего не знаю. Вообще-то моим ровесникам, родившимся в 1926 году, повезло, многие из них даже в армию не призывались и остались живы.
Шел 1943 год. Наступило лето, стало немного легче. Все чуть-чуть ожили, оклемались, как у нас говорили. Мы ходили за ягодами, собирали грибы, ловили рыбу. Реками наша местность богата. Кроме Урала, рядом с городом протекали Чаган, Деркул и еще какие-то маленькие речушки. Рыбы в них в то время водилось много, а в Урале была даже красная рыба. Поэтому с рыбалки мы никогда не возвращались с пустыми руками. Маме дали за городом крохотный участок земли, мы посадили там картошку, а осенью собрали неплохой урожай. Не перестаю удивляться: ведь в то время было очень голодно, однако картошку с загородного участка не воровали.
Вообще с 1943 года с питанием стало немного легче. Разговаривала не так давно со своей заводской подругой Юлей Ларгиной, и она вспомнила, что, когда мы с ней работали в ночную смену, моя мама готовила к нашему обеденному перерыву (в 12 часов ночи) винегрет. Мы приходили ко мне домой (завод располагался в 10–15 минутах ходьбы). «Целый таз винегрета, — рассказывала Юля, — мы приходили и все съедали. Все до крошки».
Так шло время, я уже хорошо освоилась с работой, стала настоящим рабочим человеком. Однако мысль о фронте не покидала меня.
И вот однажды утром я встретила на улице Валю Шилову, мою подругу еще с детсадовских времен. Правда, она была на два года старше меня, поэтому в детском саду мы были в разных группах, в школе — в разных классах. Так получилось, что и на заводе оказались в разных цехах. Подружились мы благодаря нашим мамам, которые в молодости, состояли в одной комсомольской организации и сохранили дружеские отношения на все последующие годы.
Валя была необыкновенным человеком. Такие добрые, отзывчивые на чужую беду и радость люди, не способные по своей натуре на нечестность и обман даже в малом, по-моему, редко встречаются. Небольшого роста, хрупкая, она, тем не менее, была сильной, волевой, что особенно проявилось во время ее службы в армии. Меня больше всего поражали ее глаза — светлые, ясные и какие-то бездонные… Кто-то однажды сказал мне, что люди с такими глазами долго не живут. К сожалению, пророчество это сбылось: она погибла через три месяца после прибытия на фронт…
А в то летнее утро, встретив Валю, я узнала, что в городе организованы двухнедельные, с отрывом от работы, курсы начальной военной подготовки для девушек. Принимали на курсы по рекомендации комсомольской организации. Валя уже поступила. «Все, — решила я, — пришло мое время, тоже пойду на эти курсы». Валя пыталась остудить мой пыл, сообщив, что принимают девушек не моложе 18 лет. Мне до восемнадцати оставалось более полугода. Но я решила, во что бы то ни стало поступить на эти курсы: то был реальный шанс приблизиться к осуществлению моей мечты — попасть на фронт.
Наступил первый день занятий, приходить надо было с паспортом. Я явилась, естественно, без всяких документов. На вопрос о паспорте пролепетала что-то невнятное. На первый раз поверили. Но когда это повторилось на второй, на третий день, преподаватели, конечно, догадались. Однако из группы почему-то не стали отчислять. Возможно, подкупило мое страстное желание попасть на фронт и старательность, с какой я относилась к занятиям, а может быть, просто план набора был выполнен не полностью. Не знаю. Нагрузка на курсах оказалась очень большой, занимались по семь-восемь часов ежедневно, включая и выходные дни. Учили нас воинскому уставу, строевой подготовке, ползанию по-пластунски, маскировке, рытью окопов и даже стрельбе из малокалиберной винтовки — и все на улице, в любую погоду. Насколько мне помнится, ни одна из девчонок, несмотря на трудности, не дрогнула. Через две недели выдавали справки о завершении обучения на курсах начальной военной подготовки. Вот теперь от меня снова потребовался паспорт. Увы, 18 лет мне еще не исполнилось, паспорт бессмысленно было предъявлять, а посему я, единственная из всей группы, никакого документа не получила. Тогда я не придала этому никакого значения: подумаешь, какая-то бумажка.
Прошло полгода. И вот как-то иду на работу и опять у заводской проходной (вот ведь как бывает!) сталкиваюсь с Валей, очень взволнованной. Я удивилась: начиналась наша смена, а она шла с завода. Оказалось, что Валя и другие девчата, окончившие те самые курсы НВП, на которых полулегально занималась и я, получили из военкомата повестки, их призывали в армию. А основанием для призыва послужили те самые справки, о которых я отозвалась так пренебрежительно. Я не пошла на работу, решила вместе с Валей идти в военкомат, хотя за самовольный невыход на работу мне грозила серьезная кара, могли и под суд отдать. Но в тот момент я даже не подумала об этом. Я должна была попасть на фронт!
Когда мы пришли в военкомат, там уже собрались все девчата с курсов. Стали они доставать документы, в том числе и злосчастные справки. Только теперь я сообразила, что у меня не было с собой вообще никаких документов, кроме заводского пропуска. Не спасовала, вместе со всеми вошла в кабинет городского военного комиссара, который почему-то сам принимал нас. Вероятно, с учетом того, что призывники были несколько необычные. Села на крайний стул около двери и стала соображать, как мне выкрутиться из положения. Ничего не придумала. А горвоенком, узнав, что у меня нет никаких документов, даже разговаривать со мной отказался и предложил вернуться на завод, работать для фронта. С трудом уговорила выслушать меня. Выслушал, удивился, что я окончила курсы на одни «пятерки», но призывные документы оформлять отказался. На прощание поинтересовался, не дочь ли я Александры Ивановны Жуковой.
Из военкомата пошла на завод. Но работалось что-то неважно, мысли заняты были одним: как вместе с остальными девчатами попасть на фронт. Вернулась домой после смены, около 12 часов ночи. Мама еще не спала. Чем-то расстроенная, она стояла у корыта и ожесточенно терла белье.
— Что с тобой, мама? Чем ты расстроена?
— По-твоему, я должна радоваться, что ты тайком от нас с отцом идешь в военкомат и просишь отправить тебя на фронт? Ты же девчонка еще, у тебя больное сердце. В конце концов, даже ребят твоего возраста еще не призывают.
— Но ведь я комсомолка, мама, и окончила специальные курсы.
В общем, разговор получился очень тяжелый. Я тогда не могла понять, от кого мама узнала о моем походе в военкомат, думала, что кто-то из девчат проговорился. Огорченная разговором с мамой, я пошла спать и не предполагала, что мои родители в ту ночь вообще не уснут, решая, как им поступить.
Толька после войны мама рассказала, что хорошо знавший ее военком сразу после моего ухода позвонил ей, все рассказал и пообещал сделать так, как она решит. Нетрудно представить состояние мамы, да и отца тоже. Мне они ничего не сказали об этом звонке, а сами всю ночь не спали, думали, советовались, как поступить. Страшно было давать согласие: вдруг убьют или инвалидом на всю жизнь останусь. Не менее сложным было для них принять и другое решение: не отпускать меня на фронт. Волновало, как я буду чувствовать себя и как стану относиться к ним, если узнаю когда-нибудь, что они прикрыли меня своим служебным положением и авторитетом. В общем, вопросов было много, а вариантов ответа всего два: да или нет. После тяжелой бессонной ночи мама позвонила военкому и сказала «да».
После войны мне рассказали, что однажды в разговоре с кем-то мама произнесла такую фразу: «Если что-то случится, Юля не простит нам, что мы не пустили ее на фронт». Что она имела в виду, не знаю, я никогда не говорила с ней об этом.
…Итак, мои родители приняли очень тяжелое для них решение. Оно далось нелегко и потребовало от них определенного мужества. Ведь мне только что исполнилось 18 лет, здоровье не очень крепкое (все-таки порок сердца), и я была единственным у них ребенком. Может быть, кто-то и осудил их, но я благодарна моим родителям за то, что, преодолев все страхи и сомнения, они приняли тогда именно такое решение. Будь оно другим, я, возможно, на всю жизнь осталась бы стеснительной, робкой и не очень уверенной в себе, какой была прежде. Армия, фронт круто изменили меня, мой характер, вообще всю мою жизнь. Не только я по-иному стала относиться ко всему окружающему, но и отношение окружающих ко мне стало другим.
Главное же, что все послевоенные годы я, как и тот не известный мне солдат, прожила с ощущением личной причастности к нашей великой Победе, с чувством гордости за то, что в трудные для страны годы я не осталась в стороне. Это великое счастье, когда есть чем гордиться.
И еще одно могу сказать совершенно определенно: меня постоянно угнетало бы чувство вины от того, что я отсиделась в тылу и потому осталась жива, а моя подруга Валя Шилова пошла на фронт и погибла. Я и так долгие годы после войны чувствовала себя виноватой в том, что при распределении в школе снайперов проявила инертность и ничего не сделала, чтобы попасть с Валей в одну воинскую часть. Возможно, все сложилось бы иначе. А может быть, так угодно было распорядиться судьбе, ведь что-то всегда разводило нас… Вот и в военной школе мы оказались в разных ротах, и направили нас на разные фронты.
Но перед отъездом произошло еще одно важное для меня событие. От рождения звалась я Алексеевой Юлией Валерьяновной, по имени моего родного отца. Когда мама вторично вышла замуж, она, как и при первом браке, оставила девичью фамилию — Синодальцева. Выглядела наша семья в этом плане несколько странно: отец — Жуков, мама — Синодальцева, а я — Алексеева. Позднее, когда отчим вышел из заключения, мама взяла его фамилию, а я осталась со своей. Отец, я всегда его называла именно так, несколько раз заговаривал с мамой об изменении моей фамилии, но она почему-то не соглашалась. И вот теперь, когда остался последний шанс на удочерение (это разрешалось только до 18 лет), отец вновь вернулся к этому вопросу. Мама согласилась, но, поскольку я была уже взрослой, решать вопрос предоставили мне. Я любила отца, дорожила его отношением ко мне, поэтому не могла не согласиться. Он был рад. Так получилось, что с завода увольнялась Алексеева, а в военную школу поехала Жукова.
Глава 3. Трагедия моей семьи
В последнее время, работая над воспоминаниями, я все чаще и чаще мысленно возвращаюсь к моим родителям. Вспоминаю мою милую и нежную маму, которая всегда была мне не только мамой, но и настоящим другом. Вспоминаю внешне сурового, но очень доброго и отзывчивого отца. Всматриваюсь в прошлое и как бы вновь переживаю годы, предшествующие нынешнему дню, снова и снова думаю, как много пришлось пережить моим родителям, сколько горестных дней выпало на их долю, в том числе и по моей вине. Сначала мои бесконечные детские болезни. Затем тиф и постоянная тревога: выживет или не выживет? Потом — завод, когда мне сутками приходилось работать в холоде и в голоде, да еще с больным сердцем, а родители волновались за меня, за мое здоровье. Затем — фронт, и снова жизнь родителей полна тревог и ожиданий: вернется или не вернется? Ранят или не ранят? В 1948 году я уехала в Москву, где сначала училась, а затем работала. Одиннадцать месяцев — в Москве и лишь один — дома, с родителями. А они опять живут ожиданиями: ждут моих писем, моих каникул или отпуска, моего приезда…
Понимаю, что такова судьба всех родителей. Но ведь никому от этого не легче. Одно утешает: я никогда не пренебрегала своими дочерними обязанностями, очень любила маму и отца и никогда не предавала их ни в делах, ни в мыслях. Даже когда отца арестовали как «врага народа», я твердо сказала: «Не верю, что мой отец враг народа». Мне было всего 13 лет, но я была убеждена в невиновности отца.
Это произошло в марте 1939 года. От тех событий нас отделяют уже более шестидесяти лет. 1930-е годы были трагическими для нашей страны. Тогда очень много невинных людей подверглось репрессиям, сотни тысяч были расстреляны. Беда коснулась и нашей семьи.
В тот год мы жили в Барнауле. Отец работал начальником отдела краевого Управления НКВД. Какое он имел звание, не помню, на его фотографиях в петлицах по два ромба. Человеком он был, безусловно, заслуженным. Мама работала в том же управлении, звание имела невысокое, но работу выполняла очень ответственную — шифровка и дешифровка.
Жили мы в большом кирпичном доме из четырех комнат, обставленных казенной мебелью с инвентарными номерами на каждом предмете. Обзаводиться мебелью не имело смысла, потому что папу часто переводили из города в город, и когда мы переезжали, то брали только свои личные вещи. На новом месте наша квартира опять обставлялась мебелью с инвентарными номерами. В результате частых переездов я к 5-му классу сменила уже несколько школ в Алма-Ате, Новосибирске и Барнауле.
Здесь, в доме, у меня была своя комната. Заходишь в дом, и по коридору направо — моя обитель, где я спала, занималась, играла.
В тот мартовский день 1939 года я возвратилась из школы и, как всегда, сразу направилась в свою комнату. Сначала я даже не заметила сургучную печать на двери, увидела ее только тогда, когда попыталась войти. Дверь была заперта, на ней — большая красная сургучная печать. Я бросилась к Марфе Ивановне, нашей домработнице. И вот тут я увидела — в доме много военных. Меня отвели в столовую. Здесь заканчивался обыск. Вещи, книги, какие-то бумаги валялись на полу, ящики выдвинуты, из них тоже выбрасывалось все подряд. Казалось, все перевернуто вверх дном. А на диване неподвижная, с застывшим белым лицом сидела мама. Она не плакала. Я села рядом с ней, спросила, что случилось, и услышала: «Папу арестовали как врага народа». Моя реакция была мгновенной: «Нет! Я не верю, что папа враг народа».
Взяли отца на работе. Маму тоже уволили и исключили из партии как жену «врага народа».
Потом, когда вернется отец, мама расскажет ему о моей реакции на его арест. И тогда он скажет мне буквально со слезами на глазах: «Я никогда этого не забуду. Спасибо тебе, дочь».
Но это будет почти через год: А в тот далекий день военные, закончив обыск, забрали документы, папины награды, целую кипу фотографий и ушли, сказав на прощание, чтобы через день мы освободили особняк.
Мама нашла где-то крохотную комнатку, метров 8–9. Взяв одежду, мои учебники и игрушки, с которыми я никак не хотела расставаться, мы переехали на новую квартиру уже на следующий день.
Мы с мамой остались совершенно без всяких средств к существованию, так как родители мои никогда не умели копить деньги, а выходное пособие в таких случаях, естественно, не выплачивалось. Мама пыталась что-то узнать о муже, куда-то ходила, куда-то писала, но безрезультатно. Родных у нас в Барнауле не было, знакомые и друзья боялись общаться с нами и, встретив на улице, торопились перейти на другую сторону или отворачивались, делая вид, что незнакомы с нами.
Сначала я говорила маме: «Нас не заметили, давай окликнем». Мама чаще всего отмалчивалась. Но однажды она остановилась, повернула меня к себе и сказала: «Юля, ты уже большая девочка и должна понять: мы теперь — семья врага народа, люди боятся поддерживать с нами отношения». Я ничего не поняла, про себя же думала: если мне ясно, что папа не враг народа, почему же взрослые этого не понимают? А какие же мы-то с мамой враги? Почему нас боятся? Но с тех пор я ни о чем не спрашивала маму.
Я перестала ходить в школу: мне было страшно и стыдно, я боялась, что меня будут расспрашивать, что-то говорить по этому поводу. И вот однажды к нам пришла наша классная руководительница А. А. Чебышева. У нее муж тоже работал в НКВД, но она не испугалась, пришла, долго говорила о чем-то с мамой. А потом пришли наши ребята — почти полкласса. Мне некуда было пригласить их, и мы долго стояли на улице, разговаривали. Только много позднее я поняла, что Анна Александровна совершила тогда Поступок.
Мама, ничего не добившись, решила: надо ехать к родным, в Уральск. Ехали в общем вагоне. Дорога была долгая-долгая, наш путь пролегал почему-то через Москву. В пути я заболела. Мама нервничала, не зная, как примут нас в Уральске. Ведь столько было случаев, когда в подобной ситуации жены отрекались от своих мужей, а дети от родителей, когда боялись приютить родственников репрессированных. Мы ехали без предупреждения…
Приехали к старшему маминому брату дяде Мише. К счастью, и он, и его жена отнеслись к нам с сочувствием и пониманием, обогрели, обласкали, выделили комнату. Мама долго еще оставалась без работы, ее никуда не принимали. Потом кто-то помог ей, она устроилась лаборанткой в техникум. Зарплата была не ахти какая, но все-таки хоть что-то появилось.
Шло время. Мама снова куда-то писала, но все впустую. Она не посвящала меня в свои муки и треволнения, оберегая от излишних переживаний. Потом вдруг уехала в Москву, ничего не объяснив мне. Только потом, когда она вернулась из Москвы, я узнала, что ездила она «к Сталину, просить за папу». Понимала ли она, на какой риск шла? Тоже ведь могли арестовать. Думаю, понимала, но все-таки поехала! И свершилось чудо! Письмо доложили Сталину, он распорядился, чтобы дело отца было еще раз внимательно рассмотрено.
В воспоминаниях о тех годах часто можно прочитать, что многие репрессированные, члены их семей пытались достучаться до Сталина, но это было бесполезно, а иногда и опасно. Что же случилось на этот раз? Что побудило Сталина внимательно отнестись к судьбе отца? Убедительными показались доводы мамы? Или просто было хорошее настроение? Или хотелось создать прецедент? А может быть, мы обязаны этим тому, кто докладывал Сталину? Никто не знает. Но дело отца было пересмотрено. Фактов его «вражеской деятельности» никто не смог представить, а состряпанные, кем-то придуманные обвинения отец сумел убедительно опровергнуть. Ни одного обвинительного документа он не подписал, несмотря на побои и угрозы. Отца отпустили до суда, так что впоследствии судимость на нем не висела.
В начале 1940 года отец приехал в Уральск. Похудевший, небритый, в тюремном ватном костюме и серой арестантской ушанке, в стоптанных кирзовых сапогах — таким предстал он перед нами.
Его восстановили в партии, вернули награды, все документы и фотографии. Еще в Барнауле, сразу после освобождения, отец получил предложение вернуться на прежнюю работу, но он отказался и поехал к нам. Потом аналогичное предложение ему сделали в Уральске, но и тут он отказался. Работать в органах НКВД он больше не хотел. Пошел на хозяйственную работу — директором Гортопотдела, занимался снабжением города топливом. На этой должности он оставался практически до самой смерти в 1959 году. Отец был сильным человеком. Но арест надломил его: он начал пить и умер от сердечной недостаточности, пережив маму на один год и два месяца. Мне кажется, что и мама умерла так рано (в 53 года) из-за того, что слишком много тяжелых испытаний выпало на ее долю.
Отец не любил говорить о своем аресте и о репрессиях 30-х годов вообще. Вероятнее всего, что-то обсуждал с мамой, но со мной — нет, не говорил. Только однажды, вскоре после возвращения из заключения, сказал мне: «Юля, в том, что случилось со мной, не виноваты ни партия, ни Советская власть, вина за это лежит на конкретных людях». Имен этих людей не называл. И еще был случай, когда в подпитии он рассказал, как его бил молодой офицер, ранее находившийся в его подчинении. Бил табуреткой по голове. И отец заплакал… Больше на эти темы разговоров не было.
Отец, несмотря ни на что, до конца жизни оставался убежденным коммунистом и патриотом. Когда началась война, он, как я уже писала, сразу пошел в военкомат записываться добровольцем, считал себя, активного участника Октябрьской революции, красногвардейца, обязанным быть на передовой. Оставшись же в тылу, делал все, чтобы помочь семьям фронтовиков, особенно погибших.
Вот таким был мой отчим, которого я искренне любила, считала его хорошим отцом и всегда звала папой.
Маму тоже восстановили в партии. С работой в итоге получилось все хорошо, ее пригласили на работу в городской комитет партии.
Мама была очень мягкой, доброй, но в серьезных делах — принципиальной. А история с папой показала, что она еще и очень мужественный, решительный человек. Рискуя не только собой, но и мной, моим будущим, она бросилась защищать мужа, ибо была убеждена в полной его невиновности. Большинство людей в такой ситуации пасовало, а она не испугалась. И победила. Жаль только, что итог их жизни оказался столь трагическим…
Многие из тех, чьи родители или другие родственники были репрессированы, рассказывают, что в течение всей последующей жизни они жили под гнетом страха, чувствовали какую-то ущербность… У меня этого не было никогда — ни в то время, когда отец находился под следствием, ни потом. Думаю, определяется это тем, что отца довольно быстро выпустили, он был полностью оправдан. Кроме того, родители всегда и везде вели себя с достоинством, не давая никому повода и возможности в чем-то их обвинять.
И отца, и маму хорошо знали в городе, они пользовались уважением всех, кто с ними работал, да и многих из тех, кто по тому или иному поводу хотя бы раз обращался к ним. Оба они были настоящими коммунистами — убежденными, бескорыстными, честными.
Отец и мама родились и выросли в простых семьях.
Мама — Синодальцева Александра Ивановна (позднее Жукова) родилась 7 июля 1904 года в Уральске. В семье было много детей, одиннадцать человек. Кто-то умер в раннем детстве, дядя Володя погиб в Первую мировую войну. Я знала трех маминых сестер и трех братьев. Семья не имела материального достатка и не смогла обеспечить детям хорошего образования. Только старший брат, дядя Миша, страдавший тяжелым заболеванием сердца, получил высшее образование и стал учителем, остальные работали, чтобы поддержать и его, и семью. У детей маминых сестер и братьев подобных проблем не возникало. Родившиеся и выросшие в советское время, все они получили высшее образование. Мама начала работать с 16 лет — сначала курьером в ВЧК, затем приобрела специальность шифровальщика и продолжала работать в органах до 1939 года, когда арестовали ее второго мужа, моего отчима. Последние восемь — десять лет работала в Уральском горкоме партии инструктором, помощником первого секретаря. Сотрудники горкома очень любили и глубоко уважали ее. Когда она умерла (в 1957 году), мне сказали: «Мы как будто осиротели». Я же вообще была в таком отчаянии, что думала — не переживу этой потери. Для меня в маме воплощалось все самое лучшее, самое дорогое… Я долго не могла опомниться от этого горя.
Родного отца, Алексеева Валерьяна Владимировича, я не помню, он оставил семью, когда я была совсем еще маленькой. Причины развода не знаю, я никогда не расспрашивала маму, она тоже не заводила разговоров на эту тему. Умер он рано, в возрасте 30–31 года, от сердечной недостаточности на своем рабочем месте. Он тоже работал в органах внутренних дел, но в другом городе.
Второй раз мама вышла замуж, когда мне было уже 8 лет. Отчим мой, Жуков Константин Сергеевич, родился 4 апреля 1900 года в Москве, в семье рабочего. Жили они в бараке — он, его старшая сестра и отец с матерью. Окончив четырехклассную школу, в возрасте 12 лет он тоже пошел работать на завод. Продолжить образование ему не удалось, хотя он был, безусловно, одаренным человеком. Все, чего папа достиг в жизни, — это результат огромного напряжения сил и постоянного, настойчивого самообразования. Папе не исполнилось еще и 17 лет, когда он стал членом РСДРП. Участник октябрьских боев в Москве. Когда в 1919 году организовалась ВЧК, его направили туда работать. В 1924 году ему, еще очень молодому чекисту, одному из первых была вручена награда — Знак почетного чекиста (№ 106), грамота к которому подписана лично Дзержинским. В том же году его наградили орденом Боевого Красного Знамени. В последующие годы отец дважды награждался именным оружием. Само оружие изъяли во время ареста и не вернули. Остались мне на память серебряные пластинки, которые при награждении прикреплялись на оружии как подтверждение того, что человек награжден за определенные заслуги. В органах внутренних дел отец проработал двадцать лет, вплоть до ареста в 1939 году.
В последний путь его провожали сотни жителей города, знавших его как человека необыкновенно чуткого и внимательного к нуждам людей. И вот ведь такая судьба: отец, коренной москвич, похоронен в Уральске, а мама, родившаяся в Уральске и прожившая там большую часть жизни, покоится на Даниловском кладбище в Москве…
Да, наша семья пережила тяжелую трагедию. Но никто не озлобился, никто никогда не пытался найти виновных в постигшей нас беде. Поправить уже ничего нельзя было, а жить, постоянно возвращаясь памятью к тем трагическим событиям, тоже было невозможно. Поэтому мои родители избегали разговоров на эту тему, как бы вычеркнув из жизни все, что произошло в 1939 году. Думаю, что это было мудро.
Понимаю, что не всем по душе подобная позиция. Однако наша семья жила по таким правилам. Вероятно, поэтому я никогда не страдала какими бы то ни было комплексами, связанными с арестом отца, как это часто случалось с другими. Я не мучилась такими унижающими человека чувствами, как страх, обида, подозрительность. Родители сумели оградить меня от всего этого.
Проблема репрессий — одна из самых острых и болезненных в нашем обществе уже на протяжении многих лет. Мне кажется, что нельзя и дальше спекулировать на этой теме, оценивать ее с чисто эмоциональных позиций и очень вольно определять число пострадавших от репрессий, как это происходит до сих пор. Посмотришь иногда на цифры, появляющиеся время от времени в печати, и думаешь: а кто же воевал на фронте, кто восстанавливал страну после войны? Пора уже, мне кажется, провести серьезные исследования этой проблемы, чтобы специалисты установили, насколько это возможно, истину и дали обществу достоверную информацию, как бы горька она ни была. Иначе страсти в обществе никогда не утихнут.
Глава 4. Необычная дружба
…Перед отправлением на фронт — медицинская комиссия. Правда, говорили, что дело это формальное, что почти всех признавали годными, только одних — к строевой, а других — к нестроевой службе. Все-таки я очень волновалась, ведь порок сердца — это не пустяк. А вдруг признают годной к нестроевой службе? Идти в прачки, поварихи, уборщицы в каком-нибудь госпитале? Все это тоже, конечно, важно, но я хотела только в строевую часть и только на фронт.
И вот комиссия. Все мы знали, что решающее слово за терапевтом, поэтому других врачей не боялись. Спокойно всех обошла, иду к терапевту. И надо же такому случиться! Она оказалась тем врачом, в палате которой лежала я с тифом в 1941 году! Только бы не вспомнила, не узнала меня! А она, как нарочно, внимательно всматривается в меня, говорит, что лицо мое ей знакомо. Горячо уверяю ее, что мы просто не могли нигде встретиться, что я ее не знаю. В общем, все закончилось благополучно, но переволновалась я изрядно. Подумалось тогда, что, если бы не сменила я к тому времени мою прежнюю фамилию на фамилию отчима, врач могла бы и вспомнить ту девчонку, что умирала у нее в палате от тифа.
Итак, документы оформлены. Только теперь, когда заключение врачебной комиссии было у меня на руках, я уверилась в том, что моя мечта стала реальностью. Началась подготовка к отъезду.
Сейчас, когда я пишу свою книгу, в памяти моей всплывают все новые и новые события, факты, имена. Я порой удивляюсь этому свойству человеческой памяти — долгие годы хранить богатейшую информацию, а потом в нужный момент выдать ее. Что же касается последних дней моего пребывания дома, то они забылись полностью. Несмотря на все мои усилия, вспомнить не могу ничего. Абсолютная пустота, темная дыра, будто кто-то специально стер из моей памяти все, что происходило в те дни. Наверное, это были очень тяжелые дни…
Наступил день отъезда. Я прощалась с родным городом, родителями и друзьями. Но прежде чем расстаться со всем, что мне было так дорого, я хочу рассказать о Таисии Валерьяновне Кульчицкой, замечательном человеке, прекрасной актрисе, моем добром и верном друге.
Ей и нашей необычной дружбе посвящаю я эту главу.
Познакомились мы в 1943 году, когда в Уральск прибыл театр оперетты, эвакуированный из Петрозаводска, из Карело-Финской АССР. В этом театре и работала Т. В. Кульчицкая.
В Уральске незадолго до войны было построено очень хорошее здание для драматического театра, но свою труппу создать не удалось. Здание театра, конечно, не пустовало, там проводились торжественные праздничные мероприятия, партийные и комсомольские конференции, концерты, слеты. Иногда на гастроли приезжали какие-то второстепенные, часто малоинтересные драматические или концертные коллективы. С началом войны и эти гастроли прекратились, концертно-театральная жизнь замерла.
И вдруг в наш маленький городок приезжает высокопрофессиональный театр с великолепной труппой, в составе которой было несколько заслуженных артистов республики. От репертуара глаза разбегались: «Сильва», «Марица», «Веселая вдова», «Принцесса цирка», «Летучая мышь», «Вольный ветер»…
Вокруг театра сразу же возник небывалый ажиотаж. Несмотря на нашу тяжкую жизнь, всем хотелось побывать в театре. Нам с мамой тоже не терпелось попасть на какой-нибудь спектакль, все равно на какой. Оперетту, этот жанр театрального искусства, в то время ни мама, ни тем более я не знали, да и вообще хорошего театра давно не видели. Выбрали «Марицу».
И вот мы в театре. Для меня этот вечер незабываем. Изумительная музыка Кальмана, молодые и красивые актеры, отличные голоса, общая атмосфера праздничности — все это было для меня настоящим потрясением.
В тот вечер выступали Т. В. Кульчицкая и Н. О. Рубан — один из двух ведущих дуэтов театра. Оба они обладали прекрасной внешностью, сильными и чистыми голосами, артистизмом. В этой паре было необыкновенное обаяние. Кроме того, казалось, что они созданы друг для друга, что этот дуэт просто невозможно разделить. Хотя другая пара (А. Феона и Калинина) тоже была хороша, но, если не подводят меня память и пристрастие, у Кульчицкой и Рубана почитателей было больше. После первого же спектакля я вошла в их число.
На следующее утро я проснулась с ощущением чего-то необыкновенного, сказочного, чудесного. Сидела еще не одетая на кровати в восторженно-мечтательном состоянии и вспоминала спектакль, когда пришла мамина сестра тетя Лида. Она была человеком больным, одиноким, когда-то жила вместе с нами, но потом все решили, что ей лучше жить отдельно. Она поселилась недалеко от нас, снимала маленькую комнатку в частном доме у очень хорошей, тоже одинокой женщины и часто приходила к нам. «Тетя Лида, — кинулась я к ней, — какой спектакль мы вчера смотрели! А какие артисты играли!» В ответ же услышала, что так очаровавшая нас с мамой Таисия Валерьяновна Кульчицкая живет у той же хозяйки, что и тетя Лида. Тетушка моя с большим чувством начала нахваливать свою новую соседку: и красивая она, и добрая, и простая в общении. Но главное — тетя Лида обещала познакомить меня с ней.
Вскоре такая возможность представились. Входя в комнату Таисии Валерьяновны, я ужасно волновалась, но все оказалось очень просто. Навстречу мне поднялась милая, необыкновенно обаятельная молодая женщина лет 27–28, небольшого роста, несколько полноватая, с большими темными глазами, выразительным ртом, волнистыми каштановыми волосами и очаровательной улыбкой. Она приняла меня приветливо, пригласила к столу, угостила чаем, заинтересованно расспрашивала о нашем житье-бытье. Конечно, разговор тот забылся, но ощущение доброты и тепла, исходивших от Таисии Валерьяновны, осталось. При всей моей тогдашней стеснительности, у нее я вскоре почувствовала себя свободно и ушла счастливая, получив приглашение приходить чаще.
Этот день положил начало нашей дружбе, которая, несмотря на большую разницу в годах и общественном положении (она заслуженная артистка, а я всего лишь рабочая девчонка), была теплой, искренней и продолжалась многие годы. Я и в те годы, и позднее часто задумывалась: что же так связывало нас, что сделало нашу дружбу такой светлой? Наверное, не только то, что я была ее верной поклонницей и отдавала ей практически все свободное время. Ведь поклонниц и поклонников у нее всегда хватало и без меня. Она даже жаловалась иногда, что надоели они ей все, проходу не дают. Скорее всего, оказавшись в чужом городе, без родных и друзей, она нуждалась в том, чтобы рядом был человек, искренне и бескорыстно привязанный к ней, относившийся к ней тепло и по-доброму. Таким человеком и оказалась я. Но было, вероятно, и какое-то родство душ, что сделало нашу дружбу чистой, радостной, ничем не омраченной. Таисия Валерьяновна никогда ни взглядом, ни словом, ничем не подчеркивала разницу в нашем положении, ни разу не обидела меня.
Таисия Валерьяновна часто брала меня с собой в театр, проводила за кулисы, усаживала где-нибудь в уголке и говорила: «Никуда не уходи». И я не уходила. А Таисия Валерьяновна, закончив на сцене очередной номер, подбегала ко мне, обнимала, что-то говорила и снова бежала на сцену. Там, за кулисами, она перезнакомила меня со своими друзьями и партнерами. Там же познакомилась я и с Николаем Осиповичем Рубаном. Однажды после очередной сцены оба они, возбужденные, запыхавшиеся, оказались за кулисами рядом со мной. «Знакомься, Колька, это мой Зайчик», — представила меня Таисия Валерьяновна. Она любила всем давать прозвища. Тетю Лиду звала Цаплей за высокий рост и длинные, плохо сгибавшиеся в коленях ноги, меня — Зайчиком, потому что зимой я ходила в шапке из заячьих лапок. Я же называла Таисию Валерьяновну Канареечкой за ее чудный голос и привычку постоянно напевать.
Наблюдать жизнь театра из-за кулис было необыкновенно интересно, хотя и не всегда приятно. Наслушалась и насмотрелась там разного. Но я старалась отбрасывать все, что мне не нравилось, и наслаждалась музыкой, танцами, замечательной игрой и голосами актеров. Часто мне было жалко их. Нельзя забывать, что шла война, артистам, как и всем остальным, было и голодно, и холодно. Театр плохо отапливался, нередко зрители сидели в зале в верхней одежде, в валенках, а артистам приходилось мерзнуть в легких платьях и костюмах. Помню, у Таисии Валерьяновны из-за хронического недоедания и постоянных простуд начался фурункулез, все руки покрылись гнойными и очень болезненными нарывами. Но от работы ее не освобождали, в театре тогда многие болели. И вот перед началом спектакля она в своей уборной выдавливала гнойники, плача от боли, затем замазывала раны гримом, припудривала, чтобы зрители ничего не заметили, и бежала на сцену, чтобы снова петь и плясать. А потом в антракте опять повторялась болезненная процедура. Сколько слез пролила она за кулисами на моем плече!
Скоро и все мои подружки стали верными поклонницами Т. Кульчицкой и Н. Рубана. Однажды наша компания из пяти-шести человек в полном составе пришла на спектакль, где были заняты общие любимцы. Каждый их выход мы сопровождали такими аплодисментами, что к концу спектакля ладошки у всех вспухли и стали багровыми. Но потом выяснилось, к большому нашему огорчению, что Таисия Валерьяновна не заметила этой бурной активности. Ведь выступления ее и Рубана всегда сопровождались дружными и громкими аплодисментами зала. Тогда кто-то из девчат предложил весьма «оригинальную» идею, которую мы осуществили к следующему коллективному походу на спектакль: изготовили для каждого круглые металлические пластинки, которые с помощью шпагата привязывались к ладошкам. Уж в этот раз нас слышали все, зал с недоумением поглядывал в нашу сторону. Мы были чрезвычайно довольны. Увы, в этот раз Таисия Валерьяновна сказала только: «Это уж слишком».
Таисию Валерьяновну полюбили все в нашей семье, она бывала у нас по-простому. Кстати, в нашем доме жил со своей семьей Н. О. Рубан. Поэтому дом постоянно находился «в осаде», поклонницы Николая Осиповича с утра до вечера (по очереди, что ли?) маячили где-нибудь рядом, мечтая увидеть своего кумира. Рубан был прекрасным семьянином, очень любил свою жену и совсем еще маленькую дочку, поэтому постоянные преследования поклонниц его раздражали. Да и неловко ему бывало, когда он на виду у всех «осаждающих» выносил, к примеру, ведро с помоями или шел еще куда-то по надобности. Дело в том, что все удобства (сараи, помойки, туалеты) находились во дворе. Прежде от всеобщего обозрения нас скрывал забор, но во время войны его изрубили на дрова, теперь все у всех было на виду. И вот идет человек по своим делам, а со всех сторон поклонницы таращат на него глаза. Таисия Валерьяновна говорила, что Николай Осипович сначала очень расстраивался, но потом перестал обращать внимание на преследовавших его девиц.
Однажды, будучи у нас в гостях, Таисия Валерьяновна увидела в окно Николая Осиповича, который с помойным ведром в руках шел по двору, и попросила: «Иди, позови Кольку». Он зашел, мы посидели, попили морковного чая без сахара. Больше нечем было угостить почитаемых нами гостей. Я сидела за столом с моими кумирами, глядела на них во все глаза и восхищалась обоими. Таисия Валерьяновна была очень яркой и красивой женщиной. Под стать ей и партнер — высокий, стройный, красивый, с ямочками на щеках, подтянутый и элегантный. Городские театралы шутили, что Николай Осипович носит фрак так, будто и родился в нем.
Перед обаянием Кульчицкой не смог устоять даже очень строгий и малообщительный мой отец. Таисия Валерьяновна много раз просила меня уговорить его, чтобы он разрешил нам покататься на лошади. В распоряжении отца была лошадь для служебных разъездов, зимой ее запрягали в сани, остальное время года — в покрытую лаком двухместную бричку. Однако отец никогда не разрешал своим домашним пользоваться служебным «транспортом». Я знала это и не решалась просить покататься. А тут Таисия Валерьяновна: «Ну, попроси папу, пусть позволит чуть-чуть прокатиться». На мои просьбы отец отвечал просто: «Лошадь мне дали не для развлечений». И ни в какую! Тогда я предложила Таисии Валерьяновне самой попросить отца. И отец не устоял!
Помню ясный зимний день. Ярко светит солнце, под его лучами серебром блестит чистый снег. Перед домом наш «экипаж». Мы стелим в розвальни большой ковер, сами облачаемся в огромные тулупы, кучер усаживается на облучок и — поехали! Таисия Валерьяновна вела себя как расшалившийся ребенок, все время тыкала в спину кучера своим кулачком и кричала: «Быстрее, голубчик, ну, быстрее, еще быстрее!» Лошадь неслась во всю прыть. В какой-то момент на повороте сани занесло в сторону, и я вылетела из них прямо в сугроб! Хорошо, что снегу нанесло много, он был мягкий, пушистый, так что я не ушиблась. Я в своем непомерно большом тулупе барахталась в глубоком снегу, заходясь от смеха. А Таисия Валерьяновна с кучером стояли на дороге и тоже хохотали от души. Потом они вдвоем вытащили меня из сугроба. Домой мы вернулись довольные и веселые, мечтая еще хоть раз повторить великолепную прогулку. Однако второй раз отец не смог или не захотел пойти против своих принципов.
С Таисией Валерьяновной связано у меня и воспоминание о том дне, когда мне исполнилось 18 лет. В нашей семье почему-то никогда не отмечались ничьи дни рождения. А в тот год, будто в предчувствии, что через месяц я покину Уральск, уеду далеко и надолго, мама предложила по поводу моего дня рождения устроить небольшой праздник. Пригласила я нескольких самых близких моих подруг. Возможно, и не запомнился бы мне тот день, если бы не пришла Таисия Валерьяновна. Приглашая ее, я была уверена, что она не выберется к нам — какой интерес ей с девчонками праздновать. Но она пришла. Вот уж все обрадовались, тем более что девчата ни разу не видели известную артистку так близко. Держалась Таисия Валерьяновна совсем просто. После весьма скудного угощения начался сольный концерт нашей любимой певицы. Поставив меня рядом с собой и обняв за плечи, она начала петь, пела много и исполняла все наши просьбы. Девчонки слушали затаив дыхание, а я стояла рядом и млела от восторга…
Театр в это время готовил премьерный спектакль «Корневильские колокола». По существовавшему в труппе обычаю, до премьеры артисты не имели права нигде исполнять номера из готовящегося спектакля. Сколько раз я просила Таисию Валерьяновну хоть что-нибудь спеть из этой оперетты, но на все был один ответ: нет, нет и нет. А тут исполнила сразу несколько арий! Может быть, тоже что-то предчувствовала. На премьере спектакля мне не довелось присутствовать, в это время я уже училась в снайперской школе. Но из письма ближайшей моей заводской подруги Юли Ларгиной (теперь Виноградовой) узнала, что прошла премьера блестяще и стала настоящим триумфом театра.
Через месяц после празднования дня моего рождения мы простились, я уходила на военную службу.
Теперь уже не помню, когда прервались наши с Таисией Валерьяновной отношения, как и почему это произошло. Вернувшись после войны домой, я узнала, что театр уехал из Уральска, но никто ничего не знал о нем. О Таисии Валерьяновне тоже ничего не могли мне сказать. А я, поглощенная сначала военной службой, затем послевоенным обустройством собственной жизни, как бы отдалилась от всего прошлого, в том числе и связанного с Таисией Валерьяновной… Временами я начинала скучать о ней, появлялось желание найти ее, но я не представляла, как это сделать, и все оставалось по-прежнему. Со временем желание увидеть Таисию Валерьяновну возникало все чаще и чаще. Однако я так ничего и не предпринимала для того, чтобы отыскать ее… Сама на долгие годы лишила себя общения с прекрасным и очень добрым человеком.
К сожалению, многие вещи начинаешь понимать слишком поздно, когда уже ничего нельзя ни изменить, ни исправить.
К счастью, мы все-таки встретились, когда я уже и не надеялась на это. Однажды, это было в конце 70-х годов, поехали мы с моей сестрой Таней в Ленинград, она в командировку, а я решила использовать оставшиеся от отпуска дни и немного отдохнуть от моей сумасшедшей работы. Мы много ходили по музеям, театрам. В один из дней решили сходить в Театр музыкальной комедии, слышали, что там хорошая труппа. Приходим в театр, покупаем программу, открываю ее и вижу: «Т. В. Кульчицкая, заслуженная артистка Карело-Финской АССР». Почти кричу: «Таня, это она, Таисия Валерьяновна!»
Да, это была она, мой добрый, дорогой друг! Как часто я вспоминала ее, как хотелось мне увидеть ее, и вот сбылось. Я разволновалась до такой степени, что долго не могла сообразить, что же мне теперь делать. Наконец нашла какой-то клочок бумаги, дрожавшей от волнения рукой написала записку и попросила контролершу отнести ее Таисии Валерьяновне. Мне передали ответ, чтобы после спектакля я ждала ее у служебного входа. Кажется, спектакль был хорош. Однако я плохо воспринимала происходившее на сцене, торопила время — скорее бы встретиться, и видела только Таисию Валерьяновну. У нее была совсем маленькая роль, она уже почти не пела и не танцевала, но для меня это не имело никакого значения. Я смотрела на сцену и видела ту Кульчицкую — молодую, красивую, обаятельную…
После спектакля пошли с Таней к служебному выходу, стояли, ждали, я изнемогала от нетерпения. И вот она выходит, сразу узнает меня, бросается ко мне:
— Зайчик мой!
— Ну какой же я Зайчик, мне уже под пятьдесят!
— Все равно Зайчик.
Мы долго бродили по городу, вспоминали Уральск, говорили обо всем. На другой день были у Таисии Валерьяновны в гостях, подарили ей шикарные розы, от чего она даже прослезилась. Видно, ушли уже времена, когда ей дарили цветы…
26 февраля мы с Таней отмечали свои дни рождения, пригласили Таисию Валерьяновну к нам в гостиницу «Московская», где у нас был отдельный номер. Все, что надо для такого случая, мы привезли с собой. Выпили, закусили, поговорили, потом по моей просьбе наша гостья пела, исполняла мои любимые арии из оперетт. Голос у нее был уже слабый, но все еще красивый, пела она с таким чувством, и ее тихое пение звучало так прекрасно, что и Таня, и я испытали истинное удовольствие. Когда мы уезжали, Таисия Валерьяновна пришла на вокзал проводить нас.
Потом мы виделись еще один раз, в очередной наш с Таней приезд в Ленинград. Помню нашу долгую ночную прогулку. Стояли белые ночи, было совсем светло и очень тепло. Мы бродили по городу всю ночь, разошлись уже под утро, когда ноги перестали слушаться. И все говорили, говорили, вспоминали Уральск, и казалось, что конца не будет нашим воспоминаниям о тех далеких временах.
С момента первой нашей послевоенной встречи мы стали переписываться, раза два-три я посылала ей небольшие посылочки. Жила она на свою очень скромную пенсию, а сын, как я поняла, не помогал ей.
Потом однажды я получила от нее очень грустное письмо. Она писала, что в жизни ее, сына и внука произошли большие перемены; жалела, что внук не сумеет пойти во второй класс; писала, что я была самым светлым пятном в ее жизни. И что-то еще в таком же духе. Она прощалась со мной… В конверте оказалось несколько ее фотографий. Я из этого письма ничего не поняла, но показалось мне, что ей плохо, что в ее жизни произошло какое-то тяжелое событие. Я очень переживала, но не знала, к кому и куда обратиться. Больше никаких вестей о Таисии Валерьяновне я не получала.
Так завершилась моя дружба с очень славным человеком, которого я искренне любила и уважала.
Я часто вспоминаю Таисию Валерьяновну, рассматриваю ее фотографии. И каждый раз у меня в душе возникает какое-то щемящее чувство. То ли сожаление, что все это в прошлом; то ли чувство вины за то, что могла бы больше сделать для нее, но не сделала; то ли просто жалость к человеку, прожившему яркую, интересную жизнь, но так и не ставшему по-настоящему счастливым. А может быть, все это вместе…
Много лет спустя после войны судьба самым необычным образом свела меня с Н. О. Рубаном. Однажды, когда я работала директором школы, родительский комитет на 8 Марта организовал концерт для родителей наших учащихся. Обратились в некоторые театры с просьбой, чтобы кто-нибудь из актеров принял участие в концерте. От театра оперетты пришел Н. О. Рубан! Я почему-то не была на концерте, но председатель родительского комитета, знавшая от меня о пребывании Рубана в Уральске и о моем знакомстве с ним, после концерта подошла к нему и передала привет от Зайчика (!) из Уральска. Зайчика он, естественно, позабыл, а об Уральске вспомнил очень тепло. Оказалось, что после отъезда из Уральска он оставил свою труппу и поступил в Московский театр оперетты. У меня к тому времени были другие интересы — Большой театр, МХАТ, консерватория, в театр оперетты я не ходила, поэтому и о Н. О. Рубане ничего не знала.
С Таисией Валерьяновной Кульчицкой мы встретились более чем через тридцать лет после моего отъезда из Уральска. Но в тот далекий мартовский день 1944 года, прощаясь, мы даже не задумывались, увидимся ли снова. Таисия Валерьяновна не смогла проводить меня, была занята в театре. Мы простились накануне.
Глава 5. Рожденная войной
Я покидала свой город. Вместе с другими девчатами Уральска, призванными на военную службу, направлялась в Центральную женскую школу снайперской подготовки.
Признаюсь, что состояние было тяжелое. До последнего момента все представлялось в некотором приподнято-романтическом ореоле. А когда настало время оторваться от дома, от родителей, от родной земли, не зная, вернешься ли когда-нибудь сюда и увидишь ли вновь все то, что тебе дорого, стало страшновато. Видимо, это состояние сказалось на моем восприятии происходившего вокруг нас. Поначалу мне казалось, что кругом абсолютная пустота и тишина, на перроне только мы трое — мама, папа и я. И еще где-то рядом — вагоны поезда, который повезет нас в неизвестность. Все трое молчали. Я — потому что боялась расплакаться. Думаю, и мама с папой — по той же причине. Отец беспрерывно курил. И только когда раздался паровозный гудок, а затем прозвучала громкая команда: «По вагонам!», я вдруг увидела на перроне огромную человеческую толпу, услышала громкие голоса, всхлипывания, прощальные слова и напутствия. Мы судорожно начали обниматься, целоваться, что-то говорить друг другу. И вот — последние объятия, последние поцелуи, последние прощальные слова. Мы вошли в вагон.
Сколько бы ни вспоминала я сцену прощания на вокзале, всегда вижу одну и ту же картину: темный перрон, и мы трое — мама, папа и я. И рядом — никого. Но вот сейчас, работая над воспоминаниями, думаю, что такого не могло быть. На проводы не могли не прийти родственники, близкие, друзья. Такое просто невозможно было. Ведь оттуда, куда отправлялась я, возвращались далеко не все, поэтому проводить призывников приходили, кто только мог. Это считалось как бы долгом перед теми, кто уходил воевать. Но, сколько ни напрягаю свою память, я всегда вижу одну и ту же картину. Удивительно! Сколько вспомнила я важного и не важного, а тут — ничего, будто кто заблокировал эту часть памяти и не пускает туда. К сожалению, рассказать, как было на самом деле, теперь уже некому.
Нас, уезжавших из Уральска, было немного, все разместились в одном пассажирском вагоне. Поезд тронулся. Город, в котором я родилась, родные, друзья — все остается позади. Впереди — военная учеба, затем фронт.
Центральная женская школа снайперской подготовки (ЦЖШСП), в которую мы ехали, была рождена суровой необходимостью — войной, у истоков же ее стоял ЦК ВЛКСМ. Именно по его инициативе в 1942 году были созданы курсы по подготовке отличных стрелков, а в июле 1943 года на базе женского отделения этих курсов организована Центральная женская школа снайперской подготовки. В школу призывались девушки-комсомолки в возрасте от 18 до 22 лет, имевшие образование не ниже семилетнего и рекомендацию комсомольской организации. Среди курсанток школы были не только те, кто попал сюда по мобилизации, но и добровольно вступившие в ряды Красной армии. До нашего приезда школа сделала два выпуска, и сотни девушек-снайперов уже воевали на разных фронтах. ЦЖШСП являлась, как нам говорили, единственным в мире женским военным учебным заведением.
Школа находилась сначала в подмосковном поселке Вешняки, затем перебазировалась в деревню Амерево, а к нашему поступлению была на станции Силикатная, у города Подольска. Курсантки размещались в сером трехэтажном доме, в котором до войны был клуб местного силикатного завода. По внутренней планировке здание больше напоминало обычную школу, нежели клуб. К школе примыкала большая территория, огороженная высоким забором. У ворот — часовые. Кругом необыкновенно чисто, все прибрано, нигде ни соринки, ни травинки. Позднее мы поняли, что чистота эта достигалась нелегким трудом курсанток.
Несколько дней нас держали б карантине, водили в какое-то хозяйство, там мы набивали соломой матрацы и подушки.
Первые яркие воспоминания связаны с походом в баню. Однажды в карантинное помещение пришли военные женщины с лычками на погонах. Оказалось, что это командиры отделений. Нас вывели на плац, приказали построиться в колонну и повели в баню в Подольск. Это было зрелище! По-моему, мы больше напоминали цыганский табор, нежели военный строй. Ходить в строю, строго выдерживать равнение еще не умели, ряды путались. Одеты все были кое-как. Мы ведь понимали, что одежду придется бросить, поэтому дома, собираясь в дорогу, надевали самое плохое и ненужное. Девчата громко переговаривались, обмениваясь первыми впечатлениями. Командиры безуспешно пытались навести элементарный порядок, но никто не слушал их.
Мы шли, а на тротуарах стояли сердобольные женщины, жалостливо смотревшие на нас. Кто-то вытирал слезы и громко причитал, кто-то осенял нас крестом, некоторые стояли молча. Девчонки на ходу срывали с себя шапки, шарфы, варежки и бросали их в толпу: не пропадать же добру, пусть люди пользуются. Вещи брали, трудно ведь жилось во время войны.
В бане нас ожидал сюрприз — целая бригада парикмахеров. Ловко орудуя ножницами и бритвами, они всех подряд стригли почти под полубокс. Девчата не хотели расставаться со своими прическами, пытались сопротивляться, кое-кто даже слезу пустил, но здесь этот номер не проходил. Всем сделали одинаковые прически, все стали похожими на мальчишек и будто на одно лицо. Девчонки горевали, а уборщица молча сметала в угол черные, русые, каштановые, рыжие волосы, еще недавно украшавшие девичьи головы.
После бани нас обмундировывали. В первую очередь выдали нижнее белье: белые широкие и длинные, почти до колен, трусы из бязи со шнурком в поясе вместо резинки; бязевые мужские нижние рубашки с длинными рукавами и завязками у горла; байковые портянки. Затем — хлопчатобумажные брюки и гимнастерки, брезентовые ремни, кирзовые сапоги с широченными голенищами, шинели и шапки-ушанки. Все нескладное, зато новое, кроме шинелей и шапок. При этом надо было не просто взять и надеть одежду, каждому предстояло подобрать ее себе по росту. Пока занимались нижним бельем, все шло нормально. Но когда дело дошло до верхнего обмундирования, начался настоящий спектакль. В тесном предбаннике мы примеряли один комплект за другим, менялись то брюками, то гимнастерками; кому-то шинель оказывалась мала, другому, наоборот, велика; кто-то не мог подобрать сапоги. Большинство из нас брюки матросского покроя надели задом наперед, после чего начался гомерический хохот. Больше всего возни было с портянками, которые никак не удавалось навернуть более или менее сносно. Девчата толкались, шумели, дурачились.
Наконец все утряслось, мы оделись и вышли на улицу строиться. Все-таки военная форма обязывает и дисциплинирует. Мы представляли собой совсем иную картину, нежели несколько часов назад. Отмытые, подстриженные, одетые в военную форму, все чувствовали себя иначе и держались по-другому. В строю старались соблюдать равнение, шли в ногу, не разговаривали, пытались даже петь.
Мы шли домой, в школу, которая стала действительно нашим домом на долгих восемь месяцев.
Между прочим, от школы до Подольска было не так уж близко — три километра, а если учитывать еще и обратную дорогу, так вообще получалось весьма прилично. Со временем привыкли, преодолевали и не такие расстояния, а сначала дорога казалась длинной и утомительной.
По пути приходилось идти по подвесной дороге, перекинутой то ли через речку, то ли через овраг. Командиры всегда предупреждали: идите не в ногу, а то мост раскачаете. Какое-то время мы слушались их и делали, как нам приказывали. Потом все пошло наоборот. Как только вступали на мост, начинали печатать шаг на счет: ать-два, ать-два. Мост раскачивался все сильнее и сильнее, того и гляди, перевернется. Командиры сердились, ругались, а нам весело. Иногда и самим страшно становилось, но виду никто не показывал.
Так начиналась моя военная жизнь. В нашем батальоне было четыре роты, причем формировались они по росту: самые рослые — это первая рота, самые маленькие — четвертая. С легкой руки заместителя начальника школы майора Е. Н. Никифоровой их прозвали «карандашами». Меня зачислили в третью роту, а моя подружка Валя попала в четвертую.
Вернувшись из бани, мы впервые увидели наше жилище, которое на военном языке называлось казармой. Впечатление безрадостное. В помещении размером с обычную классную комнату — два ряда двухъярусных нар, стоявших впритык друг к другу, две вешалки для шинелей, две пирамиды для винтовок, два небольших квадратных стола, две тумбочки и никаких стульев. В таком помещении и разместился наш взвод, более 30 человек.
Командиром отделения у нас была сержант Маша Дуванова. Она сама окончила эту же школу, поэтому хорошо представляла, как нам, девчонкам 18–20 лет, трудно приспосабливаться к новым условиям, с пониманием относилась к нашим проблемам, в трудные моменты поддерживала и помогала, заботилась о нас. Маша никогда не злоупотребляла своими командирскими правами, редко прибегала к наказаниям, а если и случалось такое, то сама переживала не меньше наказанного.
Во время одной из послевоенных встреч она рассказала, что за какую-то провинность дала мне наряд вне очереди. И когда ночью, в то время как все остальные спали, я драила полы, она тоже не спала и переживала за меня. Призналась, что даже всплакнула немного…
Должна сказать, что мыть полы в казарме было делом непростым. Сначала саперной лопаткой соскабливалась грязь, нанесенная за день десятками пар солдатских сапог, затем некрашеные доски отмывались водой с песком и только в конце споласкивались чистой водой. Если после мытья обнаруживалось, что пол не абсолютно белый и чистый, можно было ждать повторного наряда.
За что Маша наказала тогда меня, ни она, ни я не помним. Вообще-то я была очень организованной, училась отлично, дисциплину не нарушала. Тем не менее был еще один случай, когда меня наказали. В тот раз я получила от командира взвода сразу два наряда вне очереди за то, что неприлично выразилась и послала одну девчонку подальше. Получила она от меня заслуженно. Дело в том, что снайперские винтовки были очень чувствительны ко всяким ударам и сотрясениям, а эта девчонка увидела на полигоне красную ягодку, полезла через меня, противогаз ее скатился и ударил прямо по оптическому прицелу моей винтовки. Я испугалась. Командир не понял, что произошло, разбираться не стал и наказал меня. Снова две ночи подряд драила полы. Зато запомнила это и за всю последующую жизнь выругалась только один раз, когда после окружения в Ландсберге мои девчата направлялись на другой фронт, а я — в госпиталь. Мне страшно было расставаться с подружками и оставаться одной. К моему стыду, свидетелем моего «словотворчества» оказался один офицер, которого я очень уважала. Он посмотрел на меня и сказал только: «Тебе это не идет». Больше я никогда не ругалась.
На размещение и бытовое устройство в нашем новом доме много времени не потребовалось. Когда мы пришли в казарму, там уже все было готово для проживания, а своих личных вещей мы теперь не имели.
На нарах нашему отделению достался верхний этаж. Ложились рядком, как игрушечные солдатики в коробке. Но при этом у каждого были свой матрац, своя подушка и свое одеяло. Постели для военного времени были вполне приличные. Правда, матрацы и подушки набиты соломой, а солдатские одеяла жесткие, ужасного серого цвета, зато постельное белье из бязи и вафельные полотенца — всегда чистые, хорошо простиранные. Один раз в десять дней нас водили в баню, в этот день меняли и постельное, и нательное белье.
Для нас началась совершенно новая жизнь, в которой мы пока ничего не понимали. Учиться приходилось буквально всему.
Казалось бы, простое дело — заправка постелей. Но когда начали это делать, то не сразу получилось. От нас требовалось так уложить одеяла и простыни, чтобы не было ни морщиночки, ни складочки, иногда даже приходилось шомполом выравнивать. Подушки ставились в ряд таким образом, чтобы ни одно «пузо» не выпирало, а ведь они были, как уже упомянуто, набиты соломой. Полотенца выкладывались около подушек треугольниками, при этом их основания должны были образовать прямую линию. Если старшина при проверке обнаруживала недостатки в заправке постелей, то все, сделанное с таким трудом, безжалостно ломалось, приходилось делать заново. Теперь даже представить не могу, как мы умудрялись создавать такое идеально ровное сооружение из десяти постелей, стоя на втором ярусе и согнувшись почти пополам.
Еще тяжелее было научиться буквально за считаные секунды одеваться и обуваться, правильно навертывать портянки, пришивать подворотнички.
Трудно давались все эти премудрости военного быта. Помню, чуть рассветет, раздается команда: «Подъем!» И все разом, еще не окончательно проснувшись, соскакивают с нар, судорожно натягивают на себя форму, тычутся в ряды сапог, стоявших в два ряда около нар, каждый ищет свои. А рядом с нарами — старшина с секундомером в руках проверяет, укладываемся ли мы в нормативы. Не успели одеться в положенное время — тут же раздается команда: «Отбой!» Снова раздеваемся, укладываемся на свои места. Потом опять: «Подъем!» И все сначала. Только оденемся, незамедлительно раздается следующая команда: «Выходи строиться, на зарядку!» Бежим, но на ходу кто-то что-то еще застегивает, поправляет.
Очень долго самой большой проблемой оставались портянки. Если на них оказывалась хоть одна морщинка, ноги можно было стереть до крови, а командиры внушали, что потертость ног в армии — преступление. В отделении нашлась одна «хитрая»: не успела после подъема портянки навернуть, просто сунула их в сапоги (голенища-то широкие) и так встала в строй. А нас с ходу отправили в многокилометровый поход. На нее жалко было смотреть, она еле передвигалась. Потом ее еще и наказали за то, что проявила халатность. Нас, между прочим, предупреждали о подобных вещах, но мы не верили, потребовался собственный опыт.
Вот еще пример. Мы никак не могли научиться быстро есть и постоянно ходили голодные. Кормили-то нас отлично, по фронтовым нормам. Питание трехразовое, мясо и масло бывали постоянно, на каждый прием пищи давали буханку хлеба на восемь человек, обед всегда состоял из трех блюд. Но мы были молоды, целыми днями находились на воздухе, физические нагрузки — большие, поэтому все постоянно испытывали чувство голода. И вот ужас: не успеваешь за столом все съесть, а взвод уже поднимают и ведут на построение. Уходим из столовой голодные, с тоской поглядывая на стол с остатками пищи. Нас неоднократно предупреждали, что из столовой выносить ничего нельзя, но мы не поверили. Стали хитрить: в столовой ели без хлеба, чтобы быстрее управиться, а хлеб брали с собой. Завернем в какую-нибудь бумажку или тряпочку — и в сапоги или в карманы брюк. Но об этих хитростях командиры знали, они до нас еще были придуманы. И вот однажды, когда вернулись мы из столовой (ходили всегда строем), на плацу перед школой выстроили нас в две шеренги, передней дают команду: «Сесть, снять сапоги!» И посыпались на землю куски хлеба, сахара вперемежку с носовыми платками и прочей мелочью. Было на что посмотреть! Мы, стоявшие во второй шеренге, начали незаметно перекладывать все из сапог в карманы. Вот наивность! Раздается команда: «Вторая шеренга, вывернуть карманы!»
Вот так мы получили еще один урок.
Мы долго будем, как говорится, наступать на одни и те же грабли, нас еще долго и трудно будут учить командиры простым, казалось бы, солдатским вещам, а мы будем пытаться поступать по-своему. В конце концов все поймем и всему научимся.
Вообще-то, вглядываясь в ту жизнь из нынешнего далека, я начинаю думать, что в нашей курсантской жизни было много нелепого, жесткого и просто глупого. Ну, к примеру, в школе нам не выдавали белых подворотничков для гимнастерок, из дома получить необходимый для этого материал тоже было большой проблемой. Однако от нас требовали, чтобы такие подворотнички у каждого курсанта имелись в необходимом количестве и были всегда чистыми. Их приходилось менять иногда по два-три раза в день, а где взять столько? Прошло какое-то время, приспособились. Еще пример. Для чистки сапог курсантам выдавали какую-то мазь, от которой обувь изначально не могла заблестеть, а уж наша кирза тем более. Однако командиры с этим не считались, требовали, чтобы, несмотря ни на что, сапоги блестели. Придумали: складывали в общую кассу положенные каждому курсанту ежемесячно 7 рублей 50 копеек и на все отделение покупали в Москве большие банки лучшего крема «Люкс». Сапоги сверкали, хоть глядись в них вместо зеркала.
Не помню, чтобы в школе было специальное помещение для сушки одежды. Хотя занятия проводились и в дождь, и в снег. Возвращались мы иногда промокшие насквозь, а вещи подсушить негде. Не нами придумано, но мы этот опыт освоили и применяли успешно: на ночь под простынкой расстилали мокрые вещи, тщательно расправляли, чтобы не было складок и морщинок, и сушили своим теплом. Спишь как в компрессе. Зато утром вытащишь из-под себя — все сухое и будто утюгом разглаженное. На эту тему кто-то из наших предшественниц сочинил песню, вернее, переиначил слова очень популярной в школе песни:
Что случилось — сделалось, Сам не понимаю я, В ночь портянки мокрые К сердцу прижимаю я.Мы пели ее с удовольствием, а командиры учили: привыкайте к полевым условиям.
С первого дня пребывания в школе жили в жестком режиме. Подъем в 6 часов, а через день, когда ходили на полигон, в 4.30. В любую погоду зарядка на улице. Затем туалет, уборка постелей и строем, с песней — в столовую на завтрак, из столовой опять строем в казарму. До обеда — занятия. Перед обедом надо успеть привести себя в порядок: пришить чистый воротничок, надраить сапоги, смыть с себя грязь. На все отводилось минут десять. Нередко не укладывались по времени. Пользуясь тем, что обычно дневальных по столовой больше всего интересовали наши шеи и ноги, мы и старались в первую очередь сменить воротнички и почистить сапоги, а руки сплошь и рядом оставались грязными. Но однажды в школу приехала высокая комиссия. Зашли в столовую, чтобы посмотреть, чем и как нас кормят. Один из офицеров, проходя между рядами, увидел у кого-то из курсанток грязные руки. Тут же раздалась команда: «Всем — руки на стол!» И вот тут разразилась гроза. После этого дневальные стали и руки проверять. Однако дополнительного времени на туалет не отвели, просто пришлось нам еще быстрее шевелиться.
После обеда наступал долгожданный час отдыха, все с удовольствием погружались в сон. Затем снова занятия, ужин, самоподготовка, чистка оружия, вечерняя поверка, прогулка (строем и с песнями). В 22.00 отбой. И так каждый день. Свободного времени почти не оставалось.
Незаметно пролетел первый месяц. Школа готовилась к первомайским праздникам, настроение у всех было приподнятое: ведь 1 Мая нам предстояло давать присягу, а затем участвовать в общешкольном военном параде. Каждый день нас муштровали, учили ходить строевым шагом, выполнять необходимые приемы с винтовкой. Перед самым праздником выдали парадную форму, тоже хлопчатобумажную, но не цвета хаки, а с сероватым отливом. Вместо брюк получили юбки. Вот радости-то было! Мы сами подогнали форму по росту, пришили белые подворотнички и полосочки такого же белого материала под манжеты. Пришивать нужно было так, чтобы эти белые полоски и на воротнике, и на манжетах выглядывали на ширину не более половины толщины спички. Это считалось особым шиком.
Вообще девчата, несмотря на трудности, оставались девчатами, любили пофорсить и вечно что-то придумывали. Так, внутрь суконных мягких погон вставляли фанерные дощечки, чтобы погоны не гнулись и не топорщились. И не важно, что когда на плечо вешались противогаз или винтовка, то давили эти погоны на наши кости невероятно, бывало больно. Зато красиво! На шапках-ушанках намертво зашивали кверху тесемки, «уши» уже нельзя было опустить. Бывали случаи обморожения, но мы все равно продолжали щеголять в шапках с зашитыми наверху тесемками. Летом нам выдали пилотки, но не новые, а бывшие в употреблении. Вся наша рота превратилась в швейную артель: сидя на нарах, мы вручную перелицовывали их. Пилотки получились как новые.
А в праздничный день 1 Мая 1944 года в новой форме, подтянутые и несколько возбужденные предстоящими торжествами, все выглядели, как мне кажется, просто великолепно. Правда, мы уже успели отвыкнуть от юбок, постоянно одергивали их, но все равно испытывали огромное удовольствие оттого, что на нас снова хоть какое-то подобие женской одежды.
По команде повзводно выстраиваемся на плацу перед школой. Под звуки духового оркестра выносится Знамя школы, чеканят шаг знаменосец и два ассистента — курсанты инструкторской роты. Они останавливаются лицом к строю. Перед нами — стол под красной скатертью, на столе папка с текстом присяги.
Шеренги стоят по стойке «смирно». Я замерла от волнения. Началась церемония принятия присяги, торжественная, волнующая. Одна за другой подходят курсантки к столу, произносят слова присяги. Слышу: «Курсант Жукова!» Четким шагом подхожу, беру текст и звенящим от волнения голосом произношу: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик…» Расписываюсь под текстом присяги, припадаю на одно колено, слегка касаюсь губами алого полотнища Знамени. Становлюсь в строй. Вызывают следующего, но я уже ничего не вижу и не слышу, переживаю свое.
Для меня эта торжественная клятва имела глубокий смысл. Я ведь добровольно вступила в армию, руководствуясь одним стремлением — защищать страну, свой народ. Принимая присягу, я как бы подтверждала свой выбор — служить народу, поэтому очень волновалась.
Потом был парад. Шли по шесть человек в ряду, винтовки наперевес, кончик штыка — около мочки правого уха впереди идущего. Я испытывала необыкновенное напряжение: ведь надо не сбиться со строевого шага, держать равнение в ряду и при этом смотреть направо, где на трибуне собралось не только наше начальство, но и гости из Москвы, кричать «Ура!» в ответ на праздничные призывы. Меня же особенно беспокоило одно: только бы не споткнуться и ненароком не проткнуть штыком того, кто шел впереди меня.
Нашим парадом любовались местные жители, собравшиеся со всего поселка. Завершилось торжество праздничным обедом.
После праздника сразу резко возросла интенсивность занятий.
Снайпер — это одна из самых тяжелых и опасных военных профессий. Ведь что такое снайпер, что от него требуется? «Снайпер обязан… во всех случаях поражать цель наверняка и с первого выстрела… Уметь длительно и тщательно наблюдать за полем боя, настойчиво выслеживая цель… Уметь действовать ночью, в плохую погоду, на пересеченной местности, в районе препятствий и мин…» (из «Личной книжки снайпера»).
В соответствии с этими требованиями и строилось наше обучение. Поэтому в программе у нас — тактическая, огневая, строевая, физическая, политическая подготовка. От нас требовалось назубок знать уставы Красной армии, материальную часть почти всех видов стрелкового оружия — винтовок, пистолетов, автоматов, пулеметов. Нас учили оборудовать стрелковые ячейки — основные, запасные и ложные; мы должны были уметь маскироваться и подолгу сидеть в засаде, ориентироваться на местности и ползать по-пластунски. Проводились специальные занятия по тренировке наблюдательности и памяти, зрения и твердости руки. Мы овладевали приемами рукопашного боя и метания гранат.
Учебные занятия проводились в полевых условиях в любую погоду — в жару и в холод, в дождь и снег, под палящим солнцем и секущей пургой. Исключение составляли теоретические занятия — общественно-политические, по уставу и материальной части оружия. Но наш политрук, например, тоже любил заниматься с нами на свежем воздухе. Когда позволяла погода, он выводил нас во двор, усаживал под старым раскидистым деревом, растущим во дворе школы, сам садился на какой-то пенек и начинал занятия. Помню: сначала все внимательно слушают, но проходит несколько минут, и видишь, как никнет одна голова, за ней другая, третья… Заметит политрук, поднимет всех, заставит руками помахать, побегать немного или еще как-то поразмяться. Сядем, и через несколько минут все повторяется сначала. Конечно, сказывалась чрезмерная усталость, а может быть, и занятия проводились неинтересно.
Больше всего внимания уделялось огневой подготовке курсанток. Уже в мае мы начали через день ходить на полигон. Сначала рыли там глубокие траншеи и окопы, оборудовали огневые точки, строили примитивные оборонительные сооружения. Сколько всего накопали мы своими небольшими саперными лопатками, сколько земли переворошили! Зато научились все это делать быстро и хорошо. Часто ворчали после этого рытья. А командиры объясняли: «В этом — ваша безопасность на фронте, ваши жизни».
Помню: ясный летний день, солнце печет нещадно. Однако мы работаем в своих плотных гимнастерках. Единственное послабление — разрешили снять ремни и расстегнуть воротники. Все уже в изнеможении от жары и усталости. Прибыла походная кухня с обедом — большой котелок каши на четверых и большая пайка хлеба каждому. Своими ложками по очереди черпаем из общего котелка необыкновенно вкусную кашу, едим ее с хлебом. После обеда разрешается отдохнуть. Я валюсь на только что вынутую из глубины траншеи прохладную и чуть влажноватую землю и гляжу на небо. Оно чистое-чистое, без единого облачка и кажется бездонным. Рядом улеглись девчата. Кто-то моментально заснул и чуть посапывает во сне, другие, подобно мне, лежат с открытыми глазами и наслаждаются тишиной, покоем, красотой летнего дня. И такая умиротворенность в моей душе, что хочется плакать. Час отдыха пролетает мгновенно, звучит команда: «Подъем!», а я никак не могу выйти из блаженного состояния. Наконец с трудом отрываюсь от земли, беру лопатку, иду копать.
Такие прекрасные мгновения — редкость в нашей до предела загруженной и напряженной жизни, потому, вероятно, и запомнился мне тот день…
Потом на полигоне начались регулярные занятия по стрельбе. Обычно мы проводили там целый день, уходили на полигон сразу после завтрака, а возвращались в казарму только к ужину. И все это время окапывались, маскировались, учились передвигаться перебежками. И стреляли, стреляли, стреляли. Стреляли по мишеням в полный рост, поясным и грудным, бегущим и неподвижным, открытым и замаскированным; стреляли стоя, лежа и с колена, с упора и без него; стреляли на ходу и в статичном положении. В общем, на однообразие тренировок жаловаться не приходилось. Патронов на тренировки не жалели, но после стрельб надо было по счету сдать стреляные гильзы — сколько патронов получил, столько и гильз сдай, иначе грозили неприятности. Это и понятно: патроны-то боевые. Поэтому, если у кого-нибудь обнаруживалась недостача, на помощь приходило все отделение. Мы на коленях ползали по земле, отыскивая в грязи или в траве поблескивающие золотистым цветом стреляные гильзы. За целый день, бывало, так набегаешься, наползаешься и настреляешься, что хочется тут же повалиться и уснуть. Ноги гудят, в глазах резь от длительного напряжения, плечо болит от сильной отдачи приклада при стрельбе. Но надо подниматься, навьючивать на себя весь боевой скарб и идти обратно в школу. Опять строем, с песней и полной боевой выкладкой: скатка, винтовка, противогаз, саперная лопатка, а порой и еще что-нибудь вроде станка для наводки или мишени. Идти же 7 километров. Летом — жара, солнце печет, но нам не разрешается ни воротник расстегнуть, ни передохнуть в тени, ни воды напиться из деревенского колодца. Давали совет: пососите немного соли. Как ни странно, помогало. И вдруг команда: «Запевай!» Какие тут песни! Думается только об одном — поскорее бы в тени укрыться. Однако с командиром не поспоришь. Запевала начинает, строй подхватывает, становится немного веселее и шагается вроде легче.
Командиры твердили свое: привыкайте, на фронте тяжелее будет. Когда наступила осень, а потом пришла зима, стало еще тяжелее, мы не раз вспоминали летние деньки. Но это еще впереди. А пока все изнывали от жары.
Как только мы научились более или менее сносно владеть оружием, нам заменили обычные винтовки снайперскими, с оптическим прицелом. Хороши были винтовки! Мы сразу оценили преимущества нового оружия, с которым предстояло ехать на фронт. Но и забот с ними прибавилось. Эти винтовки были более чувствительны к ударам, сложнее для ухода. А знаете, как старшина проверяла, в каком состоянии находится у курсанта винтовка, как вычистили ее после стрельбы? Возьмет в руки винтовку, осмотрит со всех сторон; потом достанет кусочек белоснежной тряпочки, проведет ею вдоль всей винтовки, от кончика приклада до прицельной мушки; затем этой белой тряпочкой, намотанной на шомпол, — в ствол. И не дай бог, если после всех проделанных старшиной манипуляций на тряпочке обнаружится хоть маленькое пятнышко! Как минимум наряд вне очереди. Но мы тщательно ухаживали за винтовками, времени на это не жалели, поэтому чаще всего обходилось без выволочек.
Участились тренировочные походы. Однажды нас подняли ночью по тревоге и в полной боевой выкладке повели по дороге вокруг Москвы. Мы протопали тогда, по словам Марии Дувановой, около 150 километров! В соответствии со сложившейся на фронте военной обстановкой нас готовили к наступательным боям. Поэтому длительные многокилометровые переходы в полной боевой выкладке, марш-броски, кроссы проводились регулярно. Уставали невероятно, но если кто-то начинал скулить, нам неизменно напоминали: «На фронте еще тяжелее будет».
Очень хорошо помню свои ощущения после завершения длительного похода. Наступает момент, когда кажется, что из тебя вынули все, сил уже ни на что не осталось, одного шага не сделаешь. И вдруг раздаются звуки знакомого марша — за несколько километров от дома нас встречает школьный духовой оркестр. Оркестр этот был приписан к нашей школе, но служили в нем только мужчины, военные музыканты-профессионалы. Услышишь музыку — и пропадает усталость, мы подтягиваемся, веселеем, благополучно добираемся до школы. Видимо, тогда и полюбила я духовой оркестр.
Не могу не сказать и еще об одной стороне подготовки курсантов в ЦЖШСП — о патриотическом воспитании. Этим много занимались и командование школы, и партийная организация, и комсомол. На учебных занятиях, в лекциях и беседах нам постоянно напоминали о героическом прошлом страны, о боевых традициях русской и Красной армии, рассказывали о подвигах наших воинов, в том числе и выпускниц школы, на фронтах войны. В клубе регулярно демонстрировались художественно-исторические фильмы. В нас воспитывались гордость за страну, стремление и воля к победе.
Известно, что в 1943 году, когда возрождались многие старые воинские традиции, в Красной армии восстановили погоны. Это нововведение многими воспринималось с трудом. Действительно, погоны ассоциировались в нашем сознании с белой армией, с теми, кто воевал против Советской власти. И вот на тебе! Я впервые увидела погоны на плечах курсантов военного авиационного училища, которое с началом войны было эвакуировано в Уральск из Ворошиловграда. Ярко-голубые погоны с блестящими крылышками на них смотрелись красиво, но все-таки я не восприняла это новшество. Правда, постепенно это стало привычным, и никто уже не обращал внимания на погоны. Но вот что странно: когда я, сидя на нарах в казарме, прилаживала к гимнастерке грубые суконные погоны цвета хаки, то почувствовала вдруг легкое волнение. Думаю, это результат того, что наши командиры и политработники хорошо поработали с нами, объясняя причины и смысл этого нововведения. Нам, солдатам Красной армии, постоянно внушали, что мы являемся наследниками славных традиций русской армии и должны этим гордиться. Погоны на наших плечах — это тоже традиция русской армии. Мы так и восприняли это новшество. Чувство причастности к истории страны и русской армии, патриотизм в нас формировались постоянно и настойчиво. Это давало свои результаты.
Вот что пишет о выпускницах ЦЖШСП дважды Герой Советского Союза генерал армии П. И. Батов: «Любовь к Родине выковала в них стойкость, дала силу и энергию, повела их в бой. Партия и комсомол воспитали в своих дочерях уверенность в победе, непоколебимость духа, гордое сознание морального превосходства над врагом».
Можно было бы и не писать об этом, ведь патриотизм — это, казалось бы, такое естественное для каждого человека состояние. Но пришло время, когда в нашей стране сместились понятия о чести, достоинстве, нравственности, а быть патриотом стало чуть ли не стыдно. Поэтому и хочется хоть несколько слов сказать о том, что нас воспитывали иначе, в нас с детства культивировали это важнейшее качество — любовь к Родине. Не могу не напомнить также, что и советская, и дореволюционная Россия традиционно отличалась высоким патриотизмом людей, независимо от их социального и материального положения. Многим представителям современной российской политической элиты неведомо это чувство… Если бы подобные руководители стояли во главе страны в 1941–1945 годах, мы проиграли бы ту войну.
Особенно больно за нынешнюю молодежь, которую постоянно обманывают, внушая, что вся история нашей страны — это сплошные ошибки, недоразумения и преступления. Фактически у молодежи отнимают право гордиться своей Родиной. Многие не связывают свое будущее с Россией, хотят уехать в другую страну. Неужели ничего не изменится? А что же будет с Россией?
С нами все было по-другому. В нашем сознании судьба страны и личное благополучие каждого из нас связывались неразрывно. Всем нам предстояло с оружием в руках защищать наше общее будущее, и мы готовились к этому, упорно и настойчиво овладевали военной наукой.
Наряду с учебными занятиями мы имели много и других служебных обязанностей. Часто приходилось дневалить то в казарме, то на кухне, убирать территорию школы и прилегающие к ней улочки.
Однажды всем взводом ездили на сенокос. Помню, кашеварить тогда поручили Кате Шейко, самой, пожалуй, хозяйственной из нас. При встрече в 1975 году мы вспоминали, как она ночью одна шла через темный лес на колхозное поле, набирала там мешок картошки и возвращалась обратно с этим тяжеленным мешком на горбу. Страшным казался ночной лес, страшно было, что могут задержать за украденную картошку. Но она все переносила ради того, чтобы сытнее и вкуснее накормить нас.
Все любили дневалить на кухне. Там приходилось выполнять в основном грязную и тяжелую работу (чистить картошку, отмывать жирные котлы, мыть полы). Зато можно было не только самим наесться досыта, но и своему взводу добавить в бачок один-другой черпак супа и каши, дать лишнюю пайку хлеба.
Для меня самой трудной обязанностью было несение караула у склада с боеприпасами. Караул несли круглосуточно: два часа на посту, затем два часа — бодрствование в караулке, два часа — сон в той же караулке. Потом все сначала, и так целые сутки. Стоять у склада, особенно ночью, было жутко. Складской сарай находился в некотором отдалении от школьного здания, на пустыре, поросшем кустарником со всех сторон. Почти рядом — глубокий овраг, тоже заросший деревьями и кустами. Стоишь ночью, кусты шелестят, так и кажется, что кто-то крадется. Станет невмоготу, резко обернешься, винтовку навскидку: «Стой! Кто идет?» Убедишься, что никого нет, а все равно страшно. Прижмешься, бывало, спиной к стене, стоишь, вглядываешься в темноту, ждешь. Потом отрываешься от стены, идешь вокруг склада, а по спине холодок ползет, опять кажется, что за тобой кто-то идет. Ведь шла война, всего можно было ждать, тем более что на складе хранилось не учебное, а боевое оружие и боеприпасы. Днем, конечно, легче было, а ночью, особенно когда ни звезд, ни луны нет, — страшно. Ко многому привыкла в школе, научилась многого не бояться, а от ощущения страха на этом посту так и не избавилась. Но об этой моей проблеме я ни с кем не говорила, стыдно было.
Командиром взвода у нас был младший лейтенант Мажнов. Если с командиром отделения нам повезло, то с этим младшим лейтенантом — определенно нет. Надо отдать ему должное, он много работал с взводом, учил нас основательно, предъявлял повышенные требования. Это сказывалось, естественно, в деле. Где бы мы ни были — на учебных ли занятиях, на работе ли, — всегда получали благодарности. В роте, да и не только в роте, нас звали «мажновцами», но нередко с некоторым оттенком неприязни. В этом проявлялось отношение курсантов к нашему взводному командиру. В прошлом рядовой колхозник, Мажнов любил показать свою власть над нами, нередко унижал нас.
Помню, начальником школы был издан приказ, которым запрещалось гонять нас форсированным маршем (это почти бегом). Но наш взводный умудрялся нарушать этот приказ. Направляемся, например, на полигон, он гонит нас полпути форсированным маршем, а потом остановит, даст отдохнуть, и на полигон мы приходим в нормальном состоянии, отдохнувшие. Никто из вышестоящих командиров об этом даже не догадывался, вероятно, а рапорт на командира можно было подать только через него же. Такие были порядки. Мы не решались на это, зная мстительный характер нашего младшего лейтенанта.
Помню и другой случай. Однажды выдался у нас особенно тяжелый день. К тому же погода была мокрая, холодная. Пошли в столовую на ужин (строем, как всегда), а песни не поются. Взводный приказывает петь, а мы не поем. Он в конце концов рассвирепел, но и мы тоже уже разозлились и не стали петь. Долго гонял он нас на плацу строевым шагом, требуя, чтобы мы пели, но в этот раз, как говорится, нашла коса на камень, мы упрямо молчали. Наступил отбой, все улеглись в предвкушении сна. Только начали засыпать, как вдруг команда: «Подъем, выходи строиться!» Мажнов вывел нас на плац и начал гонять, снова добиваясь, чтобы мы пели. Взвод молчал. Шепнули нашей запевале Маше Жабко, чтобы она запевала, сами же решили в этот раз не подчиняться взводному. Маше нельзя было отмолчаться, потому что одну ее он мог потом замордовать нарядами, а со всем взводом этот номер не прошел бы. Так и ходили мы по плацу: взводный приказывает петь, запевала начинает песню, а остальные молчат. В тот раз у него ничего не получилось. В глазах всей роты мы выглядели героями.
Однажды произошел очень неприятный случай со мной. Нас вывели в поле на тактические занятия. Уже стояла осень, было холодно, накануне прошел сильный дождь, везде стояли лужи. Мы бежали по чавкающей под ногами и налипающей на сапоги вязкой грязи. Мажнов командует взводу: «Ложись, по-пластунски вперед!» Я глянула — прямо передо мной огромная лужа. Быстро сделала два-три шага в сторону и легла. Слышу: «Курсант Жукова, встать, вернуться на исходную позицию!» Вернулась к этой луже, слышу следующую команду: «Ложись, по-пластунски вперед!» Легла в лужу, поползла. До сих пор, когда вспоминаю этот эпизод, физически ощущаю, как в голенища сапог, в рукава шинели вползает холодная липкая грязь. Я глотала слезы от бессилия, злости и ощущения униженности. Потом, разбирая действия курсантов, Мажнов сказал: «Если бы боец Жукова на фронте поступила бы так же, как сегодня, возможно, ее не было бы уже в живых».
Впоследствии я думала, что наш взводный был по-своему прав, и выжили-то многие потому, что учили нас жестко, в условиях, приближенных к фронтовым. Но тогда мы не любили и не уважали нашего командира. Он, вероятно, понимал это и ни разу не приезжал на послевоенные встречи выпускниц школы. А может быть, страдал, что ничего не добился в жизни, и не хотел, чтобы кто-то видел это. От одного из командиров мы узнали, что после войны Мажнов вернулся в свое село и оставался рядовым колхозником. Ему это, наверное, трудно было пережить.
О проделках нашего взводного командование каким-то образом все-таки узнало. Его сняли с должности и направили на фронт. Младший лейтенант пришел проститься со взводом, но сочувствия или сожаления никто из нас не проявил, прощание вышло сухим. Возможно, мы были не правы, все-таки человек уезжал на фронт.
Нашим новым командиром стала младший лейтенант И. Папихина, выпускница Рязанского пехотного училища. Она же, кстати, сопровождала наш эшелон на фронт.
Вскоре и всех остальных командиров взводов — мужчин сменили женщины. Стало чуть проще. Это не значит, что у нас уменьшились нагрузки или нам делались какие-то поблажки. Нет, просто нас лучше стали понимать.
Уехала на фронт и старшина М. Логунова. О ней все искренне сожалели. Новая старшина не запомнилась, то ли из-за краткого пребывания в этой должности, то ли по другой причине.
…Уставали мы невероятно. Но молодость брала свое, девчата порой озорничали, проявляли непослушание, убегали в «самоволку». За каждым проступком неизбежно следовали наказания, но это никого не останавливало. Девчата шутили: «Дальше фронта не пошлют!» Самым тяжелым наказанием было лишение увольнительной: провинившийся терял единственную возможность хоть на короткое время вырваться из казармы, отдохнуть от утомительных занятий, немного развлечься. А самое унизительное — гауптвахта. Когда я видела, как какую-нибудь девчонку ведут туда под конвоем, без ремня, становилось не по себе. Мне, по счастью, не довелось испытать ни того ни другого. Однако и другие наказания, вроде внеочередного мытья полов в казарме, что я дважды испытала, настроения не улучшали.
И все-таки мы озорничали. Однажды уже осенью наше отделение в полном составе строем шло на полевые занятия. Шли мимо колхозного поля, на котором густо росла морковь. Вдруг сзади кто-то полушепотом дает команду: «Отделение, ложись. По-пластунски — вперед!» И все поползли по полю, торопливо выдергивая из земли морковку и набивая ею карманы. Потом с аппетитом хрустели сочной и необыкновенно вкусной добычей. Ели прямо немытую, потому что вымыть-то негде было. Только руками обтирали чуть-чуть. А что же наша сержант? Она на этот счет строгой была и подобное не позволяла вытворять. Где она была? Отошла в тот момент куда-нибудь? Или, по себе зная, что курсантки всегда испытывали чувство голода, просто закрыла на это глаза? Не знаю. При встрече через тридцать лет спросила об этом Машу, а она, оказывается, вообще не помнит того случая.
И еще одна история из нашей жизни.
Лето, стоит страшная жара… Мы просто изнываем в своих застегнутых на все пуговицы и туго перетянутых брезентовыми ремнями гимнастерках. Да еще на нас плотное, из желтой бязи нижнее белье, рубашки с длинными рукавами. Собираемся на полигон, идти 7 километров по открытому полю под палящим солнцем, а никаких поблажек командиры не дают, закаляют, приучают терпеть, преодолевать трудности. В общем, все недовольны, все потихоньку ворчат. Вдруг кого-то осеняет показавшаяся нам просто гениальной идея: «Давайте снимем нижние рубашки, без них все-таки легче будет». Но куда их девать? Естественно, под матрацы, другого места нет. Дружно сняли, спрятали. Пошли на занятия, почувствовали, что действительно стало намного легче, тело хоть чуть-чуть дышит. Возвращаемся и сразу под матрацы. А рубашек-то нет! Тут мы здорово трухнули. Понимали, что допустили серьезное нарушение дисциплины, безнаказанным оно не останется. Но главное — где наши рубашки? И что теперь делать? Доложить сержанту — страшно, покаяться старшине — еще страшнее, все знали ее суровый характер. Пока мы в растерянности стояли и рассуждали, что же теперь нам делать, дверь широко распахнулась, и появилась грозная старшина. В руках она держала наши рубашки. «Ну, — раздался ее зычный голос, — сознавайтесь, кто тут такой хитрый?» Мы вытянулись перед ней по стойке «смирно», молчали и ждали, что будет дальше. «Думаете, что всех перехитрили, открытие сделали, — иронизировала старшина. — Да до вас это проделывалось не однажды, вы не оригинальны». В тот раз старшина оказалась настроенной мирно, она раздала нам рубашки, прочитала неизбежную в таких случаях нотацию. «Но, — снова загремел ее голос, — если кто-нибудь еще позволит себе подобное, пеняйте на себя». В этот момент я посмотрела на Машу. Она стояла бледная, с крепко сжатыми губами, а в глазах ее я увидела и гнев, и недоумение. Только тогда я поняла, как мы подвели ее, ведь командир отделения отвечал за все, что вытворяли ее подчиненные.
Несмотря на все тяготы военной жизни и предельно жесткий режим, нам удавалось выкраивать немного времени на отдых, общественную работу. В нашем клубе постоянно устраивались концерты, танцы, просмотры кинофильмов. Многие курсанты активно участвовали в общественной работе. Каждый выбирал то, что ему нравилось. Я, например, с удовольствием занималась выпуском ротной стенгазеты. Моим делом было ее художественное оформление. Редколлегия работала дружно, нам удавалось сделать газету интересной и красочной. Мы умудрялись на одном листе ватмана разместить до 20–25 заметок. Они всегда были лаконичны, четки и били в цель. Кстати, этот опыт пригодился мне, когда я стала главным редактором факультетской стенгазеты в институте.
Иногда в стенгазете печатались мои стихи. Читать их со сцены я стеснялась, но в узком кругу, своим девчатам читала с удовольствием. Им нравилось. Аня Верещагина, например, была уверена, что я буду поэтом, и, как она рассказывала, после войны искала мои стихи в газетах и журналах. Но поэта из меня не получилось.
Предметом всеобщей гордости и любви курсанток была художественная школьная самодеятельность. На концерты наших доморощенных артистов с удовольствием ходили не только мы, но и жители поселка. Мне особенно запомнилась исполнительница цыганских песен и романсов Тамара К. Ее выступления неизменно вызывали шквал аплодисментов. Надо сказать, что Тамара частенько злоупотребляла своей популярностью, при любой возможности старалась уклониться от тяжелой и грязной работы, ссылаясь на репетиции, позволяла себе некоторые вольности. Однажды возвратились мы с занятий и увидели, что Тамара сидит на верхних нарах, играет на гитаре и поет. На ней гимнастерка под ремнем, по форме надетая пилотка, а брюки… А брюки, изорванные, будто корова их жевала, свешиваются с верхних нар. Оказалось, что в тот день Тамара дневалила и должна была мыть полы. Не найдя половой тряпки, она решила использовать в этом качестве свои брюки. Они у нее изрядно порвались, старшина обещала выдать другие, но что-то тянула. Вот Тамара и решила ускорить дело. Мы дружно посмеялись над выходкой Тамары. Зато наша старшина М. Логунова, человек справедливый, но очень строгий, баловства не терпела. Она буквально рассвирепела, увидев, что стало с брюками, и отказалась заменить их, пригрозив, что заставит носить их до самого окончания школы. Пришлось нашей Тамаре на потеху всей роте целую неделю ходить в этих рваных брюках, которые теперь уж точно напоминали половую тряпку. Потом старшина сменила гнев на милость и выдала другие брюки.
Вообще наш взвод не испытывал недостатка в шутниках. В одном из отделений служила армянка — красивая, несколько полноватая и очень медлительная девушка. И вот однажды, когда их отделение ночью подняли по тревоге в ружье, она встала в строй в полном военном снаряжении, но без брюк, в белых длинных трусах, выглядывавших из-под гимнастерки. Строй грохнул хохотом. Мы тоже проснулись и от смеха буквально катались по нарам. Хоть и уверяла наша сокурсница, что сделала это не нарочно, просто плохо соображала спросонья, мы не очень верили ей, подозревали, что не давали ей покоя «лавры» Тамары. Долго потом вспоминали в роте этот случай.
Вот написала про армянку и подумала о грандиозной спекуляции по поводу того, что в СССР якобы плохо решался национальный вопрос, отсюда и все нынешние национальные проблемы. Чепуха все это. В нашей снайперской школе учились представители самых разных национальностей. Только у нас во взводе, например, служили и русские, и украинки, и армянка, и татарка, и даже гречанка. Но мы никогда и не думали о том, кто есть кто. Просто вместе жили, спали на одних нарах, дружили, вместе овладевали военной наукой, а потом вместе и воевали. И никаких недоразумений, а тем более конфликтов, на этой почве не возникало.
Я, например, до сих пор не знаю национальной принадлежности многих своих друзей по ЦЖШСП, да мне это и неинтересно, ибо не национальностью определяется ценность человека.
Из нашей школы вышли два Героя Советского Союза — русская Татьяна Барамзина и казашка Алия Молдагулова.
А. Молдагулова погибла, когда, заменив погибшего ротного командира, подняла солдат, залегших под мощным вражеским огнем, и повела их в атаку.
Т. Барамзина целый час одна отбивалась от фашистов, защищая блиндаж с ранеными… Когда у нее кончились патроны и гранаты, немцы схватили ее, пытали, выкололи глаза, а затем в упор расстреляли из противотанкового ружья.
Мы одинаково гордились Алией и Таней, одинаково чтили их память, и нам было безразлично, кто из них какой национальности. Это потом занялись вдруг подсчетами, сколько среди Героев Советского Союза было татар, евреев, представителей других национальностей.
Время шло. Мы продолжали напряженно заниматься. Чем дальше продвигалась наша учеба, тем больше возрастали физические и психические нагрузки. Некоторые не выдерживали. Одна девушка умышленно покалечила себе руку, чтобы не ехать на фронт. Доказать ее прямую вину не смогли и просто демобилизовали, отправили домой. Другая дезертировала из школы, ее быстро нашли, задержали и судили. Заседание военного трибунала проходило в школе в присутствии курсанток. Все мы с возмущением восприняли приговор: досрочно, до завершения обучения, направить на фронт. Мы не понимали: как же так, ведь всем предстояло в ближайшем будущем ехать на фронт, нам внушают, что это почетно — защищать Родину, а тут отправляют на фронт в наказание. Кипятились мы, возмущались, но судьи настояли на своем решении. Тогда это показалось большой несправедливостью, а сейчас думаю: как хорошо, что судьи оказались мудрыми, не прислушались к нашему мнению и не вынесли той несчастной девушке более тяжелого наказания.
В памяти остались всего два таких чрезвычайных происшествия. В основном же девчата справлялись с трудной учебой, а если становилось невмоготу, разряжались более безобидными способами: кто-то поплачет в уголке или отчаянное письмо домой пошлет, другие дурачились, взбрыкивали, грубили всем подряд, уходили в «самоволку». И хотя за каждое нарушение неизбежно ждало наказание, никого это не останавливало.
Зато была и другая возможность — заслужить внеочередное увольнение как поощрение за хорошую работу, учебу и безупречную дисциплину.
Девчата по-разному использовали время увольнения. Я же так тосковала по домашнему уюту и теплу, что всегда ездила только в Москву, к тете Насте — бывшей жене младшего маминого брата. Она любила меня, всегда очень хорошо принимала, подкармливала чем-нибудь вкусным (она работала на бензоколонке, а это во время войны считалось поистине золотым дном). В те годы тетя Настя была уже немолодой, своей семьи не имела, вот и изливала на меня свою нежность и доброту.
К поездке в город мы всегда готовились очень тщательно, это был целый ритуал.
После получения увольнительной начинали «чистить перышки»: отмывали руки, стригли ногти, гладили парадные костюмы, пришивали чистые подворотнички, драили сапоги. Потом дежурный офицер осматривал каждого с головы до ног, заставлял пройтись перед ним строевым шагом, отдать ему честь. И не дай бог, если окажется, что шея плохо отмыта, или ногти не очень хорошо острижены, или носовой платок не первой свежести, или сапоги плохо блестят. Безжалостно поворачивает обратно для приведения в порядок внешнего вида. Уговаривать в таких случаях было бесполезно, зря только время терялось.
Это заставляло нас предельно тщательно готовиться к каждому выходу за пределы школы, особенно к поездкам в Москву. Мне не раз приходилось слышать от самых разных людей, что курсантки нашей школы всегда в лучшую сторону отличались от других военных девушек. Однажды подобный комплимент я сама услышала от дежурного офицера одной из комендатур в Москве. Меня задержал патруль, привели в комендатуру, сначала минут тридцать гоняли строевым шагом по мощеному двору, заставили шинель в скатку скрутить (проверяли, умею ли), а уж потом стали разбираться. Выяснилось, что задержали меня напрасно, несправедливо придравшись к какой-то мелочи. Никто передо мной, естественно, не извинился, зато дежурный офицер, отпуская меня, спросил: «Как это удается вам так нарядно выглядеть в обычной солдатской форме?» И добавил, что не первый раз встречает курсанток нашей школы и каждый раз удивляется отличной выправке и внешнему виду девчат.
Во время поездок в Москву со мной не единожды случались различные истории.
Как-то возвращались мы с моей однокурсницей из очередного увольнения. Было уже поздно, мы боялись опоздать, торопились и обрадовались, успев попасть на последнюю электричку. И вдруг, не доезжая одной станции до Силикатной, слышим: «Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны». Вот это был кошмар! Ночь, времени в обрез, а до школы еще несколько километров. Убедившись, что электричек действительно больше не будет, соскочили с платформы на железнодорожный путь и побежали по шпалам. Когда вернулись в школу, время увольнения уже истекло, а опоздание грозило очень серьезными неприятностями и наказанием. Объяснились с часовыми, с дневальным по роте, умоляли не выдавать нас. Оставалось самое трудное — не нарваться на дежурного офицера и улечься на нары так, чтобы сержант не заметила. Мое место было рядом с Машей Дувановой, поэтому я и не надеялась проскользнуть незаметно. Тихонько улеглась, Маша не шевелилась. Ну, думаю, пронесло. На душе все равно муторно: что-то будет? Утром поняла, что Маша все знает. Но ни она, ни дежурные не выдали нас, все обошлось.
Еще один случай. В тот раз я ехала в Москву одна. В вагоне рядом со мной на скамейке сидели две очень славные женщины. Они расспрашивали меня обо всем, охали и ахали, что такая молоденькая должна ехать на войну. Одна из них достала из стоявшей на коленях корзины яблоко, вытерла его рукавом и протянула мне: «Ешь, дочка». Так мы сидели, разговаривали. Вдруг в вагон вошел молодой офицер и, не увидев свободного места, потребовал, чтобы я уступила ему свое. Я обязана была сделать это, ибо рядовой солдат вообще не имел права сидеть в присутствии офицера. Я уже хотела встать, но тут вмешались мои соседки, подключились другие женщины. Они ругали его, стыдили, кто-то вдруг вспомнил о традициях русских офицеров — уступать дамам (это я-то в военной форме и кирзовых сапогах — дама!) место. Кончилось тем, что офицер махнул рукой и перешел в другой вагон.
А однажды, возвращаясь из Москвы, я совершила самую обыкновенную кражу. Сейчас стыдно признаваться, но именно украла. В школе почему-то постоянно возникали проблемы с половыми тряпками. Надо мыть полы, а тряпок нет, и не знаешь, где их искать. Ни старшина, ни командиры отделений не озадачивали себя этой проблемой, предоставляя курсанткам самим решать ее. Решали кто как мог, чаще всего просто тащили друг у друга. И вот однажды ехала я из Москвы, вышла на станции Силикатная, гляжу, а из-за бочки с песком торчит большой кусок мешковины. Недолго думая вытащила этот кусок и понесла в школу. На какое-то время проблема с половой тряпкой в нашем отделении была решена. Надо сказать, что угрызениями совести я не мучилась.
В напряженных занятиях пролетело лето, наступила осень — дождливая, грязная, заметно усложнившая нашу и без того нелегкую жизнь. Приближалась 27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. По традиции 6 ноября в одном из клубов Подольска должен был состояться большой праздничный вечер для курсантского и командного состава школы. Все начистились, нагладились, оделись в парадную форму и ждали команду на построение.
А я в это время торопилась завершить работу по оформлению фасада школьного здания. По заданию политотдела я прямо на стене по трафарету большими красными буквами писала какой-то лозунг, а по обе стороны его рисовала пятиконечные звезды. Начиная работу, я даже не представляла, насколько непросто будет справиться с ней. На улице холод, порывистый ветер, мелкий моросящий дождь. Я продрогла, руки стали красными от холода и едкой щелочной краски. По мере написания лозунга приходилось одной передвигать тяжеленную лестницу с места на место. С трудом завершила работу, спустилась с лестницы, глянула на себя и ахнула. Брызги красной краски были везде: на шинели, на брюках, на сапогах. В таком виде, ужасно расстроенная этим обстоятельством, я вернулась в расположение взвода. Идти уже никуда не хотелось, но и оставаться одной в такой день тоже обидно было. Направилась в каптерку за парадной формой, однако она оказалась запертой, а старшина куда-то ушла. Я чуть не плакала от обиды, что все пойдут на праздник, а я останусь одна.
Только вернулась из каптерки, как вдруг вбегает дневальная и кричит: «Жукова, к тебе мать приехала!» Я остолбенела от неожиданности. В голове пронеслось: «Мама? Этого не может быть, она далеко. Значит, тетя Настя! Вот здорово, что она приехала навестить меня! Вот это подарок к празднику!» Я сорвалась с места и, как была, в одной гимнастерке, без ремня, без головного убора, не спросив даже разрешения у сержанта, выбежала за ворота. Выходить из казармы без разрешения командира отделения да еще не по форме одетой категорически запрещалось, но я и не вспомнила об этом. Выбежав на улицу, в некотором отдалении увидела шубку тети Насти, про себя подумала, что не ошиблась, и кинулась к ней. И вдруг вижу — это же мама, моя мама! Бросилась ей на шею и разрыдалась, бесконечно повторяя только одно слово: «Мама… Мама… Мама…» Потом увидела рядом Валю и ее маму тетю Таню. Они тоже обе рыдали.
А ведь было у меня предчувствие. Всю неделю перед этим мучилась я какой-то непонятной тоской и говорила девчатам: «Кажется мне, что кто-то приедет». Это было необычное состояние. Что бы я ни делала, меня не покидало чувство ожидания. Я часто подходила к окну и смотрела на улицу: не идет ли кто. Доходило до того, что после обеда все ложились спать, а я садилась на подоконник и снова высматривала кого-то на улице. Поскольку сон был обязателен для всех, то сержант поначалу сердилась на меня, прогоняла от окна, грозила наказать. Однако потом, видя, как я страдаю, махнула рукой… И я целый час могла просидеть, с тоской глядя в окно.
И вот свершилось чудо — ко мне приехала мама. Тогда это было действительно чудом, так как въезд в Москву разрешался только по специальным пропускам. Но тетя Таня и мама оформили командировки, каждая в свое ведомство, и приехали.
Обычно в казарму никого посторонних не пускали, но сейчас сделали исключение.
Тетя Таня пошла к Вале, а моя мама — ко мне. Надо было видеть наших девчат! Каждая старалась дотронуться до мамы, что-то сказать ей и что-то услышать от нее. Хоть чужая, но все-таки мама…
Быстро оформили увольнительные записки, чтобы ехать в Москву. С Валей все было нормально, она, начищенная и наглаженная, в парадной форме, была готова к поездке. Я же, вся перепачканная краской, не могла ехать в таком виде. Спасибо девчонкам. Одевали меня всем взводом. Кто что давал, я даже не видела, но общими усилиями одели, и за ворота я вышла в наилучшем виде. Тогда я восприняла это как должное, все казалось простым и ясным: если нужна помощь товарищу, значит, надо помогать. Сейчас же я думаю — как, очевидно, непросто было отдать другому свою парадную форму, когда тебе предоставляется редкая возможность вырваться из порядком надоевшей казармы и окунуться в праздничную атмосферу. Я, кстати, не помню, как тогда вышли из положения те, кто поделился со мной своей парадной формой.
А мы, бесконечно счастливые, ехали в Москву. Все четверо разместились в небольшой комнатке у тети Насти. Мамы привезли нам гражданскую одежду, мы с Валей с удовольствием скинули форму и надели платья. Потом был праздничный стол. Мне почему-то особенно запомнились печеные пирожки с повидлом. 7 ноября пошли посмотреть праздничную Москву. Меня одели в пальто тети Насти, а Вале дала пальто одна из ее соседок. Мы гуляли по улицам и площадям города, любовались его достопримечательностями, наслаждались тем, что не надо через каждый шаг отдавать честь встречавшимся офицерам. Правда, моя правая рука постоянно дергалась по привычке, поэтому мама держала меня под руку.
Два дня пролетели незаметно. Днем 8 ноября все вместе сфотографировались, а вечером того же дня мы с Валей возвратились в школу. Мамы оставались в Москве на несколько дней по своим служебным делам.
Я снова встречусь с мамой, это произойдет ровно через девять месяцев — 6 августа 1945 года, а вот тете Тане уже не суждено было увидеться со своей дочерью: в марте 1945 года Валя погибла.
После войны мама рассказала мне предысторию приезда к нам. Однажды пришла к ней тетя Таня и говорит: «Поехали в Москву к девчатам. Чувствую, что Валя не вернется домой». Мама загорелась: ехать, обязательно ехать! С большим трудом выхлопотали себе командировки. В итоге и дела сделали, и нас повидали. Надо сказать, что, в отличие от тети Тани (отчества не помню, я до самой смерти ее звала просто тетей Таней, так она сама хотела), моя мама была уверена, что со мной ничего не случится, — она даже мысли не допускала, что я могу не вернуться.
После войны тетя Таня не любила встречаться со мной, виделись мы редко. Мне казалось, что она считает меня в чем-то виноватой. У Вали была младшая сестренка, но тете Тане она, к сожалению, не смогла заменить старшую дочь.
Сразу после ноябрьских праздников начался завершающий, самый напряженный этап обучения — подготовка к выпускным экзаменам. Отрабатывались, оттачивались, шлифовались все необходимые снайперу навыки: ведь скоро на фронт. Нам все чаще напоминали слова А. В. Суворова: «Тяжело в учении, легко в бою». Это чтобы мы не хныкали и не особенно жалели себя.
В этот период с фронта к нам стали приезжать девушки, окончившие снайперскую школу раньше нас. Они делились опытом, рассказывали о своих успехах и неудачах, давали дельные советы, предупреждали о возможных ошибках, охотно раскрывали нам свои маленькие тайны и секреты, которые всегда имеются в запасе у каждого бывалого солдата. Мы же с восхищением смотрели на тех, кто уже побывал на фронте, и на их боевые награды.
Вот в этот ответственный момент, когда требовалось напряжение всех сил, воли и характера, я заболела, у меня начался жесточайший фурункулез. Самое неприятное заключалось в том, что огромные фурункулы в количестве десяти — двенадцати штук выскочили прямо на талии, под ремнем. Боль буквально разрывала мое тело, иногда казалось, что не выдержу. Но каждое утро приходилось подниматься, надевать форму, туго затягивать ремень и целый день вместе со всеми бегать, ползать, прыгать, копать — короче говоря, делать все, что делали остальные. По совету девчат перепробовала множество народных средств, но толку не было. Тогда отправилась в медпункт. Врач уложила меня на кушетку, смазала больное место йодом, взяла ножницы и прямо по живому телу начала резать, вскрывая гнойники. Это была нечеловеческая боль, просто кошмар, я думала, что не сдержусь и начну орать. Но сдержалась. Потом засунули мне в рану ватный тампон с лекарством и отправили обратно в подразделение, не дав ни одного часу, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя.
Каждый день ходила я на перевязку, но ни разу не удалось после этих мучительных процедур полежать немного, отдохнуть, хоть на короткое время успокоить измучившие меня жуткие боли. После перевязки вставала, одевалась, туго затягивала ремень (по кровоточащей ране размером чуть не с кулак!) и опять шла на занятия. «Дырка» моя заживала очень долго, не затянулась даже к отъезду на фронт. Так я и уехала с этой раной и засунутым в нее тампоном, и в дороге опять каждый день бегала к медсестре на перевязки.
Потом был еще один ужас: выпускницам, отправлявшимся на фронт, делали очень болезненные комбинированные уколы, которые должны были предохранить нас от множества болезней: столбняка, холеры, дизентерии и других «прелестей». В течение двух-трех дней после этих уколов болело все: и спина, и руки, и ноги. Ночью вертелись, стараясь принять такое положение, чтобы как-то успокоить боль и немного поспать, а утром все вставали, согнутые болью, со стонами и причитаниями. С большим трудом выдерживали мы многочасовые занятия. Но нам и тут не делали никаких поблажек.
В конце ноября 1944 года начались экзамены по всем дисциплинам. От нас требовалось не на вопросы отвечать, а на практике продемонстрировать умение действовать в военной обстановке: стрелять, ползать по-пластунски, маскироваться, окапываться, оказывать первую медицинскую помощь, действовать в противогазе, разбирать и собирать винтовку, принимать самостоятельные решения в условиях боя. Фактически шла очень серьезная проверка нашей готовности участвовать в боевых действиях.
Не могу не сказать, что военному делу учили нас основательно, не упуская ничего, что могло пригодиться нам на фронте. Короче говоря, из нас делали профессионалов высокого класса. Обучали не только чисто военным навыкам, но много внимания уделяли и психологической подготовке, воспитанию выносливости и тому, как головы свои уберечь, не подставлять их зря под немецкие пули.
Наши девчата достойно показали себя в боях. Ими уничтожено около 10 тысяч фашистов. Почти все выпускницы школы награждены орденами и медалями, среди них есть кавалеры орденов Красного Знамени и Красной Звезды, 130 человек награждены орденом Славы, в том числе 15 — орденом Славы двух степеней. А двум девушкам, окончившим нашу школу, присвоено звание Героя Советского Союза. Высокую оценку нашим девчатам, их воинскому мастерству, мужеству, моральным и волевым качествам давали командиры воинских частей, в которых служили выпускницы ЦЖШСП.
О нашей замечательной школе и ее выпускницах написаны книги, рассказы, создан художественный фильм «Снайперы». Спокойно смотреть этот фильм не смогла, пока сидела в зале, высосала, по-моему, целый тюбик валидола. Кстати, в этом фильме есть кадры, показывающие, как девушка-снайпер уничтожает фашиста. Когда я увидела эту сцену, то внутренне ахнула: то был мой бой с немецким снайпером! Совпадение? Или я кому-то рассказывала об этом эпизоде, и его использовали при постановке фильма? Не знаю.
А вот еще одно, правда, несколько необычное, подтверждение тому, что учили нас отлично. Сразу после войны школу расформировали. Курсанток последнего набора, которые не попали на фронт, демобилизовали, а средний и младший комсостав перевели на другую военную базу, где им пришлось какое-то время служить вместе с мужчинами. Как же веселились и подтрунивали мужчины над нашими командирами! Но вот прошли стрельбы — женщины заняли первое место; на тактических занятиях — тоже первое место; смотр строевой подготовки показал, что и в этом наши командиры имеют преимущество. А уж о внешнем виде и говорить нечего. Пришло время нашим командирам подшучивать над соперниками.
Конечно, война есть война, много девчат погибло. Но если бы не такая основательная подготовка в школе, если бы не предъявлялись к нам такие предельно высокие, подчас просто жесткие требования, жертв могло быть значительно больше. Поэтому я считаю несправедливым, что никак не отмечены заслуги тех, кто учил нас военному мастерству и благодаря кому мы в значительной степени обязаны успехами на фронте.
…Мы закончили учебу, сдали экзамены. Я до сих пор очень хорошо помню один экзамен. Это был самый главный и самый важный экзамен, на котором нам предстояло продемонстрировать знания и практические навыки, полученные за время обучения, и доказать комиссии, что мы действительно профессионалы, снайперы. У каждого курсанта было свое задание. Подошел мой черед. Я, получив приказ экзаменаторов (это была большая комиссия с представителями из Москвы), пошла в «наступление на противника». Бегу, слышу команду: «Противник открыл пулеметный огонь». Быстро падаю на землю, отползаю в сторону, чтобы меня не засекли, и принимаю единственно возможное в этой ситуации решение — уничтожить огневую точку. Пристально всматриваюсь в позиции «противника», ищу пулемет. Сердце от быстрого бега бьется как сумасшедшее, руки дрожат от напряжения и вполне естественного волнения. Я смотрю и не вижу, где пулемет. Время уходит, а я не могу его обнаружить! Осмотрела позиции «противника» слева направо и справа налево — не вижу огневой точки. Начала паниковать. И вдруг — вот он! Вижу маленькую, тщательно замаскированную амбразуру и в ней — еле заметный ствол пулемета. Дальнейшее было делом техники. Стреляла я хорошо, цель поразила с первого выстрела, как и положено настоящему снайперу.
Все экзамены сдала на «отлично». Мне, как и остальным отличникам, присвоили звание младшего сержанта, остальные получили звание ефрейтора. На моих погонах теперь красовались по две лычки.
После окончания школы мне предложили остаться в инструкторской роте, готовившей командиров отделений. Я отказалась, заявив, что не для того шла добровольно в армию, что хочу на фронт. Конечно, могли оставить и без моего согласия, просто приказать, но не сделали этого, видимо, с пониманием отнеслись к моему желанию.
Незадолго до отправки на фронт поехала в Москву проститься с тетей Настей. На Курском вокзале совершенно случайно встретилась с М. Дувановой и И. Папихиной. Сфотографировались на память, а потом Ирина прислала мне на фронт нашу фотографию.
В последние дни пребывания в школе никаких занятий не было, хотя режим по-прежнему соблюдался строго: как и прежде, подъем в 6.00, отбой в 22.00, в столовую и обратно — строем, обязательно с песней. Но мы в эти дни почувствовали себя свободнее, допускали всякого рода вольности и даже дерзости, жили по принципу: дальше фронта не пошлют. Помню, как однажды сержант велела мне что-то сделать. А я, стоя перед командиром, крутила в руках ремень и дерзко ответила: «Сначала ты, Маша, а потом я». Маша Дуванова даже растерялась: ведь я всегда была дисциплинированной и исполнительной курсанткой. И вдруг она буквально рявкнула: «Младший сержант! Выполняйте приказание!» Мне стало стыдно, Маша пользовалась авторитетом у всех девчат, мы с большим уважением относились к ней. Что со мной случилось, трудно объяснить. Возможно, не выдержала огромных перегрузок последних дней или поддалась общему настроению.
Потом началась экипировка для фронта. И вновь, уже в третий раз, нам выдали новое обмундирование. Помимо хлопчатобумажных костюмов и шинелей мы получили ватные брюки и телогрейки, теплое белье и портянки, варежки с двумя пальцами, чтобы стрелять было удобно. Еще нам выдали американские белые пуховые чулки в резиночку. Они были очень теплые, мягкие, приятные, но очень непрактичные в носке, так что вскоре после прибытия на фронт мы их повыбрасывали.
Мы ехали на фронт со своими снайперскими винтовками, с которыми уже свыклись, почти сроднились. Перед дорогой заново провели пристрелку, почистили, смазали, надели чехлы на оптические прицелы и обмотали их тряпками, чтобы не повредить в дороге эти очень чувствительные приборы.
Торжественно прошел выпускной вечер. Огромный зал школьной столовой выглядел празднично, нарядно. Много речей, добрых пожеланий, музыки, хороший ужин. Впервые на столах появилось вино. Напоследок после ужина мы «объяснились» с доносчицами (было у нас две таких), но не слишком сильно, жалко стало.
И вот последняя ночь в школе. Не спится, однако никто не разговаривает, все лежат молча. На душе немного тревожно. Страшно. Как все сложится? Что нас ожидает?
Наступил день 25 ноября 1944 года, день отъезда. В последний раз выстроились на плацу перед школой. Выносится Знамя школы, и строй замирает при его появлении. Короткий митинг, прощальные речи, напутствия, пожелания. Затем — команда: «Напра-во! Ша-гом марш!» Зазвучали звуки марша, впереди алым пламенем полыхнуло Знамя, и колонна твердо отпечатала первый шаг. Шаг, приблизивший нас к фронту. В этот момент я почувствовала, как мое сердце вдруг сильно-сильно забилось, а потом будто ухнуло куда-то вниз. От страха? От волнения? От ожидавшей впереди неизвестности? Наверное, от всего вместе.
Колонна, растянувшаяся на многие десятки метров, вышла за ворота школы. Впереди — школьное Знамя, духовой оркестр.
Мы снова идем в Подольск, но теперь на железнодорожную станцию, где нас ждет состав. Как и всегда, когда мы проходили по городу, на тротуарах стояли толпы людей, главным образом женщины, многие плакали, что-то кричали нам. Все как всегда, только мы уже другие, не те, что в марте 1944 года нестройной толпой шли по городу, с любопытством оглядываясь по сторонам. Сейчас мы шли строгой колонной, в полном военном снаряжении, молчаливые, сосредоточенные. Шли солдаты. Нас было 559.
Командир отделения Маша Дуванова тоже рвалась на фронт, но ее не отпустили. А в тот день, 25 ноября, Маша шагала рядом с колонной, около меня, и несла мой вещмешок. Это не положено, но замечаний никто не делал. Кто-то из девчат ревниво проворчал: «Можно подумать, что в отделении одна только Жукова». Но я была младшей в отделении и решила, что Маша, никогда не позволявшая себе никого выделять, в этот раз изменила своему правилу именно по этой причине.
Пришли на станцию, там нас уже ждал военный эшелон. Последнее прощание, последние напутствия. По команде грузимся в теплушки. Поезд трогается.
Прощай, школа.
Глава 6. Я шагнула в войну
Война, фронт… Об этом уже написано очень много книг: художественных и документальных, искренних и не очень; в одних правдиво отображаются события тех лет, в других — сплошная фальсификация и откровенная ложь.
Так получилось, что на фронт я попала только в конце 1944 года. На фронте была недолго, но знаю, что такое война. Со своим полком пришлось мне быть в обороне и в наступлении, в полной мере познать горечь отступления и трагедию многодневного окружения. Я испытала на себе бомбежки, артиллерийский и минометный огонь. Мерзла в снегу на нейтральной полосе, выслеживая цель для поражения, и мокла в районе Мазурских озер. Ухаживала за ранеными и сама лежала в госпитале, а потом, в разгар кровопролитных боев, сдавала кровь для раненых. Обретала и теряла друзей. Чудом избежала смерти и чуть не попала в плен. Тяжелые переживания, физические и моральные перегрузки, холод, голод, хроническое недосыпание, грязный окопный быт — это тоже война. И все это вместилось в несколько невероятно тяжелых месяцев.
И все-таки писать о самой войне мне очень трудно по многим причинам. Во-первых, о ней столько уже сказано, что мои воспоминания могут показаться мелкими, обыденными и неинтересными. Кроме того, за шестьдесят лет, прошедших после войны, что-то совершенно стерлось из памяти, а многие события будто сместились в моем сознании и во времени, и в пространстве, я не могу восстановить их в той последовательности, в которой они происходили, отделить главное от второстепенного. Нельзя не учитывать также, что я была рядовым солдатом, поэтому разработка и осуществление военных операций даже местного значения для меня оставались как бы за кадром. Я видела войну в основном через оптический прицел снайперской винтовки…
Впереди — фронт.
Поезд вез нас на запад. Нас — это целый эшелон девчонок, средний возраст которых вряд ли превышал 20–22 года. Наш состав состоял из длинного ряда теплушек, в которых до войны возили грузы и скот. Теперь везут солдат. В теплушках — опять нары, как в казарме, но уже без матрацев, подушек и прочих постельных принадлежностей. Не помню точно, но мне кажется, что спали мы на голых досках, подстелив под себя одну половину шинели и прикрывшись другой. В середине теплушки — пузатая чугунная печка «буржуйка». Она немного обогревала нас, на ней же мы готовили себе пищу, кипятили чай. Всю дорогу питались концентратами, из которых варили нечто среднее между супом и кашей. Вместо хлеба получали сухари, а вместо мяса — селедку. Когда мы с тоской глядели в свои котелки, в которых изо дня в день было одно и то же варево, грызли черные сухари или обсасывали селедочные скелеты, всегда вспоминали наше шикарное школьное питание и горестно вздыхали.
Что мы чувствовали тогда, кто как вел себя, плакали ли девчонки, страдали ли — не помню. Зато запомнилось другое: как пели подряд все наши школьные песни, как подолгу, несмотря на холодную погоду, сидели у открытой двери теплушки и смотрели на проплывавшие мимо поля, рощи, деревья. Помню, с каким удовольствием на каждой станции выскакивали из вагонов, чтобы подышать воздухом, поразмяться, умыться холодной водицей из колодца или водокачки. Никогда не забыть мне простых русских женщин, встречавших нас на всех станциях, горестно причитавших о судьбе чужих девчонок, старавшихся угостить немудреной снедью. Мы отказывались, понимали, что они от себя отрывали совсем не лишний в семье кусок, но женщины настойчиво совали нам что-то в руки и говорили: «Может, и моего кто-нибудь угостит».
Ехали долго. Где-то в пути налетел немецкий бомбардировщик. Поезд остановился, все выскочили из вагонов, рассыпались по полю, укрылись за кочками и буграми. Сбросив несколько бомб, самолет улетел, не причинив нам никакого вреда. Поезд тронулся дальше.
Наконец прибыли в Минск. Здесь нам предстояло переформирование. Девчата разъезжались по разным фронтам, мы прощались. Очень тяжелым получилось прощание с Валей… Нет, никакого предчувствия не было, просто нам хотелось поехать на фронт вместе, но мы ничего не предприняли для этого и теперь запоздало каялись друг перед другом.
Я со своим отделением направлялась на 3-й Белорусский фронт, которым командовал генерал армии И. Д. Черняховский, самый молодой командующий. Его очень любили в войсках, и, когда в марте 1945 года он погиб, все переживали — и командиры, и рядовые солдаты.
Снова погрузились в вагоны. Сначала привезли нас в Каунас, а оттуда — в Сувалки, это уже на границе с Восточной Пруссией. Здесь располагался запасной полк 31-й армии, в составе которой нам предстояло воевать. Нас встретил майор, упитанный, розовощекий, одетый в белоснежный полушубок с поднятым воротником. Прошелся перед строем, критически разглядывая нас. «Ну, — спрашивает, — зачем вы приехали, воевать или…» Вопрос за него завершила неисправимая матерщинница Саша Хайдукова: «б…вать?»
Вот такой прием оказали нам. Всем стало обидно.
Из запасного полка отправились дальше, в 88-ю дивизию. Из дивизии за нами прислали очень старый, дребезжащий на ходу грузовик с открытым кузовом и без скамеек. Погрузились, уселись прямо на голое днище. Стоял холод, вся дорога была в рытвинах и ухабах, трясло невероятно. Я умудрилась усесться около самой водительской кабины, поэтому постоянно ударялась об нее спиной. Несмотря на холод и неудобства, я думала только о том, чтобы в этой тесноте и тряске не ударить обо что-нибудь винтовку, и всю дорогу держала ее обеими руками почти на весу. Вконец измученные длительной поездкой на этом рыдване, называвшемся грузовиком, мы прибыли в дивизию и с облегчением вздохнули: все-таки добрались.
Но оказалось, что рано радовались, на этом наше путешествие не закончилось. Только мы расслабились, как нас опять подняли и отправили дальше. Пункт назначения — 611-й стрелковый полк. Это был заслуженный полк, он воевал почти с начала войны, прошел с боями всю Центральную Россию и Белоруссию. Были на его счету и крупные победы, были и поражения. Полк награжден орденом, неоднократно получал благодарности от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина за успешные военные операции. Так что мы прибыли в героический полк, прошедший большой боевой путь, и очень этим гордились.
Помню, был необыкновенно ясный и солнечный день, когда мы прибыли к месту назначения. Встретили нас приветливо, но и с некоторой долей скепсиса: девчонок привезли… Нас разместили на приличном расстоянии от передовой в маленьком двухэтажном домике. Едва мы начали устраиваться в своем новом жилище, как вдруг со стороны немцев раздался усиленный репродуктором голос: «Маша, иди к нам! Иди к нам, Маруся!» Это было так неожиданно, а голос раздавался так близко, что стало страшно. Но главное, что мы ведь только появились, даже вещи не успели разобрать, а они уже знали о нашем приезде. Как? Откуда?
Немцы вскоре прекратили этот психологический наскок, мы успокоились. Принесли обед. Предвкушая удовольствие от горячего супа, которого мы давно не видели, быстренько разобрали котелки и приступили к еде. В это время начался минометный обстрел. От страха бросили все, в том числе и котелки с супом, и винтовки, кинулись в подвал прятаться. Потом доедали уже остывший суп и проклинали немцев. Было неловко, что бросили оружие. Впоследствии такое ни разу не повторилось. Солдаты же смеялись, говорили, что немцы специально устроили такой салют в честь нашего прибытия на фронт.
В это время полк находился в обороне. Боев не было, иногда только немцы обстреливали наши позиции, мы отвечали тем же. Обменивались редкими «визитами» и разведчики. Тем не менее оборона была плотной, солдаты постоянно находились в полной боевой готовности, круглосуточно несли боевое дежурство в окопах.
В один из первых же дней мы начали знакомиться с линией обороны — и нашей, и немецкой. На передовую ходили по несколько человек, я попала в первую группу. Нам выдали белые маскировочные костюмы — широченные штаны и кофты-балахоны с капюшонами. В сопровождающие дали молоденького офицера довольно мрачного вида. Девчонки разочарованно смотрели на него: очень уж молод. Мы сами были молоды, и нам хотелось, чтобы нашим наставником стал человек опытный, бывалый фронтовик. Но когда этот молодой офицер будто невзначай расстегнул шинель, все увидели у него на груди настоящий «иконостас» из орденов и медалей. Это несколько примирило нас с ним. Пока мы собирались под присмотром командира взвода, офицер довольно скептически взирал на нас, будто сомневаясь, что мы на что-то способны.
Наконец сборы завершены, мы вышли на улицу. Я невольно зажмурилась: небо не по-зимнему ясное, солнце буквально слепит, выпавший ночью снег сверкает миллионами звездочек. Просто сказка, не верилось даже, что такая красота и фронт могут существовать рядом…
Направились к передовой, впереди шел прикрепленный к нам командир, за ним гуськом тянулись мы. Девчата старательно делали вид, что им все нипочем. У меня, честно говоря, душа была где-то в пятках, но я тоже старательно скрывала свой страх.
Не успели дойти до передовой, как начался минометный обстрел со стороны немцев. Звук летящих мин просто ужасный, какой-то свистящий, чавкающий, от этого звука холод по спине пошел. Не раздумывая долго, повалились в снег. Кончился обстрел, поднялись, отряхнулись. Смотрим, а наш спутник стоит с невозмутимым видом. Нам он ничего не сказал. Пошли дальше, слышим — опять мины летят, при этом мне, например, казалось, что каждая мина летит прямо в меня. Снова падаем в снег. И так несколько раз. И каждый раз, поднимаясь, видели стоявшего с невозмутимым видом офицера. Нам казалось, что, в отличие от нас, он просто не боится, поэтому и держится спокойно, уверенно. Мы чувствовали себя неловко, но нашего провожатого ни о чем не спрашивали: зачем спрашивать, и так ясно, что он смелый человек, вот и не «кланяется» противным минам. Однако все оказалось не так. Наглядевшись на нас, в ужасе падающих в снег, офицер, наконец, объяснил, что нам нечего бояться, что мины летят в стороне от нас. И показал, куда они падают. Это было далеко, даже очень далеко. Позднее мы научились по звуку различать, куда летят снаряды или мины, а первое время «кланялись» всему летящему и свистящему, что могло принести с собой смерть.
И вот мы на передовой. Длинная, глубиной почти в человеческий рост, траншея, повсюду оборудованы огневые точки и наблюдательные пункты, от траншеи в тыл ведут такие же глубокие ходы сообщения. Между нашими и немецкими позициями — нейтральная полоса. А немцы — вот они, почти рядом, их хорошо видно через оптический прицел винтовки. Иногда над бруствером проплывет каска — в одну, в другую сторону. По вечерам слышно, как на стороне противника поют, играют на губных гармошках. Там шла своя жизнь.
Сложно описать, что я испытала, впервые попав на передовые позиции. Это и некоторое возбуждение, приподнятость, но и неуверенность, и ожидание чего-то необычного, и страх, конечно. Тогда, на первых порах, я, например, испытывала страх больше не перед немцами, а оттого, что точило меня сомнение: вдруг не сумею, не справлюсь, оплошаю, стану посмешищем. Настоящий страх перед врагом пришел позднее, когда мы вплотную столкнулись с ним, начали ходить на задания, участвовать в боевых действиях. Но постепенно удалось преодолеть все сомнения и страхи. Правильнее сказать, мы научились как бы отрешаться от страха, не позволять ему угнетать наши чувства и волю, лишать способности четко мыслить и осознанно действовать.
Очень часто мне приходилось слышать вопрос, страшно ли на войне. Мне этот вопрос кажется неправомерным. Любой нормальный человек любит жизнь и дорожит ею. Что же касается войны, то я согласна с Юлией Друниной:
Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне.Я очень люблю эту поэтессу, ее военные стихи. Женщина, безусловно, сильная, мужественная, прошедшая всю войну, она в ноябре 1991 года покончила жизнь самоубийством. Не могла пережить того, что творили «реформаторы» со страной и ее народом. И от чувства собственного бессилия, от невозможности как-то повлиять на события она покончила с собой… В предсмертном стихотворении Юлия Друнина написала:
Как летит под откос Россия, Не могу, не хочу смотреть.…В тот памятный зимний день 1944 года мы впервые вышли на передовую. Нам показали огневые точки противника, познакомили с режимом жизни немцев, который соблюдался ими неукоснительно; показали наиболее опасные участки, чаще всего простреливаемые немцами; поведали о том, что совсем недавно на той стороне тоже появился снайпер.
Вскоре мы сами убедились в этом: в один из первых дней погибла наша девчонка, она была сражена точным выстрелом в голову. Мы очень тяжело переживали эту первую смерть… Все усугублялось еще и тем, что по дороге на фронт у нашей команды возник с этой девушкой неприятный конфликт, и кто-то высказал в ее адрес нехорошее пожелание. Теперь все чувствовали себя виноватыми перед ней, избавиться от этого чувства не удавалось долго. А девчонка, которая сказала ей те недобрые слова, все твердила: «Это я виновата, я виновата».
Так началась для нас фронтовая жизнь. Но, несмотря на переживания, мы не могли позволить себе расслабиться, надо было дело делать. Каждый день ходили на передовую, учились видеть и слышать, распознавать огневые точки противника, выбирали для себя позиции, откуда лучше всего поражать вражеские цели, определяли примерные расстояния до них. Быстро подружились с разведчиками, они охотно помогали нам в изучении обстановки. У нас с ними было много общего: работа и у них и у нас была, так сказать, «штучная», и мы, и разведчики постоянно находились один на один с опасностью (они в разведке, а мы «на охоте»). Даже в обороне, когда обстановка была более или менее спокойная, мы рисковали каждодневно. Были у нас с ними и общие «привилегии»: им и нам в первоочередном порядке выдавали горячую пищу и водку, поскольку мы постоянно находились в деле, иногда целыми днями лежали на холоде, в снегу. Правда, чаще всего девчата отказывались от своих «наркомовских» ста граммов и отдавали водку нашим друзьям — разведчикам. Они тоже не обделяли нас своим вниманием, часто угощали трофейными сладостями и другими вкусными вещами. Главное же, они охотно делились с нами своим опытом, учили фронтовым премудростям. Как разведчики, они лучше других знали немецкую оборону и обо всем поведали нам.
В общем, дружили мы по-настоящему и всегда волновались вместе, переживали, когда кто-то из девчат или разведчиков уходил на задание. Вместе отмечали мы и начало нового, 1945 года. Но от этого вечера запомнилось лишь, как двое наших девчат, стоя под рваным, неизвестно откуда извлеченным зонтиком, пели шуточную глуповатую песенку:
Три часа стоим мы здесь и мокнем под дождем, Три часа стоим на этом самом месте, ждем, Покоя мы не знаем и ни ночью, и ни днем, Мы вдвоем. Ясно, что мы любили страстно…И так далее. Впрочем, запомнились также жестяные кружки с водкой на самодельном столе, в углу патефон. Под его дребезжащие звуки мы танцевали. И еще помню: ради праздника сняли мы смертельно надоевшие уже ватные брюки. А вот что надели — другие брюки или юбки — не помню.
Еще до наступления Нового года состоялось мое боевое крещение, я уничтожила первого немца.
Было это так. Мы с моей напарницей в очередной раз вышли на задание. Поскольку опыта у нас еще не было, нам не разрешали выходить за пределы линии обороны, мы должны были находиться в траншее, изучать оборону противника, засекать огневые точки, наблюдательные пункты, следить за возможными передвижениями немцев и определять возможные цели для последующего их поражения. Стрелять разрешалось лишь в исключительных случаях и только наверняка.
В тот день наша вахта на передовой затянулась, мы уже замерзли и устали, но не уходили. Вдруг вижу: прямо против того места, где мы находились, по траншее, ведущей из тыла на передовую, в полный рост, не пригибаясь, идет немец. Этот участок передовой противника был открытым, все просматривалось как на ладони, поэтому немцы всегда торопились пройти его быстрее и пригибаясь пониже. А этот — или только что прибывший, или бесшабашный какой-то — шел во весь рост, не торопясь. Принимаю решение: стрелять! Затаив дыхание, тщательно прицеливаюсь, плавно нажимаю курок. Немец нелепо взмахивает руками и как-то боком валится вниз. Подождав немного, мы с напарницей уходим, договорившись с солдатами, что они понаблюдают за тем немцем. На следующий день они рассказали, что долго наблюдали, не поднимется ли немец. Нет, не поднялся, дотемна за ним никто не приходил, и вообще не заметно было даже обычного в это время движения. Очевидно, я попала в цель. Доложили командиру. Вечером выстроили все отделение, мне объявили благодарность.
Сложные чувства обуревали меня в тот день. С одной стороны, я была рада, что открыла боевой счет. С другой стороны, когда убиваешь человека, даже если это враг, то становится не по себе. Помню, весь тот вечер меня слегка подташнивало, знобило, думать об убитом не хотелось.
Потом это прошло. Столько довелось увидеть зла, сотворенного фашистами, что я не испытывала уже никакой жалости к тем, кого убивала. Страшно признаться, но уничтожение немцев стало просто делом, обязанностью, которую надо было выполнять хорошо. В противном случае они убьют тебя.
Ненадолго прерываю повествование, чтобы рассказать о необычной находке. Я уже почти закончила работу над воспоминаниями и занялась отбором фотографий, чтобы сделать специальный альбом для иллюстрации описанного периода моей жизни. Было это в марте 2000 года. Неспешно перебирала старые фотографии, бумаги. И вдруг мне попадается письмо, которое ровно пятьдесят пять лет тому назад (1 марта 1945 года) я отправила с фронта своей подруге по заводу Юле Ларгиной. Много лет спустя, не помню, в связи с чем, она переслала это письмо мне в Москву. И вот я держу в руках фронтовой треугольник, раскрываю и медленно прочитываю его. К своему удивлению, узнаю, что первого фашиста я уничтожила совсем не так, как описала выше. Оказывается, то была совсем другая история. Что же касается первого немца, убитого мной, воспроизведу события точно по тексту письма, ничего не исправляя и не редактируя.
«Ты спрашиваешь, что я ощущала перед первым боем. Трудно даже определенно выразить это. Я волновалась, а иногда нападало какое-то безразличие. Казалось, что все равно, что будет. Сейчас я имею на счету уже не 2 фрица, а больше. Только в обороне я уничтожила 4 фрица, а сколько в наступлении — не знаю, не считала. В общем, счет продолжается. Описать первый бой трудно, а как убила первого фрица, могу описать.
Это было в обороне. Стоял замечательный день. Ярко светило солнце, и снег искрился в поле. Мы как раз получили новые маскхалаты, надели их и пошли на „охоту“. Идем все одинакового роста, в одинаковых халатах, как медвежата. Осторожно подобрались к своим траншеям, спрыгнули туда и пошли на свои посты. Это была первая наша „охота“. Я очень волновалась, ведь до этого никогда не приходилось видеть фрицев. И вот стоим. Час стоим, 2, 3, 4 часа, а все никого не вижу. Я уже начала беспокоиться, что не только убить, а даже увидеть никого не смогу. И вот было уже часа 3 дня, когда мой наблюдатель крикнул: „Фрицы!“ У меня даже в глазах потемнело. Я прильнула к оптике, гляжу, из леса идут 2 фрица. Во весь рост. И видно их хорошо, как на ладошке. У меня дыхание сдавило. Я выстрелила, но поспешила и не попала. Быстро перезарядила винтовку и выстрелила второй раз. На этот раз пуля попала в цель. Один фриц свалился, а другому удалось улизнуть в лес. И хоть я видела своими глазами, и другие видели это, но мне никак не верилось, что я своими собственными руками убила фрица. С каким настроением я шла обратно! Пришли девчата, поздравляют меня. Командир роты вынес благодарность. В моей снайперской карточке появилась первая единица. Так я открыла свой боевой счет».
Вот, оказывается, как все было в первый раз. Удивительно, но этот эпизод я совершенно не помню и, если бы не чудом сохранившееся письмо, не вспомнила бы, скорее всего. А ранее описанный эпизод был, его я помню отчетливо, причем, если можно так сказать, всей кожей, физически ощущаю тогдашнее мое состояние. Возможно, обостренному восприятию того случая способствовали какие-то обстоятельства. Поэтому я решила ничего не менять в тексте. Пусть все остается в прежнем виде, как вспомнилось.
Всего на моем счету числится восемь уничтоженных фашистов. Но на самом-то деле как их сосчитаешь? Когда мы находились в окружении в Ландсберге, сутками не выходили из окопов, за день отражали по шесть-восемь немецких атак и стреляли, стреляли, стреляли до потемнения в глазах, как определить, кто и сколько врагов уничтожил? Стреляла я, стреляли рядом стоявшие в окопах солдаты, стреляли пулеметчики… Как сосчитать, сколько пало от твоей пули? Поэтому я всегда с некоторой долей скептицизма относилась ко всем подобного рода подсчетам. Это не означает, однако, что я подвергаю сомнению заслуги тех, кто из своей снайперской винтовки уничтожил десятки фашистов. Просто я считала по-своему. Поэтому мои восемь — это то, что было подтверждено наблюдателями, и в основном цели, уничтоженные по заданию.
Так было и в тот раз, когда мне приказали уничтожить вражеского снайпера, незадолго до этого прибывшего на участок нашего полка и доставлявшего нам много неприятностей.
Однажды нас с напарницей вызвал командир. Поступил приказ: во что бы то ни стало уничтожить немецкого снайпера. Выбор пал на нас.
Получив приказание, мы стали тщательно готовиться к этой опасной и ответственной операции. Все понимали, что наш противник — очень опытный снайпер, не чета нам. Его никак не удавалось засечь: сделал выстрел — и исчез, будто растаял, иногда не появлялся несколько дней. Через какое-то время появляется, но уже в другом месте. И каждый раз он стрелял с новой позиции. Нам предстоял сложный поединок. Поэтому с помощью наших друзей-разведчиков мы тщательно, метр за метром, еще раз визуально «прощупали» оборонительную линию немцев на нашем участке, прикинули, где мог появиться снайпер. Облюбовали несколько позиций для себя. Ведь большого опыта у нас не было, поэтому нам требовалась очень серьезная подготовка.
И вот наступил решающий день, когда мы вышли на передовую с четкой целью — начать «охоту» на немецкого снайпера. Заняли свои места — я в пулеметном гнезде, а чуть поодаль от меня, в траншее, — моя напарница. Стоим, ждем, наблюдаем. Время тянется медленно. Становится холодно, но побегать или просто подвигаться нельзя, можно немца прозевать и себя обнаружить. У «соседей» — тишина, никакого движения, никакой стрельбы. Тоже замерзают, наверное, при таком-то морозе. Мы уже устали, продрогли, глаза начали слезиться от напряжения. Вдруг мне пришла в голову мысль. «Подними над бруствером шапку», — говорю напарнице. Быстро сообразив, что требуется сделать, она отошла от меня на 3–4 метра, надела на палку какую-то шапку, чуть приподняла ее над бруствером, опустила, через несколько шагов еще раз приподняла, будто человек идет по траншее. И вот — выстрел, четкий, сухой, точное попадание в шапку. Только один выстрел, второго не последовало. Это он! По звуку я примерно определила, откуда раздался выстрел. Гляжу, чуть наискосок от меня на нейтральной полосе куст вроде бы немного качнулся. Нет, даже не куст, а какая-то тень на снегу мелькнула и замерла. Вот он где! Я прицелилась. Выстрел! Мгновенно меняю позицию и прилипаю к окошечку в амбразуре. Теперь уже ясно вижу, как закачался куст, с него посыпался снег. Потом еще раз качнулся — и все. Мы с напарницей продолжали наблюдение, солдаты в траншее тоже с интересом ждали, что будет дальше. Ничего, все тихо, спокойно, на мой выстрел с той стороны никто не ответил, хотя обычно на наши выстрелы следовал ответный залп.
Уже начало смеркаться, когда мы вернулись с передовой. Уставшие, озябшие, мы были несколько возбуждены, нам хотелось узнать о результатах нашей операции.
А рано утром следующего дня немцы открыли бешеный огонь по тому участку, откуда мы с напарницей вели свою «охоту». Хорошо, что ночью выпал снег, он завалил траншеи и окопы, их надо было расчищать, поэтому солдат там было мало, только часовые и те, кто разгребал снег. Никого из девчат в тот день не пустили на передовую, хотя мне и моей напарнице очень хотелось пойти и посмотреть, не появится ли вновь наш противник. В последующие дни немецкий снайпер не появился. Потом разведчики сказали, что если и не убили мы его, то уж наверняка ранили, именно поэтому, скорее всего, наш участок так яростно обстреливали. Ну, разведчики всегда все знали!
Нам обеим объявили благодарность за выполнение ответственного задания, а спустя какое-то время меня наградили медалью «За отвагу». К тому времени у меня на счету было уже четыре уничтоженных немца. Моя однополчанка Г. Лепешкина, которая тоже всегда все знала, много лет спустя, при первой нашей встрече в 1975 году, рассказала, что меня тогда представили к награждению орденом Славы 3-й степени, но где-то кто-то это представление не поддержал. Меня это нисколько не затронуло. Честно говоря, я вообще никогда не переживала по поводу наград, искренне считая, что и так достаточно отмечена. До сих пор чрезвычайно горжусь своими медалями «За отвагу». Между прочим, в отличие от многих других, эта награда вручалась только тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и проявил личное мужество и отвагу.
Вручили мне эту медаль уже после войны в Уральске. Так получилось, что после окружения в Ландсберге и лечения в госпитале я попала в другую воинскую часть, вскоре война закончилась, поэтому моя награда на фронте меня не нашла. А вторую медаль «За отвагу» я получила только через девять лет после войны (в 1954 году), когда работала в Москве первым секретарем Фрунзенского РК ВЛКСМ. Однажды раздался звонок из райвоенкомата, меня долго и дотошно расспрашивали, где я воевала, чем и за что награждена. Потом сообщили, что за участие в боях за Кенигсберг я еще раз была награждена солдатской медалью «За отвагу». Но и эту медаль я не успела получить на фронте. Больше того, я даже не подозревала об этой награде. И вот меня разыскали через столько лет! В назначенное время пошла в военкомат, там собралось человек 20–25, которые, так же как и я, не получили свои награды своевременно. Церемония вручения получилась очень торжественной и волнующей.
К 40-летию Победы вместе с другими ветеранами я получила орден Отечественной войны 2-й степени, к 50-летнему юбилею — медаль маршала Жукова. За трудовые успехи награждена орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть». Но по-прежнему нет для меня ничего дороже моих медалей «За отвагу».
Пока наш полк находился в обороне, жизнь у нас шла более или менее спокойно, размеренно, насколько это вообще возможно во фронтовых условиях. Мы нормально питались, получали газеты и письма, находили время для отдыха и развлечений. Самым любимым нашим занятием было катание на санках с сопки, которая одним склоном выходила на нашу сторону, а другим — на немецкую. Катаясь с этой сопки, мы рисковали, так как немцы частенько обстреливали ее, особенно если замечали вокруг какое-то движение. Бывало, что мы оказывались при этом в неприятных и опасных ситуациях, однажды пришлось долго отлеживаться в снегу, пережидая, когда закончится обстрел. Нас много раз предупреждали, что наше катание с сопки может окончиться плачевно, но по молодости мы просто игнорировали эти предупреждения. К счастью, обошлось.
Однажды в наше расположение прибыл фотокорреспондент. Он много фотографировал нас в разных видах, в том числе катающимися на санках, но мы обещанных фотографий не получили, сделанные им снимки мне ни разу не встретились.
В январе 1945 года дивизия перешла в наступление. Наш 611-й полк находился в первом эшелоне. Все понимали, что война идет к концу, завершение ее не за горами, что наше наступление — одно из звеньев завершающего этапа войны. Поэтому настроение у всех было приподнятое, боевое и решительное.
Дата начала наступления, хронология и последовательность событий уже забылись. Можно было бы, конечно, взять книги, найти соответствующий материал и толково описать. Но ведь я пишу не историю того периода войны, а свои воспоминания. Поэтому буду писать только о том, что помню.
В Восточной Пруссии шли очень тяжелые бои. Надо сказать, что Пруссия была верным и надежным оплотом гитлеровского режима. Когда мы вступили на ее территорию и увидели поместья бюргеров, то поразились: каждое такое поместье являлось настоящей маленькой крепостью. Да и сражались пруссаки до конца. Помню, война уже закончилась, капитуляция подписана, а они все стреляли в нас то из-за угла, то с чердака, то из расположенной недалеко рощицы. Так продолжалось до тех пор, пока мы не избавились от всех подозрительных лиц в районе расположения части.
Итак, наконец-то началось долгожданное наступление. Мы шли по Восточной Пруссии, с боями продвигались на запад, брали какие-то города, населенные пункты. Постоянные бои, переходы, наступления, атаки, раненые, убитые, кровь… И так изо дня в день. Чувства притуплялись, порой казалось, что это никогда не кончится. О том времени у меня мало что осталось в памяти. Сейчас я не могу вспомнить даже названия всех городов, во взятии которых мне пришлось участвовать, за исключением тех, где были особенно тяжелые бои. Это Гольдап, Хайльсберг, Ландсберг, Грюнвальд и Кенигсберг (ныне Калининград). А для меня, рядового солдата, и бои-то не отличались один от другого. Кроме боев под Ландсбергом, но это особое дело. Правда, кое-какие эпизоды первого периода нашего наступления в Пруссии все-таки запомнились, но больше, я бы сказала, бытового, нежели военного характера. Расскажу о некоторых случаях такого рода.
Однажды мы оказались на большом и в прошлом, по всей видимости, богатом хуторе. В кирпичном доме обнаружили огромный подвал, буквально забитый всякими соленьями и вареньями. Хоть и предупреждали нас, чтобы ничего в немецких домах не ели (боялись отравлений), мы не удержались, взяли несколько банок, открыли их и с удовольствием поели. Было необыкновенно вкусно. В этом же хуторе меня поразило, что все в доме сверкало необыкновенной чистотой. Белье, аккуратно уложенное стопками в шкафу, было подсинено, накрахмалено и не просто аккуратно, но поистине ювелирно заштопано.
Там, в Пруссии, я впервые поняла, что такое немецкие педантизм и аккуратность, о которых слышала еще до войны. Не говорю уж о порядке и чистоте в домах. Обратила внимание на то, как аккуратно были побелены стволы деревьев, росших вдоль шоссе. Казалось бы, идет война, в любой момент может случиться непоправимое, а они деревья подбеливают. Однако все это нас не умиляло, скорее даже вызывало обратную реакцию, ибо мы видели, что творили эти чистюли и аккуратисты на нашей земле, как безжалостно громили и уничтожали все на нашей территории. Чего только не насмотрелись мы, когда ехали в 1944 году по западным районам России и по Белоруссии!
Был и такой случай. Как-то на окраине города набрели мы на молокозавод. Немцы не только не разрушили его, но и продукцию не уничтожили. Мы ужасно устали, нам очень хотелось поесть, попить водички, умыться, но у нас ничего не было. Встретившиеся по пути колодцы оказались отравленными, пользоваться водой из них даже для умывания нам запретили. И вот — молокозавод, а внутри в огромных количествах молоко, масло, сыры. Не раздумывая долго, умылись молоком, напились его вдоволь, а закусили бутербродами из сыра с маслом. Хлеба ни у кого не оказалось, пришлось обойтись без него.
Запомнилась еще одна история, которая для меня могла закончиться трагически. В каком-то городе мое внимание привлек большой красивый дом. Из любопытства вошла в него и на первом этаже в огромном зале увидела группу немцев, кучкой столпившихся около старика, сидевшего в кресле. Это, вероятно, была одна семья. Я уже собралась повернуться и уйти, как вдруг ко мне подбежал очаровательный мальчуган трех-четырех лет, белокурый, голубоглазый. Я взяла его на руки. Он не испугался, но на лицах взрослых появился настоящий ужас. В это время открылась дверь, вошел наш офицер. Увидев меня с немецким ребенком на руках, он так побледнел, что лицо его приобрело какой-то зеленый оттенок. Выхватив пистолет, он навел его на меня: «Брось сейчас же, не то пристрелю!» Я опустила мальчика на пол, прикрыла его собой. Стояла, не смея пошевелиться и страшась нелепой гибели от пули своего же однополчанина. Офицер будто в нерешительности постоял несколько мгновений, потом зло оглядел всех в зале и вышел, с силой хлопнув дверью. Я недоумевала, не могла понять, что вывело из равновесия этого офицера. Только потом узнала, что фашисты захватили деревню, где жила его семья, и уничтожили всех — мать, отца, жену и малолетних детей.
Надо сказать, что в тех местах, где мы вели бои, мирного населения почти не осталось, жители уходили на запад, надеясь там спастись. Их имущество оказывалось без присмотра, некоторые наши солдаты и офицеры пользовались этим, брали кое-что из вещей и отправляли домой посылки. Это, как мне помнится, не возбранялось, но только в определенных размерах. А вот чтобы были погромы, поджоги, насилие и тому подобное, о чем сейчас много говорят и пишут, — не помню. Я из вещей ничего не брала, брезговала. Однажды, правда, не удержалась и подобрала брошенные женские карманные часики, золотые, с эмалью на обратной стороне. Но как нашла, так и потеряла: у меня украли их в госпитале. В другой раз я где-то подобрала около ста очень красивых открыток. Долго берегла их, а потом, уже в Москве, подарила девочке, которая по-настоящему увлекалась коллекционированием открыток.
В феврале наши части подошли к Хайльсбергу и захватили его. Этот город был крупным стратегическим пунктом, взятие его имело весьма важное значение для успешного осуществления всей Хайльсбергской операции — одной из крупнейших военных операций в Пруссии. Г. К. Жуков писал, что Хайльсбергская операция вообще была одной из крупнейших операций Второй мировой войны. Все наши, кто участвовал в этой операции, получили персональную благодарность от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина, что случалось не так уж часто. Всем выдали соответствующие документы. Я не получила, потому что выбыла из части, оказалась в госпитале, потом попала в другую часть. Разыскивать меня, конечно, никто не стал. Я вообще узнала об этих благодарностях только через тридцать лет, когда впервые после войны встретилась со своими девчонками. Г. Лепешкина привезла с собой этот документ и показала его.
В течение нескольких дней мы прошли с боями около 100 километров, все устали и измотались, после Хайльсберга рассчитывали хоть на небольшую передышку. Не получилось. Пришел приказ: не останавливаясь, двигаться дальше, на Ландсберг. И снова в поход. Помню одну ночь на марше. Полная темнота, на небе не видно ни луны, ни звезд. Все идут молча, слышится только шаркающая поступь и тяжелое дыхание огромной массы людей. Иногда объявляют привал, и тогда все солдаты буквально валятся прямо в рыхлый снег, стараясь хоть чуть-чуть отдохнуть. Но через пятнадцать — двадцать минут нас поднимают, снова идем, отупевшие от усталости, недосыпания, недоедания и сырости. Казалось, на нас промокло все: одежда, сапоги, портянки, рукавицы. В какой-то момент у меня отключается сознание, я будто проваливаюсь в яму. Оказалось, я уснула на ходу и упала. Очнулась, чувствую, что лежу на чем-то большом и твердом. Включаю фонарик и вижу, что подо мной труп немецкого солдата. Хочу встать, а сил нет. Подошли двое солдат, подхватили меня под руки, подняли. Какое-то время так и двигались втроем, держась друг за друга.
Однажды утром увидели, как с запада на восток, к нам в тыл нескончаемым потоком движется колонна гражданских лиц, и молодых, и старых. Среди них много мужчин. И вереница огромных фур, крытых на манер цыганских, их тащили лошади — тяжеловозы, какая-то особая порода лошадей, которую я видела только в Германии.
Подобные людские потоки встречались нам и прежде. Шли освобожденные из немецкой неволи русские и украинцы, поляки и югославы, французы и итальянцы, граждане других европейских стран, насильственно угнанные в Германию, где они использовались на принудительных работах. Встречались среди них и немцы, которые в свое время покинули дома из-за страха перед русскими солдатами, а теперь, когда война шла к завершению, возвращались к себе. Правда, такой огромной массы людей да еще с таким богатым скарбом раньше не приходилось видеть.
За достоверность того, что потом удалось услышать, не могу ручаться. Кто-то из однополчан рассказывал, будто какой-то итальянец сообщил одному из наших офицеров, что в движущейся колонне немало немецких солдат, а в телегах они везут оружие. Что за этим последовало, не знаю, но наша колонна продолжала идти своей дорогой, а та — своей, к нам в тыл…
На подступах к Ландсбергу разгорелся тяжелый затяжной бой, мы понесли крупные потери, но город все-таки взяли.
Наступила короткая передышка. Солдатам предоставили возможность отдохнуть.
Как мне помнится, во многих домах занятого нами города оказались ящики со шнапсом (немецкой водкой). Случайно или намеренно так получилось, не знаю. Но солдаты отдали должное этим напиткам, отмечая так дорого доставшуюся победу. Кто-то из командиров посоветовал нам: «Идите, девчата, куда-нибудь с глаз долой, а то перепившиеся на радости солдаты не дадут покоя».
Мы так и поступили. Облюбовали небольшой хуторок в нескольких сотнях метров от города, отправились туда, намереваясь немного отдохнуть, поспать, привести себя в порядок. Разместились с комфортом. Прямо на полу расстелили то ли перины, то ли пуховые толстые одеяла и улеглись на них. По фронтовой привычке не раздевались, сапоги не снимали, винтовки держали под руками. Немного перекусили, решили вздремнуть. Не знаю, сколько прошло времени, мне показалось, будто я только что закрыла глаза. Вдруг слышу истошный крик: «Девчонки! Немцы!»
Какое счастье, что кому-то из девчат понадобилось выйти из дома! Вышла она, случайно глянула в поле и увидела, что по направлению к городу плотной цепью идут немцы. Хутор, в котором мы так уютно разместились, стоял на их пути.
Оказалось, что наши части тихо, без единого выстрела отошли к городу. О нас просто забыли. Мы подхватили винтовки, и все вместе через ворота рванули к городу. Кругом чистое поле, нас видно как на ладони, со всех сторон. Бежали прямо по раскисшему весенней грязью болоту. Попались проволочные заграждения, обойти их не смогли, попробовали подлезть под колючую проволоку. Получилось (потом, когда бои кончились, мы пробовали повторить этот фокус — не вышло). В нас стреляли уже с двух сторон: и немцы, и наши солдаты, которые не знали, что на хуторе были свои, поэтому нас поначалу приняли за немцев.
Выбежали на шоссе. Со стороны немцев раздалась пулеметная очередь, одну из девчат ранило в ногу. Мы были в отчаянии: что делать? Понимали, что сама она не дойдет, мы тоже не донесем. К счастью, в это время откуда-то вынеслась обезумевшая от огненного грохота лошадь, запряженная в повозку. Возница, стоявший в повозке, в ужасе что-то кричал и немилосердно стегал лошадь кнутом. Буквально чудом удалось остановить мчавшуюся во весь опор лошадь. Погрузили раненую в повозку. Сами побежали дальше.
В какой-то момент я обнаружила, что рядом со мной никого нет, я осталась совсем одна. Продолжала бежать. Увидела какой-то отдельно стоявший дом. Бездумно ринулась через проходной двор, чтобы сократить путь. Во дворе заметила разбросанные железные коробки с патронами, совершенно машинально набила ими карманы. Побежала дальше. Я бежала, а вокруг со всех сторон свистели пули. Казалось, что пули летят прямо в меня, как в открытую мишень. Потом вдруг почувствовала, что не могу больше бежать: сердце бухало где-то в горле, дыхание сбилось, ноги стали ватными. Меня охватило полное безразличие. Закинула винтовку за спину и пошла шагом. Тогда мне не было страшно, страх пришел потом. Вдруг слышу: «Дочка, убьют ведь, иди сюда». Гляжу — окоп, в нем — пожилой солдат. Прыгнула в окоп. Здесь, рядом с незнакомым солдатом, я и отбивала первую атаку немцев.
А что же случилось с другими девчатами? Во время одной из встреч Миля Догадкина рассказала, что она попала то ли к танкистам, то ли к самоходчикам и вместе с ними отражала эту атаку гитлеровцев. А вот что вспоминает в недавно присланном мне письме Галя Лепешкина (теперь Джулай):
«…Мы все бросили и побежали из дома. Посмотрели, а немцы идут цепочкой. Выбежали на трассу, нас остановил какой-то офицер с револьвером и приказал занять оборону в кювете. Когда атака была отбита, мы вернулись в тот дом и обнаружили на лестнице с чердака Дусю Филиппову, зверски замученную фашистами… Девушек-снайперов они не щадили.
Да, ужасные дни были в окружении в Ландсберге. Там мы находились в подвале сырзавода, а рядом были артиллеристы. У нас в одном углу стояли лошади, а в другом на сене сидели мы. Я помню, как Иван Иванович (начальник штаба полка И. И. Поплетеев) дергал нас за ноги, когда мы высовывались. А в трубе сырзавода сидел немецкий снайпер и лупил по нам. Потом кто-то его „снял“, стало легче. Не помню, где нам пришлось ночью держать оборону (по-моему, здесь же), и мы стояли снайперскими парами по два человека через каждые 25 метров. Так было страшно! Смотришь, глаза устают и кажется, что немцы ползут и захватят нас».
Как получилось, что мы оказались в разных местах, никто впоследствии вспомнить не мог. Остается только предположить, что, выбежав из дома, мы рассыпались по полю широким веером, интуитивно поняв, что так легче спастись от сплошного огня, и все двигались в разных направлениях. А как Дуся попала в лапы гитлеровцев, теперь уже никто не скажет.
Вечером того же дня я стояла в городе на главном шоссе вместе с комиссаром полка. Мы наблюдали, как с трех сторон за городом взлетали, освещая все вокруг, вражеские ракеты. Стало ясно, что немцы окружают нас. И тогда комиссар сказал мне, что формируется обоз, который должен вывезти из города раненых, он уходит ночью, нужен конвой. «Уходи с ними, — предложил он мне, — может быть, жива останешься». Но я не ушла, мне страшно стало оторваться от своих. Это и спасло меня.
То, что произошло дальше, потрясло всех. Позднее в газете «Правда» появился очерк Александра Твардовского, который в то время был корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда». В очерке подробно рассказывалось о кровавой истории в Грюнвальде. А произошло там следующее.
Дивизионный госпиталь (288-й медсанбат), куда свозили раненых с нашего участка фронта, размещался в огромном особняке в Грюнвальде. Немцы, оказавшиеся у нас в тылу, вышли прямо к госпиталю. Они видели, что перед ними госпиталь, над зданием висел белый флаг с красным крестом. Однако они сначала открыли по нему огонь из самоходок, а затем начали штурм. Врачи, медсестры, санитарки, раненые, все, кто мог держать оружие, отстреливались до конца. Они все погибли. Часть тяжело раненных бойцов в самом начале боя медики перенесли в подвал, чтобы они не пострадали при обстреле. Видимо догадавшись, что в подвале кто-то есть, немцы вплотную к дому подогнали самоходки и начали пускать в подвал выхлопные газы. Все, находившиеся там, задохнулись от газа, чудом выжил лишь один. Его рассказ, а также сохранившиеся в разгромленном госпитале документы позволили воссоздать картину трагедии. Потом мы видели, что сотворили фашисты с нашими солдатами. Видели и девушку, над которой они зверски надругались и, истерзанную, в разодранной одежде, бросили на улице, прямо на мраморной лестнице дворца.
Там, в Грюнвальде, целиком погиб и наш обоз, который я должна была сопровождать. Судьба уберегла меня.
В ту ночь, когда комиссар, желая сохранить мою жизнь, чуть не послал меня на верную смерть, немцы полностью завершили окружение, мы оказались в плотном кольце. Город этот занимал особое положение, к нему сходились многие важные магистрали, поэтому немцы стремились любым путем вернуть его. Перед нами же стояла задача — удержать Ландсберг.
Начались тяжелые бои с огромными потерями с обеих сторон. Девять дней находились мы в окружении, и ни на один день не прекращалась кровавая бойня. В иные дни нам приходилось отбивать по шесть — восемь немецких атак. В окопах были все, способные держать оружие в руках: и медики, и интенданты, и солдаты хозяйственного взвода, и даже раненые, контуженые, больные. Артиллеристы подтянули свои орудия к передовой и били немцев прямой наводкой, в упор, а когда расстреляли последние снаряды, пришли в окопы.
В том году в Пруссии рано наступила оттепель. Кругом лужи, в окопах тоже полно воды. Мы ходили мокрые, продрогшие, голодные. Сутками не выходили из окопов. Питались очень скудно, ели в основном всухомятку тут же, на месте. Ночью ребята выползали в поле, что лежало между нашими и немецкими окопами, и приносили «гостинцы» — мерзлую картошку. Изредка ходили мы небольшими группами в город — обсушиться, обогреться, поспать немного и перекусить чего-нибудь горяченького.
Пришел и мой черед. С огромным удовольствием обсушилась, обогрелась, поела. Находясь под впечатлением кошмара, в котором мы оказались, решила написать письмо тете Насте в Москву. Присела прямо на полу и стала писать. Много я тогда глупостей понаписала, в частности, что не хочется погибать в 19 лет, что проклинаю тот день, в который появилась на свет, и тому подобное. Я была уверена, что это письмо из окружения не дойдет, просто хотелось излить душу и выплеснуть накопившуюся боль и отчаяние. Но нашелся человек, который после прорыва окружения собрал все письма и отправил их по назначению. То ли из чувства долга он это сделал, то ли понял тот добрый человек, что некоторые из этих писем станут для кого-то последней весточкой с фронта от солдата, который еще вчера был жив, а сегодня его не стало, — никто не знает. Самое главное, что письма ушли адресатам. И мое отчаянное письмо дошло до тети Насти, а потом его содержание каким-то образом стало известно маме. Когда я вернулась домой, мама долго даже и виду не подавала, что знает о том отчаянном письме. Лишь много лет спустя, когда я вдруг вспомнила об окружении, мама спросила: «А ты не проклинала тот день, когда добровольно ушла в армию?» Тогда я почему-то ничего не ответила маме. Но сейчас совершенно искренне могу сказать, что тот день не проклинала. Видимо, мне казалось, что уж если я появилась на свет, то должна исполнить свое предназначение.
Тетя Настя долго хранила это письмо после войны, и, когда я, будучи студенткой, приходила к ней все в ту же маленькую комнатку в коммунальной квартире в 1-м Казачьем переулке, она собирала соседок, откуда-то извлекала письмо, читала его, и все рыдали. Мне надоело это. Однажды вместе с племянницей тети Насти, которая гостила в это время у нее, мы нашли и сожгли то ужасное письмо. Как плакала и ругалась тетя Настя! Прежде я никогда не видела ее такой рассерженной. Но это будет потом…
А пока мы в окружении, что будет дальше, не думали. Сейчас самое главное — выстоять. Мы по-прежнему упорно отбивали все попытки противника вернуть себе город, хотя делать это становилось все труднее.
Тем не менее через какое-то время мне посчастливилось еще раз попасть на отдых. С несколькими нашими девчатами пошла в город. Нас привели в огромный красивый дворец, чудом уцелевший в этом аду. Мы оказались в большом зале, белом, с лепными потолками, белыми с позолотой резными дверями. Виднелась анфилада комнат, все двери были раскрыты настежь. Откуда-то слышалась божественная музыка: это один из наших офицеров играл на рояле.
В доме тепло. В зале у окна стоит большой диван с высокой спинкой, наискосок в углу — столы, на них какие-то бачки, кастрюли, источающие вкусный запах. Хотелось есть, но чувство голода пересиливалось другим желанием — лечь и уснуть. Я устроилась поудобнее на диване в надежде подремать, но не удалось. Девчата тормошили меня, уговаривали поесть, неизвестно ведь, скоро ли еще доведется хлебнуть супчику. Я сопротивлялась, твердила одно: «Спать, хочу спать». Тогда они подхватили меня под руки, подняли с дивана и повели в угол, к дымящимся горячим паром кастрюлям. Вдруг прямо под окном, под тем самым, у которого стоял облюбованный мной диван, грохнул снаряд, зазвенели и полетели в разные стороны оконные стекла. Что-то сильно ударило меня под правую коленку. Я оглянулась, чтобы посмотреть, кто это так глупо пошутил, ударив меня. С ужасом увидела, что спинка дивана, на котором я только что так удобно сидела, разбита вдребезги. Пощупала под коленкой, пальцы уткнулись во что-то маленькое и очень твердое. Поковырялась немного в моих ватных брюках и вытащила крохотный осколочек. Он ударился плашмя и застрял в вате. Потом, правда, от сильного удара у меня началась флегмона. Но это потом, а пока я радовалась, что все обошлось, и благодарила девчонок, которые фактически спасли мне жизнь. Судьба снова оказалась милостивой ко мне.
Еще не раз какая-то сила будет охранять меня.
Однажды я вела огонь со второго этажа дома, стоявшего на невысоком холме. Сделала очередной выстрел и быстро поменяла позицию. Только устроилась у другого окна, как на том месте, где я стояла всего несколько мгновений назад, разорвался снаряд, проделав огромную дыру в стене. Что было бы со мной, если бы я пренебрегла нашим железным правилом: сделала выстрел — сразу меняй позицию?
Другой случай. Иду по шоссе, вдруг слышу, что летит снаряд. По звуку определяю, что снаряд тяжелый и летит он в мою сторону, кажется, будто прямо в меня. С размаху бросаюсь на землю, закрываю руками голову. Слышу, как снаряд тяжело плюхается позади меня, совсем близко. Лежу и с ужасом думаю: сейчас взорвется, вот сейчас взорвется! Не взорвался! Позднее саперы ради интереса решили посмотреть, почему снаряд не взорвался, вскрыли его, а там записка: «Чем можем, тем поможем». Кто был тот друг? Наш советский человек, вынужденный под дулом автомата работать на германском заводе, или немецкий антифашист, помогавший нам из идейных соображений? Подобные случаи были известны и прежде, но я впервые увидела это воочию. И кем бы ни были те, кто это делал, они рисковали собственными жизнями ради спасения наших.
…А полк все еще находился в окружении. Мы целыми днями не вылезали из окопов. Немцы атаковали по несколько раз в день. Положение становилось невероятно тяжелым. У нас иссякали запасы продовольствия и боеприпасов, мы несли серьезные потери. Пробовали прорваться из окружения, но безуспешно. Несколько раз слышали сильную стрельбу с левого фланга. По данным разведчиков, это части 2-го Белорусского фронта пытались помочь нам и прорвать кольцо со своей стороны. Тоже не получалось. Все понимали, что долго не продержимся. В те дни в окопах собрали всех, кто только мог стрелять. Уже и артиллеристы, оставшись без снарядов, встали в окопах рядом с пехотинцами, вместе с ними ходили в атаки.
В какой-то момент, когда солдаты поднялись и пошли в очередную атаку, я, оглянувшись вокруг, поняла, что в окопах никого нет, что все мои товарищи там, в цепи атакующих, а я осталась одна, совсем одна на всем видимом пространстве. Меня охватил такой ужас, что я тоже вылезла из окопа, догнала цепь и вместе со всеми пошла в атаку. Поскольку штыков у снайперских винтовок не было, решила, что буду действовать ею как дубинкой: авось простят мне загубленную винтовку. На мое счастье, увидел меня, бегущую вместе со всеми, боец, крикнул: «Дура, куда прешь? Убьют ведь!» И толкнул в близлежащий окоп. Эта наша атака тоже захлебнулась.
Свидетельством того, насколько тяжелой была обстановка, может служить и эпизод, о котором напомнила мне Аня Верещагина. К нам пришел совсем молоденький младший лейтенант — измученный, обросший, весь в глине, в шинели с оторванной полой. Он обратился к нам: «Девчата, у нас осталось по одному солдату на десять метров. Помогите».
Мы молча поднялись, взяли винтовки и пошли за ним. Снова в сырые и холодные окопы. Пришли. И вдруг Вера Самарина, рыженькая хрупкая девчонка, которая в начале учебы в школе панически боялась винтовки, стрельбы, поднялась на бруствер и своим тонюсеньким голоском закричала: «Ребята! Давайте соберемся, выстоим и отгоним фашистов!» Все подтянулись, собрались. И выстояли. И отбили очередную атаку гитлеровцев.
Потом многие солдаты вместе с медиками выносили раненых с поля боя. Я тоже вызвалась помогать. Ползу по полю. Слышу, в стороне кто-то слегка покрикивает, будто на помощь зовет. Мне показалось, что это не русский, возможно, даже мой земляк — казах. Подползла и вижу: лежит совсем молоденький солдатик, действительно похожий на азиата. Подхватила его, потащила. Он был маленького роста, но оказался невероятно тяжелым, я еле доволокла его до окопа, а там уж солдаты помогли осторожно спустить раненого вниз. И вдруг он открывает глаза, ощупывает себя руками и радостно восклицает: «Целый!» Да, здорово, видать, испугался мальчишка. Я же готова была в тот момент пришибить его.
Мы были измотаны до предела, нас донимали голод, холод, пронизывающая насквозь сырость. И вот наступил день, когда патронов и гранат почти не осталось, у каждого было всего по несколько штук. Я отложила два патрона отдельно в карман. На всякий случай, чтобы к немцам в лапы не попасть. Плена мы боялись больше, чем смерти: видели не раз, что делают фашисты с пленными.
Однажды, когда начало смеркаться, подошел ко мне боец и сказал, что ночью будем прорываться.
— Знаешь, что это такое?
— Нет, не знаю.
— Очень просто: берешь в руки винтовку, поднимаешь ее над головой, бежишь и кричишь «Ура!». Прорвешься — твое счастье, не прорвешься… Но ты не волнуйся, — добавил он, — сам погибну, а тебя выведу.
Так совершенно случайно, при столь трагических обстоятельствах, я узнала, что у меня есть поклонник. Но ему было 27 лет, и мне в мои 19 лет он казался стариком, так что роман наш не состоялся.
Прорываться же нам не пришлось. После мощной артподготовки, в которую мы вслушивались с такой надеждой, части 2-го Белорусского фронта все-таки прорвались к нам, разорвав кольцо блокады. Что у нас творилось! Мы обнимались, плакали и смеялись, качали солдат, пришедших нам на помощь и спасших тем самым не одну сотню жизней моих однополчан. А сколько погибло солдат из тех, кто так упорно прорывался к нам! Да, победы никогда не давались легко…
Потом еще несколько дней держали оборону, пока нас не сменили новые части. И наконец — все!
Мы покидали окопы. Нас осталось немного. Офицер, командовавший нашим участком обороны, с надрывом и слезами сказал всего одну фразу: «Я привел сюда почти четыреста человек. А теперь…» А теперь живых и без единой царапины с передовой, где мы девять дней держали оборону, уходили порядка десяти-пятнадцати человек. Остальные ранены, контужены, простужены, больны. И много убитых. Я оказалась в числе немногих счастливцев, мне удалось живой и здоровой выйти из этого многодневного ада.
Не помню, откуда взялись такие жуткие цифры — десять-пятнадцать человек, и насколько они достоверны, но именно эти цифры, как заноза, засели в моей памяти на все послевоенные годы…
Мы шли в город смертельно уставшие, в грязи и в крови, мечтая лишь об одном — отдохнуть. Предвкушали, как смоем с себя накопившуюся грязь, поедим вдоволь и будем спать — сутки, двое. Но совершенно неожиданно для нас все получилось иначе. В городе скопилось очень много раненых из-за невозможности их эвакуации. Не хватало медицинского персонала, поэтому нам, девчатам, предстояло какое-то время ухаживать за ранеными. Всех нас послали в разные медицинские пункты, их в городе было несколько.
Когда я впервые пришла в бывшую церковь, где временно разместился госпиталь с тремя сотнями раненых, мне стало нехорошо. Раненые лежали рядами на разостланной на полу соломе. В воздухе стоял густой запах крови, гноя, испражнений, прелой соломы. Всех раненых обслуживал один человек — военврач, остальные медики вместе с нами сражались на передовой. Они выносили раненых с поля боя, перевязывали их, оказывали помощь тем, кто находился в окопах, а в критические минуты брали оружие и стреляли, отражая атаки фашистов. В госпитале же все эти дни военврач управлялся один. Не помню ни звания, ни фамилии того замечательного доктора, который сутками не спал, стараясь хоть немного облегчить страдания раненых. Но что мог сделать он один, без помощников, без перевязочных материалов и медикаментов? Поэтому он очень обрадовался, когда мы явились в его распоряжение. Не помню точно, но думаю, что вместе с нами пришли и медики, одни мы не справились бы.
Мы делали все: кормили и поили раненых, помогали перевязывать их, писали письма, убирались. Однажды я обратила внимание на пожилого солдата, который все время просил пить. Хотела дать ему воды, но доктор запретил — солдат был ранен в живот, а при таком ранении нельзя пить. Я подошла к нему, села рядом на полу, положила голову этого несчастного к себе на колени и начала водой смачивать ему губы. Он, помню, откроет глаза, потом снова закроет, будто не было у него сил даже веки удержать, и все просит: «Сестра, пить». Так и умер у меня на руках.
От невероятных запахов, пропитавших воздух, постоянного вида кровоточащих и гноящихся ран начинало тошнить. Врач сказал: «Курите, легче станет». Мы начали курить. У большинства это не стало привычкой, но некоторые пристрастились и курили потом всю жизнь.
И снова воспоминания Гали Лепешкиной, которая эти дни работала в другом месте, в только что организованном стационарном госпитале:
«Я работала у хирурга… Раненые поступали с передовой… Доктор заставил держать ногу раненого, ему на пятке делали операцию… Мы были молодые… Что мы понимали? Раненые лежали голые, мне стыдно было, отвернулась. Силы никакой нет, раненый кричит, а доктор требует: „Держи!“ …Вспомни эту грязь, кровь… А потом, мы ведь не санитары, но все делали… Через четыре дня мы ни есть, ни пить не могли. Главное, без сна. Чуть сами там не сдохли!»
Наконец наступил счастливый момент, когда мы погрузили в машины и отправили в тыл последних раненых. Пришел наш черед покидать Ландсберг. Права Галя, мы еле держались на ногах и выглядели не лучше тех, за кем ухаживали все эти дни. Нас направляли в запасной полк на отдых и переформирование. Не помню, как мы туда добирались, но, скорее всего, пешком. Помнится, как шли через пригородный лесочек. Здесь мы неожиданно наткнулись на труп капитана, командира разведчиков и нашего большого друга. Он лежал под деревом, наполовину занесенный рыхлым грязным снегом. Немцы перебили ему ноги, а затем расстреляли в упор, на лице видны были ожоги и следы пороха. Положили мы труп капитана на телегу и повезли, сами шли рядом. А я не могла оторвать глаз от его светлых волос, которые, как у живого, развевались от легкого ветерка. Казалось, что волосы живут сами по себе, независимо от неподвижного, мертвого человека… Ощущение было тягостное. Труп отвезли в тыл и там похоронили.
Прибыли в запасной полк. Опять двухъярусные нары, на них исстрадавшиеся и полубольные мои однополчане, ставшие для меня близкими и дорогими. Мы отсыпались, отъедались, лечились, отдыхали, приводили в порядок обмундирование и оружие. Часть пополнялась новыми солдатами и офицерами.
Сейчас, когда прошло уже столько лет, я пытаюсь вспомнить или хотя бы представить, что испытывали я и мои друзья, пережив кошмар окружения. Главным ощущением была конечно же огромная радость от того, что остались живы. А еще — нечеловеческая усталость. Мне кажется, что пережитое там — это уже за пределами человеческих возможностей. Солдаты сражались даже тогда, когда, казалось бы, уже некому и нечем сражаться. Но все выдержали, преодолели, не дрогнули, не сдались. Наверное, среди нас были трусы и паникеры, но я этого не помню. Вспоминается главное — с каким мужеством и стойкостью сражались солдаты, сколько проявили выдержки, как поддерживали и помогали друг другу. Это помню.
До сих пор восхищаюсь нашими девчатами. Еще девчонки и по возрасту, и по жизненному опыту, они в той неимоверно трудной, опасной обстановке держались достойно, никто не дрогнул, не отступил, не пытался спрятаться за чужие спины и сохранить свою жизнь за счет других.
Наше пребывание в запасном полку подходило к концу, когда дал о себе знать тот крохотный кусочек металла, что попал мне под коленную чашечку. У меня началась флегмона правого коленного сустава. От боли я даже ходить не могла. Направили меня в медсанбат, оттуда в госпиталь, потом в другой. Перед отъездом я прощалась с девчатами. Надеялась после лечения вернуться в свою часть, не предполагала, что дальше мне предстоит воевать на одном фронте, а им — на другом. Я заканчивала войну под Кенигсбергом, а они под Прагой. Больше всего я переживала тогда, что остаюсь одна, без моих верных подружек. Никто тогда не думал, что встретимся мы только через тридцать лет…
Оставшись одна, среди чужих людей, я очень страдала, скучала о друзьях-однополчанах. Кроме того, пока я находилась в медсанбате, меня постоянно преследовал страх перед возможностью окружения, повторения судьбы 288-го медсанбата, разгромленного фашистами. Больше всего меня пугало, что я осталась безоружной. Винтовку пришлось сдать, а я так сроднилась с ней, что без нее чувствовала себя совершенно беззащитной. «Что будет, если немцы подойдут к медсанбату, чем защищаться буду?» — частенько думалось мне. Потом начались беспокойства по поводу ноги. В первом госпитале мне предложили ампутировать ногу, потому что процесс зашел очень глубоко. Я, естественно, отказалась. Тогда меня переправили в другой госпиталь. Там хирург сказал, что только полный невежда и профан в хирургии мог предложить такую глупость.
Тем не менее он не видел смысла в лечении, мне предстояла операция. И вот я в операционной. Успела заметить, что разместилась она в огромном зале, была заставлена множеством столов, на которых резали нашего брата — солдата. Положили меня на стол. Гляжу в одну сторону — там что-то кровавое; в другую посмотрела — на столе лежит молоденький паренек, весь бок его, видимый мне, разрезан, будто ножами, осколками мин. Раненые и стонали, и кричали, и матом ругались. Хирург наклонился надо мной. «Ты уж извини меня, оперировать буду без наркоза, — „обрадовал“ он меня, — у нас и на более серьезные операции наркоза не хватает. Так что терпи». И начал резать по живому мясу. Уже второй раз меня резали без всякого наркоза. Какая же невыносимая была боль! Мне казалось, что не выдержу, начну кричать. Но обеими руками крепко ухватилась за края стола, сцепила зубы, зажмурила глаза и терпела.
Наутро соседки по палате рассказывали, что ночью я стонала, страшно кричала, порывалась куда-то бежать. Им показалось, что мне приснился тяжелый сон, но они не стали будить меня. Напрасно. Уже тогда начали мучить меня кошмарные сны о плене, окружении. Эти сны преследовали меня еще долго-долго после войны. Только после того, как, тридцать лет спустя, я встретилась со своими девчатами, эти сны стали приходить ко мне реже, а потом, к счастью, почти вовсе исчезли из моей жизни.
В палате нас было пять или шесть человек. Запомнилась одна. Она была вольнонаемная, служила в банно-прачечном отряде и однажды по неосторожности опрокинула на себя чан с кипящей водой. Пострадали ноги. Она лежала на соседней с моей кровати, над ней был сооружен проволочный каркас, а поверх него — марлевое покрывало, потому что ничем другим прикрыть ее было невозможно. Я только однажды видела, что стало с ее ногами. Потом, когда приходили врач или медсестра, чтобы обработать это кровавое месиво, я отворачивалась. А когда кто-нибудь из нас проходил мимо ее кровати, она морщилась, потому что ощущала невероятную боль даже при малейшей вибрации пола. Мы все тогда потрясены были мужеством, терпением и выносливостью этой женщины и старались меньше ее беспокоить.
После операции меня лечили какими-то лекарствами, мазями, парафиновыми лепешками. Вылечили.
Из госпиталя снова попала в запасной полк, но уже в другой. Здесь я была одна, ни одного знакомого лица, все чужие. Помню, ходила на какие-то занятия, ждала нового назначения. Вернуться в свой полк или хотя бы дивизию не было никакой возможности: они воевали на другом фронте.
Однажды к нам, находившимся в запасном полку, обратилось командование полка: на фронте шли ожесточенные бои, для раненых требовалась кровь. Многие сразу же пошли сдавать кровь, я, конечно, тоже. Пришла. Одели меня во все белое, даже на ноги пришлось натягивать какие-то белые тряпичные чулки. Уложили на высокую кушетку. Но что-то не заладилось у медсестры. Только начала она брать кровь, как игла выскочила из вены, и кровь ручейком потекла на пол. Сестра нервничала, никак не могла снова попасть в вену, а кровь все вытекала. Я тогда много крови потеряла, встала с кушетки, как пьяная. Потом всех доноров отвели в столовую, напоили водкой, накормили вкусным обедом. Я шла в казарму сытая, весьма довольная и очень веселая. Веселилась я еще долго и шумно, пока не уснула на нарах прямо в одежде.
Наконец получила приказ: меня направляли в гаубичный артиллерийский ордена Александра Невского полк Резерва Главного командования. Но что мне, снайперу, делать в артиллерии? Может быть, заявок на снайперов не было? Возможно, тот, кто решал мою судьбу, даже и не знал, что я снайпер? А может быть, это судьба еще раз позаботилась обо мне?
Гадать было бесполезно, возражать против назначения — тоже. Не положено, приказы выполняются беспрекословно, это я усвоила еще в школе. Собрала свой убогий солдатский скарб, уложила его в вещмешок вместе с сухим пайком и одна отправилась в неизвестный мне артиллерийский полк. Добиралась где пешком, где на попутной машине. К ночи добралась до штаба полка, оттуда меня проводили в дивизион капитана Г., человека, как потом оказалось, грубого, несправедливого, любящего к тому же вино и женщин. При этом он слыл отличным, грамотным и смелым командиром, за что многое ему прощалось.
К сожалению, в ночь моего появления в дивизионе он был, мягко говоря, под хмельком и не спал, когда ему доложили о моем прибытии. В это время дивизион расположился на ночевку в каком-то местечке. Взвод управления, куда меня привели, занимал комнату в доме, который в темноте мне не удалось рассмотреть. А в соседней комнате развлекался за бутылкой мой будущий командир. В полной темноте в сопровождении часового я прошла в комнату взвода и остановилась в нерешительности. При скудном свете керосиновой лампы увидела, что прямо на полу вповалку спали солдаты, при этом лежали так плотно, что ногу некуда было поставить. Часовой, с трудом перешагивая через солдат, пробрался в угол комнаты, я шла за ним. Потом сопровождавший меня солдат бесцеремонно растолкал кого-то, спавшего на единственной здесь кровати, и предложил мне занять его место. Я стояла, не решаясь на это. «Не бойся, — сказал солдат, — у нас мировые ребята, они не обидят тебя». В конце концов, не раздеваясь, как и все остальные, находившиеся здесь, я улеглась на кровать. Однако спать мне не пришлось. Вскоре пришел вестовой от капитана.
— Капитан требует тебя к себе.
— Не пойду.
— Как это не пойдешь? Тебя же под трибунал отдадут за неподчинение.
— Ну и пусть, все равно не пойду.
К тому времени я уже наслушалась всяких историй о любовных притязаниях некоторых офицеров, об обманутых девчонках и о тех, кого презрительно называли ППЖ — полевая походная жена. В нашем 611-м полку такого не было, командиры сами бережно относились к нам и другим офицерам не позволяли вольничать. К тому же там нас было несколько девушек, а здесь я оказалась единственной. Я вообще тут никого не знала, защиты не имела и потому боялась.
Вестовой ушел, потом снова появился с тем же: капитан требует к себе. В третий раз он пришел, получив приказание привести меня хоть под винтовкой. Я уже ничего не могла сделать. Поднялась и с замирающим от страха сердцем пошла. Проходя по небольшому темному тамбуру, сопровождающий предупредил:
— Будь осторожна, капитан пьян.
— Не уходите, пожалуйста, постойте около двери, пока я буду там.
Он остался, а я шагнула в комнату, руку — к шапке:
— Товарищ капитан, младший сержант Жукова по вашему приказанию явилась.
Он усадил меня за стол, без всяких предисловий налил стакан водки.
— Пей!
— Я не пью, товарищ капитан.
— Пей, тебе говорят!
— Я не пью.
— Что, совсем не пьешь?
— Совсем не пью.
— Ну и черт с тобой, — пьяно качнулся он на стуле.
Дальше была сцена, о которой не хочется писать. В общем, пользуясь тем, что он был пьян и еле держался на ногах, я ускользнула от него. За дверью меня ждал вестовой. Он, как мог, по-солдатски успокоил меня, проводил на место. Войдя в комнату, я удивилась: лампа горела ярко-ярко, солдаты не спали, все смотрели на меня. Вестовой негромко что-то пробурчал им, на лицах некоторых солдат я вдруг увидела улыбки, а кто-то негромко сказал: «Молодец девчонка!» Через минуту в комнате снова раздался мощный храп моих новых товарищей. Прав оказался солдат: ребята во взводе действительно были замечательные, а трое из них стали впоследствии моими верными рыцарями и надежными защитниками. Все они были понемногу влюблены в меня. Я очень хорошо помню каждого.
Василий Столбов — старший сержант, мой непосредственный начальник. Высокий, немного сутуловатый, с легкой хрипотцой в голосе, сдержанный в проявлении чувств, он всегда бережно относился ко мне. О своих чувствах никогда со мной не говорил и только после войны, когда я возвращалась домой, он вслед послал в одном конверте два письма — маме и мне, — тогда и объяснился впервые в любви. Но именно ему я обязана тем, что со всеми ребятами взвода у меня были теплые, дружеские отношения. Он никому не позволял обижать меня какими бы то ни было вольностями, приставаниями, намеками.
Алексей Попов был высоким, статным, весьма привлекательным мужчиной, его очень украшала широкая открытая улыбка. Между прочим, он единственный из дивизиона (а может быть, и полка) участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Алексей не стеснялся говорить о своих чувствах, предлагал даже выйти за него замуж, обещал развестись с женой. Много разговоров было у нас с ним на эту тему. Вероятно, потом он что-то рассказал своей жене, потому что после войны я получила от нее письмо, в котором она благодарила меня за то, что я не отняла у нее мужа.
Петр Чирков резко отличался от Васи и Алеши. Он — типичный деревенский балагур, коренастый, всегда с простоватым выражением на лице, полуграмотный. Зато отличный и верный друг, который ни перед кем не боялся взять меня под защиту. Однажды, видя, как тягостны мне грубые ухаживания капитана, Петя прямо в лицо ему бросил: «Оставьте младшего сержанта Жукову в покое. Я ее люблю, она меня тоже любит, и после войны мы решили скрепить нашу любовь браком». Бедный Петя после этого не вылезал из нарядов вне очереди. И однажды мимоходом он грубо сказал мне: «Черт принес тебя к нам на наши головы». Допекли парня! Но в наших отношениях ничего не изменилось. Каждый раз, когда я появлялась в нашем сугубо мужском обществе, Петя громко, во весь голос начинал петь: «Когда я на почте служил ямщиком…» При полном отсутствии у него голоса и слуха «серенада» получалась фантастическая. Я всегда в этой ситуации чувствовала себя неловко, но мои увещевания на Петра не действовали, он неизменно встречал меня этой песней, придавая лицу скорбное выражение.
Потом, после войны, все трое писали мне в Уральск. Но, стремясь забыть войну и все, что могло бы напоминать о ней, я не ответила ни на одно письмо. Как могла я так поступить?! К тому же оказалось, что напрасно я насиловала свою память: я ничего и никого не забыла. Если бы можно было время повернуть вспять! Я написала бы всем им большие письма, нашла бы для них самые теплые и добрые слова. Сейчас же я могу сказать одно: «Простите меня, ребята. Я всегда помнила вас и благодарна судьбе за то, что вы были в моей жизни».
Наступил апрель 1945 года. Наш полк двигался на Кенигсберг. Приказом командира дивизиона я была назначена старшей телефонисткой. Василий Столбов быстро научил меня всем премудростям моей новой военной профессии. В руках у меня теперь уже не винтовка, а автомат. Хорошо, что в школе всему научили. Весьма смутно помню события этого месяца.
Даже жесточайшие бои за Кенигсберг не отпечатались в памяти, не оставили такого тяжкого ощущения, как прежние события, которые пришлось пережить в составе 611-го полка. В окопах не мокла, в атаку не ходила, под постоянным, непрекращающимся огнем не сидела. Или все стало более привычным?.. Мне помнится мощнейший артиллерийский обстрел Кенигсберга, который вел наш полк, оглушающий непрерывный грохот орудий и минометов, плотный огонь, удушливый дым. Однако после Ландсберга все это казалось не таким уж страшным. Все-таки в пехоте, мне кажется, тяжелее всего…
Надо сказать, что здесь меня тоже по возможности берегли. Думаю, что этим я обязана в первую очередь нашему комиссару майору Юрасову. Хотя в 1942 году институт комиссаров был отменен и взамен в воинских частях ввели должности заместителей командиров по политической работе, мы по привычке и для краткости по-прежнему звали их комиссарами. Да, честно говоря, нам как-то больше нравилось старое название — комиссар. У меня это слово ассоциировалось с героизмом, мужеством, верностью. Наш комиссар был человеком справедливым, он не позволял себе грубости по отношению к подчиненным даже в самые критические моменты, любил солдат и бережно к ним относился.
Так получилось, что в последний месяц войны, когда погибнуть было бы совсем уж обидно, я оказалась в относительной безопасности при штабе дивизиона, обеспечивая связь командования с подразделениями.
9 апреля наши войска взяли Кенигсберг. Потом опять куда-то шли.
Чего только не случалось со мной! Помню, как во время одного длительного и очень тяжелого перехода кто-то из солдат предложил мне, чтобы немного передохнуть, часть пути проехать верхом на лошади. Подвел дремавшую на ходу лошадку, сказал, что она смирная, и помог взобраться в седло. Раньше я никогда не только не ездила верхом, но и близко-то к лошади не подходила. Сидеть мне было неудобно. Только хотела я попросить помочь мне слезть с лошади, как вдруг невдалеке разорвался снаряд. Моя «смирная» лошадка понеслась во всю прыть! Выглядела я, очевидно, презабавно, и вся колонна, вдоль которой несла меня лошадь, буквально заходилась в хохоте. Потом кто-то остановил, наконец, этого скакуна, снял меня и поставил на землю. Я еле отдышалась.
Гораздо удачнее оказался эксперимент с велосипедом, на котором я с удовольствием прокатилась немного. На дорогах, по которым мы шли, попадалось много всякого добра: брошенные хозяевами исправные автомашины, мотоциклы, велосипеды. Вот мы и развлекались, когда позволяла обстановка.
Часто в полях, на дорогах встречались бесхозные лошади, целые стада жалобно мычавших коров, которых некому было доить, и бедные животные смотрели на нас грустными глазами. Среди солдат всегда находился кто-нибудь, владеющий искусством доения, поэтому мы часто лакомились парным молоком. Коровы же были и основным источником пополнения наших мясных запасов. Тогда мы питались только свежим мясом.
От того периода, как и от всей войны, осталось много тяжелых впечатлений. Однажды на марше я увидела около хутора, недалеко от шоссе, сложенные штабелем обгоревшие предметы большого размера. Не разглядев издалека, что это такое, я подошла ближе. Не описать охватившего меня ужаса, когда я увидела, что обгоревшие предметы — это не что иное, как трупы наших солдат… Очевидно, так расправились фашисты с военнопленными. Подошли другие солдаты и офицеры, постояли, сняв головные уборы. Затем командир распорядился всех захоронить, оставил для этого группу солдат, а остальные продолжали путь. Надо было видеть и слышать солдат! Я же просто ревела, не скрывая слез.
Наступил Первомай, встретили его на марше. Шли и в ночь на 2 мая. Стрельбы не было слышно. Мы шли по шоссе, разговаривали друг с другом. Меня чем-то угостили, и я с удовольствием ела на ходу. Вдруг приоткрылась дверца идущей впереди автомашины, оборудованной под узел связи, оттуда кто-то высунулся и закричал во все горло: «Братцы! Берлин взяли!» «Ура-а-а!» — мощно разнеслось в ответ. Все бросились обниматься, кто-то заиграл на гармошке, кто-то прямо на шоссе начал отплясывать.
«Отставить! Вперед, марш!» — радостно прозвучал голос командира.
В ближайшие дни полк получил приказ временно расквартироваться в Гайдау. Это небольшое местечко недалеко от Балтийского моря. Мы жили в тревожном ожидании: что с нами будет дальше? По радиосводкам знали, что война практически закончилась. Каждый думал тогда: может быть, теперь без нас обойдутся? Может быть, живыми останемся? Так хотелось на это надеяться! Ведь обидно было бы погибнуть на пороге победы.
И вот наступил исторический день. Той памятной ночью солдаты, как и всегда в боевых условиях, спали не раздеваясь и не разуваясь, вповалку на полу, все в одной комнате. Вместе с ними, моими товарищами, и я. Теперь я уже не боялась их, у меня были надежные друзья и защитники. Вдруг сквозь сон слышу полушепот: «Младший сержант, Юля, вставай. Победа!» Это Столбов, желая сделать мне приятное, хочет, чтобы я первая узнала о победе.
Но вот чудо: от этого полушепота просыпаются, будто по команде, все, находившиеся в комнате. Бывало, и под грохот артиллерийской канонады спят, не добудишься, а тут все разом проснулись. Подхватив оружие, выскочили на улицу. Творилось нечто невообразимое: объятия, слезы, смех, беспорядочная стрельба в воздух. Артиллеристы дали несколько мощных залпов в сторону моря. Откуда-то взялся баян, раздалась музыка, начались импровизированные танцы. Победа! Долгожданная победа! Потом это слово будут писать с большой буквы, потому что наша Победа была великим подвигом всего народа, очень дорого заплатившего за эту победу. Будет учрежден государственный праздник — День Победы.
Глава 7. Отгремели бои
Если и бывают чудеса, то именно в этот день, в день, когда завершилась война, произошло одно из них. Уже много дней подряд здесь стояла пасмурная и прохладная погода, шли дожди. А в этот день засияло яркое солнце, будто тоже празднуя нашу победу.
Начиналась новая жизнь, почти мирная. Мы остались в Гайдау. Облюбовали пустовавший двухэтажный кирпичный дом. Взводу отвели большую комнату на первом этаже. Мы обустраивались, налаживали быт. Солдаты откуда-то натаскали двухъярусных кроватей, заставили ими всю комнату. Командир дивизиона предложил мне поселиться отдельно, в совсем маленькой светелочке в мезонине. Я отказалась, понимала, что там не будет мне покоя от моих воздыхателей. Дальнейшее подтвердило мою правоту.
Итак, отныне я буду жить в одной комнате с солдатами. Непросто было решиться на это, но другого выхода я не видела. Ребят это обстоятельство нисколько не смутило, они тоже понимали, что выбора у меня нет. Нашли для меня обычную железную односпальную кровать с панцирной сеткой, матрац, подушку, одеяло. Поставили кровать в уголок, укрепили по углам деревянные стойки, повесили на них простынки — у меня был теперь свой «будуар». Конечно, здесь я чувствовала себя не очень уютно и свободно. Ведь что ни говори, но соседство двадцати молодых здоровых парней не могло не стеснять меня. Зато была уверенность в безопасности, хотя бы относительной. Насколько я знаю, никто из ребят не заглядывал в мой уголок. Может, и нашлись бы желающие, но другие не позволили бы никому нарушить установившиеся между нами прекрасные дружеские отношения.
Теперь, когда закончились боевые действия, я особенно остро ощутила, каково быть одной в мужском коллективе. Ведь кроме моих ребят рядом жило много других мужчин, молодых и здоровых, соскучившихся за годы войны по женскому вниманию и ласке. Для меня начались трудные дни уже в другом плане, главным образом в психологическом и бытовом. Поначалу проблемы возникали буквально на каждом шагу. Взять хотя бы такой житейский вопрос, как туалет. Стоял один на всех на открытом месте деревянный туалет на улице в нескольких десятках метров от дома, и виден он был со всех сторон. Иду туда. Все смотрят, кто-то что-то кричит вслед. Иду и еле сдерживаю себя, чтобы не оглянуться, не вернуться, не побежать. Мне обидно и неловко, но вариантов-то нет. Или еще: все строем идут в построенную неподалеку русскую баню, но я-то не могу с ними идти, а помыться просто необходимо. Ребята хохочут, ждут, что будет дальше. Хорошо, что Столбов нашелся: «Все помоются, потом ты пойдешь, а мы с Петром и Алексеем покараулим». И стояли, караулили, пока я мылась. А где сушить свое нижнее белье? Не вывесишь же на улице на виду у всех.
Таких проблем оказалось великое множество. Но понемногу все отрегулировалось, утряслось. Гораздо хуже было другое — чисто мужское окружение, в котором я оказалась единственным объектом любовных притязаний. А ведь мне было всего 19 лет, и я по-настоящему страдала от бесконечных приставаний офицеров. Из-за них я отказалась питаться в офицерской столовой, к которой меня прикрепили в порядке исключения как единственную в подразделении женщину. Дня два-три я ходила туда, но скоро мне стало противно: иду, бывало, а на меня нацелены десятки мужских глаз. Было такое ощущение, будто сквозь строй меня пропускают. Решила отказаться от «привилегии», стала ходить в солдатскую столовую. В любую погоду вместе с ребятами в строю с котелком в руках ходила в столовую, которую лишь условно можно было так назвать. Прямо на улице стояли сколоченные из досок длинные столы, врытые в землю такие же скамейки, над ними деревянный навес — такой была наша столовая. Зато, когда я садилась за стол, передо мной всегда оказывалась горка вкусных вещей — конфеты, шоколад, печенье. Это мои дорогие солдатики так баловали меня. Первое время кормили нас ужасно: утром овсяная каша, в обед — овсяный суп, такая же каша и кисель из овсянки, на ужин снова овсяная каша. Мы очень остро ощущали изменения в нашем питании. Последнее время в Пруссии часть находилась на самообеспечении, питались мы прекрасно. Я уже упоминала, что и свежим мясом нас баловали, и парным молоком. А после завершения боевых действий перевели на централизованное снабжение. Постепенно все наладилось, но какое-то время нас кормили одной овсянкой. Ребята развлекались и, выходя из-за стола, издавали дружное и громкое: «И-го-го».
А я вела неравную войну с моими влюбчивыми командирами. От этой войны страдала не только я, но и мои сослуживцы.
Однажды командир дивизиона капитан Г. жестоко наказал весь взвод из-за моей непокорности. Повод-то был пустяковый. В тот вечер в штабе полка показывали художественный фильм. Естественно, что всем, в том числе и мне, хотелось посмотреть его. Комиссар разрешил взводу пойти на просмотр. Нас сопровождал один из командиров, шли мы туда строем и с песней. Сеанс закончился очень поздно, мы вернулись около двух часов ночи все вместе. Вот тут-то и разразилась гроза. Оказывается, я зачем-то потребовалась капитану, меня разыскивали, но не нашли. И когда мы пришли, капитан, невзирая на глубокую ночь, приказал немедленно вынести все кровати, а вместо них построить двухъярусные деревянные нары. Столбов просил оставить кровать хотя бы для меня: «Все-таки она девушка, товарищ капитан». Но Г. ответил грубо и зло: «Она здесь не девушка, а младший сержант». Так припомнил он мне мои слова, сказанные однажды в ответ на его приставания: «Для вас я не девушка, товарищ капитан, а младший сержант». За одну ночь солдаты построили для себя нары, мою кровать тоже сменили на деревянный топчан. А я еще раз услышала: «Черт принес ее к нам, столько неприятностей из-за нее». Мне было невероятно обидно, но я понимала, что ребята действительно страдали из-за меня.
Капитан Г. постоянно унижал меня мелкой местью и придирками. Вот, к примеру, такой случай. Служил в дивизионе замечательный сапожник, уже немолодой. Он решил сшить мне брезентовые сапоги, в кирзовых-то было жарко и тяжело. Увидел капитан, запретил: младшим чинам не положено. Не разрешил он мне сменить ужасный брезентовый ремень на кожаный, по той же причине — не положено. Все знали, что во многих частях девушкам разрешались некоторые вольности в ношении военной формы. Наш командир демонстративно все запрещал.
Но на этом дело не кончилось. Дошло до того, что меня вместе с другими солдатами посылали в наружный дозор по ночам. Мужчины спят, а я с автоматом хожу по улице, охраняю их. Мои верные «рыцари» не могли, конечно, остаться безучастными к этому безобразию. Мне они ничего не сказали, но вскоре я заметила, что у меня появилась охрана. Выглядело это забавно: я хожу вокруг расположения, а в некотором отдалении от меня, старательно маскируясь в кустах или за деревьями, следует кто-нибудь из ребят. Прятались они, естественно, не от меня, а от командиров, которые не только запретили бы подобную самодеятельность, но и наказать за нее могли. Мои ночные бдения, к счастью, продолжались недолго. Видимо, кто-то помог капитану понять абсурдность ситуации. А может быть, он и сам додумался.
Я очень боялась, что ребята могут по-настоящему возненавидеть меня. К счастью, этого не произошло. Я много раз убеждалась, что мои друзья действительно замечательные ребята, все правильно понимающие и оценивающие. Мне даже казалось иногда, что им нравится опекать молоденькую девчонку, чувствовать себя настоящими заступниками.
Ребята очень ревниво следили за моей нравственностью. Помню, однажды Г. пригласил меня прокатиться на мотоцикле. Боязно было, я долго не соглашалась, но потом решила, что не подлец же он, в конце концов, не может он меня обидеть. И поехала с ним. Прогулка получилась замечательная. Капитан въехал в лес, а там — красота неописуемая: свежая зелень, множество цветов, пьянящий воздух и какая-то оглушающая тишина. После всего пережитого это воспринималось как нечто нереальное. Но когда мы возвратились домой, у меня сердце упало: почти весь взвод стоял у казармы, ребята пристально вглядывались в нас. Очевидно, ничего подозрительного не узрели и разошлись. В другой раз, когда всех женщин полка водили на медицинский осмотр, по возвращении из санчасти я снова обнаружила моих друзей «на посту». Но сейчас они смотрели не на меня, а куда-то поверх моей головы. Я обернулась и увидела, что сопровождавший меня старшина стоит с улыбкой и показывает ребятам большой палец.
Вот так и жила я под пристальным, серьезно докучавшим мне вниманием и солдат, и офицеров. Тяжко приходилось, но выхода не было.
К сожалению, вскоре у меня появился еще один настойчивый воздыхатель, начальник штаба капитан В.О. Он, правда, был человеком более интеллигентным и не позволял себе вольностей по отношению ко мне. Но меня очень тяготили постоянные вызовы к нему. Отказаться я не имела права, потому что он всегда находил какое-нибудь служебное дело, которое я должна была сделать. Но стоило мне появиться в его кабинете, как на патефон ставилась пластинка с записью романса в исполнении В. Козина:
Мне бесконечно жаль Своих несбывшихся мечтаний, И только боль воспоминаний Гнетет меня. Хотелось счастья мне с тобой найти, Но, очевидно, нам не по пути…И так далее.
Он тоже не один раз объяснялся мне в своей любви. Я поверила в его искренность. У меня тоже появилось теплое чувство к нему. Это еще не было любовью, но могло стать ею. А капитан торопился и однажды бросил такую фразу: «Для кого ты бережешь себя? Все равно в гражданке никто не поверит, что ты честная». Этот разговор происходил около пруда, в котором я стирала его белье. Я вообще многим стирала, в том числе и солдатам, часто мыла полы, наводила порядок в казарме: ведь других-то женщин не было. В тот раз, помню, в руках у меня оказалась как раз гимнастерка капитана. Взяла я эту мокрую гимнастерку и со всего маху дала ему по физиономии. Тут же ужаснулась сделанному, потому что за оскорбление офицера могла получить очень серьезное наказание. Капитан посмотрел на меня, повернулся и ушел, ничего не сказав. Огласки скандал не получил.
Потом В.О. извинялся передо мной, пытался загладить свой поступок. Но я не смогла простить ему оскорбления. На письмо, которое он прислал мне в Уральск, я не ответила. Он тоже больше не писал. Однако я сохранила его фотографию, на обороте которой написано: «Вспомни когда-нибудь, что я тебя любил, люблю и буду любить, хоть ты мне и не верила». Так прервались мои отношения с этим человеком. Возможно, я и не права была в своих жестких оценках человека, четыре года проведшего на войне, ожесточившегося. Но что было, то было.
Приближалась демобилизация. Примерно в начале июля всех ребят нашего взвода перевели жить в какое-то другое место, а в помещении нашего взвода разместились теперь другие солдаты, те, кого в первую очередь отправляли домой, — пожилые и больные. Меня оставили здесь же, так как я тоже подлежала первоочередной демобилизации наряду с другими женщинами. В одной комнате с чужими солдатами я чувствовала себя не так хорошо.
Мои новые соседи по комнате в ожидании отъезда изнывали от безделья и скуки. Начальство решило организовать с ними занятия. Меня назначили командиром одного из отделений, дав в подчинение десять пожилых солдат, крайне уставших от войны и от всего, что выпало на их долю. Когда я первый раз построила их для проведения занятий по строевой подготовке, они откровенно заявили мне, что им все это уже не нужно и заниматься не хочется. Я понимала их: действительно, зачем им эта строевая подготовка, если через несколько дней они сядут в поезд и поедут домой? Но дисциплина есть дисциплина, приказ командира никто не мог отменить. Я тоже откровенно высказала на этот счет свое мнение, но добавила, что если они не будут мне подчиняться, то накажут не их, а меня. Договорились, занятия начались. К всеобщему удовольствию, эти бессмысленные занятия продолжались недолго.
До отъезда оставались считаные дни. А мои воздыхатели продолжали терзать меня. И вот однажды ночью пришел в комнату капитан Г., бесцеремонно раздвинул занавески у моего топчана и стал объясняться, предлагая стать его женой. Мне было противно это ночное объяснение, но еще больше я испытывала стыд перед солдатами, догадываясь, что они не спят и прислушиваются к тому, что происходит. Я пыталась что-то объяснить капитану, но бесполезно, он не слушал и твердил свое. После того как взбешенный капитан ушел, один из моих новых пожилых соседей по комнате, понимая, как мне неприятно и стыдно за происшедшее, предложил: «Иди сюда, дочка, не бойся, здесь тебя никто не обидит». Когда мой воздыхатель пришел следующей ночью, он не нашел меня на месте: я в полном обмундировании спала на втором ярусе нар рядом с солдатами.
…Наконец наступил долгожданный день отъезда.
Глава 8. Домой!
Я уезжала домой. Проводить меня пришли все мои товарищи по взводу. Они говорили какие-то хорошие слова, совали в руки подарки из трофейных вещей. Я ничего не взяла: ведь дома у каждого из ребят были матери, сестры, жены, невесты, дети, пусть им отвезут. Только когда машина уже тронулась, Кто-то вскочил на подножку и нахлобучил на мою голову свою пилотку со словами: «У тебя очень уж страшная». Эту пилотку я храню до сих пор.
Но подарки я все-таки везла: от командования — полпуда белой муки (в то голодное время это был поистине царский подарок); немецкую офицерскую шинель тонкого сукна серовато-голубоватого цвета (я мечтала сшить из нее пальто, но мама сразу же продала ее, «чтобы не было в доме этой нечисти»); от моих друзей — маленькую пуховую подушечку («чтобы в дороге лучше спалось») и деревянный сундучок, который они сами сделали и окрасили в зеленый цвет. А еще я везла свои трофеи — более ста открыток с видами немецких городов.
Грузовик тронулся, ребята махали мне, что-то кричали. Я отвечала им тем же, но мыслями была уже далеко. Меня переполняла огромная радость, что все кончилось, во мне билось только одно желание: скорее бы в поезд и — домой!
Однако уехала я еще не сразу. Через несколько дней пришлось вернуться в часть. Оказалось, что на всю нашу команду неправильно были оформлены демобилизационные документы, и мне, как одной из самых грамотных, поручили съездить в часть и проследить, чтобы все было приведено в соответствие. Дали солдата для сопровождения и охраны. Мы с трудом добрались до Кенигсберга, почему-то переночевали в стоявших рядом двух телефонных будках, подложив под себя найденные на мостовой толстые кипы бумаги. Утром прибыли к своим. Вот радости-то было! Через два-три дня, оформив документы, вернулись в запасной полк. Еще через несколько дней — на станцию, в эшелон. Вот теперь я отправлялась домой.
Ехали долго. Я опять одна среди мужчин в огромном пульмановском вагоне, снова масса связанных с этим неудобств. Снова мне отгораживают на нарах уголок, только теперь солдатскими плащ-палатками; опять сон нарушает мощный мужской храп вперемежку с матом и страшными криками во сне. В вагоне не выветривается тяжелый запах махорки, водочного перегара, мужского пота. Хорошо, что стояла теплая погода, дверь вагона почти круглые сутки была открыта, и я большую часть времени сидела около нее, наслаждаясь свежим воздухом и картинами мирной жизни.
И снова вся моя жизнь оказалась на глазах у чужих мужчин. Ни умыться толком, ни пот и грязь с себя смыть нельзя: не будешь же делать это на виду у всех. И постоянное чувство страха, неловкости в присутствии посторонних людей. Снова проблемы с туалетом, это было настоящее кино. Останавливается состав в степи, через рупор раздается команда: мужчины — налево, женщины — направо. А женщины — это одна я, потому что во всем эшелоне я оказалась единственной. Поглядишь в одну сторону — там тьма людей; глянешь в другую — а там мечется, как перепуганный заяц, одна девчонка, выискивает бугорок или ямку, где можно было бы спрятаться от сотен мужских глаз. А кто-то из озорников еще кричит мне вслед: «Воздух!» Сколько раз думала: встретить бы мне того умника, который сунул 19-летнюю девчонку в чисто мужской эшелон! Вот уж душу-то отвела бы. Утешалась лишь мыслью о том, что еду домой.
На протяжении всего пути на каждой станции местные жители встречали нас музыкой, цветами и угощением. На восток один за другим шли эшелоны победителей… Нас и встречали как победителей.
Все, вероятно, видели кадры кинохроники о встрече солдат, возвращавшихся с фронта. Глядя на эти кадры, всегда с трудом сдерживаю слезы. Я вижу свой эшелон, который вез меня в родной Уральск: он был так же украшен портретом И. В. Сталина и кумачовыми лозунгами, хвойными ветками и цветами; нас так же восторженно на всех станциях встречали женщины и дети; с такой же надеждой вглядывались они в нас, надеясь увидеть своего родного человека — мужа, сына, отца…
Наконец прибыли в Минск. Здесь я без сожаления простилась со своими попутчиками. Дальше мне предстояло ехать другим эшелоном, направлявшимся в Казахстан. Без труда нашла вагон, к которому меня приписали. Подхожу, смотрю, а там — девчата, это был женский вагон. Вот счастье-то! Поднялась, заняла место на нарах. Стою в дверях, вижу, какая-то девушка энергично раздвигает толпу на перроне, пробирается к нашему вагону. Вглядываюсь — это же моя землячка Роза Возина! Вот ведь как бывает: в 1944 году именно здесь мы простились, разъезжаясь по разным фронтам, а теперь здесь же встретились. Обе обрадовались, устроились на нарах рядышком и говорили, говорили без конца. Она, между прочим, рассказала, что от кого-то слышала, будто я погибла. Такие ошибки случались нередко.
Путь от Минска до Уральска показался долгим и тягостным. И чем ближе подъезжали мы к дому, тем большее волнение и нетерпение охватывали меня. После Саратова я, кажется, уже не спала, не ела, ничего не видела и ни на что не реагировала. В голове билась одна мысль: скорее бы домой! Бывали мгновения, когда хотелось выскочить из вагона и бежать по шпалам, казалось, что так я быстрее доберусь до моего родного дома.
И вот 6 августа 1945 года состав прибыл в Уральск. Поезд еще замедлял ход, а я, не дожидаясь, когда он остановится совсем, в нетерпении выпрыгнула из вагона, девчонки на ходу передали мне рюкзак и деревянный сундучок. Стою на перроне и замираю от счастья, шагу сделать не могу. Ничего не замечаю вокруг. Не верится, что я дома. На мне военная форма, выгоревшая почти добела, изрядно помятая и перепачканная за двухнедельное «путешествие»; пыльные кирзовые сапоги, пилотка — набекрень; за спиной — тоже вылинявший и дырявый рюкзак; через левую руку перекинута шинель с обгоревшей полой; в правой руке — сундук с подарками.
Вдруг слышу: «Юля, Юля!» Гляжу, навстречу мне бежит бухгалтер с маминой работы. У нее сестра тоже была на фронте, и я решила, что она пришла ее встречать. Оказалось, нет, она встречала именно меня. Но почему она? И вообще, откуда стало известно, что я именно сегодня приезжаю? Я ведь никому не сообщала о своем приезде, хотела маме и папе сюрприз преподнести.
По дороге Галя рассказала, как все получилось.
Оказалось, что Василий Столбов сразу после моего отъезда из полка послал маме письмо, в котором подробно рассказывал, как я проявила себя в части, с каким уважением относились ко мне мои однополчане, и сообщал, какого числа я выехала домой. Но он не мог предвидеть, что я задержусь еще на неделю для переоформления документов. Это внесло некоторую путаницу в мамины расчеты. А мама, получив письмо, кинулась в военкомат, узнала расписание всех проходивших через Уральск эшелонов с демобилизованными солдатами, высчитала, когда примерно я могу приехать, и в течение шести дней, даже ночью, выходила к каждому воинскому эшелону с надеждой: вот сегодня приедет. А меня все не было. Мама приходила в отчаяние, ведь по всем подсчетам я уже должна была приехать. И вот как раз 6 августа ей не удалось выбраться с работы. В последний момент она попросила Галю на всякий случай подъехать к очередному эшелону.
Мы с Галей вышли в город, там ждал нас «экипаж» — какая-то древняя лошадь, запряженная в такую же древнюю бричку. Закинула вещи в телегу. Идем с Галей прямо по середине мостовой и разговариваем. Жара, на небе ни облачка, солнце печет, как в самые жаркие летние дни. Пыльно, видимо, давно не было дождей.
Наш Уральск — небольшой провинциальный городок. Прежде он назывался Яицким городком и был вотчиной яицких казаков. Город стоит на берегу реки Урал. Когда-то глубокая и бурная, она со временем обмелела, хотя течение оставалось сильным, напористым. В детстве я любила вместе с друзьями «путешествовать» в Европу и обратно: для этого надо было только переплыть Урал, разделявший Европу и Азию, или перейти на другой берег по мосту через реку. А еще я любила бродить по главной нашей улице — Советской и без устали рассматривать мемориальные доски на стенах домов. Они о многом говорили. В частности, о том, что в нашем городе бывали А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, В. И. Даль, А. Н. Толстой, Д. А. Фурманов; здесь воевали М. В. Фрунзе и В. И. Чапаев; в Уральске венчался Е. Пугачев.
В то время, когда происходили описываемые события, Уральск был не очень благоустроенным городом. Дома в основном одно-двухэтажные, деревянные, только в центре были кирпичные дома в три-четыре этажа, частично сохранившиеся со старых времен, частично построенные в советские годы. Не было у нас асфальтированных дорог, плохо развивался городской транспорт. Но в тот день, когда я шла от вокзала домой почти через весь город, он казался мне прекрасным. Это был мой родной город, который я всегда любила. Как и в большинстве маленьких городов, была в нем какая-то умиротворенность, открытость, неторопливость жизни. И люди здесь жили простые, отзывчивые.
Теперь Уральск оказался за границей — в суверенном независимом государстве Казахстан. Трудно представить себе, что исконно русский город, в котором родились и выросли все мои родственники, где прошли мои детские и юношеские годы, стал чужим, заграничным городом. Тогда, в 1945 году, никто не мог предвидеть этого…
Я шла по родной земле, жадно вдыхая пропахший солнцем, зеленью и пылью воздух, с удовольствием взбивая пыль солдатскими сапогами.
И вот мы пришли. Здесь я еще не жила. В мое отсутствие родители сняли в частном доме две комнатки с кухней и отдельным входом. С замиранием сердца открываю калитку, вхожу в большой двор. Галя ведет меня на нашу половину. Навстречу мне идет моя новая бабушка Анна Ивановна Малютина. Это она опекала мою маму, когда та в 1920 году 16-летней девчонкой пришла работать в ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия). Взяли ее курьером, а бабушка здесь же работала уборщицей и истопницей. Бывало, зимой набегается мама по городу в своей крепдешиновой юбчонке, солдатских ботинках и полупальто, собранных для нее сотрудниками учреждения, придет, а бабушка ей: «Шурка, лезь на печку, отогревайся». Кипятку принесет, доброе слово скажет. Потом бабушка вышла замуж и уехала в другой город. Мама помнила Анну Ивановну, рассказывала мне о ней. И вот однажды, когда я была на фронте, мама встретила ее на улице. Оказалось, что бабушка потеряла мужа, потом дочь, осталась одна и вернулась в Уральск, к своей племяннице. Та «выкачала» из бабушки все деньги и теперь выгоняла ее из дома. Рассказывая об этом, бабушка расплакалась. Мама пригласила ее жить у нас. «Дочка на фронте, мы с мужем одни. Будешь мне за мать, а дочке, когда она вернется, — за бабушку». Я так и звала ее бабушкой. Замечательная была старушка, добрая, домовитая. Мы потом и забыли, что она нам не родная.
Анна Ивановна и встретила меня на пороге родного дома. Поздоровалась я, бросила свои вещи — и бегом к маме на работу. Когда прибежала в горком партии, где работала мама, она уже бегом спускалась по лестнице мне навстречу. Я не могу передать, что было потом: то ли мы плакали, то ли смеялись, то ли просто молчали, крепко обнявшись. А может быть, это было все вместе. Та встреча на лестнице — как в тумане.
Оказалось, что дочь нашей хозяйки, увидев входившую во двор девушку в военной форме, сразу догадалась, что это и есть долгожданная дочь Александры Ивановны. Больная, с температурой почти 39 градусов, она поднялась с постели и побежала к маме, чтобы сообщить ей радостную весть о моем приезде.
И вот мы с мамой идем домой. Пока меня не было, бабушка нагрела воды, поставила на кухне корыто. С каким блаженством я смывала с себя многодневную вагонную грязь! Мама достала мое любимое довоенное платье. Надела, туго, по-военному затянула пояс. Мама смеется: «Юля, ты же не в армии». Пришел папа, которому мама успела сообщить о моем возвращении. Сели за стол. Праздничная скатерть, водка, небогатая закуска.
— Закуривай, — достает отец портсигар.
— Я не курю, папа.
— Молодец!
Наливает почти полный стакан водки, протягивает мне:
— Выпьем, дочь, за твое возвращение.
— Выпьем, папа.
— До дна?
— До дна.
— Вот молодец!
Конечно, первый тост был за меня, за мое возвращение, за мое здоровье. Потом — за Победу и, как водилось, за Сталина.
Итак, я дома с любимыми родителями. Жива, здорова и бесконечно счастлива. Мне всего девятнадцать с половиной лет, и впереди у меня целая жизнь. Тогда я еще не отдавала себе отчета, какой важный и значительный этап завершился в моей жизни. Сейчас я считаю, что ничего более значительного у меня не было.
Не могу не сказать, что с войны я вернулась совсем другим человеком. Дело не только в том, что изменился мой характер, появилось во мне больше самостоятельности, решительности и целеустремленности. Главное — я научилась по-другому смотреть на жизнь, стала больше ценить все, что меня окружало.
Тогда казалось, что с разгромом фашизма кончилась эпоха войн, что теперь весь мир будет жить мирно и спокойно. Вот я, как и большинство моих ровесников, была переполнена ощущением счастья.
Глава 9. У вечного огня
Шли годы. После войны я окончила в Уральске среднюю школу, затем Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина, работала секретарем Фрунзенского РК ВЛКСМ г. Москвы, директором средней школы того же района, потом в городском комитете КПСС.
Я старалась забыть все, связанное с войной. Не любила рассказывать о войне, никому не показывала фотографии военных лет. Сожгла все письма, которые присылала с фронта домой, и те, которые я, уже дома, получила от однополчан. Уничтожила тетрадь со своими стихами, среди которых было много стихов о войне. За все послевоенные годы ни разу не взяла в руки винтовку, хотя, зная мое военное прошлое, мне не раз предлагали участвовать в стрелковых соревнованиях. Меня не понимали, а я не хотела объяснять, что больше не хочу и не могу стрелять, устала от этого. Я постаралась даже забыть наших девчат, вместе с которыми училась в снайперской школе, а потом воевала и которыми я всегда восхищалась.
Однако война не оставляла меня… Она постоянно снилась мне, чаще всего я видела себя в отступлении, в окружении, в плену. Это были очень тяжелые сны, они мучили меня больше тридцати лет.
Наступил 1965 год. Исполнялось двадцать лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Страна готовилась впервые широко, в общегосударственном масштабе отметить поистине великий праздник.
Почему впервые?
И. В. Сталин не дожил до первого юбилейного года, он умер в 1953 году. После его смерти недолгое время во главе государства стояли Г. М. Маленков, Н. А. Булганин, а в 1954 году к власти пришел Н. С. Хрущев, работавший до этого первым секретарем ЦК компартии Украины, секретарем Московского горкома КПСС. Его по-разному оценивали прежде и оценивают сейчас. Я больше согласна с теми, кто считает Хрущева человеком, выбившим первый кирпич в фундаменте страны. Много дров наломал Хрущев и в политике, и в экономике. Он же отменил самый главный и самый любимый народный праздник — День Победы как общегосударственный. Мотивировка была примитивна: нельзя нам, дескать, унижать другие народы постоянным напоминанием об их поражении и нашей Победе. И не дано было ему понять, что таким решением он унизил свой собственный народ, понесший огромные потери ради этой Победы и спасший не только свою страну, но и всю Европу от порабощения. При Хрущеве день 9 Мая снова стал обычным рабочим днем, никаких больших торжественных мероприятий официально не проводилось.
Было больно, обидно… Но все, в том числе и фронтовики, молча проглотили эту пилюлю, смирились. Мы молча терпели все, что делала с нами и тогдашняя и нынешняя власть, мы смирились. В итоге имеем то, что имеем.
Так пытались лишить нас праздника Победы. Но это не помешало народу ежегодно отмечать наш замечательный праздник. Встречались однополчане, в Москву приезжали ветераны со всего Союза. Собирались семьями, ведь война, так или иначе, коснулась каждой семьи, каждого человека. Отмечался праздник и во многих трудовых коллективах, в учебных заведениях. Когда я начала директорствовать в школе, то решила, что ребята должны знать и чтить этот праздник, поэтому мы тоже отмечали его. Все приходили в этот день нарядными, учителя-фронтовики прикрепляли на пиджаки орденские планки.
После смещения Хрущева День Победы снова был объявлен государственным праздником.
И вот 9 мая 1965 года на Красной площади состоялся первый военный парад, посвященный юбилею Победы. Мне посчастливилось присутствовать на этом параде в качестве гостя. Трибуны заполнены народом. На площади выстроены войска. Звучит фанфарный сигнал «Слушайте все!», затем следует приветствие от имени руководства страны, и начинается парад. Впервые после памятного парада 24 июня 1945 года на площадь выносится Знамя Победы, в знаменной группе — Герои Советского Союза М. А. Егоров и М. В. Кантария, водрузившие это Знамя над рейхстагом в Берлине. В торжественном марше проходят воинские соединения, слушатели военных академий, суворовцы и нахимовцы. Затем на площадь вступает новейшая военная техника. Завершает парад сводный духовой оркестр. Руководители партии и правительства покидают трибуну на Мавзолее В. И. Ленина.
Все было торжественно, красиво и впечатляюще. Но и тогда, и сейчас, когда я вспоминаю тот парад, мне кажется, что была в нем какая-то незавершенность, будто чего-то не хватало или что-то важное было упущено. Не знаю, в чем дело, но, вероятно, подобное ощущение возникло не только у меня. Не случайно же после завершения парада люди долго не расходились, продолжали стоять на трибунах, как будто ждали чего-то. Лишь через несколько минут, сначала как-то неуверенно, а потом смелее начали они выходить на площадь, собирались группами, шутили, смеялись, фотографировались. Продолжалось это долго. Как бы то ни было, ощущение праздничности, радости и приподнятости охватило всех…
К юбилею Победы была учреждена памятная медаль. Затем юбилейные медали будут учреждаться в ознаменование тридцатой, сороковой и пятидесятой годовщины Победы. Ими награждались не только ветераны войны, но и те, кто в юбилейный год находился на воинской службе.
…Минуло еще десять лет. То, что произошло в 1975 году, на долгое время затмило для меня все и наполнило жизнь новым содержанием.
В том году подготовка к юбилею Победы началась задолго до праздника и велась очень широко, с большим размахом. Создавались новые фильмы и спектакли на военную тематику; в газетах и журналах регулярно печатались материалы о войне и ее участниках; проводились фестивали, соревнования, конкурсы, конференции, походы по местам боевой славы, уроки мужества, вахты памяти и много-много других мероприятий. По телевидению в течение почти двух месяцев демонстрировался 20-серийный советско-американский документальный фильм «Неизвестная война». Все это создавало определенный настрой в обществе.
И произошло то, от чего я так старательно и трудно уходила все послевоенные годы: я все чаще стала думать о войне, вспоминала учебу в снайперской школе, своих девчат, отдельные эпизоды фронтовой жизни. В памяти всплывали имена моих однополчан и подруг по ЦЖШСП. Вот уже извлечены из чемодана фотографии военных лет, пилотка и погоны. Я часто беру их в руки, рассматриваю. В душе возникало запоздалое раскаяние, что так резко вычеркнула из памяти своих фронтовых друзей. Война все чаще приходила в мои сны, бесконечно снились мне отступление, окружение, страх попасть в плен… Начала нервничать от этих воспоминаний.
Однажды позвонила Светлана Владимировна Гордая, моя однокурсница по педагогическому институту, с которой мы встретились много лет спустя после его окончания и подружились.
— Знаешь, я слышала по радио, что девушки-снайперы где-то встречаются.
— Кто?! Где?!
— Не знаю, в каком-то парке.
— В каком парке? Когда?
— Тоже не знаю. По радио услышала только конец передачи. Больше ничего не знаю.
Узнать! Немедленно узнать! Но как? С чего начать? Куда обратиться? Я не знала, что мне делать. Кого ни спрошу, никто ничего не слышал. Моя подруга Галя Казакова тоже мельком что-то слышала по радио, но тоже ничем не могла мне помочь. Я невероятно расстроилась: была реальная возможность найти кого-то из своих девчат, но не получилось…
Вот ведь как бывает в жизни: столько лет не хотелось даже вспоминать о прошлом, а теперь вдруг охватило непреодолимое желание увидеть хоть кого-нибудь из моего военного прошлого. Я иногда мысленно пыталась представить себе нашу встречу, но никакой фантазии не хватало — настолько нереальным все это казалось.
На всю оставшуюся жизнь запомнился день 20 февраля 1975 года. В тот день, сидя в своем кабинете за рабочим столом, я развернула газету «Комсомольская правда», просмотрела первую страницу, перевернула лист. На второй странице бросилась в глаза статья «Снайпер». Еще ничего не предчувствуя, начала читать. И вдруг… Это же о нашей снайперской школе! О ее выпускницах! Еле дочитала до конца. Оказалось, давно уже действует совет ветеранов школы, бывшие курсантки и командиры почти ежегодно встречаются.
Дрожащими от волнения руками набираю номер телефона редакции, узнаю, как позвонить автору статьи Г. Алимовой. Тут же перезваниваю ей, сбивчиво объясняю, что я тоже из снайперской школы, что из ее статьи узнала о встречах, что мне хотелось бы с кем-нибудь связаться. Она дала мне телефон Н. С. Соловей, председателя совета ветеранов школы. Сразу же позвонила Нине Сергеевне и узнала, что в июне состоится встреча выпускниц нашей школы, посвященная 30-летию Победы. Если на предыдущие встречи приглашались выпускницы лишь первых двух выпусков, то теперь решили собрать всех, кто учился в ЦЖШСП.
Что тут началось! По-моему, все мои друзья, знакомые, сослуживцы, соседи знали, что я нашла своих девчат, что скоро у нас состоится встреча, что приедут из всех союзных республик. Для меня не имело значения, что я еще никого не видела и даже не знала, кто приедет, и приедет ли кто-нибудь вообще из тех, кого я знала и помнила. Важно, что появилась надежда найти девчат. По просьбе председателя совета ветеранов школы я тоже кому-то посылала приглашения, помогала кого-то разыскивать, договаривалась о какой-то экскурсии. И все это время невероятно волновалась. Мое волнение передалось другим. На работе меня постоянно спрашивали: «Ну, как?» О домашних и говорить нечего.
Потом начался отсчет дней, оставшихся до встречи. Накануне того знаменательного дня приготовила мой светлый парадный костюм, на лацкан жакета приколола все мои награды, которые завтра я надену впервые за прошедшие тридцать лет. Вроде бы ничего не забыто. Главное — два носовых платка, на всякий случай… В сумку положила военные фотографии.
И вот наступило 7 июня — день встречи. Встаю рано. С гулко бьющимся сердцем и буквально на подгибающихся от волнения ногах выхожу из дома. Еду автобусом, потом в метро. Замечаю, что люди обращают внимание на мои награды — непривычно их видеть. В автобусе какой-то мужчина почтительно уступил мне место. Станция метро «Измайловская». Выхожу из вагона. На платформе меня ждут С. В. Гордая и ее муж С. А. Путяев, они идут со мной. Сергей Александрович — тоже фронтовик, мальчишкой ушел на войну и всю ее прошел в составе 21-й армии. В тот день он еще не знал, что через год-другой тоже найдет совет ветеранов своей армии, будет так же, как сегодня я, волноваться, когда впервые пойдет на встречу с боевыми друзьями. Он понимал, что значила для меня эта встреча, поэтому взял фотоаппарат, чтобы сделать на память снимки.
По парку идем быстро, почти бежим. Я волнуюсь: «Вдруг опоздаем? Вдруг никого не узнаю, ведь тридцать лет прошло? А вдруг и они меня не узнают, как же мы тогда встретимся? А вдруг вообще никто не приехал?!»
Наконец, выходим к месту сбора, на главную аллею парка и видим, что все уже выстраиваются в колонну. Их, наших выпускниц, очень много, не меньше 350–400 человек. Все нарядные, с боевыми наградами, счастливые и оживленные, все громко говорят, смеются. Это наши! Я разволновалась еще больше: разве в этой сутолоке найдешь кого-нибудь? И вдруг слышу: «Юля, Юля Жукова идет!» Это Ася Молокова первая узнала меня. Смотрю — вот они, мои дорогие девчонки! Постаревшие, изменившиеся, но все-таки они! Бегу к ним. Как ни странно, но я сразу узнаю всех, кто там стоит. Однако от волнения из головы вылетели все имена, которые я старательно восстанавливала в памяти. Достаю из сумки фотокарточки, тычу пальцем: вот ты, а вот ты, а это ты. Имен же назвать не могу. Только потом, когда успокоилась немного, все встало на свои места, вспомнились все имена. А Галя Баранникова после первых объятий и поцелуев сказала своей дочери-пятикласснице, вместе с ней приехавшей на встречу: «Ира, это та самая Юля Жукова, о которой я тебе много рассказывала, чьи письма и стихи мы бережем вот уже тридцать лет». И Ира начинает читать мои стихи, которые я сама уже и не помнила.
Кое-как выстроились по шесть человек в ряд, и колонна во главе с военным оркестром (как в школе!) двинулась к памятнику В. И. Ленину. Возложили цветы. Затем — возложение цветов и минута молчания на площади Победы. Вдруг идущая рядом со мной Аня Верещагина наклоняется ко мне, шепчет: «Юля, сзади идет женщина, лицо ее очень знакомо, но вспомнить не могу». Оборачиваюсь — Маша Дуванова! Бросились друг к другу, обнялись и долго стояли так. А колонна шла и шла, огибая нас с двух сторон. Рядом кто-то захлюпал — это Оля Орлова, тоже бывшая воспитанница Маши, но из предыдущего выпуска. Потом втроем бросились догонять колонну.
В Зеленом театре состоялось торжественное собрание. К нам приехали секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Пастухов, председатель Комитета советских женщин З. Федорова, поэтесса из Ирана, представители воинских частей, в которых служили наши выпускницы, пионеры. Вносится Знамя школы, все встают. Исполняется Гимн Советского Союза. Потом — приветствия, воспоминания. Почтили память погибших. Их было много — девчат, которые не дожили до Победы… Из доклада на этой встрече узнала, что из 1885 выпускниц нашей снайперской школы, попавших на фронт, погибло при выполнении боевого задания более 250 человек. Много, но ведь и профессия у нас была одной из самых опасных.
После окончания торжеств мы долго еще бродили по парку, фотографировались и говорили, говорили, не останавливаясь, будто хотели наверстать упущенное за прошедшие тридцать лет. Жизнь наша сложилась по-разному, но у всех были семьи, работа, жилье. Только сейчас начинаешь понимать, как это прекрасно — иметь все, что нужно для спокойной нормальной жизни. Тогда же это казалось настолько естественным! В общем, на жизнь никто не жаловался. Судьба некоторых меня просто поразила.
В нашем отделении служила Аня Тарасова. Маленькая, худенькая, молчаливая, робкая, всегда безоговорочно подчинявшаяся своей подруге, — такой помню ее по школе. А после войны она весьма успешно работала военруком в мужской школе, удачно вышла замуж и родила шестерых детей. Вот тебе и тихоня!
Удивила, но уже в другом плане, судьба и Маши Логуновой — нашей необыкновенно строгой, но справедливой старшины. На меня она всегда производила впечатление грамотного, образованного человека. Оказалось, что после войны она не сумела продолжить учебу и, не имея профессии, стала работать банщицей. Правда, она тоже не жаловалась на жизнь, была довольна своим мужем и детьми. Я, однако, с трудом узнавала ее. Вместо нашей бравой старшины, перед которой трепетала вся рота, передо мной стояла очень пожилая, скромно одетая женщина. Не сказали бы мне, что это и есть Маша Логунова, ни за что не догадалась бы. А вот она меня узнала, встретились мы очень тепло, как, впрочем, и со всеми остальными и курсантками, и командирами.
На следующий день для участников встречи организовали экскурсии. Нам подали четырнадцать комфортабельных экскурсионных автобусов, разместились все удобно. По установившейся традиции начали с посещения Мавзолея В. И. Ленина и возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Потом долго еще, собравшись группами, мы любовались Красной площадью, вспоминали прошлое, рассказывали о нынешнем житье-бытье. Сережа много фотографировал. Как всегда, по площади бродило много иностранцев, они с нескрываемым любопытством рассматривали нас. Одна очень пожилая женщина подошла, взяла меня за руку и, показав глазами на награды, что-то спросила на своем языке. Не зная, как объяснить ей, я сказала одно слово: «Война». «О!» — вскинула она брови, видимо, поняла. Посмотрев мне в лицо, она еще раз крепко сжала мою руку.
Потом нас повезли в общежитие Высшей комсомольской школы, в котором разместились приехавшие на встречу гости. Это здание было выстроено уже после войны на том месте, где прежде размещались первые снайперские курсы, ставшие базой для создания нашей школы. Где-то рядом проходят улицы Снайперская, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
После обеда разбрелись по разным комнатам, все своими компаниями. Наше отделение во главе с Машей Дувановой уютно расположилось в одной из комнат. И опять разговорам не было конца, чаще всего слышалось: «А помните?» Вдруг резко распахнулась дверь, и не вошла, а буквально влетела зареванная Миля Догадкина. Получилось так, что в огромной массе людей, приехавших на встречу, мы не увидели друг друга, а теперь она совершенно случайно узнала о приезде на встречу такой большой группы девчат из отделения и очень расстроилась, что не сразу с нами встретилась, что потеряла целый день. Еле успокоили ее.
Потом мы снова где-то бродили. Будто боясь, что можем снова потерять друг друга, постоянно ходили вместе и в буквальном смысле слова держались за руки…
Встреча продолжалась три дня, для ее участников были организованы экскурсии по Москве, посещения лучших музеев и театров.
Все эти дни я ходила сама не своя. Возвращалась домой в страшном возбуждении. Переполненная впечатлениями, я беспрерывно что-то рассказывала, не давая другим возможности хоть слово вставить. Спала плохо.
И вот прощальный обед. Приехали немного раньше назначенного времени и собрались в соседнем сквере. Мы стояли, разговаривали, когда к нашей группе подошла женщина, спросила, кто мы и ради чего собрались здесь. Объяснили. Тогда она буквально со слезами на глазах сказала: «У меня есть дочь. От нее и от себя скажу вам: большое спасибо, что вы защитили нас, за все, что для нас сделали». Мы, конечно, тоже прослезились.
Мне еще не раз доведется встретиться с проявлениями уважения к нашему боевому прошлому. Однажды, когда я направлялась на какое-то праздничное мероприятие при всех моих регалиях, подошел мужчина и попросил разрешения поцеловать мою руку. «За ваш подвиг», — сказал он. В другой раз подошла очень пожилая женщина, низко поклонилась мне. Я не могла пройти, не поговорив с ней. Оказалось, у нее на войне погиб муж, и она осталась совсем одна. Бывало, что на улице дарили цветы совсем незнакомые люди. Я понимала, что так они выражали уважение не мне лично, а в моем лице — всем фронтовикам.
На работе я никогда не рассказывала о своих фронтовых делах, поэтому ни мои сослуживцы, ни тем более коллеги из других отделов почти ничего не знали о моем боевом прошлом. И когда в том же 1975 году на торжественном собрании коллектива докладчик немного рассказал обо мне, все удивились, а на следующий день на работе ни один не прошел мимо, не выразив мне своего уважения.
Но позднее бывало и другое. Помню, как-то возвращалась я с праздничного парада на Красной площади, на жакете — награды. И вот иду я по улице, а навстречу — молодая миловидная девушка. Посмотрела она на мои награды и зло процедила: «Нацепила…» Мне было горько, но я растерялась и не нашлась, что и как ей ответить. В тот день я шла к моему товарищу, фронтовику Васе Рябцеву, у которого по традиции собирались его боевые друзья. Один из них, боевой летчик, удостоенный многих очень высоких наград, вместо орденов и медалей, с которыми я всегда видела его, в этот раз прикрепил к пиджаку орденские планки. Увидев, что все остальные при орденах, он пытался что-то объяснить. «Чего вы-то испугались?» — спросила я его. Он промолчал. В то время в стране уже шла перестройка, и «реформаторы» торопились переписать историю, низвергнуть прежние авторитеты и прежних героев. Не все смогли тогда устоять. Даже этот храбрый летчик.
Но это будет не скоро. А тогда, в 1975 году, еще никто не знал, что придут такие времена, когда ветераны войны будут подвергаться оскорблениям и перестанут носить боевые награды.
…В последний день нашей встречи мы собрались на прощальный обед в огромном зале. Прекрасно накрытые столы, вкусный обед, напитки на любой вкус. Наша компания дружно проголосовала за то, чтобы бутылки с горячительными напитками обменять на воду и квас. В зале стоял невероятный шум. За каждым столом вспоминали и обсуждали свое, пели тоже свое. Потом всем залом грохнули самую популярную в школе песню «Грезы». Песня непритязательная, но мы любили ее, пели и на марше, и на отдыхе.
Есть одна любимая песня у соловушки, Песня задушевная о моей головушке. Грезы мои грезы, грезы, словно сказки, Пролетает молодость без любви и ласки. Что случилось, сделалось, сам не понимаю я, В ночь подушку мокрую к сердцу прижимаю я. Под окном гармония и сиянье месяца. Только знай, любимая, Нам с тобой не встретиться…Хор почти из четырехсот голосов звучал мощно!
После ужина шли пешком до метро и пели наши любимые школьные песни. Прощались в метро. Долго не могли расстаться. Девчата разъезжались. Обменялись адресами, обещали теперь уж не теряться, писать друг другу. Всплакнули, конечно. Мне кажется, в эти дни я видела столько женских слез, сколько не довелось увидеть за все полтора года службы в армии.
А через две недели позвонил Сережа и сказал, что напечатал для моих друзей почти 250 фотографий. Вот это да! Как быстро! Оказалось, Сережу так взволновала наша встреча, что ему захотелось быстрее доставить всем радость. Потом я с огромным удовольствием раскладывала эти фотографии в большие конверты и рассылала их по всему Союзу — от Ленинграда до Владивостока. Как же были счастливы девчата!
Сейчас смотрю на эти фотографии и заново переживаю ту нашу встречу, первую после тридцати лет неизвестности. Подумать только: чтобы увидеться со своими боевыми друзьями, люди, все уже немолодые, приезжали в столицу издалека. Ехали с детьми, мужьями, родственниками. Ехали со всех концов Советского Союза, из разных союзных республик. Только наше отделение — это Алма-Ата, Фрунзе, Чита, Павлодар, Новосибирск, Владивосток, Ярославль, Куйбышев, Калинин, Кустанай. Сейчас многих из этих городов уже нет на карте, вернее, города-то остались, но переименованы, а некоторые стали для нас ближним зарубежьем.
Особо хочу сказать, что в организации всех встреч выпускниц ЦЖШСП самое активное участие принимал ЦК ВЛКСМ. Ведь наша школа — это детище комсомола, и руководители ЦК не забывали это. На местах же ветеранам помогали общественные организации, они даже деньги выделяли на поездки, предоставляли дополнительные отпуска.
Шли годы. Мы еще много раз встречались. В 1978 году на встрече, посвященной 35-летию со дня образования ЦЖШСП, было свыше 500 гостей. Вместе с 376 выпускницами школы приехали 120 человек их родственников и 75 детей и внуков. Пишу так уверенно, потому что во время встречи я записывала в блокноте все, что казалось мне важным и интересным. Эти цифры и взяты из того блокнота.
Впоследствии девчата бывали в нашем доме, их всегда встречали тепло и приветливо. В один из приездов Маши Дувановой мы с ней побывали на родной для нас станции Силикатная. После войны помещение ЦЖШСП было возвращено местному силикатному заводу под клуб. На здании — мемориальная доска. В одной из комнат (нам с Машей показалось, что именно в той, где размещалось наше отделение) открыли выставку, посвященную снайперской школе. Походили, посмотрели, повспоминали, попереживали. Там совершенно случайно встретились с парторгом одного из цехов завода. Оказалось, его старшая сестра дружила с одной из курсанток нашей школы, много рассказывала ему о нас. Он помнил все и очень тепло отнесся к нам, провел нас по зданию, где раньше мы жили, подробно рассказал о работе завода и клуба.
В другой раз повела я Машу в Центральный музей Вооруженных Сил СССР. Там меня ожидал сюрприз: в одном из залов я увидела Знамя нашего 611-го полка. Я так разволновалась, что мне захотелось, как в прежние времена, преклонить перед ним колено. Но кругом ходили посетители, поэтому я просто молча постояла рядом. Это мое чувство может понять только тот, кто прошел армию, войну, кто присягал перед Знаменем, кто искренне верил в дело, которое он защищал.
Я очень дорожила нашими встречами, всегда с нетерпением ждала их, а потом еще долго вспоминала, кто приезжал, о чем говорили, где были, что видели. Каждая такая встреча как бы перекидывала мостик в нашу боевую юность, больше всего мы говорили о том времени, пели те песни. И каждый раз испытывали огромное счастье, что выжили, дожили, увиделись. Мы все стали почти родными.
Регулярно встречалась я и с моими друзьями из 31-й армии, 88-й дивизии, в составе которых пришлось воевать. Помню, на одну из армейских встреч прибыли почти 1200 человек. Кто-то приехал с мужьями и женами, детьми и внуками. Всех гостей разместили в одной из самых комфортабельных и престижных гостиниц — в «России». Там они и жили, и питались. Все это было тогда доступно даже пенсионерам.
О том, насколько дорожили ветераны фронтовым братством, свидетельствует такой случай. Во время одной из армейских встреч к нам присоединился инвалид, приехавший издалека. Он был без одной ноги и передвигался на костылях. Рассказал, что после контузии потерял память, все позабыл и не помнил даже, в какой части служил. Услышал по радио о встрече ветеранов 31-й армии, почему-то решил, что именно в ней и воевал. Собрался и поехал. После длительных расспросов выяснилось, что воевал он совсем на другом фронте. Солдат расстроился, а потом попросил: «Можно мне к вам на встречи приезжать, если уж своих найти не могу?»
После встречи в 1975 году мы уже не теряли друг друга, регулярно переписывались, к каждому празднику я писала по тридцать-сорок писем и открыток, столько же получала. Даже почтальонша сказала однажды, что такой корреспонденции, как у меня, нет ни у кого в нашем доме. Весточки друзей всегда доставляли мне радость. Но я по-прежнему находилась в плену безумной страсти к уничтожению бумаг, в результате из многих сотен полученных мной писем не сохранилось ни одного. Теперь, в который уже раз, казню себя: ведь это были не просто письма, это то, что могло остаться от уходящего из жизни поколения как документальная летопись, рассказывающая о людях войны, их жизни, мыслях и чувствах. А теперь почти никто уже и не пишет: дорого, настроение тяжелое, болезни одолели.
…В те годы все, казалось, складывалось хорошо. Изменилось отношение к ветеранам войны. Их почитали, поддерживали, привлекали к патриотическому воспитанию молодежи. В учебных заведениях, на предприятиях создавались музеи и уголки боевой славы, стали традиционными встречи с участниками войны, уроки мужества, походы по местам боев, вахты памяти.
А потом все рухнуло…
Сейчас тиражируется много домыслов и фальшивок о войне 1941–1945 годов. Читая и слушая все эти выдумки, я поражаюсь безнравственности и беспринципности их авторов. Да, возможно, руководством страны в те годы были допущены крупные просчеты и ошибки. Возможно, цена Победы оказалась слишком высокой, хотя и не все исследователи согласны с подобной оценкой. Но ведь весь мир признал нашу Победу; весь мир восхищался подвигом советского народа, спасшего человечество от фашизма; весь мир отдавал должное И. В. Сталину как выдающейся личности своего времени. Зачем же нам самим-то принижать роль СССР, многонационального советского народа в разгроме немецкого фашизма? Для чего придумывать все новые и новые небылицы о бездарности советских военачальников и безнравственности наших солдат, унижая тем самым ветеранов войны? Что побуждает ученых, писателей и всех, интересующихся проблемами войны 1941–1945 годов, искусственно завышать потери Красной армии в той войне?
Я убеждена, что Великая Отечественная война для миллионов наших граждан — тема святая и до сих пор кровоточащая, ибо она коснулась почти каждой семьи. Могу судить об этом по себе и своим друзьям, их родственникам. Поэтому надо бы более бережно относиться ко всему, что связано с той войной. Однако все годы перестройки активно ведется работа по переоценке итогов войны, причем нередко используются нечестные приемы и прямые подтасовки.
Одна из любимых тем фальсификаторов истории — это наши потери в прошедшей войне. Порой «исследователи» называют такие цифры погибших, которые вообще превышают количество принимавших участие в боях за все четыре года войны. Между тем комиссия, в которую входили ученые, независимые военные историки и эксперты, кропотливо изучив соответствующие документы, в том числе и архивные материалы, сделала вывод, что в войне 1941–1945 годов наши безвозвратные потери среди военнослужащих (убитые, умершие от ран и болезней, пропавшие без вести, не вернувшиеся из плена) составили 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. Это ненамного превышает потери противника (немцев, а также воевавших на нашей земле их сателлитов — итальянцев, румын, венгров, финнов, испанцев и др.). Данные исследований опубликованы и доступны всем. Однако истерия по поводу наших непомерно больших потерь не прекращается.
Известно и другое: немцы вели войну не просто на победу, а на уничтожение всего, что было на нашей земле: людей, в том числе и гражданского населения, экономики, культуры. Достаточно напомнить, что потери среди гражданского населения в два раза превысили наши потери среди военных, считается, что они составили около 19 миллионов человек. Вина за это в первую очередь — на фашистах. Так что не следует, на мой взгляд, размахивать голыми цифрами потерь, унижая страну и ее армию.
Есть и другие «открытия». Например, кое-кто утверждает, что руководство Советского Союза, стремясь к мировому господству, планировало первым напасть на Германию, затем завоевать другие европейские страны. Однако Германия якобы опередила нас буквально на две-три недели и первая напала на нашу страну. Военные историки публиковали опровержения, приводили доказательства неверности этой версии. Не помогает. И не поможет, ибо каждый видит то, что он хочет видеть.
Существует на этот счет и другая, менее популярная версия, согласно которой И. В. Сталин, опасаясь, что при дальнейшем расширении империи он не сумеет удержать власть в своих руках, сознательно спровоцировал нападение Германии на Советский Союз.
Несмотря на противоречие этих двух изысков, оба благополучно «гуляют». Но очень редко, насколько мне известно, в средствах массовой информации публикуется еще одно мнение, автор которого считает, что, если бы в то время, когда добрая половина Европы была оккупирована фашистами, Советский Союз первым напал на Германию, мир приветствовал бы эту акцию, а человечество понесло бы значительно меньшие потери. Но этого не произошло, наша страна не выступила первой. Этого и не могло произойти, потому что, как теперь широко стало известно, СССР не был готов к войне в силу целого ряда объективных и субъективных причин. Так о каком же опережающем нападении нашей страны на Германию можно говорить?
О нас, прошедших войну, очень часто говорят как о потерянном поколении, о том, что большинство представителей этого поколения не нашли достойного места в жизни, оказались как бы отторгнутыми обществом. Да, среди вчерашних фронтовиков было немало таких, которые не смогли в полной мере адаптироваться к новым условиям и устроить свою жизнь так, как хотелось бы. Но нельзя возводить это в общее явление. Большинство ветеранов, вернувшихся домой, сразу же активно включались в работу, в учебу, создавали семьи. Нередко именно они, вчерашние фронтовики, направлялись на наиболее трудные участки работы, возглавляли общественные организации. Государство заботилось о них, поддерживало, поощряло, предоставляло льготы. В обществе к фронтовикам сложилось уважительное отношение.
Все это знаю не по книгам, а по себе, по моим фронтовым друзьям и знакомым, которых у меня не один десяток. Нельзя не упомянуть и о том, что немало фронтовиков было среди самых уважаемых и почитаемых в обществе людей. Это — трижды Герои Советского Союза, легендарные летчики А. Покрышкин и И. Кожедуб; Герой Советского Союза снайпер Л. Павличенко; популярные писатели К. Симонов и Б. Полевой, поэты Ю. Друнина и А. Твардовский, создавшие потрясающей силы произведения о войне; любимые народом артисты И. Смоктуновский и Ю. Никулин; космонавты Г. Береговой и А. Феоктистов, чьи имена были широко известны в стране. И они, и сотни, тысячи других замечательных людей заслуженно пользовались любовью и уважением своих соотечественников. Были участники войны и среди высшего руководства страны. Так о каком же потерянном поколении и ради чего ведутся подобные разговоры? Уж не ради ли того, чтобы еще раз унизить старшее поколение и лишить ветеранов войны ореола защитников Отечества, героического поколения Победителей?
Вот с началом реформ ветераны действительно плохо почувствовали себя в обществе.
Мы с болью смотрели, как при попустительстве властей широко развернулась торговля советскими орденами и медалями, боевыми знаменами, генеральской и офицерской формой. Торговали открыто и везде: в магазинах, палатках, на рынках, в подземных переходах, прямо на улицах. Торговали молодые люди, мальчишки, спекулируя святынями своих отцов и дедов…
Ветераны перестали носить боевые награды — одни теперь стеснялись, другие боялись. Да, и боялись. Были же случаи, когда ветеранов оскорбляли и даже избивали, отбирали награды, чтобы потом продать их.
В это же время в школах громили, именно громили, музеи боевой славы. При этом уничтожались десятки тысяч ценнейших экспонатов — подлинные документы, письма, фотографии и личные вещи ветеранов. Осквернялись братские могилы, памятники советским воинам. 23 февраля 1992 года несколько сотен бывших военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан Москвы собрались, чтобы почтить память погибших воинов и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Колонна двигалась по Тверской улице. Но путь преградили омоновцы. Они били ни в чем не повинных людей дубинками и не пропустили их к святому месту. Лишь к вечеру несколько человек, самых стойких и настойчивых, пробились в Александровский сад и все-таки возложили цветы к памятнику.
1 мая 1993 года на улицах Москвы пролилась кровь ветеранов. В тот день была устроена расправа с участниками праздничной демонстрации. Тогда пострадало около 150 ветеранов, а один боевой генерал, прошедший всю войну, умер прямо на улице: он не перенес унижения, когда молоденький омоновец нанес ему оскорбление и толкнул.
Мне не забыть рассказа одной девушки, оказавшейся свидетельницей тех событий. Ей в тот год исполнилось 8 лет. Вместе с бабушкой и дедушкой она пошла на демонстрацию, отметить праздник. На ее глазах и разворачивалось кровавое действие. Девочка пережила сильнейшее потрясение, когда увидела, как кровь из разбитой головы ветерана капала на его боевые награды…
Потом началась кампания, призванная развенчать участников войны, погибших в боях и ставших национальными героями…
И вот еще одна попытка унизить нас. В последние годы ряд региональных руководителей настойчиво продвигает идею: во имя примирения народов России и Германии провести перезахоронение останков советских воинов и немецких солдат в общие братские могилы. Это значит, что мы должны будем одинаково почитать тех, кто защищал свою Отчизну, и тех, кто пришел к нам, чтобы поработить наши народы, кто зверствовал, издевался, вешал, расстреливал, насиловал, жег, уничтожал. Германия готова и деньги выделить на эти цели.
У меня нет ненависти к немецкому народу. Но я ненавижу тех, кто зверствовал на нашей земле, не могу и не хочу воздавать почести убийцам и насильникам, у меня рука не поднимется, чтобы возложить цветы на могилу с останками погибших гитлеровских солдат.
Для старшего поколения все происходящее сегодня очень тяжело, многие не выдерживают. Я уже писала о гибели Юлии Друниной. Добровольно ушел из жизни и замечательный писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев. Он, как и многие другие представители творческой интеллигенции, с воодушевлением приветствовал начавшуюся в стране перестройку. Потом в одном из интервью Кондратьев с недоумением и болью пытался осмыслить, что происходит, зачем ломают страну и народ. Переживал и в конце концов не выдержал. В газетах писали, что один из защитников Брестской крепости приехал издалека в город, где он сражался, и в знак протеста против политики нынешнего режима и унизительного положения, в которое власть поставила ветеранов, бросился под поезд.
К сожалению, подобных фактов немало. Не думаю, что это лучшая форма протеста, но люди сами делают свой выбор…
А каково в этой ситуации молодежи? Ей вообще трудно разобраться. Мне рассказывал летчик, Герой Советского Союза, что во время встречи со старшеклассниками одной из московских школ ему задали вопрос: «А надо ли было так надрываться в той войне, проявлять массовый героизм? Не лучше ли было сдаться немцам? Глядишь, сегодня жили бы, как они». Этот факт свидетельствует о том, что в жизнь вступает поколение молодых людей, многие из которых не имеют ни малейшего представления о прошедшей войне, о стремлении гитлеровского фашизма уничтожить Советский Союз, поработить его народы.
Возвращаясь мыслями к тем далеким событиям, я каждый раз удивляюсь: как же мы сумели все это выдержать, преодолеть и не только выстоять, но и победить?
Мне кажется, что не выстояли бы мы, не обладай наш народ такой могучей силой духа и невиданной волей к победе. Подумать только: немцы стоят у самой Москвы, готовятся к параду на Красной площади, а основная масса советских людей все равно верит, что одолеем мы фашистов, и делает все возможное, а порой и невозможное, для фронта, для победы. Когда И. В. Сталин в первые дни войны сказал ставшие историческими слова: «Враг будет разбит, победа будет за нами!» — он тем самым выразил общую уверенность в победе и, как мне кажется, свою уверенность в народе.
Тогда на защиту Отечества поднялись буквально все, от детей до стариков. Вспоминается замечательный советский фильм о великом грузинском полководце Георгии Саакадзе. Есть там потрясающий эпизод. Саакадзе старался доступно объяснить своим малолетним сыновьям, что сила Грузии — в единении. Дал он каждому из них по прутику: «Ломай!» Сломали. Потом связал прутья в пучки: «Ломай!» Не получилось. Так наглядно показал Г. Саакадзе сыновьям, что, если все будут действовать воедино, Грузию не победить.
Вот и в нашей стране в те страшные годы объединились в своей вере, надежде и стремлении к победе все населявшие ее народы: русские и татары, украинцы и узбеки, белорусы и казахи, грузины и киргизы, люди всех национальностей. В своей любви к Родине мы были едины. Конечно, и тогда хватало недовольных Советской властью, но в опасный для страны момент патриотические настроения были сильнее. Ведь не выдумка, а истинная правда, что, когда началась война, многие люди, пострадавшие от Советской власти и даже находившиеся в тюремном заключении, просились добровольцами на фронт. И шли, воевали, совершали подвиги, получали награды. Показательна в этом отношении беседа, о которой рассказывает в своей книге Г. Гудериан, один из крупнейших военачальников Германии. В 1942 году, когда до нашей победы было еще очень далеко, в одном из городов ему довелось встретиться и разговаривать с бывшим царским генералом. Он был поражен услышанным от этого генерала: «Если бы вы пришли двадцать лет назад, мы встретили бы вас с большим воодушевлением. Теперь же слишком поздно. Мы как раз теперь стали оживать… Теперь мы боремся за Россию, и в этом мы едины». Так вчерашний противник Советской власти точно передал самочувствие народа в грозные годы войны.
…Годы идут. Один за другим уходят из жизни мои друзья-однополчане. С одной стороны, это естественно: возраст, болезни, ранения. И все-таки думается, что, если бы по-другому складывалась их жизнь в последние годы, могли бы они еще побыть на этом свете.
Нас становится все меньше и меньше. Уходят ветераны, а с ними и война… Трудно представить, что наступит день, когда не останется ни одного ветерана Великой Отечественной. Но такой день неизбежно придет.
Когда последний фронтовик Глаза сомкнет совсем, Наверно, в этот самый миг Нам плохо станет всем. Пронзит неведомый недуг Российские сердца, И потемнеет все вокруг — От солнца до крыльца. Нас зазнобит не по поре, В жар бросит неживой. И клен у мамы во дворе Поникнет вдруг листвой… (Из стихотворения Н. Березовского «Последний фронтовик».)Уйдут из жизни фронтовики, и Великая Отечественная война для новых поколений станет просто Историей. Но какой предстанет она перед будущими поколениями? Будут ли наши потомки помнить, что сделал советский народ для всего человечества? Будут ли гордиться подвигами старших поколений, своих отцов и дедов?
Пусть и мои заметки напоминают о событиях войны 1941–1945 годов и о людях, которые защитили тогда страну. Мне особенно хочется, чтобы помнили и поклонились моим дорогим девчонкам, с которыми я прошла нелегкими дорогами войны. Не хочу делить их на тех, кто погиб или умер после войны, и тех, кто пока еще жив. Они все со мной, все в моем сердце, все живые.
Вот их имена:
Аня Баранникова — г. Алма-Ата.
Аня Верещагина — г. Алма-Ата.
Галя Лепешкина — г. Чита.
Катя Шейко — Кустанайская область.
Аня Тарасова — Талды-Курганская область.
Ася Молокова — г. Павлодар.
Маша Хелемендик — г. Владивосток.
Лиза Лаконцева — г. Куйбышев.
Роза Егорова — г. Джезказган.
Миля Догадкина — г. Балабаново.
Ира Чекмарева — г. Ленинград.
Нина Котельникова — г. Калинин.
Маша Жабко — г. Павлодар.
Маша Торгова — не знаю.
Дуся Погребная — г. Львов.
Валя Шилова — г. Уральск.
Роза Возина — г. Уральск.
Надя Большакова — г. Новосибирск.
Дуся Филиппова — не знаю.
Вера Самарина — не знаю.
Люба Ружицкая — не знаю.
Саша Хайдукова — не знаю.
Надя Исакова — не знаю.
Еще один совсем маленький список. Это мои командиры в ЦЖШСП, которым не довелось воевать, но которые учили нас воинскому мастерству и делили с нами все тяготы жизни в военной школе. Кто знает, сколько из нас остались живыми благодаря им? Я помню и люблю их.
Сержант Маша Дуванова — г. Фрунзе.
Старший сержант Тоня Скворцова — г. Ярославль.
Старшина Маша Логунова — г. Челябинск.
Младший лейтенант Ирина Папихина — не знаю.
Не могу не вспомнить еще раз и моих верных рыцарей. Откуда они родом, не знаю.
Старшина Вася Столбов.
Ефрейтор Леша Попов.
Ефрейтор Петя Чирков.
Я назвала здесь только самых близких и дорогих людей, с которыми свела меня война.
О погибших боевых товарищах два года назад я написала такие строки. Да простит мне читатель их литературное несовершенство.
Победный день. Гудит Москва. Прошла гроза. Кругом большие лужи. А я стою у Вечного огня. Одна. И мне никто не нужен. Я вижу, как сквозь пламя, строем Идут мои погибшие друзья, Они идут, уставшие от боя, С тех давних пор до нынешнего дня. Они молчат. Лишь в скорбных лицах их Мне видятся печаль, и гнев, и боль, Упреки тем, кто предал мертвых и живых, Кто проиграл последний бой. Склонила голову. Шепчу: «Простите…» Я вижу всех живыми. Вновь и вновь Все повторяю: «Если можете, простите». А розы алые на камне — будто кровь. Они ушли. Опять стою одна. Но вижу я, как с пламенем огня Сплетаются друзей моих горящие сердца. Сплетаются навеки, навсегда, до самого конца.…Не женское это дело — воевать. Но так получилось, что им наравне с мужчинами пришлось сполна хлебнуть солдатского лиха. Несколько лет тому назад я прочитала в какой-то газете, что в качестве военнослужащих и вольнонаемных в войне участвовали свыше 800 тысяч женщин. Тяжело было всем: и пехоте вроде нас, и тем, кто летал на самолетах, сидел в танках, обеспечивал связь во время боя; и тем, кто в дождь и в пургу, в летний зной и зимнюю стужу стоял под обстрелом на перекрестках дорог и регулировал движение; и тем, кто выносил раненых с поля боя, сутками стоял у операционных столов, спасая солдатам и офицерам жизнь, возвращая им здоровье; и тем, кто в составе банно-прачечных отрядов ежедневно перестирывал тонны грязного, потного, окровавленного солдатского белья.
Мне запали в память слова одного литературного героя, генерала, который рассуждал примерно так: «Ты из пехоты — получай орден». Я бы поступила так: если женщина была на фронте, участвовала в боях — получай особый орден за мужество, выносливость, терпение. Безусловно, всем было трудно на войне, но женщинам — тяжелее всех. Ведь для большинства женщин стрельба, бомбежки, смерть, кровь, человеческие страдания сами по себе невыносимы. Но еще тяжелее, пожалуй, переносились физические и психологические перегрузки, грязный окопный быт. И поплакаться некому было. Не будешь же слезы лить перед теми, кто переносит такие же лишения и трудности. Да и мужское общество, в котором пребывали мы постоянно, и днем и ночью, не очень-то располагало к жалобам и излияниям. Не могу не сказать, что и само мужское окружение тоже порой добавляло трудностей.
И еще хочу сказать. Видеть, как гибнут люди, — всегда тяжело. Но когда гибнут женщины, которым самим Богом предначертано не воевать, не гибнуть на полях сражений, а создавать и оберегать семьи, рожать и воспитывать детей, — это еще тяжелее. А они гибли.
Я одна из тех 800 тысяч женщин, что разделили с мужчинами все трудности и ужасы войны. Как и всем остальным, мне пришлось нелегко. Я очень хотела забыть войну, я делала для этого все. Порой мне казалось, что война наконец ушла из моей жизни. Но это был самообман, я никого и ничего не забыла. Иначе не снились бы мне в течение долгих тридцати лет жуткие сны о войне, не смогла бы я сегодня написать так много и подробно о моей фронтовой жизни и о моих фронтовых друзьях. Просто я очень старательно загоняла мысли о войне куда-то вглубь, там они и дремали, порой прорываясь наружу, тревожа и волнуя меня.
И вот пришло время рассказать о том времени. Это тоже оказалось непросто. Война снова захватила меня. Я опять волновалась и переживала, вспоминая тот период моей жизни, который я считаю для себя самым важным и значительным.
Этот период закончился 6 августа 1945 года, когда я вернулась домой, в мой родной Уральск, и начала отсчет нового времени.
Совсем недавно перечитала стихи Юлии Друниной. Они снова потрясли меня не только своей правдивостью и удивительной искренностью, но и полным совпадением с моими чувствами и ощущениями, взглядами на войну…
На полыни водку настояла, Позвала товарищей — солдат. Нас осталось мало, очень мало. А года ракетами летят. Мы счастливые, конечно, люди! Встретили победную зарю! Думаю об этом как о чуде… Сотни раз судьбу благодарю… Ну а те, кто не дошел до мая, Кто упал, поднявшись в полный рост? Первый тост за павших поднимаю, И за них же наш последний тост. Сдвинем руки, плечи тоже сдвинем, Пусть руки касается рука. Как горька ты, водка на полыни, Как своею горечью сладка!Приложение
Выпускницы ЦЖШСП, награжденные орденами Славы 2-й и 3-й степени:[1]
Артамонова (Даниловцева) Вера Ивановна — 3-я ударная армия
Быкова Ольга Николаевна — 3-я ударная армия
Болтаева (Вяткина) Антонина Никитична — 3-я ударная армия
Благова (Загрядская) Раиса Васильевна — 3-я ударная армия
Бордашевская (Кисе) Ольга Федоровна — 2-й Белорусский фронт, 204-я стрелковая дивизия
Белоброва (Миронова) Нина Павловна — 3-я ударная армия
Вострухина Анна Ефимовна — 3-я ударная армия
Виноградова (Михайлова) Александра Евгеньевна — 3-я ударная армия
Голиевская (Велеткевич) Ия Ильинична — 3-я ударная армия
Зубченко (Соловьева) Мария Георгиевна — 3-я ударная армия
Катаева (Бондаренко) Мария Дмитриевна — 5-я армия, 430-й стрелковый полк
Лещева (Жирова) Лидия Николаевна — 2-й Белорусский фронт, 204-я стрелковая дивизия, 730-й стрелковый полк
Макарова Любовь Михайловна — 3-я ударная армия
Шанина Роза Егоровна — 5-я армия
Якушева (Марьенкина) Ольга Сергеевна — 3-я ударная армия
Орденом Славы 3-й степени:
Авраменко (Шарапова) Роза Анатольевна — 3-я ударная армия
Агапова (Нефедова) Вера Васильевна — 2-я гвардейская армия
Андерман Лидия Яковлевна — 31-я армия
Альберт Мария Семеновна — 33-я армия
Алпатова Ольга Петровна — 4-я ударная армия
Белоусова Юлия Петровна — 3-я ударная армия
Бакланова (Юрьева) Антонина Макаровна — 31-я армия
Бардина (Шустова) Клавдия Николаевна — 3-я ударная армия
Богданова (Ермакова) Елизавета Павловна — 1-й Белорусский фронт
Вельская (Лукашева) Александра Михайловна — 31-я армия
Белоусова (Шевцова) Марина Федоровна — Ленинградский фронт, 125-я стрелковая дивизия
Буйнова (Симонова) Мария Михайловна — 183-я стрелковая дивизия
Беспалова (Гладышева) Зоя Ивановна — 2-я армия
Буткова (Попова) Валентина Ивановна — 52-я гвардейская стрелковая дивизия
Вдовина (Боженова) Лидия Георгиевна — 5-я армия
Власова (Тимофеева) Клавдия Васильевна — 1-я ударная армия
Виноградова (Кононова) Нинель Павловна — 47-я армия
Ватолина (Филимонова) Зинаида Владимировна — 3-я ударная армия, 33-я стрелковая дивизия
Вершинина (Акулова) Елена Николаевна — 31-я армия
Васина (Анашкина) Серафима Григорьевна — 5-я армия
Видина Антонина Сергеевна — 31-я армия
Горобец (Васильева) Мария Григорьевна — 4-й Украинский фронт
Гаранина (Фролова) Зинаида Федоровна — 14-я армия, 45-я стрелковая дивизия
Гладышева (Беспалова) Зоя Ивановна — 2-я армия
Гудованцева Лидия Семеновна — 1-я ударная армия, 23-я стрелковая дивизия
Демина (Исаева) Нина Петровна — 31-я армия, 174-я стрелковая дивизия
Дианова (Краснобородова) Евдокия Федоровна — 5-я армия
Дмитриева Антонина Николаевна — 27-я армия, 143-я стрелковая дивизия
Дармарос (Глебова) Тамара Герасимовна — 10-я гвардейская армия
Добрынина (Озерова) Анна Петровна — 48-я армия
Жаркова Людмила Андреевна — 3-я ударная армия
Жалнина Вера Алексеевна — 3-я ударная армия
Железникова (Рожкова) Анна Ивановна — 31-я армия
Журавлева (Иванова) Нина Алексеевна — 10-я гвардейская армия
Запарова Вера Яковлевна — 31-я армия, 54-я стрелковая дивизия
Ермошкина (Кузовкова) Вера Ивановна — 17-я стрелковая дивизия
Иванова (Меркулова) Валентина Афанасьевна — 10-я армия
Иглина (Сачкова) Клавдия Михайловна — Ленинградский фронт
Ильина (Сысоева) Клавдия Ивановна — 4-й Украинский фронт
Кольцова (Гричишкина) Мария Степановна — 31-я армия
Клеткина (Гольдфельд) Елена Шлемовна — 3-я ударная армия
Казакевич (Гусева) Нина Кузьминична — 34-я армия, 182-я стрелковая дивизия
Короткова (Пичугина) Зоя Дмитриевна — 2-я гвардейская армия
Кашина (Шмелева) Зинаида Михайловна — 5-я армия
Караваева (Кузнецова) Антонина Николаевна — 192-я стрелковая дивизия
Котлярова (Захарова) Антонина Александровна — 47-я армия
Кузьмина Екатерина Ивановна — 31-я армия, 173-я стрелковая дивизия
Коломыцева (Каскова) Ольга Васильевна — 31-я армия
Косая (Медынская) Елена Павловна — 47-я армия
Краснова Сусанна Андреевна — 31-я армия, 173-я стрелковая дивизия
Крохалева Антонина Ефимовна — 5-я армия, 159-я стрелковая дивизия
Кравченко (Смирнова) Елена Ивановна — 31-я армия
Кошельник (Мозярова) Нина Сергеевна — 47-я армия
Кузмина (Подольская) Анна Яковлевна — 31-я армия
Князева (Изместьева) Ирина Дмитриевна — 4-й Украинский фронт
Кожехметова (Галиева) Мария Васильевна — 3-я ударная армия
Кулешова Мария Кузьминична — 31-я армия
Казанцева (Жукова) Мария Иннокентьевна — 8-я армия
Карпенко Антонина Ивановна — 51-я армия, 204-я стрелковая дивизия
Кузнецова (Печешева) Наталья Яковлевна — 31-я армия
Кувшинова Мария Григорьевна — 315-я и 173-я стрелковые дивизии
Лобковская Нина Алексеевна — 3-я ударная армия
Ларионова (Тимашова) Екатерина Петровна — 3-й Белорусский фронт
Лашукова (Бакулева) Александра Михайловна — 3-я ударная армия
Лащук (Храковская) Белла Семеновна — 3-й Белорусский фронт
Мухаметова Фатыма Николаевна — 3-я ударная армия
Маркина Наталья Андреевна — 8-я армия, Ленинградский фронт
Мочалова Ольга Алексеевна — 47-я армия
Морозова (Ивушкина) Мария Ивановна — 31-я армия
Можаровская (Новикова) Ева Андреевна — 5-я армия
Михайлова Полина Ивановна — 33-я стрелковая дивизия
Медведева (Назаркина) Александра Петровна — 31-я армия, 174-я стрелковая дивизия
Назарова (Жибовская) Екатерина Ивановна — 3-я ударная армия
Николаева Валентина Петровна — 5-я армия
Новикова (Селянина) Надежда Степановна — 5-я армия
Новосельцева (Приминина) Нина Ивановна — 48-я армия, 73-я стрелковая дивизия
Науменко (Ярыжнова) Анастасия Макаровна — 48-я армия
Онянова Лидия Андреевна — 3-я ударная армия
Олейник (Бирко) Серафима Исааковна — 70-я стрелковая дивизия, 252-й стрелковый полк
Охотникова (Поротникова) Вера Филипповна — 10-я гвардейская армия
Переродова (Гаврилова) Зинаида Васильевна — 2-й Белорусский фронт
Подлазова (Носова) Анна Леонтьевна — 3-я ударная армия
Полякова (Назаренко) Любовь Матвеевна — 31-я армия
Попова (Будкова) Валентина Ивановна — 3-я ударная армия
Репина (Власова) Фаина Федоровна — 1-я армия, 52-я стрелковая дивизия
Румянцева (Балакирева) Зинаида Васильевна — 48-я армия
Соколова Александра Ивановна — 27-я армия
Симонович (Трофимова) — 3-я ударная армия
Степаненко Лидия Романовна — 31-я армия
Суворова Александра Григорьевна — 2-я гвардейская армия
Савельева Клавдия Михайловна — 2-я гвардейская армия
Сыромолотова (Пустовая) Ольга Петровна — 48-я армия, 217-я стрелковая дивизия
Смирнова (Брыковская) Клавдия Никифоровна — 31-я армия
Соболева (Кандакова) Валентина Васильевна — 31-я армия, 192-я стрелковая дивизия
Соловей Нина Сергеевна — 4-я ударная армия
Тулинова (Федченко) Анна Яковлевна — 14-я армия, 52-я гвардейская стрелковая дивизия
Татаринова (Гостюнина) Анна Николаевна — 3-я ударная армия
Танайлова Любовь Петровна — 5-я армия
Трегубова Александра — 33-я армия, 70-я стрелковая дивизия, 252-й стрелковый полк
Ушакова (Кошевая) Анна Андреевна — 31-я армия, 173-я стрелковая дивизия
Фомина (Демидова) Агриппина Ивановна — 2-й Прибалтийский фронт
Федулова Евдокия Степановна — 3-я ударная армия
Хавронина Мария Егоровна — 27-я армия
Царева Тамара Дмитриевна — 10-я гвардейская армия
Чернова (Вершинина) Зинаида Васильевна — 31-я армия, 174-я стрелковая дивизия
Чернорицкая (Маркова) Зоя Афанасьевна — 10-я гвардейская армия
Чистехина (Скрыпкина) Лариса Михайловна — 33-я армия, 70-я стрелковая дивизия
Школьник Полина Александровна — 3-я ударная армия
Щелкова (Страхова) Вера Никифоровна — 2-я гвардейская армия
Юрченко (Лырчикова) Юлия Алексеевна — 10-я гвардейская армия
Якимова Фаина Степановна — 31-я армия, 174-я стрелковая дивизия
1
Список составлен в 1976 г.
(обратно)


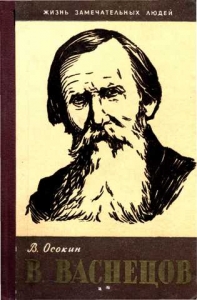
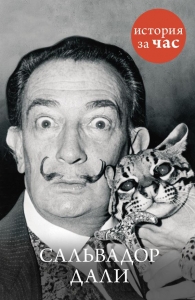

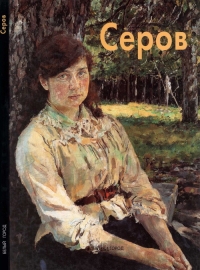
Комментарии к книге «Девушка со снайперской винтовкой», Юлия Константиновна Жукова
Всего 0 комментариев